Валерий Замыслов СЫН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое, нашу историю, коренные узлы её, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер».
Алексей Толстой.Предисловие
Тысячу лет назад русский, эстонский и латвийский народы совместно начинали свой исторический путь.
Восточная Прибалтика издавна была населена племенами, принадлежавшими к двум различным семействам — финскому и литовскому. Всю северную и среднюю полосу её занимали народы финской группы, известные у западноевропейских писателей под именем «эстов» (восточных). Южную полосу Прибалтийского края заселяли племена литво-латышские: семигалы, селы, летты и леттгаллы, жившие по среднему течению Западной Двины.
Благодаря тесному соприкосновению финских и литво-латышских племен еще в глубокой древности возникли народности смешанной крови: это были куроны, занимавшие куронский полуостров, и ливы, обитавшие по нижнему течению Западной Двины и берегам Рижского залива. В результате слияния всех этих племен образовался современный латвийский народ, причем основное ядро его составляли летты (латыши).
По имени ливов, с которыми раньше, чем с другими прибалтийскими племенами, познакомились европейцы, восточная Прибалтика в средние века носила название Ливонии.
К востоку от территории, занятой прибалтийскими народами, жили восточные славяне: кривичи полоцкие были соседями литво-латышских племен, новгородские славяне — эстов (чуди).
В силу территориальной близости между прибалтийскими народами и восточными славянами издавна существовали торговые и политические сношения. Благодаря своему географическому положению народы Прибалтики и восточные славяне рано оказались втянутыми в торговые связи, существовавшие в 8-12 веках между северо-западом Европы и странами арабского востока и Византией. Из Скандинавии в богатые арабские страны, славившиеся своими шелками, искусно выделанными клинками и прочим оружием, шел путь по Финскому заливу, Неве, Волхову, Мсте и далее по Волге и Каспийскому морю. В Византию вел путь «из варяг в греки», который начинался в Финском заливе и затем шел по Неве, Волхову, Ловати, Днепру в черное море. Другое ответвление пути «из варяг в греки» проходило из Рижского залива по Западной Двине, и далее по Днепру и Черному морю. По этим путям, в поисках легкой наживы и выгодной службы, устремлялись на «восток» дружины «варягов» — скандинавов, смелых искателей приключений, соединявших в своем лице воинов, купцов и пиратов.
Скандинавские саги (сказания) повествуют о походах скандинавов в Восточную Прибалтику и славянские земли, о богатой дани, собранной там с местного населения. В половине IX века чудь, новгородские славяне и кривичи были покорены варягами. Но народы Восточной Европы не долго терпели иноземное иго. Новгородские славяне и кривичи соединились с чудью, изгнали варягов за море, а затем (так рассказывает летопись), решили призвать для наведения порядка и защиты от внешних нападений варяжского князя Рюрика с братьями.
В 9-10 веках у восточных славян начинают складываться феодальные отношения. Образуются первые княжества. В конце IX века Олег, княживший в Новгороде, спускается со своими воинами из Новгорода вниз по Днепру, завоевывает Киев и кладет, таким образом, начало Киевскому государству. В походе Олега, помимо варягов и славян, участвовала и чудь (эсты). Утвердившись в Киеве, Олег в 907 году организовал грандиозный поход на Византию, завершившийся славной победой русского оружия и поражением Византийской империи. И на этот раз в войске Олега наряду со славянами находилась чудь.
После присоединения Полоцка к Киевскому государству влияние русских распространилось на всё течение Западной Двины вплоть до берегов Рижского залива.
Во времена князя Владимира Эстония также была подвластна киевскому князю. Эсты участвовали в походах Владимира. Его преемник, князь Ярослав Мудрый, сделал попытку закрепить русское влияние в Эстонии и создать там центр оседлой русской власти. В 1030 году Ярослав основал на берегу реки Эмбах новый город, который по своему христианскому имени — Юрий — назвал Юрьевом. В княжение Ярослава (1019–1054 годы), широко раздвинувшего границы империи Рюриковичей, влияние русских в Прибалтике достигло наибольшего распространения. В перечне данников Руси летописец называет из прибалтийских племен чудь, литву, зимеголу, корсь, либь.
После смерти Ярослава начинается новый период русской истории, период феодальных смут и усобиц. Империя Рюриковичей распадается на отдельные феодальные княжества. Эти княжества дробятся на еще более мелкие. Между князьями происходит кровавая междоусобная борьба. Меркнет «дедовская слава», как печально говорит автор «Слова о полку Игореве», князей, собиравших русскую землю. Со всех сторон «с победами» приходят «поганые»: с запада — литовцы, с востока — половцы. В этих условиях русское влияние в Прибалтике ослабляется, но судьбы двинских ливов и латышей по-прежнему остаются тесно связанными с Полоцким княжеством, а судьбы эстов — с Новгородом.
Герцике и Кукенойс, укрепления, основанные русскими при первом проникновении их в Ливонию, к началу 13 века превратились в центры небольших княжеств, которыми правили князья, принадлежавшие к полоцкому княжескому дому. Герцике был крупным и богатым городом, имел несколько церквей, земли княжества занимали территорию по среднему течению Западной Двины. В начале XIII века в Герцике сидел русский князь Всеволод, женатый на дочери литовского князя Даугерута.
Вторым княжеством Кукенойс, расположенным по нижнему течению Западной Двины, управлял энергичный, храбрый князь Вячко, впоследствии прославившийся своей упорной борьбой против немцев.
Полоцкий князь Владимир выступал как верховный правитель всех земель, простиравшихся от Полоцка по Двине до берегов Рижского залива. Приступив к завоеванию Ливонии в начале 13 века, крестоносцы вынуждены были столкнуться с полоцкими князьями, как с давними правителями края.
В 1179 году князь Мстислав Ростиславич с 20-тысячным войском новгородцев и псковичей прошел всю Эстонию вплоть до моря. Но Новгороду не удалось закрепить своего влияния в Эстонии так прочно, как это сделали полоцкие князья в землях латышей и ливов. Раздираемый внутренними смутами, противоречиями между различными партиями, борьбой против своих князей, Новгород не в состоянии был проявлять достаточно настойчивости и энергии для утверждения своей власти в Эстонии. Зависимость эстонских племен от Новгорода не носила постоянного характера.
Зависимость прибалтийских племен от русских княжеств не была тяжелой. Она выражалась в уплате дани, которая вносилась как натурой, так и деньгами. Натуральную часть дани составляли главным образом меха, денежную — слитки серебра и монеты (арабские и западноевропейские).
Верховная власть русских князей над прибалтийскими племенами не нарушала общественной и политической жизни этих племен. Русские князья предоставляли своим прибалтийским подданным полную свободу, как в вопросах внутреннего управления, так и внешнеполитических отношений. Эсты, ливы и латыши судились своими старейшинами на основе старинных обычаев; старейшины и вожди, по своему усмотрению, считаясь лишь с волей соплеменников, вели войны и заключали договоры. Полной свободой пользовались прибалтийские племена и в вопросах вероисповедания. Оставаясь языческим, население Ливонии[1] поклонялось своим древним богам, олицетворяющим силы природы. Правда, благодаря тесному общению с русскими христианство в его православной форме в какой-то степени проникало к прибалтийским народам. Но никакие попытки не только насильственного, но даже активного распространения христианства среди прибалтийских племен со стороны русских, по-видимому, не имели места[2]. Генрих Латвийский, католический священник, свидетель и участник немецкого завоевания Прибалтики, описавший его в своей «Хронике Ливонии», с удивлением отмечает, что русские князья, покоряя какой-нибудь народ, не заботятся об обращении его в христианскую веру. Эти слова политического противника русских ярко подчеркивают характерные черты русской власти, оставлявшей в неприкосновенности, как общественный строй прибалтийских племен, так и старую языческую религию и весь освященный веками уклад жизни. Именно этими особенностями власти русских князей объясняется тот факт, что в борьбе, развернувшейся в начале XIII века, симпатии населения Прибалтики оказались на стороне русских, и немецким завоевателям пришлось столкнуться с союзом русского и прибалтийского народов.
* * *
Северо-немецкие купцы привезли в Германию вести о богатствах прибалтийских земель, о заселяющих их языческих племенах, которые следует обратить в христианскую веру и подчинить немецкому господству. И, как обычно в те века, по дороге, проложенной немецким купцом, двинулся немецкий священник, а за ним и немецкий рыцарь, чтобы крестом и мечом утвердить своё владычество во вновь открытой стране.
Большой поход крестоносцев был организован в 1198 году. Во главе его стоял епископ Ливонии Бертольд. В происшедшей битве он был убит. Потеряв вождя, крестоносцы пришли в ожесточение и стали опустошать ливские земли. Ливы вынуждены были смириться, и обещали принять христианство. Но как только крестоносцы на кораблях отплыли от берегов Ливонии, ливы стали толпами заходить в Двину и обливаться водой, говоря: «Тут мы речной водой смываем воду крещения, а вместе и самое христианство. Принятую веру мы бросаем и отсылаем вслед уходящим саксам»[3].
Немцы убедились, что при помощи прибывающих на время из Германии ополчений крестоносцев покорить Ливонию нельзя. В 1202 году с благословения папы римского в Ливонии был создан специальный рыцарский Орден. Члены его носили белые плащи, на которых были нашиты красные кресты и мечи, поэтому Орден получили название Меченосцев. Войско их было отлично вооружено. Рыцарь, с головы до ног закованный в стальную броню, сидящий на сильном коне, тоже защищенном доспехами, с длинным копьем и мечом, был своеобразной «движущейся крепостью» — поразить его было нелегко. Удар сомкнутого строя рыцарской конницы был сокрушительным. Рыцари Ордена, как правило, выстраивались для боя в глубокую колонну — клин, напоминавший по форме трапецию. Русские летописцы называли такой строй «свиньей». Клин врезался в боевые порядки противника, разрезал его на части как таран. В голове строя помещались лучшие, тяжеловооруженные рыцари, по сторонам и в основании клина — «полу братья», а в середине — пешие воины, обычно набиравшиеся из завоеванных народов.
Орден Меченосцев носил аристократический характер. Члены его распадались на три класса. Первый — братьев-рыцарей, второй — братьев-священников, третий — служащих братьев. Каждый вступающий в число братьев-рыцарей клятвой должен был заверить своё рыцарское происхождение. Для братьев-священников, к которым относились священники и чиновники Ордена, рыцарское происхождение было необязательно, но допустимо. К классу служащих братьев (оруженосцы, ремесленники и всякого рода обслуживающий персонал) потомки рыцарского рода принадлежать не могли, но всякий желающий вступить в этот класс должен был заявить под присягой, что он никогда не был слугой или рабом. Во главе Ордена стоял начальник-магистр, которому рыцари были обязаны беспрекословно повиноваться. При вступлении в Орден рыцарь давал четыре обета: послушания, целомудрия, бедности и посвящения всей жизни делу обращения язычников. По своей идее Орден представлял замкнутую духовно-рыцарскую организацию, члены которой, отказавшиеся от всех земных благ, должны были нести свет христианской веры языческим народам. В действительности дело обстояло иначе. История Ордена изобилует описаниями внутренних раздоров, насилий над женщинами и грабежа мирного населения. Только последний обет рыцари соблюдали свято: кровь обращенных язычников лилась рекой.
Еще до создания ордена Меченосцев, Альберт, третий епископ Ливонии, дальновидный политик и ловкий дипломат, построил в 1201 году в устье Западной Двины укрепленный город Ригу, которая должна была стать крупным торговым портом, притягательным центром для переселенцев из Германии и базой немецкого завоевания Ливонии.
Немцы подошли вплотную к передовому русскому форпосту на Двине — Кукенойсу. В 1207 году развернулась непродолжительная борьба между Вячко, кукенойским князем, и рыцарями. Эта борьба закончилась для князя Кукенойса неудачно: силы его были невелики, Владимир Полоцкий, к которому Вячко обратился за помощью, медлил с выступлением. Вячко вынужден был оставить свой замок и навсегда ушел из своего княжества в Россию. После падения Кукенойса наступила очередь княжества Герцике. Старинные русские крепости на Двине перешли в руки немцев. Немецкое иго нависло над землями латышей и ливов.
Отказ Владимира Полоцкого от исконных прав на ливонские земли и пассивность его преемников в этом вопросе имели причины. Находясь на западной окраине земли Русской, Полоцкое княжество граничило с Литвой. С конца XII века литовцы всё чаще и чаще набегали на полоцкие земли. Полоцкие князья, с трудом отбиваясь от них, не могли уделять достаточно сил для защиты своих отдаленных владений, и отступили под напором немецкой агрессии.
Во время борьбы полоцких князей против крестоносцев Новгород и Псков стояли в стороне. По-видимому, они считали события на берегах Двины чем-то далеким, не затрагивающим их интересов. В период с 1212 по 1217 год, занятый борьбою с суздальскими князьями, Новгород не мог уделить внимания прибалтийским делам. Эстония же лично убедилась, какое иго несут с собой немецкие рыцари. Эсты поняли, что спасения против надвигающегося порабощения они могут искать только у русских. В 1216 году они предложили старому врагу немцев князю Владимиру Полоцкому план совместной борьбы против крестоносцев: полоцкие войска должны были осадить Ригу, эсты напасть на земли ливов и латышей, покоренные Орденом. Смерть Владимира Полоцкого помешала осуществлению этого плана. Тогда эсты обращаются к Новгороду.
К этому моменту новгородцы, разбившие в битве на реке Липице в 1216 году суздальских князей, получают возможность решительно вступить в борьбу, развернувшуюся в Прибалтике. В феврале 1217 года войско новгородцев, псковичей и отрядов эстов вступило в пределы Эстонии и взяло штурмом сильную крепость Оденпе.
Страх перед русско-эстонским военным союзом, сознание недостаточности собственных сил для покорения Прибалтики и отражения русских заставили епископа Альберта обратиться в 1218 году к королю Дании Вальдемару.
Для успешной борьбы против немецко-датских рыцарей со стороны Новгорода необходима была настойчивость и последовательность, проявить, которые он был не в состоянии: в первой четверти XIII века Новгород был поглощен защитой своих вольностей от притязания суздальских князей.
В 1224 году пал последний оплот русских в Прибалтике — древний город Юрьев. Поход князя Ярослава Всеволодовича в 1234 году был последней попыткой русской государственности продолжить борьбу за Ливонию. Спустя три года началось нашествие татар на русскую землю. Ослабленная татарским нашествием, Русь вынуждена была временно примириться с утратой Прибалтики.
Немецкие рыцари попытались воспользоваться тяжелым положением Руси, решив продолжить свои завоевания за счет русских земель. Чтобы обеспечить успех похода, Орден заключил союз со Швецией. Немецкие и шведские рыцари выступили одновременно. Шведы направили свой удар на Неву и Ладогу, немецкие рыцари — на Изборск и Псков, предполагая далее захватить и подчинить себе всю северо-западную Русь.
Поход шведских рыцарей был остановлен в самом начале, на Неве. Молодой новгородский князь Александр Ярославич, встретил врагов на берегу Невы и в короткой битве наголову разбил шведское войско. Князь-победитель с тех пор вошел в историю под именем «Невский».
Немцы же захватили Изборск, Псков и всю западную окраину Новгородской земли. Враг стоял у ворот Новгорода. Решалась судьба всей северо-западной Руси.
Александра Невского не было в это время в Новгороде: не поладив со своевольным новгородским боярством, он уехал на свою родину в Переяславль Залесский. Но грозная опасность, нависшая над Родиной, заставила забыть все ссоры. Невский приехал в Новгород и поднял весь народ на борьбу против врага. Несколькими короткими ударами Александр вернул Копорье, Водскую землю, Псков. Руководство Ордена поняло: наступает час решающей схватки. Орден собрал все силы и снова двинулся на Русь.
5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошла решающая битва, вошедшая в историю под названием «Ледовое побоище». Рыцарские войска были разбиты наголову; лишь жалкие остатки их спаслись бегством.
В жестокой борьбе с крестоносцами русский народ отстоял свою независимость. Однако спустя четверть века, объединенные войска немецких и датских рыцарей попытались нанести новый сокрушительный удар по Руси.
18 февраля 1268 года вблизи крепости Раковор, находившейся на территории современной Эстонии, произошла одна из самых грандиозных и кровавых битв европейского средневековья. Войска немецких и датских рыцарских Орденов сражались с русскими полками. Русские под предводительством сына Невского, юного переяславского князя Дмитрия Александровича одержали трудную, но блестящую победу. Позже западные историки и хронисты назовут битву под Раковором предвестницей Грюнвальда, а князя Дмитрия станут именовать лучшим полководцем Европы 13 века.
«В 1263–1294 годах Переяславским княжеством владел сын Александра Невского Дмитрий, который, став (1276) владимирским великим князем, сделал Переяславль своим стольным городом. Время правления Дмитрия Александровича стало периодом наибольшего могущества Переяславского княжества».(В. Ключевский).
К сожалению, в России имя Дмитрия Александровича, которому в 2000 году исполнилось 750 лет со дня рождения, оказалось несправедливо забытым. Попытаемся (в какой-то мере) восполнить этот пробел.
О князе Дмитрии Александровиче и его славных победах над врагами Руси и пойдет речь в нашем историческом повествовании.
Часть первая
Глава 1 КНЯЗЬ АНДРЕЙ
В покои четырнадцатилетнего переяславского князя Дмитрия Александровича вошел ближний боярин Ратмир Вешняк и доложил:
— Прибыл гонец из Ростовского княжества.
Сын Александра Невского порывисто поднялся из кресла. Весьма кстати! Дела после смерти отца, великого князя, пошли на Руси из рук вон худо. Вот-вот грянут новые междоусобицы. Сам собирался в Ростов Великий посоветоваться с умудренной княгиней Марией и князем Борисом Васильковичем, и вдруг — гонец.
— Кто пожаловал, Ратмир Елизарыч?
— Сам боярин Корзун, княже.
Юный Дмитрий заметно оживился: лучшего посланника и не надо. Боярин Неждан Иванович один из самых тонких и дальновидных мужей Ростово-Суздальской Руси.
— Немешкотно зови!.. А впрочем, погоди Ратмир Елизарыч. Пусть отдохнет с дальней дороги боярин Корзун, а уж вечор и потолкуем. Ты уж порадей насчет питий и яств. Добрый гость у нас ныне!
— Порадею, княже.
Было Ратмиру Вешняку лет около сорока. Осанистый, крепкотелый, с густой каштановой бородой. Когда-то молодым дружинником он лихо сражался со свеями[4] на берегах Невы и с немецкими рыцарями, и был щедро награжден Александром Ярославичем.
После ухода Вешняка Дмитрий задумчиво заходил по покоям. Еще неделю назад, перед Рождеством, из Суздаля прибыл родной дядя Андрей Ярославич, брат недавно умершего отца. Был он чем-то возбужден и нетерпелив, тотчас попросил прийти из женской половины хором великую княгиню Вассу Святославну. Дмитрий вот уже два года не виделся с дядей и с удивлением отметил, что Андрей Ярославич, коему не стукнуло и сорока лет, заметно постарел; лицо его было блеклым и осунувшимся, одни лишь глаза оставались суровыми и властными, какими они были всегда.
Вдова не заставила себя ждать. Была она вся в черном облачении, и походила на монахиню. Васса Святославна очень любила своего мужа и тяжело переживала его утрату. Александр Ярославич взял ее в жены через полгода после кончины своей первой супруги Александры Брячиславны, дочери полоцкого князя. Александра родила ему четверых сыновей: Василия, Дмитрия, Андрея, Даниила, а Васса — дочь Евдокию. Похоронив мужа, великая княгиня не захотела оставаться в стольном граде Владимире и перебралась с пасынками и пятилетней дочерью в Переяславль, на родину супруга.
Князь Андрей Ярославич не стал ходить вдоль да около. Прямой, и не любивший никчемных предисловий, он тотчас спросил в лоб:
— Как ты посмотришь, Васса Святославна, если я вновь вернусь на великокняжеский стол?
В покоях на какое-то время установилась мертвая тишина. Нелегкий подкинул вопрос Андрей Ярославич. Владимирский стол пока пустовал, но Васса Святославна отлично понимала, что в самом ближайшем времени на великокняжеском троне окажется либо Андрей Ярославич, либо его брат Ярослав, кой нетерпеливо выжидает, что предпримет необузданный и горячий Андрей. По прадедовским заветам стол должен наследовать старший брат, но положение его шаткое: Андрея Ярославича не любят в Орде. Ведь именно он, двенадцать лет назад, вопреки дальновидному Александру Невскому, поднял свою дружину на татарские полчища. Орда такого дерзкого вызова никогда не забудет и предпочтет крутому князю — Ярослава Ярославича, кой льстив и раболепен, и пойдет на всё, чтобы заполучить из рук хана Берке ярлык на владимирский стол.
Васса Святославна глянула на Дмитрия. Любопытно, что сейчас в голове пасынка? Лицо его замкнуто и хмуро, а это уже верный признак того, что юный переяславский князь весьма озабочен вопросом своего дяди. Вассе Святославне по душе был второй сын Александра Невского. Ему, больше чем другим братьям, передался отцовский характер. Сей отрок выглядел старше своих лет, был довольно умен и рассудителен, и уже сейчас неплохо разбирался в запутанных и противоречивых делах Руси.
Длительное молчание Вассы Святославны привели Андрея Ярославича в замешательство. Он надеялся на скорый и положительный ответ. Ведь каждому ясно, что владимирский престол должен наследовать старший из братьев. Но почему такие холодные, отчужденные глаза у великой княгини? А может, всё дело в том, что появление его, Андрея, на владимирском столе, тотчас лишит Вассу звания великой княгини: ею станет супруга нового великого князя. Именно в этом причина.
— Как мне кажется, Васса Святославна, не по нутру пришлись тебе мои слова, — прервал затянувшееся молчание Андрей Ярославич.
— Ошибаешься, князь. Ты — законный наследник престола. Но на твоем пути могут возникнуть препоны. Вот почему я и призадумалась.
— Я прекрасно об этом ведаю, княгиня. Но если ты, как супруга покойного Александра, приедешь с князем Дмитрием во Владимир, и скажешь свое веское слово в защиту законного наследника, то город вновь примет меня. Владимир не забыл, что я несколько лет был великим князем.
— Владимир, может, и не забыл, а вот хан Берке трижды подумает, чтобы ставить тебя на великое княжение, дядя, — с иронией вмешался в разговор Дмитрий.
«Молодчина»!» — с явным удовольствием посмотрела на пасынка Васса Святославна.
Лицо Андрея Ярославича покрылось красными пятнами.
— Не рано ли язвишь, племянничек? Думаешь, ханский лизоблюд Ярослав станет во благо Руси?
— Во благо — не станет, но и тебя, дядя, опасно видеть властителем всея Руси.
— Т-эк, — с неподдельным раздражением протянул Андрей Ярославич. — И в чем же моя опасность, племянничек?
— Дров наломаешь, — попросту, без обиняков отозвался Дмитрий.
— Это, каких еще дров?
— Сам ведаешь. За что тебя мой отец всегда укорял? Ведь ты, дядя, коль станешь великим князем, вновь начнешь замахиваться на Золотую Орду. Но теперь Александра Невского нет, заступиться некому. Разгневанный хан Берке не остановит своих полчищ. И гори огнем земля Русская.
— Поганый отцовский корень! — переполненный злостью, выскочил из-за стола Андрей Ярославич и ярыми глазами глянул на Вассу Святославну.
— А ты что думаешь, княгиня?
— Дмитрий, хоть и юн, но Бог наделил его светлым разумом.
Взбешенный князь Андрей быстро зашагал к низкой сводчатой двери. Оглянулся и запальчиво выкрикнул:
— И без вас обойдусь!
Глава 2 РАЗДОРЫ — ГИБЕЛЬ РУСИ
Княгиня радушно встречала известного ростовского боярина.
— А тебя и годы не берут, Неждан Иванович. Почитай, пять лет тебя не видела, а ты всё как добрый молодец. Вот что значит молодая жена. Как она? — задушевно молвила Васса Святославна.
— Да всё, слава Богу, матушка княгиня. Добрая попалась супруга, — степенно отвечал боярин.
— А во здравии ли княгиня Мария Михайловна?
— Пока Бог милует. Но вся в неустанных трудах и заботах. Покойно дня не проживет. Побаиваюсь за неё, матушка княгиня. Уж слишком тяжкое бремя не себе несет.
— Да уж ведаю, Неждан Иванович. Мария Михайловна всю жизнь о Руси печется. Это ж надо — сколь городов против Орды поднять! А каково последствий ждать? Татары могли всю Русь испепелить. Как токмо сердце у Марии Михайловны выдержало?
— Тяжко, зело тяжко ей пришлось, княгиня. Ночи не спала, и всё поджидала вестей от супруга твоего, Александра Ярославича. Это он, ценой своей жизни, спас от нового ордынского нашествия Русь. Сумел-таки отговорить хана. Но Берке не из тех людей, кто извиняет. Перед отъездом Александра Ярославича на Русь, он пригласил его на прощальный достархан[5] и…
Неждан Иванович не договорил, заметив, как наполнились печальными слезами глаза Вассы Святославны.
Великая княгиня была довольно молода. Четыре недели назад ей исполнилось всего двадцать три года. Александр Невский взял ее, дочь князя Святослава Всеволодовича, в шестнадцать лет.
— Я ведаю, — грустно вздохнула княгиня, — что хан Берке отравил моего супруга медленным ядом. Когда Александр Ярославич отъезжал в Орду, то был в полном здравии. Я никогда не зрела его недужным. И вдруг сильно заболеть и скончаться в сорок три года. Скончаться в самой зрелой мужской поре! Никогда не верю тем людям, кои говорят, что супруг мой преставился от недуга. Никогда!.. Я ненавижу хана Берке и постараюсь сделать всё, дабы помешать его гнусным козням. Наверняка он опять что-то худое замышляет.
— Замышляет, княгиня. Вечевые восстания городов пошли на пользу Руси. Хан Берке окончательно убедился, что татарские отряды по сбору дани не приносят большой пользы. Едва ли не половина дани оседает в несметных чувалах баскаков и его сборщиков. Еще наш ростовский князь Борис Василькович, по наставлению матушки своей Марии Михайловны, ездил в Орду, дабы уговорить хана Сартака, чтобы тот дозволил нашим князьям самим собирать ордынскую дань. О том же говорил с ханом Берке и Александр Ярославич. Хан прикинул выгоду и согласился с Невским. Ныне мы уже не видим баскаческих отрядов. Так что не зря громыхали вечевые колокола. Но Берке, кой ныне занят войной с персидским ханом Хулагу, ни на день не забывает и о Руси. Он отлично ведает, что вечевые восстания на какое-то время сплотили русских князей. А сие для хана — острый нож в горло. Надо во чтобы-то ни стало расколоть единение удельных князей. Берке надумал использовать старый, но давно испытанный способ. В Орду примчал тверской князь Ярослав Ярославич. Он распластался перед Берке и, лобзая ханские сапоги, выклянчил ярлык на великое княжение.
— Я так и мыслил, — заговорил молчавший досель князь Дмитрий. — Андрею Ярославичу нечего, было, и замахиваться на Владимир.
— Он, как и прежде, поступил слишком опрометчиво. Владимир встретил Андрея с опаской. Никто не забыл его необдуманной вылазки на татар. Но Андрей упрям, как осел, всё на свой хохряк гнет. Я — законный наследник — и всё тут! Придется «наследнику» убраться из Владимира восвояси.
— Мне он показался недужным. Что-то гложет его, Неждан Иванович.
— Гложет, княгиня, и на шутку. Слух прошел, что у Андрея неизлечимый недуг. Сколь его ведаю — не берег он себя. То в длительные запои ударится, то в нескончаемые прелюбодейства. Ну да сейчас речь не о нем. На Русь надвигается новая беда. Надежный человек княгини Марии донес, что хан Берке, в обмен на ярлык, затребовал от Ярослава расколоть русских князей. Земли Тверского княжества находятся по соседству с северными владениями ростовских князей. Они же — довольно богаты, Тверь давно на них зарится. Враждебность Ярослава к умершему брату всем известна, и ныне она перешла на Ростов Великий, против коего Ярослав задумал заключить военный союз с Великим Новгородом. И если сие ему удастся, то кровопролитных битв не избежать. И это в лихую годину, когда Отечество наше под ордынским ярмом. Междоусобные раздоры — гибель Руси! Княгиня Мария и князь Борис Василькович весьма встревожены. Надо неотложно воспрепятствовать мерзким помыслам Ярослава.
— Какой подлый человек, — неприязненно молвила Васса Святославна и вопрошающе глянула на ростовского посланца. — Что же нам предпринять, Неждан Иванович? Мы не можем сидеть, сложа руки. Не так ли, Дмитрий?
— Не можем! — резко отозвался юный князь. — Я обращусь к старшему брату Василию. Новгородцы его уважают. Думаю, они не пошлют свою дружину Ярославу, кой лизоблюдством добыл себе великое княжение.
— Толково, Дмитрий Александрович, — одобрительно произнес боярин Корзун. — О том же в первую очередь подумала и княгиня Мария. Она написала грамоту новгородскому князю Василию, и коль будет к нему еще и послание князя переяславского, то Ярослав останется на бобах[6]. И княгиня Мария и Борис Василькович очень надеются на тебя, княже. Ныне, быть или не быть междоусобной войне — в твоих руках, Дмитрий Александрович.
Князь откинулся на спинку резного кресла. Глаза его заблестели, лицо порозовело. «В твоих руках!» Зело высокие слова высказал посланник княгини Марии. Высказал ему — четырнадцатилетнему отроку! То ль не уважение, то ль не признание его места в Ростово-Суздальской земле?!
Но затем горделивое возбуждение схлынуло, и Дмитрий вдруг понял: какая громадная ответственность ложится на его юные плечи. Новый великий князь Ярослав затаит бешеную ненависть к своему племяннику, коя не преминет сказаться на его дальнейшей судьбе. Дядя (все это ведают) не только пакостлив, но и чрезвычайно мстителен, и если затея его с Великим Новгородом сорвется, то он непременно поквитается с сыновьями Александра Невского. Так что же тогда делать? Трусливо отказаться от плана ростовской княгини Марии, кою почитает вся Русь? Ну, уж нет, дядюшка! Он, Дмитрий, никогда не будет ордынским лизоблюдом, и никогда не предаст интересы Руси.
— С моим гонцом всякое может приключиться. А дело, боярин Корзун, и впрямь неотложное. Я сам направлюсь в Новгород к брату Василию.
— Похвально, князь! — довольно воскликнул Неждан Иванович.
Восхвалила пасынка и Васса Святославна:
— Какой ты у меня молодец, Дмитрий. Так-то будет надежней.
Глава 3 НОВГОРОДЦЫ
Суздальский князь Андрей Ярославич, так и не утвердившись на Владимирском престоле, измотанный тяжким недугом, скончался в марте 1264 года.
Ярослав Ярославич был взбешен действиями своих племянников. Его задумка прибрать к своим рукам северные владения ростовских князей провалилась. Новгородцы не захотели ссориться ни с переяславцами, ни с ростовцами. Междоусобная война не вспыхнула. Строжайшее повеление хана Берке сорвалось.
«Так и ярлык потерять недолго, — досадовал князь Ярослав. — Надо опять ехать Орду и просить у хана татарское войско, дабы нещадно наказать Ростов, Переяславль и Новгород. Не бывать тому, чтобы эти города вышли из-под руки великого князя!»
Ярослав Ярославич начал было собираться в дорогу, но тут пришло известие, что немецкие крестоносцы и Дания вновь готовят удар на северо-западные земли Руси. Великий князь заметался. Если уедешь в Орду (а там хан Берке может продержать у себя и несколько месяцев), то рыцари за это время могут навалиться на Псков, Новгород и другие княжества. Народ его отъезд в Орду не простит, всюду будет горло драть: «Изменник, татарский прихвостень! Гнать с великого княжения!» Русский народ, коль в гнев войдет, пострашнее ордынца станет. Уж лучше к хану не ездить. Но и сиднем сидеть рисково».
Подумал, подумал Ярослав Ярославич и решил ехать совсем в другую сторону — в Новгород.
«Надо новгородцев к кресту привести, да и Ордену кукиш показать».
Но выехать сразу не довелось: две недели лили беспрестанные дожди, дороги развезло. Подождав еще неделю, когда погода разгулялась, и установилось вёдро[7], 23 мая, на Леонтия огуречника, великий князь выбрался в Новгород. Ехал со всей владимирской дружиной (береженого Бог бережет!) и с кормовым обозом, растянувшимися на добрую версту.
Путь до Господина Великого Новгорода не малый. Тысяча верст! Обычно преодолевали его по рекам Тверце и Мсте, а затем тряслись на конях. «И немало на том пути приходилось привалов, дневок, ночевок».
Речной путь Ярослав Ярославич сразу же отмел: во-первых, на большую дружину и кормовые запасы ладий не наберешься, а во-вторых, до Новгорода протащишься до морковкина разговенья[8]. А великому князю надо поспешать. Дела свалились неотложные, каждый день на золотом счету. Но тут, как на зло, вновь зарядили дожди. Особо худо было ехать по лесным дорогам. Возки «княжьих мужей» и Ярослава Ярославича кренились и застревали в непролазной грязи. Обозные возницы рубили топорами валежник и сосновые лапы, кидали их под колеса, а затем, обутые в лапти, сами лезли в грязь, подталкивали возки и отчаянно понукали измученных лошадей.
Лишь к середине пятой недели великий князь выбрался на реку Волхов. И вот наконец-то показались за рекой купола Софийского собора и высокие белокаменные стены княжеского детинца.
Новгородцы, ведая о неприязни Ярослава к сыновьям Александра Невского, уговорили Василия временно покинуть Новгород, иначе «брань будет лютая». Василий согласился отъехать в Псков, но взял с новгородцев слово, что те ни в коем случае не станут помогать в ратных делах Ярославу, если тот задумает напасть на северные владения ростовских земель.
Гордые новгородцы встретили великого князя настороженно, и когда тот потребовал, чтобы население присягнуло ему, то новгородцы сами захотели, чтобы Ярослав дал клятву «в верном соблюдении условий».
— Что за условия? — хмуро вопросил великий князь.
— Всё будет сказано в договоре, — отвечали горожане.
Через два дня от имени архиепископа, посадника Михаил Федоровича, тысяцкого Кондрата и «всего Новгорода, от старейшин и меньших» Ярославу торжественно вручили грамоту, в коей было сказано:
«Князь Ярослав! Требуем, чтобы ты, подобно предкам твоим и родителю, утвердил крестным целованием священный обет править Новым городом по древнему обыкновению, брать одни дары с наших областей, поручать оные токмо новгородским, а не княжеским слугам, не избирать их без согласия посадника и без вины не сменять тех, которые определены братом твоим Александром, сыном его Дмитрием и новгородцами. В Торжке и Волоке будут наши княжеские тиуны (или судии): первые в твоей части, а вторые в Новгородской; а в Бежицах ни тебе, ни княгине, ни боярам, ни дворянам твоим сел не иметь, не покупать и не принимать в дар, ровно, как и в других владениях Новгорода: в Волоке, Торжке и прочих; также в Вологде, Заволочье, Коле, Перми, Печере, Югре. В Русу можешь ты, князь, ездить осенью, не летом; а в Ладогу посылай своего рыбника и медовара по грамоте отца твоего Ярослава. Дмитрий и новгородцы дали бежичанам и обонежцам на три года право судиться собственным их судом: не нарушай сего временного устава, и не посылай к ним судей. Не вывози народа в свою землю из областей наших, ни принужденно, ни волею. Княгиня, бояре и дворяне твои не должны брать людей в залог по долгам, ни купцов, ни землевладельцев. Отведем сенные покосы для тебя и бояр твоих; тиунам и дворянам княжеским, объезжающим волости, даются прогоны, как издревле установлено, и токмо одни ратные гонцы могут в селах требовать лошадей. Что касается пошлин, то купцы наши в твоей и во всей земле Суздальской обязаны платить по две векши с лодки, с воза и с короба льну или хмеля. Так бывало, князь, при отцах и дедах твоих и наших. Целуй же святой крест в уверение, что исполнишь сии условия; целуй не через посредников, но сам и в присутствии послов новгородских».
Требование новгородцев не пришлось по душе Ярославу. Коль станешь тут княжить, то весь твой доход будет от даров, дань же пойдет в казну общественную. А ежели ты захочешь своего подручника в ту или иную волость посадить, то только с согласия новгородского посадника. А того хуже, что некоторые волости откупали право иметь собственных судей. Не дозволяли новгородцы, и переселяться своим землякам в другие княжества.
Но особенно раздражало Ярослава упоминание в грамоте князя Дмитрия. При жизни Александра Невского он с девяти до двенадцати лет правил Новгородом и сделал немало поблажек вольнолюбивым новгородцам. А уж про старшего сына Василия, княжившим до Дмитрия, и говорить не приходиться.
Ярослав Ярославич помышлял, было, кое-что выправить в грамоте, но новгородцы так уперлись, так мятежно загалдели, что великий князь струсил и утвердил обет крестным целованием. Новгородцы угомонились, а Ярослав Ярославич принялся опрашивать лазутчиков[9]: что замышляет Ливонский Орден и какие у него ратные силы. Соглядатаи отвечали, что немецкие и датские рыцари собрали большое войско, но когда ждать нападения — одному Богу известно.
— Худо досматривали! — осерчал великий князь. — Вновь ступайте в земли крестоносцев и любыми путями изведайте о начале набега.
Просидел Ярослав Ярославич в Новгороде едва ли не два месяца, пока лазутчики не доставили новые вести:
— Немцы, кажись, свой поход отложили. Многие рыцари разъехались по своим владениям.
— Вот и, слава Богу, — размашисто перекрестился Ярослав Ярославич. — Пора и домой собираться.
В стольный град вдовый князь возвращался с юной красавицей Ксенией, дочерью боярина Юрия Михайловича, подмеченной в Новгороде. Шумная свадьба состоялась во Владимире. Но молодая жена лишь на короткое время остановила Ярослава от козней против сыновей Александра Невского. Ему по-прежнему непременно хотелось кинуть Русь в междоусобные войны, иначе, как он полгал, на Владимирском столе не усидеть. Хан Золотой Орды долго выжидать не будет. Повеление его надо выполнять. И Ярослав решился на новые происки.
Глава 4 ТРУСОСТЬ КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА
Дмитрий остался доволен встречей с братом Василием. Тот заверил переяславского князя, что никогда не даст свою дружину в угоду своему каверзному дяде, если тот замыслит что-то недоброе против Руси. О том же молвил и Дмитрий. Братья скрепили свои слова крестным целованием.
Поговорили князья и о делах ливонских.
— Я не думаю, что крестоносцы отказались от своей затеи. Им мало земель эстов, латышей и литвинов. Они десятки лет жаждут русских владений. Не забыл о своем первом походе на рыцарей?
— Такое не забывается, брат Василий. И всего-то прошло два года.
«В 1262 году собрались князья идти к старой отчине своей, к Юрьеву ливонскому». Поход был необычен. Вместе с русскими дружинами на крестоносцев выступили князь Миндовг литовский, князь Тройнат жмудьский[10] и племянник Миндовга, князь литовский и полоцкий Товтивил. Впервые русские князья договорились вступить в военный союз с литовскими князьями, чтобы ударить на Ливонский Орден. В челе новгородской дружины шел двенадцатилетний Дмитрий Александрович. (Рано в те далекие времена русские князья становились воеводами). Он был преисполнен восторга. Его благословил на ратный поход сам Александр Невский, кой находился в то время в Новгороде.
— Немецкие псы-рыцари отменные воины, сын. Разбить их будет нелегко. Юрьев — наш древний, искони русский город. Отобрать его от крестоносцев — дело чести. Мыслю, ты не посрамишь отца своего, Дмитрий.
— Не посрамлю, батюшка. Буду изо всех сил биться!
Александр Ярославич положил свою тяжелую ладонь на плечо Дмитрия.
— На всю жизнь запомни, сын, что врага бьют не только силой, но и умом, сноровкой и ратной хитростью. Нужен особый полководческий дар, но он приходит с годами. Я тебя на словах многому учил, но всё постигается в битвах. Только на поле брани рождается настоящий полководец… Жаль, что неотложные дела заставляют меня отбывать в Орду. Брат же мой Ярослав, с коим ты пойдешь на рыцарей, далеко не воин. Он привык всё делать чужими руками, и никогда не пойдет на врага впереди дружины. Как всегда будет отсиживаться за спинами ратников. Не шибко-то доверяй ему. Боюсь, что в решающий момент он пойдет на попятную. Ты же постарайся вести себя достойно. Не посрами меча моего.
И Александр Невский, после этих слов, протянул сыну свой знаменитый меч, с коим доблестно сражался и в «Ледовом побоище» и на Чудском озере.
У Дмитрия даже слезы на глазах выступили. Он, преклонив колени, принял меч от отца, приложился к нему губами и горячо произнес:
— Клянусь тебе, батюшка. Я никогда не посрамлю твоего меча богатырского! Верь мне!
— Верю, сынок.
Через день Александр Ярославич уехал в Золотую Орду, дабы ценой своей жизни спасти Русь от нового татарского нашествия. (По городам Ростово-Суздальской Руси только что прокатились антиордынские народные вечевые восстания, вдохновительницей коих была княгиня Мария Ростовская).
Больше Дмитрий отца своего не увидел. Он двинулся с дружиной на Ливонский Орден. У ливонского Вендена русские полки поджидал литовский князь Миндовг, но князь Ярослав Ярославич, также посланный великим князем Александром Невским, не спешил к своему союзнику, и Миндовг, так и не дождавшись русских, вынужден был отказаться от осады города и, опустошив окрестные земли, возвратился назад.
Князь Дмитрий воспринял эту неутешительную весть с огорчением: отец настоятельно просил его как можно ближе познакомиться с Миндовгом и особенно с литовским князем Довмонтом, в коем Александр Ярославич видел самого надежного союзникам русских князей. Ни с тем, ни с другим встреча не состоялась: уж слишком медленно вел свою рать Ярослав Ярославич, уж слишком длительны были его бесчисленные привалы и дневки.
К Юрьеву русские дружины пришли с большим опозданием. Немцы имели возможность надежно укрепить город. «Был Юрьев тверд, в три стены, и множество людей в нем всяких, и оборону себе пристроили на городе крепкую».
Князь Дмитрий не стал больше дожидаться подхода полков князя Ярослава и взял немецкую твердыню дерзким, тщательно продуманным приступом. Оставшиеся в живых немецкие рыцари были изумлены. Кто б мог подумать, что столь мощную крепость может одолеть совсем юный князь! Да это уму непостижимо.
Князь Дмитрий, отчаянно ходивший на приступ, заметил дяде, что тот пощадил свою дружину.
— Такую крепость одной новгородской дружиной осилить было тяжко. Надо было, дядя, всем скопом навалиться, а не стоять за пять верст выжидаючи. Да и осадных лестниц у тебя было гораздо…
— Ты меня уму-разуму не учи, юнота! — взорвался Ярослав. Ишь, великий стратиг нашелся. Сам ведаю, как ливонские крепости брать!
Но он и не собирался брать Юрьев, прикинув, что такую крепость, окруженную тремя прочными стенами, русским войскам не одолеть. Он потащился в Ливонию по приказу великого князя Александра, кой его унизил, назначив главным воеводой своего сына Дмитрия. И вот этот сосунок всем утер нос — и русским князьям и немецким рыцарям. Взял да и захватил неприступную крепость! И это больше всего приводило в ярость князя Ярослава.
А Дмитрий, воодушевленный удачей, попросил своего дядю продолжить наступление на ливонские города. Но тот, неделю простояв в своем стане и, не предприняв никаких решительных усилий, вдруг отдал приказ — всем своим дружинам немешкотно уходить назад.
«Прости, батя, — сумрачно возвращался домой князь Дмитрий. — Мы не пошли дальше, но в том моей вины нет. Вся вина — на трусости и бездеятельности дядюшки. Он, как токмо прослышал, что к Юрьеву идет великий магистр, наложил в портки и быстрехонько увел войска вспять. Аника воин!»
Трусость Ярослава дорого обошлась русскому войску. Магистр по следам отступающей рати вторгся в русские владения, жестоко опустошил их, но болезнь принудила его возвратиться в Ливонию.
Глава 5 МИНДОВГ И ДОВМОНТ
Именитый полководец Даниил Галицкий не добился успеха в борьбе с Золотой Ордой, зато был вознагражден удачной борьбой с европейскими соседями. Здесь первое место занимает война с Литвой, в коей произошли важные перемены, имевшие решительное влияние на судьбы Юго-Западной Руси.
До сих пор литовцы, подобно соплеменникам своим пруссам, были разъединены. Такая разобщенность, не препятствуя литовцам собираться многочисленными толпами и опустошать соседние страны, препятствовала единству, постоянству в походах, что не могло приносить прочного, завоевательного характера. Для этого нужно было единовластие. И вот в то время как пруссы гибнут от меча немецких рыцарей или теряют свою народность вследствие разъединения, среди литовцев, значительно усиленных прусскими беглецами, являются князья, кои начинают стремиться к единовластию. Самым заметным был из них Миндовг. Этот князь был жесток, хитер, не разбирал средств для достижения цели, никакое злодейство не могло остановить его. Там, где нельзя было применить силу, Миндовг сыпал золото, и употреблял изощренный обман.
После нашествия Батыя сей князь безнаказанно опустошал русские земли, но в 1246 году, возвращаясь с набега на окрестности Пересопницы, Миндовг был настигнут у Пинска князем Даниилом Галицким и наголову разбит.
В 1252 году Миндовг направил дядю своего Выкынта и двоих племянников, Тевтивила и Едивида, воевать Смоленск. Сказал им: «что кто возьмет, тот пусть и держит при себе». Но этот поход был хитростью Миндовга: он воспользовался отсутствием родичей, чтобы захватить их волости и богатство, после чего отправил свое войско, чтобы нагнать и убить племянников и дядю. Литовские князья, однако, вовремя узнали о намерениях Миндовга и бежали к Даниилу Галицкому, за которым была сестра Тевтивила и Едивида.
Миндовг послал гонца к Даниилу, чтобы тот не укрывал изгнанников и отправил их в оковах в Литву. Однако Даниил, посоветовавшись с братом Васильком Романовичем, двинул свою рать на Литву и одержал несколько крупных побед. Миндовг запросил мира. Но князь не успокоился: забыв на время о богатых русских владениях, он принялся опустошать земли Ливонского Ордена.
Летописец говорит, что «Миндовг начал сильно гордиться и не признавал себе никого равным. В 1262 году он провозгласил себя королем литовским». В том же году у него скончалась жена. У покойной была родная сестра, коя была за князем нальшанским Довмонтом. Миндовг повелел сказать ей: «Сестра твоя умерла, приезжай ее оплакать». Когда Ядвига приехала на похороны, Миндовг произнес:
— Сестра твоя перед кончиной велела мне жениться на тебе, чтобы другая детей не мучила.
— Да как такое возможно? — удивилась Ядвига. — Мой муж — Довмонт.
— Аль тебе не известно, свояченица, что любое завещание покойного свято? — сурово сдвинул брови Миндовг. — И рушить его я никому не позволю.
Ядвиге ничего не оставалось делать, как выйти замуж за нелюбимого и жестокого литовского короля. Отказ означал бы ее явную смерть, а побег из каменного замка был невозможен.
Нальшанский князь Довмонт был разгневан. Миндовг перешел все границы. Где это слыхано, чтобы отобрать у живого мужа его супругу и женить ее на себе?!
Довмонт сгоряча бросился, было, к замку короля, но вовремя спохватился. Действовать надо продуманно и хладнокровно.
В 1263 году Миндовг послал все свои войска за реку Днепр, чтобы разбить князя Романа брянского. В походе участвовала и дружина Довмонта. Подобрав удобное время, он объявил остальным воеводам, что волхвы предсказывают ему дурное, и поэтому он не может продолжать поход.
Возвратившись назад, Довмонт немедленно отправился к замку короля, застал его врасплох и убил вместе с двумя сыновьями.
Племянник короля Тренята принял сторону Довмонта, кои заключили между собой договор. Тренята стал княжить в Литве, на месте Миндовга. Новый король послал гонца за полоцким князем, братом своим, Тевтилом. Тот прибыл через неделю. Упоенный властью, довольным голосом Тренята произнес:
— Я никогда не был ни жестоким, ни алчным. Надо поделить земли и поместья Миндовга по-братски. Твои полоцкие владения приумножатся.
— Я рад твоему бескорыстию, Тренята.
Но дележка привела к ссоре между братьями. Каждый старался отхватить кусок пожирнее. Ссора закончилась продолжительной дракой. Дело дошло то того, что Тевтивил стал думать, как убить брата, а Тренята — как бы отделаться от Тевтивила.
Один из бояр полоцкого князя, Прокопий, надумав поживиться за счет предательства, донес Треняте о замысле своего господина. В ту же ночь Тевтивил был убит. Но убийца не долго правил Литвой. Через месяц, когда Тренята шел в баню, его зарубили четверо людей Тевтивила. (Средневековье отличалось братоубийственной резней не только в Золотой Орде и Монголии, странах Ближнего и Дальнего Востока, но и на Руси, и в государствах Западной Европы).
В Литве начал действовать единственный оставшийся в живых сын Миндовга, Воишелк. Это был злобный и весьма кровожадный человек, наголову превосходивший своей жестокостью и Миндовга, и его племянников. Наивный рассказ летописца наводит ужас: «Воишелк (еще до гибели отца) стал княжить в Новогрудске, будучи в поганстве, и начал проливать крови много: убивал всякий день по три, по четыре человека; в который день не убивал никого, был печален, а как убьет кого, так и развеселится». И вдруг пронеслась весть, что Воишелк, «ежедневно плавая в крови жертв невинных», принял христианство. К радости бедных поданных и, смягченный верою Спасителя, Воишелк возненавидел власть мирскую и отказался от света. Затем он, под именем Даниила, долго жил в обители игумена Григория, известного благочестием, и настолько проникся христианской религией, что надумал свершить длительное паломничество в Иерусалим и гору Афонскую. Но путь этот надо было проложить через недружественную Венгрию. Тогда Воишелк явился вначале к отцу, затем к Даниилу Галицкому и заявил, что является посредником мира между ним и отцом своим Миндовгом. Условия были столь выгодны, что нельзя было их не принять. Сын Даниила, Шварн, получал руку дочери Воишелка, а старший брат его, Роман, получал город Новогрудек от литовского короля и несколько городов от Воишелка. При заключении этого мира, Воишелк просил Даниила Галицкого дать ему возможность пробраться на Афонскую гору, и Даниил выхлопотал для него свободный путь через венгерские владения; но смуты, происходившие тогда на Балканском полуострове, заставили Воишелка возвратиться назад из Болгарии, после чего он построил себе монастырь на реке Немане между Литвой и Новогрудеком. Южным же Мономаховичам вновь удалось утвердиться в волостях, занятых было Литвой.
В обители Воишелк трудился несколько лет, ревностно исполняя все обязанности инока. Миндовг ни ласками, ни угрозами не мог поколебать его усердия к христианству, но весть о смерти отца повергла инока Даниила в необычайную ярость. Он схватился за меч, а затем сбросил с себя монашескую рясу и дал Богу обет через три года вновь облачиться в нее, когда отомстит Довмонту и его приспешникам. Месть Воишелка была ужасна: собрав полки, он явился в Литву, как свирепый зверь, и истребил множество людей, называя их предателями. Триста семей успели бежать в Псков.
Один Довмонт не устрашился своего сродника. Он смело выходил на бой с воинами Воишелка и был непобедим. И всё же весной 1266 года, когда Литва признала Воишелка своим государем, Довмонт приехал в Псков, принял здесь христианскую веру, и заявил, что хочет послужить во славу святой Руси. Псковитяне не только с удовольствием встретили слова Довмонта, но и без согласия великого князя Ярослава Ярославича, выбрали его на вече своим князем и дали войско для опустошения Литвы.
Довмонт с честью оправдал доверие псковитян. Вначале он разорил земли влиятельного князя Герденя, пленив его двух сыновей, затем на берегах Двины одержал над князем сокрушительную победу. Множество литовцев погибло, многие из них утонули в реке, а Гердень панически бежал. Псковитяне, «славя храбрость Довмонта, с восхищением видели в нем набожность христианскую: ибо он смиренно приписывал успех своего оружия единственно заступлению святого Леонтия, победив неприятелей в день памяти сего мученика», 18 июня.
В том же 1266 году умер знаменитый на всю Русь, князь Даниил Романович Галицкий. У него осталось три сына: Лев, Мстислав и Шварн. По желанию Воишелка, Шварн был признан наместником Литовским, сам же Воишелк опять возвратился в монастырь. Однако недолго он пребывал в тихой обители: вскоре он вновь возвратился в свой литовский замок и объявил себя королем.
Глава 6 КРАСЕН ГРАД ПЕРЕЯСЛАВЛЬ
В шестнадцать лет переяславский князь Дмитрий Александрович и вовсе повзрослел. Еще больше раздался в плечах, налился силой, и уже дважды ходил на медведя с рогатиной.
Ближний боярин Ратмир Вешняк не нарадовался:
— Вылитый батюшка. Александр Ярославич также в отроческие лета на медведя хаживал.
Всё теплое время года князь Дмитрий, как и отец, проводил в летнем тереме, возведенном когда-то Александром Ярославичем на Ярилиной горе. Красивейшее место на берегу Плещеева озера!
Еще в далекие времена сия гора, достигшая пятнадцати саженей высоты, весьма удобная для обороны, была облюбована человеком. Поселение находилось на самой вершине, отрезанной от прибрежной возвышенности широким и глубоким оврагом. Жители этого городища, как и всего Переяславского края, принадлежали к угро-финскому племени меря. В VII–IX веках на берегах озера появились славяне. Мерянское население не вытеснялось, оно постепенно растворялось в массе более многочисленных и культурных славян. На выжженной солнцем вершине горы совершались языческие обряды в честь славянского бога солнца Ярилы, откуда происходит и древнейшее ее название — «Ярилина гора». С проникновением христианства языческие боги были уничтожены, а на вершине горы был возведен православный храм.
Сколь раз любовался князь Дмитрий с Ярилиной горы своим чудесным градом и дивным, привольным озером. Немного русских городов может соперничать с Переяславлем Залесским по красоте и живописностью местоположения. Город свободно раскинулся в обширной долине у места впадения тихой реки Трубеж в Плещеево озеро. С юга и запада в долину спадают крутые откосы высоких холмов.
Город, основанный в 1152 году Юрием Долгоруким, стал первоклассной крепостью, надежно запиравший с запада подступы к житнице края — черноземному ополью. Крепость стояла на кратчайшем торговом пути, соединяющем среднюю Волгу с ее верховьем через Оку, Клязьму, Нерль Клязьменскую, Трубеж, Плещеево озеро, реку Вексу, озеро Сомино и Нерль Волжскую. Это был важнейший торговый путь от Волжской Булгарии до Великого Новгорода. Из Залесского края вывозился хлеб, пушнина, мед, воск. Из стран арабского востока и Прикамья, из Византии и Западной Европы, из Новгорода и Приднепровья шли сюда украшения из стекла и цветного металла, дорогие ткани, серебряные монеты, оружие.
Земляные валы (длиной до 2,5 верст) были насыпаны при основании города. В 1238 и в 1252 годах по их крутым травяным откосам взбирались татарские полчища и гибли тысячами. Валы опоясывали княжеский детинец неправильным кольцом и имели высоту около восьми саженей; окруженные глубоким рвом, в дно которого были вбиты ряды заостренных кольев, они сами по себе были уже надежным оборонительным рубежом. Однако по верху вала шли еще высокие рубленые стены с бревенчатыми башнями. На валах с северной стороны стояла Спасская, с запада — Рождественская и с юга — Никольская. Все эти три башни мели проездные ворота. Остальные: Карашская, Глухая, Духовская и Тайницкая были срублены в «четыре стены»; Алексеевская, Троицкая, Варварская и Круглая — в «восемь стен», и Вознесенская — в «шесть стен». Спасские ворота непосредственно примыкали к реке Трубеж, через которую был перекинут деревянный мост, соединявший город с посадом. На валу, в северной его части, был изготовлен неширокий проем. Здесь внутри вала находился водный тайник для выхода к реке, не случайно башня, стоявшая над ним, называлась Тайницкой.
Красавец княжеского детинца — белокаменный Спасо-Преображенский собор начал возводить в 1152 году всё тот же Юрий Долгорукий, а завершил его в 1157 году Андрей Боголюбский. Он расположен на Вечевой площади.
Юный князь Дмитрий, не раз любуясь собором, отмечал его мощность, простоту и строгость линий, как бы символизирующих суровую героику русской действительности XII века. С внешней стороны собор почти не имел украшений, кроме белокаменного городчатого пояска в верхней части барабана и пояска на аскидах. Его узкие щелевидные окна напоминали бойницы крепости. Совершенно очевидно, что зодчие создавали такие окна не только для того, чтобы сотворить внутри храма таинственный сумрак. Они видели в соборе и последний оплот защитников города. Отсюда — и окна-бойницы, удобные для ведения огня. И пусть у защитников, укрывшихся в храме, было мало надежд на спасение, но собор-крепость давал возможность сражаться в последний, уже безнадежный час битвы. Зодчий верил: защитники не сложат оружия, не запросят пощады, не сдадутся на милость победителей, но заставят врагов кровью добывать эту последнюю твердыню. Страницы многих летописей подтверждают, что именно так гибли русские города.
Не случайно и то, что переяславский собор был возведен не в центре крепости, а в ее северной части и входил в сооружения земляных валов с их башнями и стенами.
«Зело хитроумно собор моими предками поставлен», — раздумывал Дмитрий. Заложенная во втором ярусе, с северной стороны дверная ниша, ведущая на хоры, была связана с княжескими теремами, и специальным переходом соединялась со стенами кремля и с башней, расположенной на валу поблизости от собора.
Юрий Долгорукий подарил собору роскошный серебряный потир[11] — чашу для причастия — замечательной работы русских умельцев. Чаша и поддон были украшены дивным орнаментом, а по верхнему краю снаружи выгравировано имя патрона Юрия Долгорукого — Георгия Победоносца[12].
Пол собора был настлан желтыми и зелеными майоликовыми[13] плитками, изготовленными переясласкими мастерами, а внутренние стены расписаны фресками. Собор имел одну главу,[14] как и знаменитый одноглавый храм Покрова на Нерли.
Перед Спасо-Преображенским собором раскинулась Вечевая площадь. Кажется, совсем недавно на двух дубовых столбах здесь висел и оглушительно гремел вечевой колокол. Переяслвцы по призыву Ростова Великого поднялись против ордынских угнетателей. Летописец напишет: «Бысть вече, на бесермены по всем градам русским, и побиша татар везде, не терпяще насилия от них».
Князь Дмитрий, во время городских восстаний Ростово-Суздальской Руси, правил Великим Новгородом и нетерпеливо ждал возвращения из Золотой Орды отца. То были тревожные дни. Русь затаилась, ожидая нового татарского нашествия. Города спешно укреплялись и готовились к жестокой схватке. Но ордынские тумены[15] не появились. Русь спас, поплатившись своей жизнью, Александр Ярославич.
Дмитрий тяжело переживал потерю отца. Тотчас после похорон, он вернулся на свою родину в Переяславль и стал владетелем этого именитого княжества. Его брат Андрей сидел в Городце Волжском, Даниил — в Москве, а старший Василий ушел из жизни еще год назад. Он помышлял осесть в Суздале, но великий князь Ярослав Ярославич, негодуя на каждого из сыновей Невского, отослал его за ярлыком в Золотую Орду. Впереди Василия помчали великокняжеские гонцы, кои нашептали хану Берке, что Василий помышляет убить засевшего в Суздале ордынского баскака и отказывается платить татарам дань.
Берке поверил. Этот человек не достоин владеть ни одним из русских городов. Он должен умереть.
Берке действовал давно проверенным способом: он отравил Василия ядом.
«Каков же негодяй наш дядюшка! — стоя у окна терема, подумал князь Дмитрий. — Он готов искоренить всю нашу семью. Надо что-то предпринять».
Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, Дмитрий вышел из терема и, как всегда, невольно залюбовался Плещеевым озером. И до чего ж лепое[16] и раздольное! Местные рыбаки давно подсчитали, что длина озера почти 27 верст, а ширина — свыше шести. Изведали рыбаки и самое глубокое место озера, достигающее аж тринадцать саженей. Тысячи лет озеру, но оно всё не мелеет. Да и как ему обмелеть, когда в него вливаются больше десяти рек. Самая крупная из них — Трубеж, коя берет своё начало в Берендеевских болотах. Вытекает же из озера только одна Векса с северно-западной его стороны.
Плещеево озеро, как ведал князь Дмитрий, одно из крупнейших в срединной Руси. Оно даже обширнее, чем ростовское Неро-озеро, и обладает исключительной красотой. Берега его то равнинные, то холмистые, то покрытые зарослями камыша, открыты со всех сторон. Только с севера к берегу примыкает сосновый бор.
Сейчас озеро тихое и спокойное, но князь Дмитрий хорошо ведает, что при сильных ветрах, в непогодь на озере бушуют гигантские волны, и тогда берегись купеческие ладьи! Бывали случаи, когда торговые люди погибали вместе со своими парусными судами. Ну, чем не море — Плещеево озеро?! А сколько рыбы, рыбы — не перечесть. Но самая знаменитая — ряпушка. Ни один пир, ни один торжественный обед не обходится без подачи гостям блюда ряпушки. Переяславская сельдь известна всей Руси.
Промысел рыбы — один из самых древнейших местного населения. Из поколения в поколение передаются название рыбацких тоней, границы коих ничем не определены, кроме памяти народной. Каждая занимает полосу в сто-двести саженей и имеет своё наименование, связанное с очертаниями берега (Болото, Треста, Холмочек, Глина), или с заметными береговыми предметами (Синий камень, Могилки, Черный крест), или с устьями рек и ручьев (Кухмарь, Слуда, Сиваныч, Дедовик…). Всего рыбаки насчитали шесть десятков тоней. И каждый рыбак отменно ведает, в какой тоне, на какой глубине, в какое время и на какую приманку можно ловить ту или иную рыбу[17]..
Вот и сейчас заметны многочисленные ловы. На многих тонях виднеются челны-однодеревки, а по берегам снуют рыбаки с сетями, мережами, мордами[18], бреднями… В полуверсте от Ярилиной горы переяславцы тянули большой невод.
Лицо князя Дмитрия ожило, глаза заискрились азартными огоньками. Покойный Александр Ярославич весьма любил этот промысел. Вот и он, Дмитрий, не раз брался с рыбаками за тяжелый невод.
Сбрасывая на ходу с покатых плеч малиновый бархатный кафтан, шитый золотой канителью[19], князь поспешил к рыбакам.
Глава 7 ТЕСТЬ, ЗЯТЬ И ВНУКИ
Июньское солнце доброе, веселое, недавно над Ростовом Великим всплыло, а уже изрядно землю пригревает. В яблоневом и вишневом саду, радуясь раннему, погожему утру, заливает свои звонкие трели шустрый соловей, щебечут птицы.
Румяное солнышко играет на цветных стеклах купеческого терема, на причудливо изукрашенных петушках.
«Добрый денек выдался, — сидя на красном крыльце и довольно поглядывая на внука, размышлял Василий Демьяныч. — Вот так бы до самого Новгорода без дождинки. Нет хуже для торгового обоза непогодь, много товара может подпортить».
— Не забудь, Васютка, рогожи взять. Погода проказлива. До Новгорода — не близок свет. И дегтю не забудь! Без колеса телега не ездит.
— Да ты что, дед? Аль в первый раз в дальний град снаряжаюсь? Никогда ничего не забываю, — степенно отвечал тридцатилетний Васюта, укладывая на подводу кули с хлебом, солью, круги желтого воска, бобровые меха, мед в липовых кадушках…
Две другие подводы дворовые люди Митька и Харитонка (обоим уже далеко за сорок) загружали знаменитым ростовским осиновым лемехом[20], коим по всей Руси покрывали деревянные купола церквей, кровлю княжеских и боярских хором, проездных и глухих башен крепостей. Такой товар всюду брали нарасхват: покрытые ростовским лемехом купола, башни и крыши держались веками; они не гнили, не трескались, не боялись ни самых продолжительных дождей, ни обильных снегопадов, ни жаркого солнца. Но изготовление лемеха требовало большого искусства. Когда-то трудно верили, что для лемеха непременно нужна осина. Не смолистая, кондовая сосна, привычно применяемая в русских деревянных постройках, а простая осина. Впрочем, далеко не простая, а выросшая на высоких песчаных холмах, среди хвойных лесов, осина свежесрубленная, но не волглая, осина с чистой древесиной без сучков и дупел.
Дощечки для лемеха выкалывали из чурок по-старинному, топором, учитывая расположение слоев. Потом их отделывали, придавая выпуклость или вогнутость в зависимости от того, на какое место кровли пойдут пластины. Низ каждой из них получал ступенчатое зубчатое заострение. Само покрытие сложных, изогнутых поверхностей кровли также требовало большого умения. Нужно было расположить чешую так, чтобы гвозди, коими крепились пластины, оказывались прикрытыми следующими, верхними рядами чешуи. Снаружи должно быть лишь чистое дерево, открытое солнцу, дождю и ветру.
Скоро, очень скоро под русскими осенними дождями желтоватые пластины посерели, и тогда произошло чудо: под ярким солнцем, на голубом фоне неба осиновая чешуя лемеха стала… серебряной.
Именно серебряным виделся лемех иноземцам, посещавшим Ростов Великий. В ясный, солнечный день, когда в ярко-синем небе, клубясь, медленно всплывали белые громады кучевых облаков, иноземцы останавливались у подножия башен. Закинув головы, они смотрели на округлые, словно облака, уходящие в небо чешуйчатые верха привратных твердынь и пытливо вопрошали:
— Из какого металла сотворена сия башня?
— Из осины.
Удивленные иноземцы ахали, покачивали головами, с трудом верили. Да и русскому глазу, привыкшему к серому тону деревянных изб, не сразу удается разглядеть простое посеревшее дерево в светлой серебристой чешуе вознесенных в небо, прихотливо изогнувших наверший.
Легко было на сердце бывшего купца Василия Демьяныча Богданова. В лесной деревне Ядрово, где скрытно от татар готовились к сечам с ордынцами княжьи ратники, он и подумать не мог, что его младший внук Васютка, возьмется за торговое дело, а сам он вновь окажется в своем ростовском тереме. И случилось это полгода назад, когда в деревню, побывав в Ростове у боярина Неждана Корзуна, вернулся Лазутка Скитник. Тот собрал мир и молвил:
— Татары не придут на Русь. Все, кто захочет вновь перебраться в Ростов или в бывшее своё село Угожи, никого удерживать, здесь не стану.
Мужики, те, что упрятались в Ядрове из Угожей, зачесали загривки. Угожи — вотчинное село боярина Корзуна, а каждое село на оброке сидит и на других повинностях. Здесь же, в скрытне, — волюшка. Ни ордынским, ни княжеским, ни боярским ярмом и не пахнет. А волюшка — милей всего. Да и давненько в глухомани обустроились. Ни бортными, ни сенокосными, ни рыбными угодьями не обижены. Нет, уж лучше в Ядрове остаться. Так угожские селяне и порешили. А вот ростовские кузнецы и плотники надумали воротиться в город.
— Ну а ты что надумал, Лазута Егорыч? — с надеждой глянул на зятя Василий Демьяныч.
— Коль честно признаться, то я бы здесь остался. Мужики истину сказывают: волюшка — всего милей. Но меня княгиня Мария на другое дело наставила. Был с ней немалый разговор. Попросила новую службу князю Борису да воеводе Корзуну послужить. Походить в их воле ради дел державных. Не мог я княгине Марии отказать. Высоко чтима она в народе. Так что быть мне в Ростове.
— Выходит, и Олеся за тобой с ребятами?
— А куда ж теперь деваться? И ты собирай пожитки, Василий Демьяныч.
Василий Демьяныч рад радешенек. Скучал он по Ростову Великому. Как никак, а почитай всю жизнь в нем прожил. Каждую пядь земли, каждую тропиночку помнит.
Уже в Ростове старик узнал, что зять его возведен в дворянский чин, сыновья Никита и Егорша приняты в княжескую дружину. Одного лишь Васюту, любимца Олеси, оставил Лазута Егорыч при матери. Молвил:
— Чую, мне с сыновьями надлежит подолгу в отлучках бывать. Тебе ж, Васюта, с дедом и матерью сидеть. Дел по дому хватит. Не так ли, Олеся?
— Так, Лазута Егорыч, — ласково поглядывая на мужа своими большими лучистыми глазами, отвечала супруга. Недавно ей миновало пятьдесят лет, но былая сказочная красота ее во многом сохранились. До сих пор мужчины с интересом поглядывают на бывшую первую красавицу Ростова Великого, и никто не дает ей почтенных лет. Тридцатилетняя молодка — и всё тут! Да и сам Лазута Егорыч, обнимая жену по ночам, все еще называл ее «лебедушкой». (Долго не увядает красота женщин, коих Бог наделил доброй, светлой душой и неистребимой любовью к мужу и своим детям).
Купеческий терем, простоявший без хозяев несколько лет (был оставлен на дворовых Митьку и Харитонку) вдруг заполнился шумом, гамом, детским голосами. Жена старшего сына Никиты принесла ему двоих сыновей и дочку, жена Егорши — сына и двух дочерей. И тот, и другой, по благословению отца и матери, нашли себе невест в Ядрове, и оба были довольны своими избранницами. А вот «младшенький» до сих пор всё ходил в холостяках.
— Пора бы и тебе, сын, жену в дом привести, — не раз говаривал Лазута Егорыч. — Аль девок мало на Руси?
— Не приглядел, батя, — смущенно отвечал Васюта.
— Коль не приглядел, так я пригляжу. У меня глаз наметанный, не ошибусь.
— Не надо, батя. Я сам.
— С каких это пор сыновья сами себе жен присматривают? Женишься, как и исстари повелось, по моей родительской воле. И на том шабаш!
Васюта помрачнел, замкнулся.
— Чего губы надул? Аль тебе родительские слова не указ?.. Такой-то видный детина, и всё девку не может заиметь. Да на тебя каждая заглядывается.
Васюта, единственный из сыновей, своим обличьем весь походил на мать. Необыкновенно красивый, русокудрый, с васильковыми глазами и густыми черными бровями, он действительно всем бросался в глаза, но ни одна из девушек не тронула его сердца.
— Чего, сказываю, застыл? Отвечай отцу, Васюта, — строго молвил Лазута Егорыч.
И Васюта неожиданно, залившись румянцем, молвил:
— А я, батя, хочу с тебя пример взять.
— Как это?
— Ты у отца своего дозволения не спрашивал. Сам мать мою, Олесю Васильевну, выискал и всю жизнь в любви прожил. Вот и я хочу свою любовь сам встретить.
Лазута Егорыч поперхнулся и долго смотрел на сына, не ведая, что и ответить. Его любовь к Олесе, кою он выкрал у купца Богданова, и в самом деле не входила ни в какие рамки старозаветных устоев.
Отец продолжительное время молчал, и, наконец, раздумчиво молвил:
— Мне Олесю, знать, сам Бог послал. Таких, кажись, и на белом свете не бывает. Буду рад, коль и ты такую суженую встретишь.
И с того дня Лазута Егорыч больше о женитьбе сына не заговаривал. Его захватили не мешкотные дела, кои надолго отрывали от дома. Князь Борис Василькович, по совету прозорливой княгини Марии, посылал его то по городам Ростово-Суздальской Руси, то в Великий Новгород, а то и, вместе с боярином Нежданом Корзуном, в далекую Золотую Орду. И всегда рядом с отцом были его неотлучные сыновья, Никита и Егорша, — отцовского корня, рослые, могутные, к любому делу привычные. Ранее они и сошенькой землю поднимали, и плотничьим топором изрядно владели, и в кузнечных делах были не последними. Сноровистые, толковыми выросли сыновья. Отличились они и в сече с татарами, когда сошлись в Ростове с ордынской сотней баскака Туфана.
Боярин и воевода Корзун как-то подметил:
— Добрые у тебя сыновья, без червоточины. Дружина их охотно приняла. А княжьи гридни[21] уж куда ревнивы и придирчивы.
— Не в кого им худыми быть, Неждан Иванович.
— Да уж ведаю, — добродушно улыбнулся Корзун. Он любил Лазутку, и не только за то, что тот дважды спасал его от верной погибели, но и за его нрав — общительный и бескорыстный, никогда ни жаждущий, ни чинов, ни славы, ни денег. Такой человек — большая редкость. Поражали в Лазутке, (он не любил, когда его называли по отчеству) и цепкий ум, и природная смекалка, и умение выйти из самого безнадежного положения. Таковыми надеялся увидеть воевода Корзун и его сыновей.
В последнюю встречу, Неждан Иванович посвятил своего старшего дружинника в тайны княгини Марии:
— Княгине доподлинно стало известно, что хан Берке крайне раздражен усилением Новгорода и Пскова, их независимостью от великого князя. Как ты уже ведаешь, Лазута Егорыч, псковитяне без дозволения Ярослав Ярославича возвели на свой стол литовского князя Довмонта. Ярослав угодил в страшную немилость Берке, и он задумал очередную пакость, коя может привести к новым междоусобицам. Великий князь разослал по всем Ростово-Суздальским городам гонцов и приказал удельным князьям собирать дружины на Псков.
— Худо, Неждан Иванович. Удельные князья не посмеют отказаться от приказа великого князя.
— А почему не посмеют? — с любопытством глянул на Лазутку воевода. Раньше он знал его как отменного воина, но далеко не проницательного государственного мужа.
— Увы, Неждан Иванович. Каждый князь скован ордынским ярлыком. Не угодить великому князю — потерять удельный княжеский стол. Ярослав мигом Берке науськает, а тот и без того недоволен русскими князьями. Так что, как ни крути, а собирать дружины в поход придется.
— Так-так, Лазута Егорыч, — довольно поскреб свою густую волнистую бороду Неждан Иванович. — А как же тогда с Довмонтом быть? Псковитяне его высоко чтят. Но коль всеми дружинами на Довмонта навалиться, то ему несдобровать.
— А на какой ляд наваливаться? Мекаю, Ярослав допрежь к Новгороду пойдет, а новгородцы, народ тертый, они ведают, чем великому князю ответить. Крепко ответить! Вот и придется Ярославу восвояси топать.
— Выходит, восвояси? — рассмеялся Корзун.
— Восвояси, Неждан Иванович.
— Ну, тогда смело пойдем в поход.
— Не худо бы всех князей нашими гонцами упредить, дабы ведали, как с новгородцами и псковитянами держаться.
— Вот тебе и бывший ямщик, — с веселыми искорками в глазах развел руками Неждан Иванович. — Княгиня Мария и об этом подумала.
Весьма доволен остался воевода Корзун своим ближайшим помощником.
* * *
В купцы Васютка подался по совету своего деда. Как-то Василий Демьяныч оглядел с внуком опустевшие погреба и медуши, лабазы и амбары, и сердце его сжалось. Когда-то всё было забито всевозможным товаром, на обширном дворе толпились торговые люди, «походячие» коробейники и приказчики. Ныне же — полное запустение.
Завздыхал и заохал восьмидесятилетний старик, аж слеза по его морщинистой щеке прокатилась.
— Купеческие дела свои вспомнил, дед? — сердобольно спросил Васютка.
Василий Демьяныч тяжко вздохнул:
— Вспомнил, внучок, еще как вспомнил. Эх, сбросить бы годков двадцать.
— И по городам покатил бы?
— А чего ж? Деньжонки остались. Прикупил бы кой чего — и в Переяславль.
— Отчего ж в Переяславль, дед?
— Да я в сей град первую вылазку свою сделал. Удачно поторговал, и с той поры частенько туда наезжал. Зело красивый град, на чудесном озере стоит.
— Вот бы глянуть, — простодушно молвил Васютка.
— Возьми — и глянь. Накуплю тебе товару — и с Богом!
— А чего, дед? Надоело мне в тереме отсиживаться. Хочу и я другие города поглядеть. Набирай товару!
— Ты не шутишь, внучок?
— Да какие шутки, дед! — загорелся Васютка. — Айда по купецким лавкам.
Василий Демьяныч на храм Успения перекрестился, и до того возрадовался, что облобызал внука.
Перед первой поездкой бывалый купец долго наставлял Васютку:
— На торг со своей ценой не ездят, там деньга проказлива. И запомни, внучок. На торгу два дурака: один дешево дает, другой дорого просит. Тут уж не зевай, купец, что стрелец, оплошного бьет. А еще тебе скажу…
Битый час вразумлял внука Василий Демьяныч. А когда Васютка вернулся из Переяславля с прибытком, дед и вовсе разутешился.
— Никак, получилось?
— Получилось, дед. Надумал я и вовсе в купцы податься.
Лазута Егорыч отнесся к новому делу сына довольно спокойно. Не зря его в честь деда назвали. А вот Олеся взгрустнула: последний сокол из гнезда вылетает. Да и страховито по городам ездить. На Руси, почитай, никогда покоя не было.
Перед новой поездкой надела на шею сына гайтан[22] с шелковой ладанкой и истово перекрестила:
— Да храни тебя, пресвятая Богородица, сын мой любый!
Глава 8 ПАЛАШКА
В конце Никольской слободы Переяславля притулилась к земле курная избенка Палашки «Гулены». Кличка укоренилась давненько, с тех пор, как бывший подручник Ярослава Всеволодовича, Агей Букан, прогнал Палашку из своих хором.
Веселая, озорная Гулена не опечалилась. Было ей в ту пору 28 лет, выглядела для мужиков видной притягательной женкой[23]. Правда, несколько месяцев ходила Палашка брюхатой, но когда бабка-повитуха приняла от нее девочку, игривая и похотливая Гулена не засиживалась у родного чада, и вновь принялась за разгульную жизнь. Она то ублажала молодых княжеских гридней, то пожилых купцов, а когда в нее и вовсе вселился «зеленый змий», она стала ежедневной посетительницей кружечного двора, и вконец опустилась. Бражники с гоготом волокли собутыльницу в сарай, уставленный пустыми винными бочками, и грубо потешались над пьяной женкой.
В юные и молодые годы, когда сочная и ядреная девка с неистовством ласкала именитых людей, у нее постоянно водились богатые подарки и деньги.
Девочку выхаживала старая мамка Пистимея, но когда Палашка постарела и никакому мужику уже не стала угодна, то Гулена оказалась почти нищей. Пистимея, привыкшая к Марийке, уже не спрашивала денег, и кое-как изворачивалась, чтобы как-то прокормить подраставшую девочку.
Обычно веселая, не задумывающаяся о жизни Палашка, потрепанная и исхудавшая, стала часто ронять слезы.
— Прости меня, доченька. Плохая я тебе мать. И свою жизнь загубила и тебе счастья при такой матери, поди, не видать.
— Счастье не палка, в руки не возьмешь, — тяжко вздохнув, молвила Пистимея.
— В храм пойду, грехи замаливать. Авось, Бог и простит.
— Далеко грешнику до царствия небесного, — вновь вздохнула мамка. — Надо было допрежь о грехах своих думать.
— Ох, надо бы, Пистимея, — горестно покачивала головой Палашка. — И хоть бы чадо родить от князя. Сколь у меня их было! А то ведь от святотатца и изувера Агея Букана. Срам!
— А тебе-то отколь ведать? Ты ведь, прости Господи, у кого токмо в постели не бывала. Тьфу!
— Плюй, серчай на меня, бабка Пистимея. Заслужила.… Но я точно высчитала. День в день сходится.… Да и глаза его сиреневые.
— Эко, нашла примету. Мало ли у людей глаз сиреневых.
— С кем спала, таких глаз не видела. Токмо у одного Букана.
— Да где тебе было разглядеть, коль очи свои непутевые всегда были винцом залиты. Не верю, что от святотатца, кой противу русича меч поднял и за поганых татар стоял. Не верю! Марийка наша от доброй христианской души. Нрав-то у нее мягкий и робкий, да и лицом, почитай, вся в тебя. Красной девицей будет. А то заладила: от Букана, от Букана. Не поминай мне больше этого изверга! Не зря его ростовцы живота лишили.
— Не буду, бабка Пистимея… Не буду.
Руки у Палашки мелко тряслись, и всё ее нутро жаждало горькой.
— Страдаешь, беспутная.
— Страдаю, бабка. Пойду последний раз в питейную избу, а завтра, чуть свет, в храм. Вот те крест!
— Ох, чует мое сердце. Добром жизнь твоя не кончится. Дьявол тебя полонил. Тьфу!
Марийки в этот час в избе не было: отослала ее Пистимея на Плещеево озеро, дабы рыбки раздобыть.
Палашка же вернулась в избенку пьяней вина. Как переступила порог, так замертво и рухнула на земляной пол. Утром, опохмелившись капустным рассолом, хватаясь худенькой рукой за впалую грудь, глянула скорбными глазами на Пистимею и молвила:
— Даст Бог сил в храм сходить, а там и помирать буду. Чу, грудная жаба прихватывает. Отгуляла свое… А грехи мне свои не замолить. Права ты, Пистимея. «Далеко грешнику до царствия небесного». Бог долго ждет, да больно бьет. Такая уж судьба моя горькая.
— Да ты что, маменька? Не плачь, ради Христа! — метнулась к матери шестнадцатилетняя Марийка. — Вместе будем в церковь ходить. Бог тебя не оставит.
— Помолись за меня, доченька. У тебя душа чистая, непорочная.
— Помолюсь, маменька, непременно помолюсь.
— А мне уж недолго. Отгуляла Палашка-милашка.
Мать горько улыбнулась и, поочередно глянув на дочь и Пистимею, тихо молвила:
— На чердак бы мне взобраться.
— Да куда уж тебе, — махнула рукой бабка. — В чем душа держится. И чего тебе там, среди хлама понадобилось?
— На чердак! — непоколебимо повторила Палашка и, немощной рукой толкнув дверь, переступила порог и вышла в сени.
По крутой лесенке не шагала, а вползала. Сверху ее подтягивала руками недоумевающая Марийка, а Пистимея, опершись обеими руками на клюку, сердито шамкала беззубым ртом:
— Спятила, неразумная. Бесы в башке-то от винного запоя.
Оказавшись на сумеречном чердаке, Палашка долго отдыхала, а затем, нетвердо ступая ногами, пошла к груде хлама.
— Подь сюда, доченька. Разметай всё, пока рогожу не увидишь.
— Да зачем, маменька?
— Разметай!
Когда Марийка раскидала по сторонам чердака, освещенным небольшим оконцем, старую утварь и прочий хлам, она и в самом деле увидела полу истлевшую рогожу, под коей что-то топырилось. Вскоре в трясущихся руках Палашки оказался небольшой темно-зеленый ларец, расписанный золотными узорами.
— Вот моя разлюбезная шкатулочка, — радостно заговорила Палашка. — Рогожа чуть живехонька, а шкатулочка как новенькая, ничего-то ей не сделалось… Пойдем-ка к оконцу, доченька.
Палашка отстегнула медные застежки ларца и подняла крышку. Страдальческие глаза ее ожили.
— Зри, Марийка.
Марийка глазам своим не поверила.
— Да тут целое богатство, маменька!.. Откуда?!
Мать, довольная изумлением дочери, стала вытягивать из ларца драгоценные изделия: золотые сережки со светлыми камушками, серебряное запястье, серебряные колты-подвески сканого серебра, золотую гривну, весом в добрые полфунта, и несколько золотых монет.
— Откуда? — вновь вопросила пораженная Марийка.
— То долгий сказ, доченька, и не каждому его поведаешь. Но тебе скажу, дабы о худом не думалось… Служила как-то в мамках у ростовского боярина Бориса Сутяги старушка Фетинья. Непростая старушка. Бог ее особым даром наделил — недужных людей искусно пользовать[24]. Еще девчушкой она мальчонку Бориску от верной погибели спасла, да так и осталась в его хоромах. Всем сердцем к нему прикипела, и любила так, как иная мать своё дите не возлюбит. Борис-то Сутяга хоть и был великим скрягой, но Фетинью щедро отблагодарил. Старуха не раз его от смерти спасала и в тайных делах его была подручницей, но о них толком ничего не ведаю… Ларец-то с богатством боярин Сутяга года за три до своей кончины Фетинье подарил.
— А к тебе-то, маменька, как попал?
— Сама дивлюсь… Сказывала тебе, что старуха странная. Я в ту пору, прости Господи душу грешную, в сенных девках у купца Глеба Якурина оказалась. Купец-то хоть и в годах, но до девок был падок, ну и на меня польстился. Всё приговаривал: «Не грешит, кто в земле лежит». А Фетинья почему-то не поверила. И чего ей в голову втемяшилось? Будто умом тронулась после смерти своего благодетеля. Не верю, грит, что такой христолюбивый купец, как Глеб Якурин, забыв о своей супруге, с тобой шашни завел. Не верю! Даже о заклад стала биться. Крепко поспорили. Привела я тайком Фетинью в купеческую опочивальню. Тот спал мертвым сном. Старуха зачем-то меня за квасом послала, затем и сама тихонько удалилась. А на другой день мне ларец вручила. Диковинная старуха. Никакого греха не видела, а богатство своё отдала. С купцом же я недолго грешила: помер Глеб Митрофаныч через седмицу в одночасье. А ведь никогда не хварывал. Значит, так на роду ему было писано. А сей ларец мне Фетинья от чистого сердца подарила, сама же в монастырь сошла.
— Чего же ты, маменька, все последние годы нищенкой жила?
— А я, доченька, обет дала: Богатство Фетиньи не трогать до тех пор, пока тебе шестнадцать лет не стукнет, пока беда на меня не навалится. А беда пришла — отворяй ворота. Косая-то[25] уж у порога стоит.
— Опять ты за своё, маменька. Тебе ведь еще и пятидесяти нет.
— Не годы старят, а горе. Сердцем чую… И вот что я тебе скажу, доченька. Мамку Пистимею ты никогда не обижала, и после моей кончины не обижай. Человек она добрый.
— Да ты что, маменька! Я такой ласковой бабушки никогда боле и не видела.
— Вот и добро, доченька, надеюсь на тебя… А богатство своё потихоньку расходуй и честь свою блюди, не уподобься мне, великой грешнице. Тогда пропадешь.
Марийка сняла через голову медный крестик на синем крученом гайтане, поцеловала, горячо и истово молвила:
— Клянусь тебе, маменька, никогда в грехе жить не стану. Одному мужу буду верна.
— Вот и разумница. Порадовала ты меня, доченька. А ларец-то покуда здесь припрячем. В избе пока нельзя. Чай, сама ведаешь, какие ко мне пройдохи наведываются. Им бы чего уворовать…
Палашка померла через седмицу, будто свеча истаяла. Загоревала Марийка, ходила по избе и двору как в воду опущенная. А тут: одна беда не угасла, другая загорелась. На Акулину гречишницу[26] ушла в мир иной и бабка Пистимея. За день до смерти она, как-то смущенно поглядев на Марийку, молвила:
— Не хотела сказывать, да предсмертную волю твоей матушки не могу преступать… Есть у тебя родимое пятнышко на левом плече с горошину.
— Есть, бабушка. Так что из этого?
— Ох, многое, девонька, — тяжело вздохнула Пистимея. — Родилась ты от страшного злодея Агея Букана, о коем наверняка наслышана. У него была такая же родинка на левом плече. Все полюбовницы его об этом ведают.
У Марийки ноги подкосились. Она не раз спрашивала мать о своем отце, но та почему-то отмалчивалась или отделывалась шуткой: дурная-де в девках была и часто во хмелю, разве всех мужиков упомнишь… И вот отыскался-таки «родной тятенька!». Добро, что ростовцы изверга живота лишили, но всё равно тяжко про такого родителя слушать. Уж лучше бы мать свою тайну в могилу унесла.
— Да ты не кручинься, девонька. Никто о том, опричь твоей матери, и не ведает. Выкинь из головы святотатца.
Но глаза умирающей Пистимеи были печальны: остается Марийка круглой сиротой. Не покинь ее, пресвятая Богородица!
Перед самой кончиной мамка дала Марийке совет:
— Собой ты лепая, пригожая, в мать. Позовут в сенные девки — не ходи. И купцы, и бояре на красных девок солощи. Им свои-то супружницы страсть надоели. Не ходи. Но и одной тебе в этой избе не прожить. Пригляди не корыстную, добрую женщину — и живите с Богом. Вдвоем-то всё повадней… А по матери долго не убивайся. Печаль не уморит, а с ног собьет. И по мне не тужи. Кручинного поля не изъездишь. Приди в себя, доченька, осмотрись. Ты уж в девичьи лета вошла. Бог даст — доброго человека встретишь… И вот что еще. Коль, не приведи Господи, совсем худо будет, сходи к Синему камню. Приложись к нему трижды и душевно молви: «Помоги мне, батюшка, камень Синий. Помо…»
Пистимея не договорила и тихо преставилась.
Ласковое сердце Марийки никак не покидала грусть. Пистимея хоть и наказывала «долго не убиваться», но девушка вот уже третий месяц ходит к матери и бабушке на погост. Была Палагея хоть и «непутевая», но душой легкая и отзывчивая. Любила ее Марийка и всё ей прощала: мать до смерти уже не переделать. Не зря в народе говорят: «Ангел помогает, а бес подстрекает», и бес этот оказался сильнее ангела. Ишь, как маменьку на худые дела толкнул. Она даже плохонького хозяйства не завела, жила одним днем. Ни огородом не занималась, ни живности на дворе не имела.
Кормовых запасов хватило Марийке только на неделю. Не осталось молодой хозяйке ни муки, ни гороху, ни репы, ни квасного сусла; покоились в тощей котоме с десяток луковиц, коими некогда закусывали, забредавшие в избенку, всякого рода пропойцы.
Полуголодная Марийка полезла, было, за ларцом на чердак, да спохватилась. Надо ли маменькин клад починать? Она-то его, почитай, с младых лет берегла, уж в какой нужде сидела, но не трогала… А чем тогда жить?
Призадумалась Марийка. Без работы ей никак не обойтись. Мамка Пистимея хоть и не советовала, но видит Бог, надо к кому-то в услуженье идти, иначе за суму берись. Но то — стыдобушка! Такая молодая да христарадничать. Нет, уж лучше в служанки податься, чай, не все бояре на сенных девок кидаются.
Марийка стала перебирать в уме переяславских бояр. Их не так уж и много (город не столь и велик), каждый именитый человек на слуху. Но один — жесток и лют, за малейший недогляд самолично плетью стегает, другой — сквалыга, коих белый свет не видывал, слуг своих в черном теле держит, третий — великий прелюбодей… Нет, права мамка Пистимея, не стоит к боярам набиваться.
Как-то в избу забрел материн знакомец, Гришка Малыга, пожилой рыжебородый мужичонка лет пятидесяти. Он частенько бывал у Палагеи, и Марийка хорошо ведала его судьбу, о коей он не раз с горечью рассказывал, потягивая из оловянной кружки брагу или пивко. Гришка пристрастился к зеленому змию давно, с тех пор, как погибли три его сына от татар, наказавших жителей Переяславля за восстание брата Невского, Андрея Ярославича. Сам же Гришка и его жена Авдотья спаслись: во время ордынского набега на город оба ходили в лес по грибы. Вернулись вечером в мертвый город: татары спалили не только избы и терема, но и посекли саблями всех людей. Тяжелым было возрождение Переяславля…
За неделю, как Гришке явиться в Марийкину избу, запылала ярым огнем юго-западная часть города с Никольской и Рождественской слободами. Виноватым оказался один из кузнецов, кой вопреки строгим запретам, ночью доделывал в своей кузне срочный заказ; искры угодили на соломенную кровлю соседней избы (лето стояло сухое и жаркое) и та вмиг занялась огнем. А тут и ветер, как на грех, загулял. Два десятка изб как языком слизало. Гришка с Авдотьей успели коровенку и овец со двора на улицу выгнать.
Малыга забрел к Палашке, дабы залить вином горе, ведая, что у собутыльницы может найтись сулейка[27] бражки, кою она нередко готовила из солода.
— Чего-то, Марийка, никого у тебя не вижу. Мать, поди, в питейную избу убрела. А бабка где?
Марийка залилась горючими слезами.
— Да ты что, дядя Гриша, аль не ведаешь? В могилках покоятся маменька и бабушка.
У Гришки глаза на лоб.
— Вот те на! Пришла беда — отворяй ворота. Вот жизть-то наша. Плюнуть да растереть. Подумай-ка… Ну и ну.
Гришка долго сокрушался, а затем поведал о своем горе:
— Погорельцами мы с Авдотьей стали, а деньжонок на нову избу — вошь на аркане да блоха на цепи. Не ведаем, куда и приткнуться.
— Так ко мне приходите, — без раздумий предложила Марийка. — Живите, сколь захотите. И мне с вами отрадней будет.
— Благодарствую, дочка, — тепло изронил Малыга. — Добрая у тебя душа.
Затем Гришка осмотрел заросший бурьяном огород и запустелый, скособочившийся двор, вздохнул.
Не любила Палашка с хозяйством возиться. Всю жизнь мотыльком пропорхала. Ну, да я не без рук, и Авдотья у меня работящая. И огород поднимем, и дворишко поправим. С коровенкой не пропадем.
Глава 9 МЕЛЕНТИЙ КОВРИГА
Мелентий Коврига припозднился: возвращался с сенных угодий уже вечером, когда июльское солнце завалилось за позолоченный купол белокаменного Спасо-Преображенского собора. Не зря съездил: мужиков надо проверять да проверять. Чуть спуску дашь — и половины сена не соберешь. На тиуна[28] же ныне надёжа плохая. Другую неделю в избе отлеживается. Крепко-де занедужил. Гнать бы такого подручника взашей, но лучшего тиуна не сыщешь. Мужики его, как черт ладана боятся. Прижимист, на расправу скор. Правда, не чист на руку, но где найдешь тиуна, кой бы вороватым не был. Каждый помаленьку крадет.
Когда-то Мелентий Коврига служил ростовскому князю Василько Константиновичу, но долго в Ростове Великом не задержался. Князь Василько не слишком жаловал Мелентия, кой в битвы старался не ходить, а если уж и участвовал в походах, то на врага, почитай, не кидался, стараясь в опасный момент попридержать коня. В Ростове его ближним другом стал боярин Борис Сутяга, кои оба сетовали на Василька Константиновича:
— Не любит нас, князь. На ратных советах перед всей дружиной срамит. Не лихо-де воюем, меча из ножен не вынимаем. А того не разумеет, что мы не какие-то простые гридни, а бояре, коих надо беречь, как зеницу ока.
— Вестимо, Мелентий Петрович. Не к лицу боярам под обух идти. На то молодые гридни есть да пешцы из мужичья.
После неожиданной кончины Бориса Сутяги на княжеском пиру, друзей у Ковриги в Ростове не осталось: другие бояре относились к Мелентию с прохладцей. Гордые, издавна известные своей вольностью и храбростью в сечах, «княжьи мужи» терпеть не могли трусоватых людей.
Неуютно чувствовал себя Мелентий Коврига в Ростове Великом и он, после гибели Василька Константиновича на реке Сить, попросился на службу к переяславскому князю Ярославу Всеволодовичу. Тот, давний недруг ростовских князей, с большой охотой принял к себе Ковригу: глядишь, сгодится в каком-нибудь пакостном деле, а на разные мерзости Ярослав Всеволодович был всегда горазд. Не оставил он доброго имени у русичей. Вольготно жилось при нем Мелентию Ковриге. Но после кончины Ярослава Всеволодовича, боярину пришлось перейти на службу к новому великому князю Андрею Ярославичу, кой занял владимирский стол.
Жизнь Ковриги заметно изменилась. Неугомонный, вспыльчивый и воинственный Андрей Ярославич никому не давал покоя: то устраивал на своем дворе ратные потехи, то проводил на реке Клязьме «ледовые побоища», да такие, что редкий раз возвращался в свои хоромы без синяков и шишек. А однажды, разгоряченный Андрей Ярославич едва Мелентию голову мечом не рассек. Добро шелом оказался крепким. Коврига от могучего удара аж с коня слетел, а князь, знай, зубы скалит: «Не забывай о щите, Мелентий. Привык в хоромах отсиживаться. Татарин — воин отменный, ни одной промашки не упустит. Зри в оба! Я тебя, Мелентий, когда на Орду пойду, в передовой полк поставлю. А ты, как я слышал, любишь к обозу жаться. Боле не спрячешься».
Коврига наливался злобой, но вслух перечить князю не отваживался. В хоромах же вставал к киоту и молил Господа, дабы тот нещадно покарал зловредного князя. И Господь, казалось, услышал его молитвы. Когда Андрей Ярославич стал в открытую собирать на ордынцев дружины и пеших ополченцев, хитрый Коврига немешкотно помчал в Новгород к Александру Невскому. Мелентий уже ведал, что старший брат недоволен Андреем за его постоянные призывы к русским князьям ударить по Золотой Орде.
Невский хоть и встретил Мелентия хмуро, но осудил брата.
— Я всё ведаю, боярин. Я уже послал своих гонцов к Андрею, и ты возвращайся вспять. Коль успеешь, скажешь князю: «Не время поднимать Русь на татар. Нет пока у нас сил, дабы с Ордой управиться. Терпеть и ждать! Сокрушительный удар будет нанесен позже».
Мелентй в Переяславль не спешил, и добирался он столь долго, что прибыл в город лишь тогда, когда татары, разорив храмы и жилища, ушли далеко за пределы княжества. Коврига не слишком и пострадал: как предусмотрительный человек, еще накануне своего отъезда в Новгород, он зарыл ночью подле бани золотые и серебряные гривны, и наиболее ценные пожитки[29], а жену и домочадцев заблаговременно спровадил в дальний лес, к бортнику. Новые хоромы возвел Мелентий Коврига одним из первых. Умел богатеть да денежку грести. Супруге своей довольно говаривал: «И мышь в свою норку тащит корку».
После гибели войска Андрей Ярославич бежал в Швецию, и ярлык на великое княжение получил Александр Невский. Он, в отличие от брата, никогда ратных потех не устраивал, но к Мелентию относился прохладно, никогда о нем доброго слова не сказывал. Это Ковригу бесило, но затем боярин успокоился. Никуда не тормошит — и Бог с ним. Других-то бояр то в Галич пошлет, то в Новгород, то в Ростов Великий. Всё какие-то дела да сношения, по коим ездили самые преданные князю бояре. И пусть себе ездят, пока под разбойный кистень или татарскую саблю не угодят. Дороги-то дальние и опасные. А он, Мелентий Петрович, безмятежно в своих хоромах проживает да на ближних княжьих людей посмеивается. Эко удовольствие в худые времена (под ордынским ярмом) по городам шастать. И самому Невскому в теплых покоях не сидится. То в Сарай к хану укатит, то в далекую Монголию к самому кагану[30]. Княжьи мужи не шибко-то и рады такой маетной жизни. Ну да каков игумен, такова и братия.
Возликовал Мелентий, когда изведал, что Невский, возвращаясь в очередной раз из Золотой Орды, скончался в монастыре волжского Городца. Да, чу, скончался от татарского зелья. Не мог простить ему хан Берке замятни против сборщиков дани Орды. Он же, Мелентий, как услышал, что Ростов Великий призвал к восстанию другие княжества, тотчас, забрав всё свое добро, в дальнюю вотчинную деревеньку укатил. Береженого Бог бережет, да и любой татарин скажет, что боярин Коврига худа против Орды не замышлял.
Оживился Мелентий, когда на переяславский стол уселся сын Невского, малолетний Дмитрий. В сей град и перебрался вновь Коврига: боярам самая вольготная жизнь при князе — младенце, никогда еще они не пребывали в таком покое. Ни войн тебе, ни ратных потех. Добро, когда князь под стол пешком ходит.
Но время — не столб, на одном месте не стоит. Когда Дмитрию миновало 12 лет, привольная жизнь бояр круто изменилась. Князь собрал старшую дружину, в кою всегда входили все бояре, и не погодам, твердо, по-взрослому заявил:
— Идем на Ливонию.
Мелентий рот разинул. Вот тебе и юнота! В лета не вошел, а уж за меч хватается. Ну да есть с кого пример брать, яблоко от яблони… Отец-то, Александр Ярославич, с отроческих лет начал о войне со свеями помышлять. А пять лет назад слух прошел, что Невский приказал князьям готовить в лесных урочищах тайные лесные дружины, а главной подручницей его стала ростовская княгиня Мария, коя указала ударить супротив басурман в вечевой колокол. И загуляла по городам и весям замятня!
Ныне, слава Богу, Ростово-Суздальская Русь угомонилась. Один молодой переяславский князек Дмитрий тормошится. Чу, опять на Ливонский орден надумал замахнуться. Ну и дурак! Куды уж ему с малой ратью на такую силищу? Кобыла с волком тягалась: один хвост да грива осталась. Не по зубам орешки. Чай, найдутся умные люди, кои юноту образумят…
Мелентий возвращался с покосов в Переяславль с десятком оружных послужильцев (с исстари у каждого боярина своя дружина).
По Никольской слободе встречу шла молодая девушка. Шла от журавля[31] с коромыслом на правом плече, — милолицая, гибкая, с пышной светло-русой косой, перевитой бирюзовой лентой; одета просто: холщовый сарафан, на ногах — поношенные чеботы[32] из грубой, необделанной телячьей кожи.
— Нет, ты глянь, братцы. Ступает, как лебедушка, даже вода в бадейках не колышется. Лепая жевка! — воскликнул один из послужильцев.
Мелентий (большой охотник женщин) вперил в девушку похотливый взгляд, вопросил:
— Чьих будешь?
Марийка остановилась), боярин!), подняла на Ковригу лучистые, сиреневые глаза.
— А ничьих, добрый господин.
— Как это ничьих? — недоуменно хмыкнул Мелентий. — Такого не бывает.
— Сирота она, боярин, — признал девушку статный, крутоплечий послужилец с черной, окладистой бородой.
— А ты откуда ведаешь, Шибан?
— Да уж ведаю, — плутовато крякнул в увесистый кулак послужилец и пояснил. — Дочка Палашки Гулены. Преставилась недавно. А мужа у Палашки никогда не было.
— Никак и ты с Палашкой баловался? — хихикнул Коврига.
— Грешен, боярин. Но то давненько было.
Мелентий еще раз внимательно оглядел Марийку и загадочно молвил:
— Авось, и помогу сиротинушке. А пока ступай.
Глава 10 МАРИЙКА И БОЯРИН
С новыми постояльцами жизнь Марийки пошла повеселей. Гришка Малыга хоть частенько и пропадал в питейной избе, но когда был трезвым с какой-то неуемной жадностью хватался за хозяйственные дела. У него поистине были золотые руки: первостатейный плотник, умелый кузнец, искусный печник, великолепный сапожник… Всё ладилось и спорилось у Гришки.
Марийка диву дивилась:
— Ну, просто клад твой супруг, тетя Авдотья.
— Если бы не винцо, цены бы такому мужику не было, — поддакнула Авдотья и тяжело вздохнула. — Но винцо его погубит. Он ведь, бывает, по целой неделе из запоя не выходит, как будто черт его к зелью толкает. Беда!
— Добро еще не буянит. Другие-то мужики, чуть хмель ударит, готовы всю избу разнести, да еще дерутся. Видела таких.
— Моего непутевого Бог миловал. Знай, песни горланит, да так, что вся слобода слышит. Во хмелю, он мухи не обидит. Проспится — и опять к бражникам.
— Да где он денег берет, тетя Авдотья?
— Сама дивлюсь. У него друзей полгорода. Кому он токмо не помогал. За вино на любую работу горазд. Беда!
— А заговор от винного запоя не пробовала? Сказывают, есть такие знахарки.
— Пробовала, доченька. Приводила одну ведунью. Мой-то мертвецки пьяным спал, а бабка над ним заговор шептала. В конце заверила: «Теперь питейную избу за версту будет обходить». А Гришка мой оклемался, шапку в охапку — и опять к бражникам ударился.
— Выходит, не каждая знахарка запой снимает.
— А я так мекаю: никакая. Кто с младых лет к винцу пристрастился, того, как горбатого, могила исправит.
И всё же Авдотья шибко не бранилась: супруг между запоями и двор подновил, и огород привел в порядок, и сена для коровы раздобыл.
И Гришка и Авдотья с первых же дней называли хозяйку дочкой. По нраву им пришлась Марийка. И на огороде старается, и к прялке быстро приноровилась, и корову доить наловчилась. (Не каждому чужому человеку буренка вымя даст).
Авдотья удовлетворенно высказывала:
— Не чаяла, что у Палагеи такая дочка работящая. Ты уж не серчай, но мать твоя никогда доброй хозяйкой не была. Прости ее, грешную, Господи. А ты с лица хоть и в Палагею, но честь свою блюдешь и на всякий труд спорая. Да хранит тебя Бог.
— Хранит, тетя Авдотья. Никто меня не обижает.
— Всегда бы так, да токмо будь усторожлива. Нельзя тебе одной по городу ходить. Мало ли худых людей.
— Ты это к чему, тетя Авдотья?
— А к тому, доченька. Красным девицам не принято без пригляду гулять. Другие-то и шагу ступить без отца или матери не могут. А ты, почитай, с малых лет одна одинешенька по улицам бегаешь. Опасись!
* * *
Ковриге на Покров шестьдесят стукнет, но на здоровье не жалуется. Крепок Мелентий! Некоторые в эти лета от разных недугов валятся, а Коврига — хоть куда с добром.
— Кому жить, а кому гнить. Бог меня не забывает, — довольно говаривал Мелентий.
А вот супруга его была квелой, и за последние годы превратилась в немощную старуху. Но Коврига шибко не горевал: свою постель он нередко делил с сенными девками. Правда, они уже далеко не первой свежести, но разве можно их сравнивать со своей Матреной Савельевной, коя одной ногой в могиле стоит. Никак нельзя! Девки — что сотовый медок. Когда молодая голубит, будто в раю находишься.
Перед глазами Мелентия вдруг всплыла «сиротинушка». Смачная девка, вот бы такую обабить. А что? Проще пареной репы. За девку заступиться некому, ни отца, ни матери, ни брата. Надо одну сенную девку — перестарку за холопа замуж выдать, а на ее место взять юную сиротку. Рада будет. Какой босячке не захочется в богатых хоромах пожить? Да токмо пальцем помани.
На другой день к Марийкиной избе подъехал на пегом коне боярский дружинник, Сергуня Шибан и, к своему удивлению, увидел на крыльце известного всему городу Гришку Малыгу, кой совсем недавно у боярина Ковриги новую изразцовую печь выкладывал.
— А ты чего здесь делаешь?
— Аль не видишь? Мережу плету.
В последние дни Гришка был трезв.
— Не слепой. Чего, сказываю, тебя сюда занесло?
— Судьба, Шибан. От нее, как от мухи, не отмахнешься. Кому что Бог даст. Сгорела моя изба, а Марийка приютила. Глядишь, под крышей, но печаль гложет.
— И печалится неча, коль дармовую избу обрел.
— Да разве то изба? Ты б мою посмотрел. Всему городу на загляденье. Терем! Вот и выходит: чужую печаль и с хлебом съешь, а своя и с калачом в горло нейдет. Я в свою избу всю душу вложил, дивной резьбой изукрасил. Да и что говорить.
— Верю, Гришка, топором ты изрядно владеешь… А Марийка где?
— В огороде с моей старухой.
— Покличь.
На предложение боярина Ковриги Марийка, памятуя предсмертный наказ бабки Пистимеи, наотрез отказалась:
— Мне и здесь хорошо.
— Вот, неразумная, — покачал головой Шибан. — В богатых хоромах будешь жить, в шелках и бархатах ходить, сладко трапезовать.
Гришка Малыга сидел, плел снасть и про себя посмеивался: золотые горы сулит Шибан. Выходит неспроста. Ковриге, знать, новая девка для утех понадобилась. Ишь как Шибан Марийку улещает. Лишь бы она выстояла, а коль на боярские сказки прельститься, придется ввязаться.
Марийка же (молодец, девка!) молвила:
— Скажи своему боярину, добрый человек, что благодарствую. То — честь немалая. Но в служанки к нему не пойду. Мне и своя изба мила.
Марийка поклонилась боярскому послужильцу в пояс и убежала в огород.
— Чудеса, — крутанул головой Шибан. — Не ожидал такого от девки.
— Чужая душа не гумно: не заглянешь. А ты-то мекал, что раз дочь гулящей Палашки, то и чадо по той же стезе пойдет. Не выгорело, Шибан. У каждой пташки свои замашки, хе-хе.
— Буде зубы скалить, баюн, — хмуро изронил послужилец и повернул коня к боярским хоромам.
Мелентий ушам своим не поверил. Нищая девка на богатства не позарилась. Да то уму непостижимо! Но такое с рук Марийке не сойдет. Не тот Коврига человек, дабы лакомая девка от него упорхнула.
— Ты вот что, Сергуня, — молвил боярин, малость подумав. — Выследи оную гордячку и приволоки силом. Но чтоб никто не узрел, — ни Гришка, ни баба его, ни другой любой зевака.
— То дело непростое, боярин. Днем — всюду люд, а ночью Марийка в избе с погорельцами. Ума не приложу, — развел руками Шибан.
— А ты приложи, Сергуня. И чтоб поборзей! — прикрикнул Мелентий. — А когда девку возьмешь, то в хоромы не доставляй.
— А куда ж, боярин? — вконец озаботился послужилец. Чудит же, Мелентий Петрович!
— Доставь в мое вотчинное село. И дабы ни одна душа не ведала!
— Добро, боярин, — кивнул Сергуня. Однако лицо его было неспокойным и кислым: не так-то просто девку похитить.
Несколько дней Шибан выслеживал Марийку, и, наконец-то, ему сопутствовала удача: девушка пришла к могиле матери на кладбище. Оно было старинным, заросшим кустами и деревьями.
Сергуня привязал коня к ограде погоста и крадучись пошел меж деревянных крестов и могил. Ему помогал сам Бог. Глухо, пустынно, сумеречно.
Марийка, ничего не подозревая, тихо разговаривала с матерью:
— Ты уж не серчай, маменька. Чужих людей в твою избу пустила. Они добрые, меня своей дочкой называют. Лиха не сотворят…
А лихо — за спиной. Раз — и рогожный мешишко на голову. Марийка со страху, было, закричала, но «лихо» затянуло рот (поверх рогожи) тугим, плотным кушаком. Марийке оставалось лишь мычать, но тотчас услышала угрозливый шепот:
— Не мычи и не брыкайся, а то и нос завяжу. Тогда и дух вон.
Марийка примолкла. Шибан, оглядевшись, затащил ее в кусты, связал ременными путами руки и ноги, и вновь пригрозил:
— Лежи тихо, коль жить хочешь.
«Опасись одна ходить. Мало ли лихих людей», — всплыли в голове Марийки слова Пистимеи. Как права оказалась бабушка! Она очутилась в руках лиходея. Но кто он и что ему надо?
У Марийки никогда не было недругов, она никому не делала зла. Кому же понадобилось схватить ее прямо на кладбище?! Пресвятая Богородица, что же этот злодей с ней сотворит?
А Сергуня ждал полной темноты. Никто не должен видеть, как он повезет девушку в село Веськово, кое в четырех верстах от Переяславля Залесского.
Ближе к ночи выпала роса и стало прохладней. Марийка была в одном легком сарафане. Шибан укрыл пленницу своим долгополым суконным кафтаном и тихо, но уже миролюбиво произнес:
— Ничего не бойся. Скоро я отвезу тебя в доброе место. А пока потерпи.
Но Марийке было страшно. Да вон и филин пугающе заухал. Ночью выползает на кладбище всякая нечисть. Жуть! И чего тянет этот злыдень?
Мало погодя, Сергуня поднял девушку на руки, выбрался из кустов, и пошагал меж могил к выходу из погоста. У ограды его давно поджидал пегий конь.
Дорога к Веськову петляла дремучим лесом. Конечно, в боярскую вотчину можно было добраться более удобным путем, вдоль берега озера, но Сергуня побоялся встреч с рыбаками, кои нередко засиживались у кострищ и ночами. Дорога лесом куда надежней: ночью она всегда пустынна.
По черному, звездному небу плыла, освещая путь, задумчивая серебристая луна. Стояла чутко-пугливая, завороженная тишь, лишь при слабом, набегающем ветерке слышался легкий шум сосен и елей, да нарушал покой дробный цокот копыт, пущенного в рысь коня. Его-то и услышала ватага мужиков, неторопко бредущих встречу всаднику.
Ватага остановилась, прислушалась.
— Кажись, один едет, — молвил один из путников.
— Чо делать будем, Качура? В лес сойдем, аль на вершника глянем?
Большак, вожак ватаги Данила Качура, дюжий, рослый мужик в войлочном колпаке, твердо бросил:
— Глянем!
На крутом повороте дороги перед Сергуней неожиданно выросла стена мужиков. Разбойный люд! У Шибана екнуло сердце, но он был не из пугливых; выхватил из кожаных ножен меч, устрашающе крикнул:
— Посеку! Расступись!
Но лихие не дрогнули, двое из них натянули тетивы лука.
Вот тут-то Марийка, кинутая поперек коня, заслышав голоса людей, замычала изо всех сил, затрясла головой и задвигала связанными ногами. Авось, и избавят ее от полона неведомые люди.
— Спрячь меч, коль жить хочешь. Кому сказываю! Лучники! — громко воскликнул Качура.
И Сергуня понял: еще миг, другой — и две стрелы пронзят его грудь. Пришлось вложить меч в ножны.
Ватажники (а было их человек десять) сняли с коня Марийку, освободили от пут и рогожного мешка и удивленно загалдели:
— Ну и ну. Девка!
Качура, ухватив увесистой рукой коня за узду, повелительно молвил:
— Слезай!
Шибан нехотя слез и тотчас к нему метнулась разгневанная Марийка.
— Так вот кто меня похитил! Злыдень! Куда ты меня вез?
— Что за человек? — вопросил Марийку большак.
— Худой человек. Шибан, кой боярину Мелентию Ковриге служит.
— Наслышан о сем боярине, — хмуро произнес Качура. — Жесток. От него оратаи[33] в леса бегут… И куда ж ты вез девку?
Сергуня не захотел выдавать своего боярина и взял вину на себя.
— Приглянулась. Побаловаться захотел.
— А зачем в лес потащил?
— А чтоб никто не видел. Эка невидаль девку потискать. Не убудет!
Сергуня подмигнул ватаге, широко осклабился. Ухмылка его при лунном свете была хорошо заметна. Шибан норовил прикинуться простачком, дабы привлечь на свою сторону мужиков. Но мужики не любили ни бояр, ни их служилых людей.
— Всё ли так сказывает этот боярский прихвостень? — повернулся к Марийке большак.
Девушка развела руками:
— Не знаю, что и сказать, люди добрые. И всего-то видела его один раз. И вдруг такое. Схватил меня на кладбище, когда на могилку матери наведалась.
— А отец жив?
— Сирота я, добрые люди.
Качура с недобрым лицом вновь ступил к Шибану.
— Сироту обижать — великий грех. Рогатину ему в брюхо — и вся недолга. Не так ли, ребятушки?
— Так, Данила.
Но Сергуню спасла Марийка:
— Не лишайте его жизни. Отпустите!
— Добрая же ты, деваха. Он тебя помышлял обабить, а ты его милуешь. Будь, по-твоему. Но меч и коня мы заберем. Живи, Шибан! Да не забывай молиться на девку.
Сергуня вернулся к боярину, как побитая собака. Без меча, кафтана и коня. Удрученно молвил:
— Не выгорело дело, боярин. Беда приключилась.
Мелентий Петрович, выслушав Сергуню, затопал ногами:
— Дуросвят! Малоумок! С пустяшным делом не мог справиться. Со двора выгоню!
Долго бушевал и гневался, пока не плюхнулся на высокое резное кресло и не спросил:
— А с девкой что?
— Не ведаю. Что с ней разбойная ватага содеяла, одному Богу известно.
— Ну и дела!
Гришка и Авдотья хватились Марийку еще поздним вечером.
— И куда запропастилась?
Всю ночь не спали, но Марийка не появилась и утром. Встревожились.
— Дело худо, Авдотья. Если в полдни не появиться, пойду искать.
— Да куда пойдешь-то?
— Ведаю! К боярину Ковриге.
Глава 11 ГОД 1266
Год 1266 принес немало добрых и недобрых вестей и перемен. В Сарай-Берке[34] умер великий хан Золотой Орды Берке, жестокий и немилосердный враг. «И была ослаба Руси от насилия татарского». Натерпелись русичи свирепого хана! Ордынцы спешно покинули удельные княжества, дабы присоединиться к тому или иному влиятельному хану, претендующему на золотой трон. В Сарай-Берке намечалась кровавая резня, и неясно было, кто выйдет из нее победителем. Ногай, Хулагу или внук Батыя от второго сына Тутукана?
Русь затаилась. Князья ведали: каждый — не подарок. Ногай — не менее жестокий, чем Берке, один из главных воевод татарских. Еще в княжение Невского начались в (Волжской или Капчакской) Золотой Орде раздоры. Ногай, надменный могуществом, не захотел повиноваться хану и сделался в окрестностях Черного моря независимым владетелем. Он заключил союз с греческим императором Михаилом Палеологом, который в 1261 году, к общему удовольствию россиян, взяв Царьград и восстановив древнюю монархию византийскую, не устыдился выдать свою побочную дочь, Ефросинью, за мятежного хана… От имени Ногая и произошло название татар ногайских[35], а затем и Ногайской Орды[36]. Осенью 1266 года Ногай стал собирать свои тумены, чтобы двинуться на столицу Золотой Орды.
Не дремал и персидский хан Хулагу, давний соперник Берке, многие годы мечтавший завладеть богатыми улусами брата великого Батыя. Он, как и хан Ногай, начал двигать свои войска к рубежам Золотой Орды.
Великий каган, император Монголии Менгу, сын четвертого сына «покорителя земель» Чингисхана, близкий друг хана Батыя, благодаря которому он завладел троном империи, не поддерживал ни Ногая, ни Хулагу. Каган хотел видеть повелителем Золотой Орды человека своего знаменитого могущественного рода. Его выбор пал на внука Батыя, Менгу-Тимура. Он молод, тверд характером, и никогда не даст поблажки Руси. Он не в пример хану Сартаку, расколовшему, было, кочевников на христиан-несторианцев и мусульман, является ярым защитником ислама, истинным правоверным. Менгу-Тимур не будет походить и на хана Берке, который не напустил на восставшую Ростово-Суздальскую Русь свои многочисленные тумены. Берке отравил лишь великого князя Александра Невского. Но этого ничтожно мало. Менгу-Тимур обещает лишить жизни не только всех Ярославичей, Но и беспощадно наказать всех русских князей, посмевших принять участие в вечевых восстаниях ростово-суздальских городов. Именно такой хан и нужен сейчас Золотой Орде.
Но как быть с Ногаем и Хулагу? Оба рвутся к власти, и оба стараются выйти из-под узды кагана, и если один из них действительно завладеет Сарай-Берке, то он еще больше усилит свое могущество, и примет все меры, чтобы получить полную самостоятельность от императора Монголии. Это крайне опасно. Не для того великий Чингисхан создавал свою громадную страну, чтобы она через три десятка лет рассыпалась на осколки.
От кагана помчались к Ногаю и Хулагу спешные гонцы с грамотами. Но ни тот, ни другой не приостановил движение своих войск к Сарай-Берке. Дело принимало угрожающий оборот. И тут проявил свой характер внук Батыя. Он расставил верные ему тумены вокруг столицы, собрал курултай[37], пригласив на него и хана Ногая, и твердо заявил:
— Никто не смеет отменить повеление великого кагана. Вот золотая пайцза[38]. Смотрите! Тот, кто позволит себе нарушить приказ хана ханов и заветы Потрясателя Вселенной Чингиса, того ожидает смерть. Теперь скажите мне (взор Менгу устремился на Ногая), кто не согласен с повелением императора и задумал начать между соплеменниками кровавую войну, кто?
В шатре установилась гробовая тишина. Все ждали ответа Ногая.
— Да пусть живут века заветы Чингисхана. Я отвожу свои войска, — хмуро отозвался Ногай. И это означало, что повелителем Золотой Орды становится молодой Менгу-Тимур. Один же Хулагу не дерзнет кинуть свои полчища на Сарай-Берке.
С первых дней своего правления все помыслы Менгу-Тимура устремились на Русь. Он будет держать ее в твердом кулаке, и никогда не позволит вспыхнуть новым городским восстаниям урусов. Никакого единения князей! Русь должна быть раздробленной и покорной. Хватит в этой стране Александров Невских и Даниилов Галицких. Первый был отравлен, а второй умер своей смертью всего несколько недель тому назад. Не стало двух самых могущественных князей Руси. Но и у того, и у другого остались братья и сыновья. Некоторые из них могут быть опасными, особенно Ярославичи. Правда, один из них, великий князь, Ярослав Ярославич, из кожи вон лезет, чтобы угодить Орде. Он готов, ради своей власти, пойти на всяческое унижение и любое повеление хана, пусть для урусов самое низменное и предательское. Лесть и угодливость Ярослава не знают границ. Такой человек пока нужен Орде. Пока! Он, Менгу-Тимур, использует великого князя в своих целях. Сейчас Ярослав задумал собрать русских князей с дружинами, чтобы наказать литовца Довмонта, который без разрешения великого князя занял Псковский престол. Но Довмонт наверняка найдет себе сторонников не только в Великом Новгороде, но и за рубежом, на своей родной земле. Может завязаться большая война. Того-то и надо Золотой Орде. Тяжелые сражения гораздо ослабят и Русь и Литву. На последнюю давно уже замахиваются татаро-монгольские ханы. Не худо повторить 1258 год. Даниил Галицкий еще четыре года назад нанес поражение литовским войскам короля Миндовга. Тот был вынужден покинуть русские земли, и всё же Даниил, заключив с Миндовгом мир, оставил ему Полоцк, где сел племянник короля, князь Товтивил.
Однако пребывание в Полоцке литовского князя вскоре привело к новой русско-литовской войне. В 1258 году Товтивил со своей дружиной двинулся к Смоленску, разорил Войщину и Торжок. Это привлекло внимание Золотой Орды, которая сама помышляла о захвате полоцко-минских земель. Хан Берке послал несколько туменов под началом полководца Бурундуя. Тот нанес мощный удар литовцам с юга и вернулся в степи с богатой добычей. Так будет и ныне: Ярослав непременно пойдет на Псков, и он, хан Менгу-Тимур погреет на этом руки. То, что не успел сделать Берке, претворит новый повелитель Орды. А Берке был крайне недоволен Ярославом, вызывал к себе в Сарай-Берке, и осыпал грубой бранью, за то, что Псков и Новгород вышли из послушания великого князя. Ярослав поклялся беспощадно наказать оба города.
Отрадно Золотой Орде, когда воюют между собой русские князья. 1266 год должен принести Менгу-Тимуру благоденствие и процветание. Так угодно всемогущему Аллаху.
Глава 12 ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
Неохотно снаряжался в дальний поход боярин Мелентий Коврига. И чего не сидится великому князю Ярославу? Псков, вишь ли, без согласия Ярослава, возвел на свой стол литовского князя Довмонта. Эка беда приключилась! Мог бы допрежь и грамотой пригрозить. Нет, собирает со всех городов рать, и потащится под самую Ливонию. Господи, кончилась покойная жизнь! Четыре года не ведал Мелентий никаких ратных дел, жил — не тужил, покою радовался. Сладко ел и пил, и девок не забывал, Правда, с «сиротинушкой» сорвалось. Сгинула красная девка, будто черти унесли.
Гришка Малыга поганым языком вякал:
— На тебе вина, боярин. Коль ты ее к себе сманивал, то и держишь ныне взаперти. Отпусти Марийку, а не то к самому князю пойду.
Вот, дурья башка, привязался. Пришлось Гришку во двор впустить. Но ни Сергуня Шибан, ни холопы, ни сенные девки и в глаза не видели Марийки. Однако уходил Гришка со двора хмурым. Ворчал:
— Всё равно у боярина рыльце в пуху. Неспроста он Шибана присылал.
Сергуня же разводил руками:
— Поищи в другом месте, Гришка. Мать-то колобродная была, вот и дочка её куда-нибудь затесалась к непутевым людям.
— Ты на Марийку охулки[39] не клади. Девичью честь свою блюла, в строгости себя держала, — серчал Малыга.
Сергуня, хоть виду и не показывал, но пребывал в смутной тревоге. Марийка может объявиться в любой день, и тогда Шибану несдобровать. Гришка Малыга непременно пойдет к князю, а тот поставит Сергуню на свой княжеский суд. Дмитрий Александрович нравом в отца, строг, старозаветных устоев держится. За хищение девки может и в поруб[40] кинуть, или же (в пользу девки) пять гривен серебра стребовать. Деньги огромные, Сергуне вовек не расплатиться… У боярина одолжить? Пустая затея: скряга. Скорее у курицы молоко выпросишь, чем у него корку хлеба. Так и придется гнить в порубе.
Мерзко было на душе Сергуни.
Боярин упредил:
— Коль о девке где вякнешь, с живого кожу сдеру.
Но Сергуню и упреждать не надо: о таком деле и под обухом смолчишь.
Шибан с превеликой радостью принял весть о ратном походе. Идти далеко, под Новгород и Псков. Вояж может на долгие месяцы затянуться, а там, глядишь, и Марийка, коль окажется в Переяславле, в гневе поутихнет, да и Гришка пенять перестанет. Глядишь, всё и обойдется. Дай-то Бог!
* * *
Не знал и не ведал боярин Коврига, что недоволен походом и сам князь Дмитрий Александрович. Идти на Псков — глубокая ошибка великого князя Ярослава. Обиделся, видите ли! Псковитяне прогнали с княжеского стола его сына Святослава и поставили литвина Довмонта. Теперь Ярослав всюду сердито разглагольствует: «Псков не захотел видеть у себя Рюриковича! На какого-то паршивого ляха променяли. Тьфу! Не бывать тому, чтобы русскими городами иноземцы правили!»
Зело разошелся великий князь. Хотя каждый ведает, что Довмонт принял православную веру и крестился под именем Тимофея. Каждый ведает и другое: сын Ярослава в ратных делах — ни рыба, ни мясо, с таким воеводой на рубежах Руси стоять опасно. А вот Довмонт уже себя показал: одержал немало славных побед, и его уже чтят, как полководца. Такой не только никому Псков не отдаст, но и сам вражьими городами овладеет. Довмонт весьма нужен Руси. Надо, во чтобы-то ни стало, разрушить планы князя Ярослава. Великая разумница, Мария Ростовская, не зря присылала своего ближнего боярина Неждана Корзуна. Впрочем, его, князя Дмитрия, и увещевать не пришлось. Он не такой глупендяй, чтобы не понять истинные помыслы великого князя. Тот действует не только из-за своего сына Святослава, но и выполняет приказ хана Золотой Орды Менгу-Тимура. Дураку ясно, что задумал этот коварный повелитель: руками Ярослава начать на Руси новые кровавые междоусобицы. Но князья, тщанием Марии Ростовской, уже предупреждены о злокозненных замыслах Ярослава и Менгу-Тимура. Ведают о них и в Новгороде.
Собрав дружины во Владимире (а пришли они со всех городов Ростово-Суздальской Руси), великий князь довольно молвил:
— Доброе снарядилось войско. Ныне Довмонту несдобровать. День на роздых, а завтра с Богом к Новгороду. Юрий, поди, заждался меня.
Наместником Великого Новгорода был поставлен племянник великого князя, Юрий Андреевич, сын печально известного Андрея Ярославича, кой в 1252 году поднял дружины на Золотую Орду, был сокрушительно разбит и бесславно бежал к шведам, бывшим врагам Александра Невского. Зная о ненависти Андрея к Невскому, свеи[41] охотно приняли у себя беглого князя.
Племянник великого князя держал с новгородцами ухо востро. Народ своеобычный, гордый, чуть что — и выгонят неугодного наместника. Да что наместника? Сколь князей за последние годы с именитого стола скинули?! Не ведаешь, как и удержаться.
Дядюшка долгими часами наставлял молодого племянника, но Юрий Андреевич не во всем соглашался с великим князем. На словах поддакивал, но когда тот уезжал из города, многое делал по-своему, идя на уступки новгородцам. Иначе бы ему и недели не продержаться. Попробуй, пойди супротив посадника Михаила Мишинича и его влиятельных дружков Жирослава Давыдовича и Юрия Сбысловича, коих поддерживает не только посадская голь, но и купцы с боярами. Не пойдешь!
Рать добиралась до Великого Новгорода едва ли не два месяца. (Не столбовая дорога!). Один кормовой обоз занимал свыше пятисот подвод. До ордынского нашествия дружины худо-бедно кормились в селах и деревнях, но ныне мужики так бедствовали, что хоть за суму берись. Май, июнь да июль — самые голодные месяцы. Вся надежда на новый урожай, да и тот будет невелик: не каждый мужик раздобыл посевного жита.
Дорога чаще всего тянулась лесом, иногда он распахивался на десятки сажень, а иногда так суживался, что колючие лапы сосен и елей цеплялись за тела дружинников и конские морды. Но хуже всего, когда дорогу перекрывали болотистые места, подводы ухали в зыбкую топь, застревали. Обозные люди отчаянно бранились, толкали телеги, хлестали лошадей ременными вожжами. Но иногда дело доходило до того, что возницы оказывались бессильными, и приходилось возводить гати. На помощь приходили дружинники, и даже самый старший из них, Лазута Егорыч Скитник со своими дюжими сыновьями.
Лазуте давно прискучило сидеть на коне. Он скидывал с себя суконный кафтан (шеломы и кольчуги дружинников везли обычно до битвы на телегах), брал у возниц топор, и с явной усладой рубил мшистые деревья; валил их, напирая всем своим богатырским телом, наземь, обрубал сучья, один, без посторонней помощи, вскидывал тяжелое бревно на могучее плечо, и неторопко нес к строящейся гати.
Возницы одобрительно толковали:
— Силен, Лазута Егорыч.
— Мужичьей работой не гнушается.
— И сыновья ему подстать.
Установив на болотине гать, обоз, дружинники и великий князь двигались дальше. Ярослав Ярославич предпочитал ехать в своем богатом, нарядном возке, кой тянула чубарая тройка коней, с возницей на кореннике. Впереди и сзади возка ехали отборные гридни, готовые в любой момент защитить великого князя. Даже среди русских дружин, Ярослав никому не доверял: ему всегда мерещилась измена. Ростово-Суздальские князья — люди родовитые, и каждый, поди, мечтает овладеть великокняжеским столом. Взять того же Бориса Васильковича. Разве он забыл, как его дед, Константин Всеволодович, был великим князем во Владимире? До смерти не забудет…
А сын Александра Невского, Дмитрий? Уже сейчас ему тесен удел переяславский. И всего-то шестнадцать лет недавно минуло, а уж норовит в самые именитые князья выбиться. И всё по каким-то делам с Марией Ростовской шушукается. А от княгини Марии ничего доброго не жди. Она, бывшая верная потатчица Александра Невского, ныне вовсю пестует его сына. То и дело ее доверенный боярин Корзун навещает Дмитрия. Надо бы тайно подловить этого боярина да пытку с пристрастием ему учинить. А то дело до худого дойдет. Уж не замышляет ли Мария и переяславский князь новую замятню супротив Орды? Четыре года назад, почитай, вся Ростово-Суздальская Русь поднялась. А в челе замятни — Мария Ростовская. И до чего ж люто ненавидит татар эта хитрющая баба!
Ярослав Ярославич уже давно возненавидел княгиню Марию. Вначале брала черная зависть. Многие видные сочинители и летописцы называли ее самой мудрой и образованной женщиной не только Руси, но Западной Европы. Слова грамотеев бесили Ярослава.
Княгиня Мария из роду Ольговичей, а Мономаховичи всегда враждовали с Ольговичами. А уж про Ростов и говорить нечего. Этот город, как бельмо на глазу. Гордый и всегда непокорный. Сколь раз норовили Всеволодовичи взять на щит Ростов Великий, но всегда возвращались битыми. Этого Ярослав никогда не забудет. Вот и сейчас ростовский князь Борис Василькович хмур и неразговорчив. Что-то таит в себе. А что? Уж не замышляет ли чего худого? В дальнем пути с великим князем может всякое случиться. Надо усилить охрану. Господи, кругом враги, кругом враги! Скорее бы до Новгорода добраться. Там сидит надежный племянник, кой встретит его колокольным звоном и хлебом-солью.
Но надежды великого князя не оправдались. Новгородцы закрыли ворота.
— Да что они, белены объелись? — удивился Ярослав Ярославич. — Аль своего великого князя не признали?
Глашатаи и дружинник с великокняжеским стягом подъехали к самым воротам. Стены густо усеяли горожане. Многие из них были в шеломах и кольчугах.
Глашатаи гулко закричали:
— Господа новгородцы! К вам прибыл великий князь Ярослав Ярославич! Открывайте ворота, да поторопитесь!
Со стен насмешливо отозвались:
— Не торопись, коза, на торг!
— Слепой в баню торопится, а баня не топится!
Ярослав Ярославич похолодел. Коль племянник не показался, то его либо в поруб кинули, либо и вовсе живота лишили. Неужели придется Великий Новгород в осаду брать?
Но вдруг ворота, натужно заскрипев, слегка приоткрылись, и из них вышел побледневший племянник в алом кафтане, шитом серебряной канителью. В пояс поклонился дяде, молвил:
— Рад видеть тебя, великий князь.
— Вижу твое радение, — сквозь зубы процедил Ярослав Ярославич. — Разве так великих князей встречают?
— Прости, дядя. Посадник Михаил со своими подручниками подняли весь город. На вече решили пропустить токмо тебя.
— А дружины?
— Дружины впускать не велено.
— Да где это было видано?! — закипел Ярослав Ярославич.
— Говори с вече, — понурив голову, молвил Юрий Андреевич.
Великий князь скривил рот. Его переполняли досада, гнев и унижение. Но спорить, видимо, не придется. Новгородское вече — одно из самых древних и влиятельных. Коль что оно решило, так тому и быть. Надо идти на помост и обосновать свое появление в Новгороде. И Ярослав Ярославич пошел. Перекрестившись на злаченые купола храма Святой Софии, произнес:
— Выслушайте меня, новгородцы! Литва — наш давний враг. Много лет они тщатся захватить наши исконно русские города и превратить западные земли в свои вотчины. И за примерами далеко ходить не надо. Литовский князь Довмонт, родной брат жестокого и кровожадного короля Воишелка, пришел со своими иноверцами и завладел псковским столом. Как оное можно терпеть?! Вливайтесь в мои дружины, и мы очистим Псков от иноверца Довмонта!
На помост степенно вошли посадник Михаил Федорович Мишинич, Жирослав Давыдовыч и Юрий Сбыслович.
— Не пристало нам, меньшим людишкам, великих князей вразумлять, — поблескивая живыми, хитроватыми глазами, начал свою речь посадник. — Князя Довмонта сами псковичи позвали. Тот давно уже помышлял принять православную веру и принял! Ныне он истинный христианин и добрый воевода, кой известен своими подвигами за землю Русскую. Он не раз громил литовские войска и не раз еще будет их громить.
— Люб нам Довмонт! — громко воскликнул Жирослав Давыдович.
— Стоять за Довмонта! — вторил Жирославу Юрий Сбыслович.
— Стоять! — грянуло вече. — Другу ли Святой Софии быть неприятелем Пскова?! Стоять!
И этот клич был настолько властным и неистовым, что великий князь содрогнулся. Он никогда еще не видел перед своими глазами такую громадную и яростную толпу, коя, как казалось ему, скажи супротивное слово — на куски раздерет. И Ярославу стало страшно. Он как-то весь сник, сгорбился. А громада бушевала:
— Слава Довмонту!
— Уводи свои дружины, князь Ярослав!
А за стенами города стояли в челе своих полков ростово-суздальские князья. Им хорошо было слышно, как бурлило людское море.
Молодой князь Дмитрий довольно думал: «Молодцы новгородцы. Достойно великого князя встретили. Не зря княгиня Мария направила Корзуна к посаднику Михаилу Федоровичу и его содругам. Видит Бог, ничего не получится у Ярослава. Напрасно привел он к Новгороду дружины».
Не скрывал своего удовлетворения и ростовский князь Борис Василькович. Слушая выкрики, доносящиеся с городского вече, он также подумал о своей матери: «Как всегда зело мудро поступила родительница. Неждан Иванович и Лазутка добрую неделю провели в Новгороде. Славно потрудились. Ишь, как вече стоит за Псков и Довмонта. Князь Ярослав останется с носом. Ему придется распустить дружины. Ай да матушка!»
Князь Ярослав стоял на помосте, как побитая собака. Вече давило на него своими ярыми возгласами, словно многопудовая глыба, и он окончательно понял, что весь поход к Новгороду оказался бесплоден и что (самое главное!) его великокняжеская власть сильно пошатнулась. Удельные князья не любят слабых властителей и ныне они постараются сделать всё возможное, дабы показать собственную силу.
Ярослав увидел несколько новгородцев с длинными копьями, и лицо его тотчас оживилось. Он вдруг представил себе ордынское войско: грозное, устрашающее, со щитами, саблями и копьями, и злая, ехидная ухмылка тронула его застывшие губы. «Рано ликуете, недоумки. Менгу-Тимур, с его несметными полчищами, сметет ваш поганый город и уничтожит любого князя, кто посмеет ослушаться великого хана. А пока горланьте и торжествуйте. Пока!» Сейчас он не станет угрожать Великому Новгороду ордынцами (что равносильно подбросить в пылающий костер бересту), а постарается приуменьшить своё унижение и перехитрить мятежников.
Великий князь расправил свои покатые плечи и поднял руку. Вече притихло.
— Я не хочу нарушать старозаветные устои, и всегда прислушиваюсь к воле вече. Коль вам угоден Довмонт, пусть так и будет. Но помните, что вы играете с огнем. Настанет время, и вы поймете, что допустили непоправимую оплошку, и тогда каждый вспомнит мои упреждающие слова. Довмонт хоть и напялил на себя православный крест, но все чаяния его о Литве, дабы вновь воссоединиться с королем Воишелком. Одна кровь!
Вече заново недовольно загудело:
— Чушь, князь!
— Довмонт никогда не будет Иудой!
— Довмонт всегда будет служить токмо одной Руси!
Князь Ярослав в другой раз вскинул руку.
— Будь, по-вашему. Не хочу боле препираться. Вам отвечать за Довмонта. Я же отбываю на отдых в Рюриково городище.[42]
— А дружины? — насторожилось вече.
— Дружины также устали. От Владимира до Новгорода немалый крюк. Денька три передохнут — и восвояси.
— А не лукавишь, великий князь? — глянул на Ярослава посадник Михаил Федорович.
— Мое слово крепкое.
Все же три дня великий князь посветил тому, чтобы подкупить новгородскую верхушку и склонить вече на свою сторону. Но верхушка осталась непреклонной, и Ярослав распустил дружины по уделам.
Возвращаясь во Владимир, князь раздраженно думал: «Напрасно торжествуют новгородцы, как бы плакать не пришлось. Надо немешкотно слать гонца к хану Менгу-Тимуру. И Псков, и Новгород будут нещадно наказаны».
Глава 13 ХАН МЕНГУ-ТИМУР
Менгу-Тимур во всем стремился походить на своего деда, величайшего полководца Батыя, покорившего десятки государств, дошедшего со своими бесстрашными войсками почти до Адриатического моря[43]. Хан не уставал повторять:
— Мой дед завоевал множество земель. Иноверцы пали под саблями и копьями наших славных джигитов. С той поры минуло двадцать пять лет. Некоторые народы перестали платить нам дань и начали забывать, как их топтали копыта наших быстроногих коней. Но дело поправимо. Я, со своими верными туменами, не только повторю путь моего несравненного предка, но и приумножу его завоевания. Весь мир будет трепетать под пятой Золотой Орды.
Военачальники подобострастно кивали, а Менгу смотрел на их угодливые лица и хмуро думал:
«Льстецы! Вы лишь с виду полагаетесь на мои слова, а в душе у каждого недоверие. Нынешняя Золотая Орда не Батыевых времен. Она по-прежнему подвержена раздорам. Правда, они не стали такими угрожающими, какими были при его брате, хане Берке. Он враждовал со всеми русскими князьями, со своими братьями и племянниками и даже с самим ханом ханов, великим каганом монгольской империи, замахнувшись на Каракорум. Берке был слишком самонадеян и не слишком мудр. Чтобы властвовать, надо быть хитрой лисой и дальновидным политиком, — во всех делах своих и даже с покоренными урусами.
Ну, зачем потребовалось Берке отправлять в мир иной Александра Невского на своем «прощальном пиру». Величайшую ошибку допустил хан Берке. Он передал ярлык на великое княжение его брату, Ярославу Ярослвичу. Но тот, как и его отец, не пользуется уважением среди русских князей. (Новый просчет Берке). С Ярославом, как доносят тайные доглядчики, не слишком считаются. Ни Ростов, ни Переяславль, ни Новгород, ни Псков, ни Полоцк, не только не почитают великого князя, но даже стараются выйти из-под его опеки.
Берке был в замешательстве. Дань на Руси заметно оскудела. Берке пришел в ярость. Он вновь попытался наказать урусов, но его тумены пришлось развернуть в другую сторону: на Берке напал давнишний враг, хан Хулагу, завладевший персидскими землями. Берке потерпел поражение и едва спасся. Он вернулся в Сарай-Берке подавленным. Такого позора он не испытывал за всю свою жизнь. Мерзкое настроение вконец расшатало его здоровье, и он скончался стылой осенью минувшего года.
Кончина «железного Берке» всколыхнула Ногая, Неврюя, Телебугу и Хулагу, мечтавших завладеть лакомым золотордынским троном. Каждый имел многочисленное войско, и каждый был готов начать жестокую резню. Особенно опасен хан Ногай. Еще десять лет назад, «один из главных воевод татарских, надменный могуществом не захотел повиноваться хану золотой Орды, сделался в окрестностях черного моря владетелем независимой Кипчакской орды». Ногай был сыном Джучи, который был первенцем «священного повелителя вселенной» Чингисхана. От Джучи родились также Батый, Урду и Шейбани. Ногай не уставал повторять:
— Великий джихангир Батый — мой родной брат. Он много лет владел троном Золотой Орды. Еще при своей жизни он передал трон своему сыну Сартаку, но, когда Батый умер, Берке, обуреваемый жаждой власти, задушил Сартака и стал хозяином Орды. Стал незаконно! Трон по праву должен принадлежать брату Батыя, мне — хану Ногаю. Но и после смерти Берке, каган не одумался и прислал в Сарай своего ставленника Менгу-Тимура. Тот сидел в своем далеком Каракоруме и ничего не смыслил в делах Орды. Ему ли быть повелителем могущественных улусов? В Сарай-Берке должен сидеть наторелый, умудренный и искушенный в битвах полководец.
«Опасен, очень опасен Ногай, — продолжал раздумывать Менгу-Тимур. Он больше других ханов рвется к заветному трону… Хулагу не менее силен. Он сокрушил самого Берке, но слава Аллаху он послушался (пока послушался) совета императора Монголии и отвел свои войска в Персию. Своевременно отвел: в Персии стало неспокойно, многие сановники недовольны правлением Хулагу… Есть еще Неврюй и Телебуга. Оба — видные полководцы. Неврюй разбил брата Александра Невского, Андрея Ярославича, а Телебуга отличился в боях с другими иноверцами. Но они не так страшны и честолюбивы, как Ногай. Их можно купить золотом, табунами коней, юными наложницами и русскими соболями. И он, Менгу-Тимур, успешно подкупал падких на богатые подношения ханов. Причем, подкупал не как зависимый или угодливый властелин, а как гордый, могущественный хозяин Золотой Орды, любящий делать подарки всем чингисидам. (По случаю дней рождений, мусульманских праздников, приезда в Сарай-Берке, приема посольств…). Через год своего правления, Неврюй и Телебуга перестали быть его врагами. А еще через год оба заявили, что при нападении на Сарай-Берке внешнего врага они присоединятся к Менгу-Тимуру.
Это была первая дипломатическая победа хана Золотой Орды по укреплению своей власти. Но где бы он ни находился, и чтобы он ни делал, его не покидала беспокойная мысль: Ногай. За последние годы Кипчакская Орда настолько усилилась, что она уже ни в чем не уступала Золотой Орде. Ногай еще пять лет назад перестал подчиняться не только хану Берке, но и великому кагану. С откровенным вызовом он заключил военный союз с императором Греции, Михаилом Палеологом и женился на ее побочной дочери Евфросинии. Вскоре войска Ногая распространили свои завоевания в Заволжье и Закамье, и через Казанскую Булгарию дошли до самой Перми, откуда жители, ими притесненные, бежали в Норвегию, где король Гакон обратил их в христианскую веру, и дал земли для поселения.
Ногай гораздо преумножил свои владения за счет диких племен и отсталых народов, поэтому великим полководцем Менгу-Тимур назвать его не мог. Вот если бы он совершил блестящий поход на одну из европейских стран и поставил бы ее на колени. Но Ногай и не думает о таком походе, понимая, что рыцарские войска ему не по зубам. Вот в этом слабость Ногая. Он не намерен исполнять завещание Чингисхана, который мечтал покорить всю землю. Это хотел претворить чингисид, каган монгольской империи Гаюк, именовавший себя в письмах государем мира, прибавляя: бог на небесах, а я на земле. Гаюк готовился послать в марте 1247 года одну рать в Венгрию, а другую в Польшу; через три года перейти за Дон, а затем завоевать всю Европу.
Татары и прежде, еще при Батые, победив венгерского короля, думали идти беспрестанно далее и далее, но внезапная смерть кагана Гаюка, отравленного ядом, остановили степняков. Гаюк же помышлял завоевать Ливонский Орден и Пруссию.
Менгу-Тимур хорошо помнит, как Европа страшилась Востока. Король Франции Людовик, находясь на Кипре, в 1253 году вторично отправил монахов в Каракорум с дружелюбными грамотами, услышав, что преемник Гаюка, каган Мангу (возведенный на трон империи стараниями своего двоюродного брата Батыя) принял христианскую веру. Но сей слух оказался ложным: и Гаюк и Мангу терпели при себе христианских священников, позволяли им спорить с идолопоклонниками и магометанами, но сами держались веры своих отцов. Посол Людовика, Рубриквис, приехав к хану ханов, старался доказать ему превосходство веры христианской, но Мангу равнодушно отвечал:
— Монголы знают, что есть Бог. Сколько у тебя на руке пальцев, столько или более можно найти путей к спасению. Бог дал вам Библию, а нам волхвов. Вы не исполняете ее предписаний, а мы слушаемся своих наставников, и ни с кем не спорим.
Посол короля Людовика нашел при ханском дворе русского зодчего, именем Ком, и своего соплеменника из Парижа, искусного золотых дел мастера Гильойма, живших у Мангу в большем почете. Русский зодчий изготовил необыкновенную печать для кагана и трон из слоновой кости, украшенный золотом и драгоценными камнями с разными изображениями. Затем эти два кудесника сделали для кагана огромное серебряное дерево, утвержденное на четырех серебряных львах, которые служили чанами в пиршествах.
Юный Менгу-Тимур, восхищаясь каганом, с насмешливой улыбкой наблюдал за русскими князьями, приехавшими за ярлыками в Каракорум. Те диву дивились, когда кумыс, мед, пиво и вино поднималось по львам до вершины дерева, и лились сквозь отверстый зев двух вызолоченных драконов на землю в большие сосуды. На дереве стоял крылатый ангел и трубил в трубу, когда гости приступали к пиршеству.
Менгу-Тимур не только почитал, но и любил своего близкого сродника и повелителя. Внук Чингисхана, каган Мангу всячески привечал известных зодчих, музыкантов, художников и литературных сочинителей, следуя примеру Чингисхана, который долгое время держал при себе ученого мужа Иличутсая. Именно он спас жизнь многих ученых китайцев, основал училища вместе с арабскими и персидскими математиками, сочинил календарь для татаро-монголов, сам переводил книги, чертил географические карты, покровительствовал художникам. И когда Иличутсай умер, то завистники сего великого мужа, к стыду своему, нашли у него, вместо предполагаемых сокровищ, множество рукописных творений о науке править государством, об астрономии, истории, медицине и земледелии.
Менгу-Тимур был увлечен книгами. В его дворце была обширная библиотека, которую собирали, зная об увлечении кагана, его поданные. Как-то в руки Менгу попалась рукопись посланника римского папы Иннокентия Четвертого, францисканского монаха, Иоанна Плано Карпини, проделавшего длительное путешествие из Италии к императору Монголии в Каракорум. Папа, устрашившись нашествия Батыя и, «желая миром уладить бурю», отправил к кагану монахов с дружелюбными письмами. Возглавлял посольство Плано Карпини.
«Побежденные, — писал Плано, — обязаны давать моголам десятую часть всего имения, рабов, войско, и служат орудием для истребления других народов. В наше время Гаюк и Батый прислали в Россию вельможу своего, с тем, чтобы он брал везде от двух сыновей третьего; но сей человек нахватал множество людей без всякого разбора, и переписал всех жителей как данников, обложив каждого из них шкурою белого медведя, бобра, куницы, хорька и черною лисьею; а не платившие должны быть рабами моголов. Сии жестокие завоеватели особенно стараются искоренить князей и вельмож; требуют от них детей в аманаты (заложники) и никогда уже не позволяют им выехать из Орды. Так сын Ярослав и князь ясский живут в неволе у хана…».
Менгу-Тимур закрыл рукописную книгу и беспощадно подумал: «И не только сын Ярослава. Чем больше в плену знатных урусов, тем смирнее князья. Русь должна страшиться хана. И не одна Русь. Запад до сих пор пугается исламского Востока. Не случайно великий каган, отпуская посла французского короля Людовика, дал ему грозное письмо. Менгу помнит его наизусть: «Повелеваю тебе, королю Людовику, быть мне послушным и торжественно объявить, чего желаешь: мира или войны? Когда воля небес исполнится, и весь мир признает меня своим властителем, тогда воцарится на земле блаженное спокойствие и счастливые народы увидят, что мы для них сделаем! Но если дерзнешь отвергнуть повеление божественное и скажешь, что земля твоя отдалена, горы твои неприступны, моря глубоки и что нас не боишься, то Всесильный покажет тебе, что можем сделать!»
«Отменный ответ дал королю каган! И то, что он не успел претворить, свершит Менгу-Тимур», — повторил свою мысль хан. Первым делом он натравит русских князей на Литву, Ливонский Орден, Швецию и Данию. Князья не останутся в стороне, ибо Запад то и дело нападает на их земли, мечтая завладеть Северо-Западной Русью. Разразится большая война, в которой и Русь и Европа будут значительно ослаблены. Вот тогда-то и наступит время Менгу-Тимура. Он предложит хану Ногаю присоединиться к его туменам, и тот непременно согласится, изведав об обескровленных ратях Руси и западных стран. И Менгу-Тимур начнет окончательное завоевание мира. Лишь бы вовремя подтолкнуть к войне с Западом русских князей. Среди них есть достойные воеводы. И первый среди них, пожалуй, переяславский князь Дмитрий, сын Александра Невского. Он уже в двенадцать лет удивил многие страны. Невский, отъезжая в Орду после вечевых восстаний Ростово-Суздальских городов, послал дружину в Новгород и велел Дмитрию идти на ливонских рыцарей. Сей юный князь взял приступом Дерпт, укрепленный тремя стенами, истребил врагов и возвратился в Переяславль с большой добычей. То, что не могли сделать более зрелые князья, сотворил отрок и прославил свое имя. Ныне Дмитрию пошел семнадцатый год. Юртджи-лазутчики доносят, что сын Невского заметно возмужал и отличается острым умом. Князья уже сейчас прислушиваются к его советам и пророчат ему место великого князя. Ярослав-де, сидя на Владимирском троне, и трусоват, и нерешителен, и всем русским народом не чтим, а вот Дмитрий совсем другой, ему и повелевать Русью…Ну что ж, время покажет. Менгу-Тимуру нужны отважные люди. Вот и надо столкнуть князя Дмитрия с Западной Европой.
И другая мысль тотчас засела в голову: переяславского князя надо как можно крепче привязать к Золотой Орде. Он пока холост и возьмет в жены дочь самого хана. Отказаться же он не посмеет. Пусть в жилах его детей течет и ордынская кровь.
Глава 14 И СЛЕД ПРОСТЫЛ!
Вот уж действительно: неисповедимы пути Господни. Марийка оказалась в глухой деревушке Нежданке, бывших разбойных избах атамана Рябца (позднее, известного купца Глеба Якурина), а затем беглых мужиков из села Покровского; среди них очутилась когда-то племянница Александра Невского, Любава; побывала в Нежданке (когда татары подходили к Ростову Великому) и княгиня Мария.
Многое повидала на своем веку лесная деревушка, чудом не сгоревшая от рук отшельницы Фетиньи.
Ныне деревня заметно разрослась, стало в ней десяток изб, в коих обосновались беглые мужики.
Долго вели Марийку неведомые люди, спасшие ее от боярского послужильца Сергуни Шибана, вели потайными тропами через непроходимые леса и топкие кочковатые болота.
— Куда вы меня ведете? Отпустите меня домой! — несколько раз восклицала Марийка.
— Не шибко-то тебя и ждут дома, — посмеивался вожак Данила Качура. — Захватчик твой сказывал, что ты круглая сирота.
— Я в дом добрых людей пустила. С ними мне повадно. Отпустите! — настаивала Марийка.
— Да ты не пужайся нас, девонька. Худа тебе не сотворим. И у нас будет повадно. Погостишь маленько, — всё с той же улыбкой высказывал Данила.
Беглые мужики на дороге оказались не случайно. Один из них был заслан лазутчиком в Переяславль, дабы изведать, когда отправиться торговый обоз с солью в стольный град Владимир. Лазутчик прознал и вернулся в Нежданку. Вот тогда-то мужики и выбрались на большак. Но их поход оказался неудачным: торговый обоз прошел под усиленной охраной. Мужики изрядно огорчились, но Качура ободрил:
— Не тужите, православные. Не было везенья на сей раз, будет в другой. А то и сами купчишками в Переяславле предстанем.
— Как это?
— Просто, мужики. У нас, слава Богу, и мед, и кой-какие меховые шкуры водятся. Облачимся в суконный кафтан — и на торги. Без соли не вернемся.
Мужики поуспокоились, а тут и на всадника с полонянкой наткнулись…
Данила привел Марийку в свою избу и молвил:
— Поживи у меня, девонька. Изба новая, лепая. Я ведь ране в плотниках ходил. Глянь, какая горница. Чистая, сухая и светлая, будто светелка. Я два оконца вырубил, как будто ведал, что красна девица здесь будет жить.
— А где ж семья твоя?
— Лучше бы не спрашивала, — потемнел лицом Качура. — Жену мою молодую, на всё село самую пригожую, боярин обесчестил. Жена в запале на боярина с ножом кинулась, да жаль не убила, а лишь чуток поранила. Злодей повелел Матренушку мою насмерть плетьми запороть… Был у меня и мальчонка пяти лет. В реке утонул. Сидел на боярском челне и рыбалил. А тут тиун появился, закричал. Сынок с перепугу в воду свалился. Помышляли мы с Матреной трех сыновей заиметь, да видишь, как получилось.
Марийка, участливая к людской беде, горестно вздохнула:
— Жаль мне тебя, дядька Данила. Знать, худой у вас был боярин.
— Худой, нравом жестокий. За малейшую провинность избивал нещадно. Оброки же такие заломил, что ни вздохнуть, ни охнуть. Не зря от него в леса бежали. Так что мы не разбойники, девонька.
— Уразумела, дядька Данила. Одного в голову не возьму. Пошто ты меня в деревню привел?
Качура ответил уклончиво:
— Опосля поведаю. А пока, сказываю, поживи у меня маленько.
— А коль сбегу?
— Не сбежишь. Без провожатого дороги вспять не сыщешь.
Марийка вдругорядь горестно вздохнула. Не сыщешь. Окрест такие дебри да болота, что сам леший заплутает.
На другой день утром она вышла из избы и прошлась вдоль Нежданки. В деревне уже ведали о ее появлении. Попадавшие встречу бабы были приветливы:
— Здравствуй, Марийка. Данила — мужик добрый, не обидит. И деревня наша — поискать. Ни боярина, ни тиуна треклятого. На волюшке живем. Не горюй!
Вокруг деревни простирались крестьянские нивы. Изрядно потрудились мужики, раскорчевав вокруг своего поселения вековые леса.
Бегали по Нежданке и ребятишки, оглашая деревню звонкими голосами.
А за околицей, ближе к речушке, дымилась кузня; слышался дробный перестук увесистого ручника. От речушки неторопко шли двое мужиков с бредешком и берестяным лукошком.
«Никак рыбы наловили, — невольно подумалось девушке. — Ушицы бы похлебать».
Марийке захотелось есть. Она вернулась в избу и увидела в ней пожилую женщину в посконном[44] сарафане, наглухо повязанную убрусом[45]. Женщина суетилась возле печи, гремела ухватом, вытягивая на шесток глиняные горшки.
— Ты кто? — с некоторым удивлением спросила Марийка, уже ведая, что у Данилы хозяйки нет.
— Аглая.
Девушка пожала плечами.
— Да ты не дивись, Марийка. Я — жена брата Качуры. Живем своим домом, по соседству. Качура один, яко перст. Прихожу к нему варево сготовить. Попробуй-ка моих штец.
— Попробую, — охотно согласилась девушка.
Марийка аппетитно ела, а Аглая неторопливо рассказывала:
— Данилу в деревне уважают. Степенный и башковитый мужик, не зря его большаком признали. А уж работящий! Дома сиднем не сидит. То избу кому-нибудь рубит, то баню, то дрова в лесу на зиму заготавливает. Одно худо — хозяйки нет. Вот и приходится ему снедь готовить, правда, урывками.
— Семья?
— Семья, Марийка, и не малая. Шестеро ртов. Наготовь на такую ораву.
— Тяжело тебе, тетя Аглая… Ты больше к Качуре не ходи. Сама варево приготовлю. Было бы из чего.
— А сумеешь?
— Эка невидаль. Да я, почитай, с малых лет с варевом управляюсь.
— Да ну! — недоверчиво вскинула льняные брови Аглая. — Аль жизнь вынудила?
— Жизнь, — кивнула Марийка и поведала Аглае о своей безотрадной судьбинушке.
— Да, — печально вздохнула после рассказа девушки Аглая. — Ни детства, ни отрочества светлого ты так и не изведала. Сиротинушка ты, горемычная!
— Да полно тебе, тетя Аглая. Никакого горя я, кажись, и не замечала. Напротив, жила как птичка вольная. Боярские-то дочери, почитай, взаперти живут, за порог не ступи. А я, — Марийка весело рассмеялась, — куда хочу, туда и иду. По всему городу, без всякого пригляду бегала.
— Ну да и, слава Богу, что слезами не убивалась. Человек ко всякой жизни привыкает, и здесь привыкнешь.
— Не ведаю, ох не ведаю, тетя Аглая, — раздумчиво молвила Марийка. — К матушкиной избе меня тянет. Я как-то в народе слышала и на всю жизнь запомнила: «родных нет, а по родной стороне сердце ноет».
— Воистину, дочка. И кости по родине плачут… Пойдем, покажу тебе кормовые запасы.
В сусеках, ларях и в глубоком прохладном подполье хранились мука и разные крупы, свекла, морковь и репа, сушеные грибы и моченая брусника, мед в липовой кадушке и горох в берестяных туесках.
— Хозяйничай, дочка.
Дня через три Качура довольно молвил:
— Добрая из тебя получается повариха, Марийка. Даже хлебы выпекла.
Взгляд Данилы был одобрительный и, как показалось девушке, чересчур внимательный и ласковый, но она не придала этому особого значения. Рад — и, слава Богу.
А спустя два дня деревня праздновала Ильин день[46], когда пророк лето кончает, жито зажинает. Качура (за бражкой и медовухой) засиделся с мужиками до полуночи и заявился в избу на большом подгуле. Лег было на лавку, но в глазах вдруг предстало гибкое, ладное тело Марийки. Всепоглощающая, похотливая мысль толкнула его к горнице.
Марийка проснулась от жадных, дрожащих от неистребимой страсти рук хозяина избы. Испуганно вскрикнула, услышав в ответ жаркие слова:
— Не пугайся… Не могу боле терпеть. Хочу голубить тебя…
Марийка всё поняла и стала вырываться.
— Не смей, дядя Качура! Не смей!
Но Данила одной рукой сжимал ее упругую грудь, а другой норовил раздвинуть ее оголенные ноги. Натужно и хрипло говорил:
— В жены тебя возьму… Христом Богом клянусь!
Марийка вспомнила, как хотел над ней надругаться боярин Мелентий Коврига, и налилась гневом.
— Не хочу! Уйди!
Она рванулась изо всех сил и выскользнула из рук Качуры. Опрометью, в одной льняной сорочке, выскочила из горенки, в избе нащупала на колке[47] сермягу — и вон на улицу.
Качура опомнился, пошатываясь, вышел на крыльцо и повинно произнес:
— Прости, Марийка. Бес попутал… Где ты?
Но Марийки и след простыл.
Глава 15 ТРЕВОЖНАЯ ВЕСТЬ
Хан Менгу-Тимур не терял времени даром. Он разослал своих послов в Литву, Швецию, Данию и Ливонский Орден крестоносцев. Грамот с послами не посылал: уж слишком далек путь из Сарай-Берке до западных стран. Надо ехать через всю Русь, и если одна грамота попадет какому-нибудь русскому князю, то все его старания окажутся под угрозой срыва. Послы должны передать его повеления на словах: «Вы много лет враждуете с Русью и давно грезите овладеть ее северо-западными землями. Ваши устремления могут успешно претвориться. Русь хоть и покорена татарами, но Псков, Новгород, Торжок, Полоцк и другие города пытаются выйти из власти Золотой Орды. Накажите эти мятежные города, треть ясыря[48] и добычи отдайте моим баскакам. Хан Менгу-Тимур не будет мешать вашему вторжению. А если вы не воспользуйтесь благоприятным моментом, то 600 тысяч татарских воинов хлынут на Европу, и не только повторят путь великого джихангира Батыя, но и завоюют всю вселенную».
Для вящей убедительности всем послам была вручена золотая ханская пайцза и специальная печать, о которых знали все западные короли, князья и магистры.
Ордынские послы весьма подтолкнули западных врагов Руси.
* * *
Князь Дмитрий только всунул ногу в серебряное стремя и бросил молодое тело в седло (собрался выехать в Кузнечную слободу, ибо раз в неделю он непременно посещал оружейных мастеров), как к нему спешно подошел ближний боярин Ратмир Вешняк.
— Примчал гонец из Новгорода, княже.
— Что приключилось?
— О том гонец мне не поведал.
Дмитрий хмуро сошел с коня. Сердце подсказывало: новгородец прибыл по какому-то важному делу, скорее всего, ратному.
— Зови гонца в гридницу.
Сердце не обмануло: гонец принес тревожную весть.
— Литва и Ливонский Орден угрожают Пскову и Новгороду, набегают на села и деревеньки, жгут дома и убивают смердов. Новгород и Псков зовут тебя, князь Дмитрий Александрович с дружиной.
— А что же ваш князь Юрий Андреевич?
— Новгородцы не доверяют ему. Поди, сам ведаешь, князь, — воевода из него никудышный.
— Ведаю! — резко отозвался Дмитрий. — Чего ж такого худого ратоборца терпите?
Гонец замялся.
— Оно, вишь ли, Дмитрий Александрович… Сам великий князь нам племянника своего поставил. Выдворим — так Ярослав Ярославич со всей силой на нас обрушится. Вот и окажемся в клещах. С одной стороны Литва и крестоносцы, с другой — Ярослав с великой дружиной. Выручай, князь!
Резко очерченные губы Дмитрия тронула насмешливая ухмылка.
— Странно ведет себя Господин Великий Новгород. Аль ему не ведомо, что войну с иноземцем разрешено вести лишь по указу великого князя? Я ж — человек махонький, всего-то удельный воеводишка, да и дружинка у меня — кот наплакал. Перепутал ты дорогу, гонец. Поспешай во Владимир.
Новгородец кашлянул в мосластый кулак.
— Прости, князь. На вече шла речь и о великом князе. Ярослава мы давно ведаем. Приходил он недавно к Новгороду, дабы наказать нас за поддержку псковского Довмонта, коего помышлял в железа заковать. Не от великого ума сие. Довмонт и ныне отменно от Литвы отбивается. Звать Ярослава — проку мало, решетом воду носить. Бестолков он, как воевода, да и пуглив не в меру. Воевать страшится. Одна надёжа на тебя, князь. И Псков, и Новгород никогда не забудут, как ты лихо ливонских рыцарей под Дерптом разбил и как неприступный город взял. Не посрамишь ты своего славного меча и ныне. Так вече новгородское и заявило.
Лицо Дмитрия оставалось бесстрастным: он не любил похвалы.
— Спасибо за честь, — сдержанно молвил он и, пройдясь по гриднице, строго добавил. — Каким бы Ярослав Ярославич не был, но он великий князь. Скачи в стольный град.
Новгородец помрачнел: он явно не ожидал такого ответа от переяславского князя.
— А как же ты, князь? Ужель Новгород и Псков в беде оставишь? То срам на всю Русь.
У Дмитрия пролегла упрямая складка над переносицей. Он осерчал. Ему ли выслушивать такие обидные слова? Захотелось зло прикрикнуть на гонца, но сдержал себя. Гонец по-своему прав. Отсидеться и оставить Северо-Запад Руси в беде — действительно позор. Но этому не бывать. Однако гонец не должен ведать его тайные помыслы. Всему своё время.
И сдерживая свой гнев, Дмитрий, как можно спокойнее молвил:
— Не шибко-то кидайся обидными словами. В третий раз сказываю: отправляйся к великому князю, а затем… затем вновь ко мне наведайся.
Лицо новгородца оживилось.
— Вдругорядь прости, князь. Всенепременно наведаюсь!
После отъезда гонца Дмитрий надолго погрузился в думы. Борьба за охрану северо-западных рубежей не прекращалась даже в тяжелые годы борьбы русичей против татарского нашествия, кои находились под постоянной угрозой со стороны Швеции, Дании, Литвы и Ливонского Ордена.
После победы князя Александра на Неве шведы отказались от помыслов овладеть землей еми[49]. В начале 1248 года ярлом (правителем) Швеции стал Биргер, зять короля: он управлял, как отмечали папские легаты[50], всей страной. Биргер и занялся подготовкой похода против финнов. Он собрал большое рыцарское войско и, высадившись на южном берегу Нюландии[51], в кровопролитных боях разбил емь. Население, отказывавшееся принять христианство, беспощадно истреблялось. К середине 1250 года емь была завоевана. Тяжелое положение Новгорода в то время не позволяло ему оказать помощи финнам, хотя и сидел в Новгороде отец Дмитрия, Александр Невский. По этому поводу автор одной из хроник заметил: «Ту страну, которая была вся крещена, русский князь Александр, как я думаю, потерял».
Биргер заложил в центре финской земли, на берегу озера Ваная, крепость Тавастгус и поселил здесь шведов, раздав им финские земли. Коренное население было обложено тяжелыми поборами. В том числе и церковной десятиной.
Окрыленные захватами в земле финнов и зная, что Новгороду грозило татарское иго, шведы рискнули провести в 1256 году еще одно наступление на Северо-западную Русь, на этот раз в союзе с датчанами. В поход двинулись также вспомогательные финские отряды.
Шведы решили закрыть Руси выход в Финский залив, занять Вотьскую, Ижорскую и Карельскую земли; они обосновались на реке Нарове и начали возводить город на её восточном, русском берегу. Римский папа широко поддержал и это вторжение, направив к шведам крестоносцев и специального епископа для новых земель.
В это время дружины Александра Невского не было в Новгороде, и новгородцы послали к нему во Владимир «по полкы», а сами «разослаша по своей волости, такоже копяще полкы». Шведы и датчане не ожидали таких действий, и, узнав о них, отступили («побегоша за море»).
Зимой этого же года с полками из Владимира пришел Александр Невский. Он решил дать должный ответ шведскому королю, организовав поход в землю финнов. Но новгородское боярство, либо прознав уже потерю своих позиций в земле еми, либо, возможно, не рассчитывая, что подчиненная емь будет приносить дань именно Новгороду, а не великому князю, не поддержало этого похода.
Пройдя по льду Финского залива в землю еми, войско Александра Невского опустошило здесь шведские владения. Насильственно крещеные финны в большом числе присоединились к русским. Но финский народ был так ослаблен, что не смог помочь русскому войску закрепить победу, и владимиро-суздальсим полкам пришлось ограничиться демонстративным разгромом шведских колоний. Хотя этот поход Александра Невского и не вернул емь под власть Новгорода, все же он показал шведам, что татаро-монгольское нашествие не изменило отношения Руси к иноземным захватчикам.
Невского беспокоили и взаимоотношения Руси с Норвегией. Они не были прочными. Что же заставило Русь обменяться с Норвегией посольствами? За сотни верст от Новгорода русские данщики-карелы в заполярной тундре столкнулись и вступили в борьбу с представителями чужеземного государства. Александр Невский, придававший большое значение упрочению русских границ, серьезно отнесся к тому, что русская северная граница, прикрывавшая отечественные владения — Карелию (Прионежскую и Беломорскую) и Кольский полуостров, до сих пор еще не была определена, так как до той поры русско-норвежские пограничные отношения ни разу официально не оформлялись.
Следовательно, Александр Невский в труднейших условиях 50-х годов XIII века продолжал проводить предприимчивую внешнюю политику. Сам факт сватовства Василия, сына Александра Ярославича, к дочери норвежского короля Хакона, Кристине, объясняется не только желанием русской дипломатии укрепить порубежные отношения, но и стремлением установить прочный русско-норвежский союз в противовес союзу шведско-норвежскому. Правда, брак не состоялся, так как происшедшее в 1252 году наступление татарского воеводы Неврюя приковало внимание Александра Ярославича к восточным делам, но норвежское посольство было пышно принято, а спорные вопросы успешно решены: Русь и Норвегия установили мир так, «чтобы не нападали друг на друга ни кирьялы, ни финны».
В XIII веке Русь не раз выступала совместно с Литвой в борьбе против Ливонского Ордена. В то же время соседние Литве русские земли неоднократно подвергались нападениям отдельных литовских князей. В области их набегов оказались города: Псков, Смоленск, Торжок, Полоцк, Старая Русса, Шелонь, Селигер, Бежецк, Зубцов, Витебск. Особое место занимал город Великие Луки, где стоял гарнизон, охранявший Новгородскую землю от неожиданных набегов; этот город называли «оплечьем» (оплотом) Новгорода.
В конце 40-х годов XIII века великий литовский князь Миндовг, пользуясь ослаблением нажима со стороны ливонцев, а также тем, что Русь разорена татаро-монгольскими войсками, попытался овладеть Смоленском. Тогда же литовские отряды стали проникать далее вглубь Руси: ими был взят Торопец и совершены набеги на Торжок и Бежецк у границ самой Владимиро-Суздальской земли.
В 1248 году русские соединенные силы из Новгорода, Твери, Дмитрова, Торжка и Москвы осадили литовцев в Торопце. Затем прибыл с владимирскими полками князь Александр. Дружины Невского нанесли ряд поражений литовским князьям: они освободили Торопец и разбили литовские войска под Жижцем и у Восвята.
Великий князь Миндовг, натолкнувшись на сопротивление Галицкого князя Даниила, очистил Смоленскую землю. Но в Полоцке оказался литовский князь Товтивил; позднее он перешел под власть Александра Ярославича и участвовал в походах русских войск против Ливонского Ордена.
Ливонские рыцари в течение десятилетия не нарушали мирного договора 1242 года, но в 1253 году они совершили набег на псковский посад и подожгли его. Псковичи нанесли врагу немалый урон. В помощь им пришли новгородцы и вспомогательный карельский отряд. Русское войско перешло реку Нарову и опустошило владения немецких рыцарей. Опасаясь новых ударов, ливонцы поспешили отправить послов в Новгород, и подписали в том же 1253 году договор о мире.
Новое поражение ливонских рыцарей у русских границ не изменило их агрессивных стремлений. Римский папа также не терял надежд на успех, призывая новые отряды крестоносцев на борьбу против Руси. В Западной Европе не переставали сомневаться в победе Ордена.
Однако Александр Невский, установив относительно мирные отношения с татаро-монгольскими ханами, выдвинул план уничтожения Ливонского Ордена. А пришел он к этой мысли при таких обстоятельствах. Литовский князь Миндовг потерпел неудачу в занятии русских западных земель. Опасаясь в то же время наступления на Литву немецких рыцарей, он прибег к дипломатическому маневру. В 1251 году он согласился заключить мир с Орденом. Но соглашение не могло быть прочным, так как литовский народ продолжал борьбу с крестоносцами. После восстаний в Жемайтии и Земгалии Миндовг порвал с Орденом, и в 1260 году в битве у озера Дурбе литовские войска разбили немецких крестоносцев.
Тогда же Миндовг отправил послов на Русь к Александру Ярославичу, понимая, что только с помощью русских можно закрепить победу над рыцарями.
В 1262 году князь Александр в свою очередь отправил посольство в Литву, обещая Миндовгу «большую помощь». Тогда же Александр Ярославич и Миндовг заключили договор против немецких крестоносцев. Очевидно, Миндовг признал право Александра Ярославича на Полоцк. Был намечен совместный поход на Ригу, а жемайтскому князю Тройнату поручалось поднять восстание среди ливов и латгалов. Ливонским рыцарям грозило полное уничтожение.
Тройнат, видимо опасаясь усиления Миндовга, выступил преждевременно, и когда зимой 1262 года литовские войска, разоряя немецкие замки, пришли под Венден, русских там не оказалось, хотя хорошо известно, что они очень спешили.
Лишь когда Миндовг возвратился в Литву, русские полки вторглись в землю эстов. Русское войско вел двенадцатилетний князь Дмитрий Александрович. Он «одиным приступлением» взял Дерпт (Юрьев) и «рыцарей многы побиша».
Глава 16 ОТРИНУВ ГОРДОСТЬ
Ростовскому князю Борису Васильковичу привиделся жуткий сон. Хан Батый, сидя на приземистом лохматом коне, накинул на его шею аркан и спросил:
— Готов ли ты отказаться от Христа и принять исламскую веру?
— Зря стараешься, Батыга. Я — не христопродавец.
— Тогда ты умрешь мучительно смертью. Сейчас я ударю плеткой коня и поскачу в степь. Твое тело превратиться в кровавое месиво. Одумайся, урус! Ну!
— Не кричи, Батыга! Лучше смерть, чем отказаться от Христа.
Хан хищно ощерил рот и взмахнул плеткой. Конь стремительно полетел по седой ковыльной степи, волоча за собой юного Бориса. Батый направил коня навстречу каменной бабе. Еще миг, другой — и голова князя столкнется с тяжелым истуканом. Из окровавленного рта — яростный, хриплый крик:
— Не отрекусь от Христа! Не отрекусь!..
Жена, Мария Ярославна Муромская, испуганно тронула супруга за плечо.
— Что с тобой, государь мой? Проснись!
Борис Ввасилькович очнулся в липком поту, глаза ошалелые.
— Аль что худое привиделось? Кричал шибко.
— Худое, Мария. Пригрезится же такое, Господи.
Князь перекрестился на киот, освещенный тускло мерцающей лампадой.
— А что пригрезилось?
— Батыга.
— Пресвятая богородица! — княгиня мелко и часто закрестилась. — Ирод треклятый… К чему бы это, государь мой? Надо бы у мамки Улиты изведать, она всякий сон разгадывает.
— Ты спи, спи, Мария. До утра еще далеко. Да и я еще постараюсь вздремнуть.
Но Борису Васильковичу уже было не до сна. На него нахлынули воспоминания о страшном после ордынском нашествии. Состояние Руси было отчаянное. Казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных, что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов Оки до Сана. Летописцы, сетуя над развалинами отечества, гибели городов и большей части народа, прибавляют: «Батый, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие князья пали в битвах, другие скитались в чуждых землях; искали заступников между иноверными и не находили; славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанными конями татарскими, а девы о своей невинности: сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки! Жены боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми монистами и шелковой одеждой, всегда окруженные толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жен, мололи жерновом, и белые руки свои опаляли над очагом, готовя пищу неверным… Живые завидовали спокойствию мертвых».
А чего стоила русским князьям поездка в далекий Каракорум?! Михаил Черниговский, словно предчувствуя свою гибель, предварительно заехал в Ростов, чтобы повидать с дочерью, княгиней Марией, и захватить с собой, также вызванного в ставку хана, четырнадцатилетнего Бориса Васильковича. Борис отчетливо помнит, как он, и другие князья, с немалыми трудностями добрались в Киев. Жителей везде мало: они истреблены татарами или отведены ими в плен. В Киеве пришлось нанять татарских лошадей, а своих оставить: ибо они могли умереть с голода в дороге, где нет ни сена, ни соломы; а татарские лошади, разбивая копытами снег, питаются одной мерзлой травой.
Первое место, в коем жили татары (близ Киева), называлось Хановым. Они со всех сторон окружили русичей, спрашивая, зачем и куда едут? Михайла Черниговский, как самый именитый князь, отвечал, что все вызваны в ставку кагана за получением ярлыка на княжение. Ордынцы, довольные подарками, дали вожатых до Орды. Русичи проехали всю землю половецкую, обширную равнину, где текут реки Днепр, Дон, Волга, Яик и где летом кочуют татары, повинуясь разным воеводам, а зимой приближаются к морю Греческому (или Черному). Сам Батый живет на берегу Волги, имея пышный, великолепный двор и 600 тысяч воинов, 160000 татар и 450000 иноплеменников. В пятницу страстной недели князей провели в его ставку. Батый сидел на троне с одной из своих жен; его братья, дети и вельможи сидели на скамьях; другие — на земле, мужчины на правой, а женщины на левой стороне. Сей шатер, сделанный из тонкого полотна, принадлежал королю венгерскому; никто не смеет входить в него без особого дозволения, кроме семейства ханского. Князьям указали место на левой стороне, и Батый сурово взирал на них. Между тем, он и вельможи его пили из золотых или серебряных сосудов: причем всегда гремела музыка с песнями. Наконец, он велел князьям ехать к великому хану, а на обратном пути явиться в его ставку.
Хотя все русичи были весьма слабы, ибо питались во весь пост одним просом и пили только снежную воду, однако ж, ехали скоро, пять или шесть раз в день, меняя лошадей, где находили их. Земля половецкая во многих местах — дикая степь: жители истреблены татарами или бежали, другие признали себя их поданными. За половцами началась страна кангитов, совершенно безводная и малонаселенная. В сей печальной степи (ныне киргизской) умерли от жажды многие бояре и слуги. Вся земля опустошена монголами.
Около вознесения Христова князья въехали в страну бесерменов (харазов или хивинцев), говорящих на половецком языке, но исповедующих веру сарацинскую[52]… Далее русичи увидели обширное озеро (Байкал), оставили его на левой стороне и через землю кочующих найманов в исходе июня прибыли в отечество монголов. Вот уже несколько лет они готовились к избранию великого хана; но Гаюк еще не был торжественно возглашен Октаевым преемником. Он велел князьям ждать сего времени и послал к матери, вдовствующей супруги Октаевой, у коей собирались все чиновники и старейшины: ибо она была тогда правительницей. Ее ставка, обнесенная тыном, могла вместить более 2000 человек. Воеводы сидели на конях, богато украшенных серебром, и советовались между собою. Одежда их в первый день была пурпуровая белая, на другой день красная, на третий синеватая, а на четвертый алая. Народ толпился вне ограды. У ворот стояли воины с обнаженными мечами; в другие ворота, хотя оставленные без стражи, никто не смел входить, кроме Гаюка. Вельможи беспрестанно пили кумыс и хотели русичей также напоить, но они отказались.
Таким образом, князья жили целый месяц в сем шумном стане, называемом Сыра Орда, и часто видели Гаюка. Когда он выходил из своего шатра, певцы обыкновенно шли впереди, и громко пели его славу. Наконец двор переехал в другое место и расположился на берегу ручья, орошающего прекрасную долину, где стоял великолепный шатер. Столпы сего шатра, внутри и снаружи украшенного богатыми тканями, были окованы золотом. Там надлежало Гаюку торжественно воссесть на престол в день успения богоматери. Но ужасная непогода, град и снег препятствовали совершению обряда до 24 августа. В сей день собрались вельможи и, смотря на юг, долго молились всевышнему: после чего возвели Гаюка на златой трон и преклонили колени; народ также. Вельможи говорили императору: мы хотим и требуем, чтобы ты повелевал нами. Гаюк спросил: желая иметь меня государем, готовы ли вы исполнять мою волю: являться, когда позову вас; идти, куда велю, и предать смерти всякого, кого наименую? Все ответствовали: готовы!.. Итак (сказал Гаюк), слово моё да будет отныне мечом! Вельможи взяли его за руку, свели с трона и посадили на войлок, говоря императору: «Над тобою небо и всевышний: под тобою земля и войлок. Если будешь любить наше благо, милость и правду, уважая вельмож по их достоинству, то царство Гаюково прославится в мире, земля тебе покорится, и бог исполнит все желания твоего сердца. Но если обманешь надежду подданных, то будешь, презрителен и столь беден, что самый войлок, на котором сидишь, у тебя отнимется».
Тогда вельможи, подняв Гаюка на руках, возгласили его императором и принесли к нему множество серебра, золота, камней драгоценных и всю казну умершего хана; а Гаюк часть своего богатства роздал чиновникам в знак ласки и щедрости. Между тем готовился пир для вельмож и народа; пили до самой ночи и развозили в телегах мясо, варенное без соли.
Гаюк, как показалось Борису Васильковичу, имел от роду 40 или 45 лет, росту среднего, отменно умен, догадлив и столь важен, что никогда не смеется. Христиане, служащие ему, уверяли русичей, что он думает принять веру Спасителя, ибо держит у себя христианских священников и дозволяет им всенародно перед своим шатром отправлять божественную службу по обрядам греческой церкви. Сей император говорит с иностранцами только через переводчиков, и всякий, кто подходит к нему, должен стать на колени. У него есть гражданские чиновники и секретари, но нет судей: ибо монголы не терпят ябеды, и слово ханское решит тяжбу. Что скажет государь, то и сделано; никто не смеет возражать или просить его дважды об одном деле. Гаюк, пылая славолюбием, готов целый мир обратить в пепел. Смерть Октаева удержала монголов в их стремлении сокрушить Европу: ныне, имея нового хана, они ревностно желают кровопролития, и Гаюк, едва избранный, в первом совете с сановниками своими положил объявить войну церкви христианской, империи Римской, всем государям христианским и нардам западным, если святой отец — чего боже избави, — не исполнит его требований, то есть не покорится ему со всеми государями европейскими: ибо монголы, следуя завещанию Чингисхана, непременно хотят овладеть вселенной.
«Татары отличны видом от всех иных людей, — подумалось тогда Борису Васильковичу. — Они имеют выпуклые щеки, глаза едва приметные, ноги маленькие; бреют волосы за ушами и спереди на лбу, отпуская усы, бороду и длинные косички назади; выстригают себе также гуменцо, подобно нашим священникам. Мужчины и женщины носят парчовые, шелковые или клеенчатые кафтаны, или шубы навыворот (получая ткани из Персии, а меха из России, Булгарии, земли мордовской, Башкирии) и какие-то странные высокие шапки. Живут в шатрах, сплетенных из прутьев и покрытых войлоками; вверху делается отверстие, через которое входит свет и выходит дым: ибо у них всегда пылает огонь. Стада и табуны монгольские бесчисленны: в целой Европе нет такого множества лошадей, верблюдов, овец, коз и рогатой скотины. Мясо и жидкая просяная каша — главная пища сих дикарей, довольных малым ее количеством. Они не знают хлеба, едят всё нечистыми руками, обтирая их об сапоги или траву; не моют ни котлов, ни самой одежды своей; любят кумыс и пьянство до крайности, а мед, пиво и вино получают иногда из других земель. Мужчины не занимаются никакими работами: иногда присматривают только за стадами или делают стрелы. Младенцы трех или двух лет уже садятся на лошадь; женщины также ездят верхом и многие стреляют из лука не хуже воинов; в хозяйстве женщины удивительно трудолюбивы: стряпают, шьют платья, сапоги, чинят телеги, навьючивают верблюдов.
Вельможи и богатые люди имеют до ста жен; двоюродные совокупляются браком, пасынок с мачехою, невестки с деверем. Жених обыкновенно покупает невесту у родителей, и весьма высокой ценой. Не только прелюбодеяние, но и блуд наказывается смертью, равно как и воровство, столь необыкновенное, что татары не употребляют замков. Боятся, уважают чиновников и в самом пьянстве не дерутся между собой; терпеливо сносят зной, мороз, голод и с пустым желудком поют веселые песни; редко имеют тяжбы и любят помогать друг другу; но зато всех иноплеменных презирают. Татарин не обманывает татарина, но обмануть иностранца считается похвальной хитростью.
Что касается до их Закона, то они веруют в бога, творца вселенной, награждающего людей по их достоинству; но приносят жертвы идолам, сделанным из войлока или шелковой ткани, считая их покровителями скота. Обожают солнце, огонь, луну, называя оную великой царицей, и преклоняют колена, обращаясь лицом к югу. Славятся терпимостью, и не проповедают веры своей; однако ж, принуждают иногда христиан следовать обычаям монгольским: Батый велел умертвить одного князя, именем Андрея, только за то, что он, вопреки ханскому запрещению, выписывал для себя лошадей из Татарии и продавал чужеземцам. Брат и жена убитого князя, приехав к Батыю, молили его не отнимать у них княжения: он согласился, но принудил деверя к брачному совокуплению с невесткой, по обычаю монголов.
Не ведая правил истинной добродетели, они вместо законов имеют какие-то предания и считают за грех бросить в огонь ножик, опереться на хлыст, умертвить птенца, вылить молоко на землю, выплюнуть изо рта пищу. Но убивать людей и разорять государства кажется им дозволенною забавой. О жизни вечной не умеют сказать ничего ясного, а думают, что они и там будут есть, пить, заниматься скотоводством и пьянством. Жрецы их или так называемые волхвы, гадатели будущего, уважаются ими во всяком деле. (Глава их живет обыкновенно близ шатра ханского. Имея астрономические сведения, он предсказывают народу солнечные и лунные затмения).
Когда занеможет татарин, родные ставят перед шатром копье, обвитое черным войлоком: сей знак удаляет от больного всех посторонних. Умирающего оставляют и родные. Кто был при смерти человека, тот не может видеть ни хана, ни его вельмож до новой луны. Знатных людей погребают тайно, с пищей, с оседланным конем, серебром и золотом; телега и ставка умершего должны быть сожжены, и никто не смеет произнести его имени до третьего поколения. Кладбище ханов, князей, вельмож неприступно: где бы они ни закончили жизнь свою, монголы отвозят их тела в сие место; там погребены многие, убитые на Руси и в Венгрии. Стражи едва, было, не убили русичей, когда они нечаянно приблизились к кладбищу.
Новый император Монголии не спешил принять «презренных урусов». Пусть на всю жизнь запомнят свое унижение и всесильную, божественную власть великого кагана.
Продержав три месяца князей в Каракоруме, он так и не допустил их в свой «священный шатер». (Много чести для покоренных иноверцев!). Князей принял ближний сановник и передал слова кагана:
— Молите бога. Солнце Востока, лучезарный император Гаюк оказывает вам свою милость и дозволяет вернуться в ваши улусы верноподданными величайшего повелителя вселенной. Сегодня же отъезжайте!
Среди князей воцарилась тишина. Зачем они так долго добирались в Каракорум, терпели всякие невзгоды и лишения, теряли людей, чьи кости ныне лежат в киргизских степях. Зачем? Лишь ради того, чтобы выслушать напыщенного слугу кагана?
— А кто ж нам выдаст ярлыки на княжение? — спросил Михайла Черниговский?
По тонким губам сановника пробежала язвительная улыбка.
— Неужели вы, недостойные люди, думаете, что Солнце Востока будем вам изготавливать ярлыки? У императора Монголии есть и более важные дела. Поезжайте к хану Батыю за ярлыками. Такова воля священного повелителя.
Князья возмутились, но сановник кагана лишь презрительно усмехался. Пришлось вновь преодолевать тяжелейший путь до ставки Батыя.
Хан начал принимать князей через две недели томительного ожидания. Последним был приглашен Михайла Черниговский. Борис Василькович до смертного одра не забудет этот день.
Михайла Всеволодович хотел уже вступить в шатер Батыя, но волхвы язычников, блюстители древних суеверных обрядов, приказали, чтобы князь шел сквозь разложенный перед ставкой священный огонь и поклонился их кумирам.
— Нет! — твердо сказал Михайла Всеволодович. — Христианин не служит ни огню, ни глухим идолам.
Услышав о том, свирепый Батый объявил ему через своего сановника Эльдега, что князь должен повиноваться или умереть.
— Уж лучше смерть, чем предавать веру православную. Я не стану поклоняться языческим истуканам! — гордо отвечал Михайла.
Князья начали его уговаривать: отступись, Батый не помилует. Смирись, а затем замолишь свой грех. И мы за тебя будем молиться, последуй примеру других князей.
— Нет, братья. Если Бога предашь на минуту, то сия измена останется на всю жизнь.
Михайла Всеволодович снял с себя княжеское корзно и добавил:
— Возьмите славу мира, хочу небесной.
После этих слов татары, будто тигры, набросились на черниговского князя, били его в сердце, топтали ногами.
Ближний боярин Михайлы Черниговского, Федор, всячески ободрял терзаемого князя, говоря, что он умирает, как должно христианину, что муки земные непродолжительны, а награда небесная бесконечна.
Желая, быть может, прекратить страдания Михайлы, какой-то отступник веры христианской, именем Доман, житель Путивля, отсек ему голову и Борис услышал последние, тихо произнесенные слова деда: «Христианин есмь!»
Батый, удивляясь твердости князя, назвал его великим мужем.
Боярин Федор также принял венец мученика и доказал, что он, утешая Михайлу Всеволодовича, не лицемерил, ибо, раздираемый на части татарами, славил благость небесную и свою долю. Тела их, поверженные на съедание псам, были сохранены усердием князей. А церковь признала святыми и великодушного князя и его верного слугу, кои, не имев сил одолеть татар в битве, редкой твердостью доказали по крайней мере чудесную силу христианства.
Юный Борис Василькович, оплакав деда, был направлен к хану Сартаку, сыну Батыя, кочевавшему на рубежах Руси, и получил дозволение возвратиться в свой удел.
С той поры миновало двадцать лет, но Борису Васильковичу никогда не запамятовать тех страшных дней, проведенных в Орде. Отец княгини Марии погиб достойно, ничем не запятнав своё имя, не изменив святой Руси. «Христианин есмь!» Не каждый русский князь смог отважиться на сей подвиг. А если уж смотреть правде в глаза, то большинству князей пришлось пойти на унизительный обряд, тем самым, опоганив христову веру. Вот и он, князь Ростовский, унизил свою честь и вошел в шатер Батыя, осквернив свою юную душу, в тайне надеясь, что замолит свой смертный грех неустанными молитвами и постами, и всемилостивый Бог простит его. И он, вернувшись домой, с ханским ярлыком, пошел в храм Успения пресвятой Богородицы, упал перед святыми мощами своего, замученными ордынцами, отца и неистово, со слезами на глазах, принялся усердно молиться. Целый год не было дня, чтобы он не посетил главную святыню Ростова, простаивая в молитвах долгие часы. Да и все последующие годы он не забывал церковь. Но он до сих пор не ведает, а простил ли его Спаситель за его тяжкий грех? Да и кто об этом ведает из русских князей, посещающих мусульманские шатры ханов? Лишь после кончины, на Страшном суде, каждый изведает свою участь.
Затем мысли Бориса перекинулись на родного брата Глеба. Тот, дабы получить желанный ярлык, не только старательно выполнил языческий обряд, но и по приказу хана Берке выгнал из дома молодую жену, вынудив ее постричься в монастырь, и женился на магометанке, указанной повелителем Орды. Угодлив, чересчур угодлив Глеб Василькович. Ханский лизоблюд! Четыре года назад вся Ростово-Суздальская Русь на татар поднялась, а Глеб и не подумал ударить в вечевой колокол. А ведь был и ему гонец от матери. Не послушал, не призвал народ к истреблению ненавистных татар. Матушка — вдохновительница народных восстаний, весьма осерчала на Глеба, но тот до сих пор остается верным подручным ханов золотой Орды. Он никогда не вынет против них меча, как будто и не было на Руси жуткого нашествия.
Нет, он, Борис Василькович, почитай, всю свою жизнь зол на ордынцев. Да и как сердцу не ожесточиться, когда семилетним княжичем он видел растерзанное татарами тело отца, Василька Константиновича. Уже тогда он дал себе клятву мстить поганым, мстить, пока рука держит знаменитый отцовский меч, подаренный тому самим Алешей Поповичем. И он мстил, особенно в 1262 году, — за отца, за Михаила Черниговского, за дядю своего Всеволода, погибшего на берегах реки Сить, за другого дядю Владимира, отравленного ханом Батыем, за раны сородичей и погибель тысяч русских людей. Неистов был его меч!
Мать, Мария Михайловна, подвигнув города на антиордынские выступления, очень переживала за своего сына, ведая, что жестокий хан Берке не пощадит ни одного князя, посмевшего поднять народ на татар. Это были тяжелые дни. Русь, выплеснув свой гнев, замерла в ожидании нового ордынского вторжения. Но Русь спас, пожертвовав собой, Александр Невский. И этот его последний подвиг, пожалуй, куда выше, чем все его предыдущие победы над шведами и немцами.
Ныне редко встретишь мудрых, влиятельных князей. Недавно Русь потеряла и Даниила Галицкого, знаменитого полководца и государственного мужа. На кого ж ныне Отечеству надеется? На Ярослава Ярославича? Упаси Господи! Он сродни Глебу Белозерскому, такой же ханский угодник, не зря народ в его сторону плюется. И отец его, Ярослав Всеволодович, не оставил доброго слова на Руси. Сколь раз его с княжений изгоняли, а он, ко всему, еще татар на Русь наводил, хлебные обозы к голодающим городам не пропускал. Мерзкий был отец Александра Невского! Вот и сын его, Ярослав Ярославич, по отцовской стезе идет. Тяжело отчизне, когда ею повелевает такой великий князь.
Добро, междоусобицы поутихли. Спасибо матушке. Это ее горячие призывы, летописные своды, да «Слово о полку Игореве» кое-чему князей вразумили. Многие стали понимать, что раздоры — величайшая беда для Руси, только единение может спасти разоренную Отчизну.
Лихолетье, мрачное лихолетье… И этим пользуются не только ордынцы, но и другие враги. Всё чаще и чаще вторгаются в северо-западные земли литовцы, шведы и ливонские рыцари. А великий князь Ярослав сиднем сидит в своем стольном граде. Видимо, ждет указаний от хана Менгу-Тимура. Некому за Русь постоять… Впрочем, есть один князь, сын Александра Невского. Он хоть и молод, но уже прославил свое имя битвой за город Юрьев. Боярин Корзун, скупой на похвалу, добрыми словами отзывается о Дмитрии Переяславском. Не он ли станет надеждой Руси? В нем, как говорят многие, все задатки полководца. Дай-то Бог, Дмитрий Александрович! Он же, Борис Василькович, готов встать на защиту Руси в любую минуту. Надо бы встретиться с князем Дмитрием. Одно дело — поездки в Переяславль боярина Корзуна, другая — личная встреча.
Но приедет ли в Ростов переяславский князь?.. А может, отринув гордость, самому в Переяславль наведаться? Надо посоветоваться с княгиней Марией. Ей-то мудрости не занимать. Ныне, когда враг топчет русские земли, не до тщеславия. Время не ждет!
Глава 17 ПРОЩАЙ БЕЛЫЙ СВЕТ
Выскочив из избы, Марийка побежала вдоль деревни и остановилась на околице. Куда дальше? Ночь кромешная, а впереди заглохлый, зловещий лес со всякой нечистью. Жутко ногой ступить. Но и пути назад нет: там насильник Качура. Вот тебе и «добрый мужик». Да как он посмел?!
Марийку не покидало необоримое возмущение. Оно жило в ее душе вот уже несколько месяцев, а именно с той поры, когда узнала черную весть, что ее отец был душегуб, иуда и насильник Агей Букан, растерзанный народом в Ростове Великом. Ее возмущение возросло, когда ее насильно захватил боярский дружинник, Сергуня Шибан. И чего только она не натерпелась в душном мешке! И вот недели не прошло, как ее надумал обесчестить Качура.
Негодование Марийки было настолько беспредельным, что она решилась на немыслимое — возвращаться в Переяславль. Ночь она переждет на околице, а с утренней зарей пойдет к дому через леса и болота. Всемогущий Бог милостив, он выведет ее на большак.
На околице смутно чернел зарод[53]. Марийка обрадовалась: в зароде она и переночует. Зарывшись в духмяное сено (своеобразную сладостную колыбель), она крепко заснула, а когда выпорхнула из зарода, было уже благостное румяное утро.
Девушка оглянулась на деревню и поспешила к лесу, кой был рядом. Через лохматые сосны и если пробивались солнечные лучи, гаснув в прохладной серебристой росе, усеявшей пахучие изумрудные травы.
Марийка шла без обувки, ногам ее было прохладно, но это ее не тревожило: она с детства бегала по утрам босиком по росе, и никогда не одолевала ее простуда.
Тревожило другое. Выросшая в городе, она плохо знала лес, и когда прошагала с полверсты, остановилась. Невольно всплыли слова Качуры: «Не сбежишь. Без провожатого дороги вспять не сыщешь». И только теперь она окончательно и безысходно поняла: Качура прав. Она зашла в дремучий лес, и теперь не ведает — в какую сторону ей идти. Господи, как же быть?! Неужели возвращаться вспять? Пока еще заметны ее следы по росной траве, она выберется к деревне. Но минует час, другой, травы подсохнут, — и тогда она заблудится даже вблизи Нежданки.
Слезы выступили на глазах Марийки. Она присела на валежину и горестно вздохнула. Надо возвращаться к Качуре, кой помышлял над ней надругаться. Другого выхода нет. Придется ему уступить, и жить с нелюбимым человеком, кой старше ее на четверть века. Как это тягостно и печально. В своих девичьих грезах лелеяла надежду, что ей повстречается молодой и красивый суженый, с веселым нравом и добрым сердцем, коего она горячо полюбит. Но знать не судьба, не голубить ей добра молодца. Надо идти в деревню.
Марийка вновь горестно вздохнула, поднялась с валежины и пошагала к Нежданке. Выйдя на малую полянку (где уже ступали ее ноги), она зажмурилась от яркого солнечного света. И вдруг Марийку осенило: Господи, теперь она ведает, в какую сторону ей идти. Ведает!
Она отчетливо вспомнила, что когда ее вели через просторное болото, то солнце светило ей в лицо. Значит, когда она будет пробиваться к большаку, солнце станет греть в затылок.
И Марийка уже без колебаний повернула вглубь леса. Она спасена! Не быть, по-твоему, Качура! Не войдет она в твою избу. Найди, старик (все сорокалетние мужчины казались юной девушке стариками), себе другую наложницу, ей же Бог пошлет человека молодого, кой в грезах видится.
Марийка так повеселела, что у нее исчезли все страхи, кои вначале исходили от хмурого, неприютного леса. Никто ее не напугает, ни леший, ни баба-яга, ни кикимора. Они с утра в самые дебри забиваются и там отсыпаются до ночи. Лишь бы день простоял погожий, да солнце не спряталось. А то, не дай Бог, набегут тучи и спрячут в себе светило. Вот тогда беда. Надо помолиться.
Марийка, к стыду своему, не знала молитв: матери было не до нее, она никогда не водила дочку в храм, и никогда не читала ей богослужебных книг. В избе мать не стояла часами у иконы, а лишь кратко произносила: «Пресвятая Богородица, прости меня, рабу грешную». Вот и вся ее молитва.
Девушка, пробираясь по лесу, просила Богоматерь своими словами:
— Пресвятая Богородица! Не оставь меня в своей милости. Даруй мне солнечный день. Сжалься надо мной и выведи на путь-дороженьку. Умоляю тебя, пресвятая Богородица!..
И Богоматерь помогала ей, к болоту вывела. То самое — дикое, зыбкое, местами поросшее мелким, чахлым осинником. Это было самое трудное место перехода мужиков к своей деревне. Девушка помнила, как мужики, тыча в болотище вырубленными орясинами, шли след в след, боясь оступиться и попасть в гиблый зыбун. Она также шла с орясиной позади Качуры, кой то и дело приговаривал:
— Зри мне под ноги. Шагай строго за мной. На кочке не останавливайся, тотчас ступай на другую.
Это был жуткий час для Марийки. Чуть оступись, замешкай — и болото утянет тебя в свою зловонную вязкую топь. Страшно стало ей и на сей раз, пожалуй, еще страшнее, когда шла с мужиками. Глядя на хлюпкое, трясинное болото, думала:
«Ужасно-то как, Господи! Вон как болотный дедушка булькает, пускает пузыри, кряхтит и ухает. Никак, изготовился заглотать меня в свое мерзкое царство. Б-рр! Оторопь берет!»
Эх, как жаль, что не ведает заговоры. Пошептала бы, перекрестилась и исчезла бы болотная нечисть, пропустила бы ее через зыбуны.
Она долго стояла и смотрела на ту сторону болотища, за коим виднелся зеленоглавый, вековечный лес. Только бы до него добраться, а затем пройти еще версты три и окажешься на спасительном большаке, кой приведет ее к родному дому. Непременно приведет!
И Марийка решилась. Отыскала на краю леса длинную сухую орясину, подошла к болоту, трижды перекрестилась и ступила в болотище. Ноги тотчас стали затягиваться теплым густым илом, но она, памятуя слова Качуры, опираясь на орясину, успела вытянуть ноги и перескочить на мшистую кочу, затем на другую, третью…
— Одолею, одолею, пресвятая Богородица мне поможет, — шептала она и вдруг, когда в очередной раз уперлась на орясину, дабы достичь следующей кочи, та внезапно скрипуче затрещала и переломилась надвое.
Марийка, потеряв опору, рухнула в зыбун. Она отчаянно закричала и попыталась приблизиться к кочке, но болотный водяной не отпускал и всё глубже засасывал свою жертву в мертвую топь. И вот уже по самую шею она очутилась в зыбуне. Это конец, мелькнуло в голове Марийки. Ее ждет неминучая погибель. Господи, как же рано закончилась ее жизнь!
И она, ни на что уже ни надеясь, страшно, безысходно закричала:
— Помогите! Помоги-те-ее!..
Но окрест стояла мертвая, кладбищенская тишь.
Глава 18 КНЯГИНЯ МАРИЯ
Княгиня Мария до конца своей жизни так и не постриглась в монастырь. Еще 28 лет назад все подумали, что после гибели супруга вдова непременно покинет бурную мирскую жизнь и сойдет в тихую обитель. Этого требовал старозаветный обычай. Но княгиня, как ни намекал ей деликатный епископ Кирилл, в монастырь не удалилась. Молвила:
— Прости, владыка, но я нарушу обычай. После ордынского нашествия Ростов в страшном запустении. Князь убит, а старшему сыну всего семь лет.
— Прости и ты меня, княгиня. Я всё понимаю, но вдове не пристало сидеть в княжеском дворце. Что скажут прихожане? К сыну же твоему, Борису, приставлю доброго наставника. Есть, кому воспитать достойного мужа. Боярину Корзуну. Да и я неотлучно буду при твоем чаде.
— А маленький Глебушка… Нет, святый отче, я останусь при детях. Мать не заменит никакой наставник. Да и не только в чадах дело. Сам ведаешь, как тяжело сейчас народу. Он подавлен и растерян. Такого ужасного разора он еще не испытывал. И я, насколько хватит моих сил, буду помогать моему многострадальному народу подняться с колен.
— Но сие дело мужское, оно потребует не токмо душевных, но и великих человеческих сил. Способна ли ты, дочь моя, на сей подвиг?
— Я буду очень стараться, святой отец. Во имя святой Руси стараться.
И владыка больше не упорствовал. Теперь, оглядываясь на прожитые годы, Кирилл давно уже удостоверился в правоте слов княгини Марии. Она и в самом деле многое содеяла не только для Ростова Великого, но и для всего Отечества. Ее заслуги перед Русью никогда не будут забыты.
Ныне княгиня Мария завершает огромнейший труд — второй летописный великокняжеский Свод. Первый она закончила еще в 1239 году. Сколько усилий потребовалось Марии Михайловне, дабы перенести из стольного града Владимира великокняжеское летописание! Владыка Кирилл сомневался, что тщеславный Ярослав Всеволодович согласится отдать сие важное дело Ростову, но заслуги Марии в летописании были столь очевидны, что великий князь смирился. В состав сводов вошла и летопись ростовских князей, начатая еще отцом Василька, Константином Всеволодовичем. Княгиня Мария взялась за трудную и крайне ответственную работу по созданию полных драматизма рассказов о подвигах русских князей, но не на поле брани, а в другом, более тяжком состоянии. Многие князья пали духом, всепоглощающий страх перед злой непобедимой силой Орды парализовал волю. Надо было ободрить их, вселить веру в победу, а самое главное — истребить страх. Благодаря княгине Марии навсегда остался в русских летописях образ сильного, храброго, исключительно доброго к окружающим его, но грозного для врагов витязя — Василька Ростовского, ставшего идеальным образом русского князя вообще. Мария создала также повесть об отце своем, князе Михаиле Черниговском, легшую в основу раннего канонического жития, появившегося в Ростове в пятидесятые годы XIII века.
Княгиня отвела много места не только описанию мученической смерти Василька и Михаила Черниговского, но и других князей, отказавшихся служить Орде. (Говоря о летописных сводах, нельзя не сказать о том, что они не носили узко личного характера. Оказавшись у власти в самые первые годы татаро-монгольского ига, Мария в летописных сводах поднимает вопрос большого общественного, политического значения, придав им нравственно-религиозное обрамление).
Епископ Кирилл, «духовный отец» Марии, отчетливо понимал, что составление сводов в Ростове Великом — наиболее яркая страница борьбы русичей за свою самостоятельность. Летописи отражали не только погодно ведущиеся записи событий, происходящих в Ростове, но и в остальных городах великого княжения. Это были летописи политического значения, отправляемые во многие уделы, где их тщательно переписывали, а в большей мере читали в виде проповедей с амвона храма. «Так из традиционно летописных сводов, сложившихся к тому времени на Руси, своды княгини Марии получили национально политическое звучание». Они были «глашатаями» борьбы против ненавистного ига. Как результат этой деятельности, в 1262 году, по Ростово-Суздальской земли прокатилась волна народных восстаний. В городах была возрождена вечевая деятельность. «Зарожденное в Ростове движение против татаро-монголов охватило все города Великого княжения, оно было подлинно народным и носило массовый характер. В этом одна из заслуг Ростова Великого, как сердца народных восстаний за национальную независимость».
Однако в это время борьба с иноземцами воспринималась еще не как политическая задача, а, скорее всего, как нравственно-религиозная. Но именно таким образом воспитывалась убежденность и уверенность в победе, вселялась в сердца людей стойкость и непримиримость. Всё это говорит о величайшем значении, как Ростова, так и составленных в нем сводов для истории и культуры русского народа. И в этом неоценимая роль ростовской княгини Марии.
Духовный отец княгини поражался не только ее образованностью и державному уму, но и ее удивительно чуткому, милосердному, человеколюбивому сердцу. Взять ее сына Глеба Васильковича, Белозерского князя, ордынского прихлебателя. Сколь он матери крови попортил, сколь порухи нанес ее делам и доброму имени, а княгиня, когда услышала, что Глеб сильно занемог, забыв обо всем на свете, кинулась на далекий Север, в Белозерск, дабы спасти свое великовозрастное чадо. Но местный лекарь лишь руками развел:
— Всё, что в моих силах, я уже сделал. Ныне всё в руках Божьих.
И княгиня принялась горячо молиться. Всю неделю она неотлучно провела у постели умирающего сына, говорила ласковые слова, сама поила настоями и отварами из пользительных трав, и молилась, молилась. И всемилостивый Господь услышал ее: сын вышел из тяжкого недуга и вскоре поправился. Мария целиком предалась богоугодным делам. С выздоровлением Глеба, она объезжает монастыри, раздает милостыню бедным, убогим и сирым, вносит вклады в храмы и обители, продолжая неустанно благодарить Спасителя…
Удивительную женщину послал Бог Ростову Великому!
* * *
Борис Василькович, отстояв заутреню в дворцовом храме Спаса на Сенях, прошел в покои матери. Он появился так тихо, что Мария Михайловна не услышала прихода сына. А тот замер у сводчатой двери, увидев княгиню за небольшим столиком с наклонной поверхностью, склонившейся над листом пергамента. Благообразное лицо ее, освещенное тремя бронзовыми подсвечниками, было задумчивым. Мать творит! Творит едва ли не каждый день, засиживаясь за летописным сводом до поздней ночи. Господи, какое же у нее одухотворенное лицо! Позвать бы сейчас изогафа[54] и запечатлеть ее — сосредоточенную и вдохновленную. Но иконописцы не пишут живые лики. Жаль! Мать давно достойна увековечения своего образа.
Борису Васильковичу не хотелось отрывать Марию Михайловну в такие творческие минуты, и он уже осторожно толкнул дверь, дабы неслышно выйти, но княгиня услышала тихий скрип и обернулась к сыну.
— Ты что-то хотел, Борис?
— Да, матушка. Прости, что отвлекаю тебя, но дело мое важное.
Княгиня закрыла серебряной крышкой черниленку, отложила остро заточенное гусиное перо и пересела в кресло, приглашая сына присесть на лавку, покрытую ярким персидским ковром. Посмотрев на Бориса острым, схватчивым взглядом, молвила:
— Чую, не ростовские дела тебя тревожат, а державные.
Борис Василькович не раз поражался материнской проницательности.
— Истинно, матушка. Литва, немцы и свеи не дают покоя.
— Я так и подумала. Не зря мы посылали Неждана Ивановича к Дмитрию Переяславскому. У того — отцовская жилка. Особый счет и с немцами, и со свеями. Любо мне, что и ты в стороне не остаешься. Вот так бы каждый князь о Руси озаботился.
— А Ярослав и в ус не дует. Пирами да охотой тешится. Будто и не ведает, что ворог, разбив Новгород, может и на Ростово-Суздальские земли обрушиться.
— Может, — глаза Марии Михайловны посуровели — На великого князя надежда худая. Жди от волка толка. Надо немедля князей поднимать.
— Вот и я о том, матушка. Не худо бы с князем Дмитрием встретиться.
— Самое время, Борис.
— Да вот не ведаю — послать за ним или самому в Переяславль ехать… Но пристало ли старшему князю юноте кланяться? Бояре наши горды и спесивы, насмешничать станут.
— На спесивых бояр оглядываться? — резко произнесла княгиня и поднялась из кресла. — Да они привыкли на перинах отлеживаться да богатством своим кичиться. Вспомни нашего Бориса Сутягу. А таких немало. Для них за державу биться — кость в горле. Это они в своих хоромах храбрецы, а как за меч браться — не суйся в волки с телячьим хвостом. Всегда они такие. Кривое веретено не выправишь. А ты всё, никак, на бояр оглядываешься.
На укорливые слова матери Борис не обиделся, хотя на бояр он не шибко-то и оглядывался. Напротив, правил Ростовской землей самовластно. А ценил он одного лишь Неждана Корзуна, коего любили и Василько Константинович, и княгиня Мария. Не насмешек бояр он опасался, нет. Не хотел уронить в глазах других князей своего достоинства.
— Не о боярах речь, матушка. Признаюсь, честолюбие грызет.
— Рюрикович. Потомок Владимира Мономаха и Ярослава Мудрого, — сдержанно улыбнулась Мария Михайловна. — Честолюбивых людей я никогда не порицаю. Они достигают высоких целей. Лишь бы не захлестывало чванство и высокомерие. Это уже пороки. И добро, сын, что от этого тебя Бог миловал… Но ты отлично ведаешь, что Дмитрий Переяславский тоже Рюрикович. И не беда, что он молод. Отец его, Александр Ярославич, в юных летах немцев бил. А Дмитрий? В 12 лет всю Русь удивил, став полководцем. Не зря его многие князья стали почитать… К нему в лихую годину все честные люли потянуться. Так что и ты, сын, нос не задирай.
— Да я и не задираю, матушка. Завтра же поеду в Переяславль.
— Вот и добро… А теперь давай подумаем, что ты скажешь князю Дмитрию.
Беседа матери и сына затянулась.
Глава 19 СОВЕТ КНЯЗЕЙ
Гонец мчал к Ярилиной горе, ведая, что молодой князь Дмитрий всё свое летнее время, по примеру отца, проводит в городище Александра. Но князя в терме не оказалось. Приняла посла вдова Невского, княгиня Васса Святославна.
Гонец, молодой проворный дружинник в вишневом кафтане и белых сафьяновых сапогах с серебряными подковками, снял алую шапку, отороченную бобром, и, низко поклонившись Вассе Святославне, доложил:
— Завтра к князю Дмитрию Александровичу прибудет князь Ростовский Борис Василькович.
Крупные карие глаза бывшей великой княгини заметно оживились.
— Сам князь Борис Василькович?.. Отрадно слышать. Немедля пошлю к Дмитрию вестника.
Князь Дмитрий еще четыре дня назад вывел всю свою дружину в «чисто поле» и проводил с ней учения, разделив войско на две половины. Первая — русичи, другая — «ливонские крестоносцы», вооружив последних рыцарскими доспехами. Доспехи изготавливать не пришлось: после взятия Дмитрием города Юрьева (Дерпта), он привез в Переяславль целый обоз железного рыцарского облачения: копья, латы, прямоугольные щиты, длинные обоюдоострые мечи и причудливые шеломы с узкими щелями для глаз и стальными рогами — знаками наиболее знатных крестоносцев. «Сеча» шла по тем же правилам, примененным Александром Невским на Чудском озере. Единственно чего не доставало — озерного льда, — но ливонцы ходили «свиньей» в любой время года. Во главе «рыцарей» в «магистрах» ходил ближний боярин Ратмир Вешняк, в челе русичей — сам Дмитрий. Он заставлял воинов биться по несколько часов кряду и почти в полную силу. Некоторые дружинники уставали и слезали с коней, дабы передохнуть, но князь останавливал их суровым окриком:
— В сечу! Битвы, порой, длятся с утра до ночи. В сечу!
Дмитрий не только умело использовал ратный опыт отца, но и применял новинки, о коих Русь еще не ведала. В самый разгар битвы он отдавал приказ своей половине дружины на отступление. «Немцы» начинали преследование, но на них неожиданно нападали с тыла и флангов, спрятавшиеся за угорами и в лесу, скрытые полки русичей, а отступавшие дружинники вдруг резко поворачивали коней — вправо и влево. «Немцы» же, не успев перестроиться, натыкались на «железный чеснок», густо натыканный на поле брани. Сейчас чеснок был деревянным, изготовленным плотниками из дубовых плах, но и то некоторые кони, натыкаясь на неожиданное препятствие, сбивались с галопа, спотыкались, а то и вовсе падали.
— А что будет, когда подлинный чеснок воткнем! — довольно говорил, разгоряченный сечей Дмитрий.
Применял он и другие новинки, кои сыграют добрую службу в не столь уж и далеких битвах с иноземцами.
Ночами Дмитрий обходился без шатра, стараясь походить на князя Олега, кой еще в девятом веке ходил на печенегов и ночевал в степи под открытым небом, положив голову на седло. Приучил князь к такой же ночевке и своих дружинников, хотя августовские ночи были довольно прохладны.
Некоторые «княжьи мужи» из старших дружинников ворчали, но Дмитрий пресекал всякие сетования:
— Воин тогда будет отменным, когда и в огне не сгорит, и в воде не утонет. Надо ко всему привыкать. И в плавь с доспехами скоро поплывем. Ведаете, как татары с оружьем и набитыми чувалами переплывают реки? Расскажу. И нам не худо сие постигнуть. В чужеземных землях рек хватает…
Вестник княгини Вассы Святославны прибыл на ратную потеху после полудня, когда «сеча» еще продолжалась. Он с трудом разыскал князя: тот облачался в доспехи обычного рядового дружинника, без всяких сверкающих дорогих украшений, чем любят выделяться русские князья: золоченый шлем, серебристая кольчуга, меч в богатых сафьяновых ножнах, усыпанных драгоценными каменьями, и вдобавок ко всему — княжеский плащ-корзно, кой виден всему войску. Нередко случалось, что тому или иному князю приходилось бежать с поля боя (и за ним устремлялась вся рать), или же князь погибал, сраженный вражеским копьем, саблей или мечом, и тогда дружина, потеряв воеводу, приходила в смятение, панику, обращалась в бегство или вовсе погибала.
Дмитрий твердо решил для себя: он никогда больше не облачится в княжеский доспех. Пусть воины думают, что он всегда где-то рядом, всегда несокрушим, и никогда не ударится в бегство.
Услышав от посланца княгини весть о прибытии в Переяславль ростовского князя, Дмитрий, отдав приказ боярину Ратмиру Вешняку продолжать учения, тотчас отбыл в свой град, дабы достойно встретить именитого гостя.
* * *
Прием был радушным. Дмитрий отлично ведал, что отец его, Александр Ярославич, всегда очень высоко отзывался о княгине Марии, ее муже Василько Константиновиче и их сыне Борисе.
Еще перед отъездом в Орду, отец сказал:
— Запомни, Дмитрий. Ростов потому и называется Великим, что он велик не только своей древней историей, но и своими делами и великими людьми. Им правили и Ярослав Мудрый и Юрий Долгорукий и другие славные князья. Ростов — средоточие не только духовной культуры, но и очаг народных выступлений. Город — воин и патриот. И коль, не дай Бог, что со мною приключится, держись княгини Марии и ее сына Бориса. Никогда того не забывай.
Дмитрий на всю жизнь запомнил слова отца и наладил самые тесные отношения с бывшим стольным градом Ростово-Суздальской Руси. Его гонцы не единожды приезжали к княгине Марии, советуясь с ней по державным делам. Да и ростовский боярин Неждан Корзун не менее двух раз в году навещал Переяславль. Этот боярин был настолько мудр и проницателен, что его толковые советы изрядно пригодились князю Дмитрию.
С Борисом Васильковичем юный Дмитрий продолжительное время находился в походе на Ливонию в 1262 году. Орден, рассчитывая, что хан Берке ударит на Русь с юго-востока, начал войну с северо-запада. Великий князь Александр, собрав дружины, перед своим отъездом в Орду, неожиданно поручил возглавить русское войско своему малолетнему сыну. Многие князья были удивлены выбору Невского. Среди них был и Борис Василькович. Но юный воевода не только умело вел рать, но и одержал громкую победу над немецкими рыцарями. С той поры князь Дмитрий с ростовским князем встречался лишь на похоронах отца, но отменно запомнил его по ратным успехам. Ростовская дружина была в Ливонии одной из самых решительных и храбрых.
Дмитрий встретил высокого гостя не у красного крыльца своего терема, а у городских ворот проездной башни. Вместе с Борисом Васильковичем были неизменные Неждан Иванович Корзун и Лазута Егорыч Скитник с двумя десятками дружинников.
Дмитрий первым сошел с коня, а за ним и Борис Василькович. Обнялись, троекратно облобызались.
— Рад видеть тебя, Борис Василькович.
— И я рада встрече с тобой, Дмитрий Александрович.
— В добром здравии ли сам, княгиня Мария Ярославна и чада?
— Пока Бог милостив.
— А матушка твоя, княгиня Мария Михайловна?
В каждый приезд ростовского посланника или вестника князь Дмитрий непременно спрашивал о здоровье знаменитой ростовской княгини. Однажды Мария Михайловна занедужила, так князь тотчас послал своего искусного лекаря Алферия, коего еще привез из Новгорода отец Александр Ярославич. Когда лекарь через неделю вернулся, Дмитрий дотошно расспросил Алферия о недуге княгини.
— Пока, слава Богу, княже. Недуг миновал, но боюсь, он может повториться. Такая хворь, уж, коль не на шутку примется, бывает и неизлечима.
— Да что с княгиней? — встревожился Дмитрий.
— Все признаки грудной жабы[55]. Нужно постоянно пить отвары и настои из целебных трав, а главное — повседневный покой. Но княгиня не слишком-то озабочена своим здоровьем. О постоянном лечении и не помышляет. А хворь сия коварная. Бывает, месяц, другой недуг не дает о себе знать, но стоит перетрудиться, или изрядно поволноваться, то недуг так может разбушеваться, что хватит сердечный удар. Вновь скажу: княгине нужен постоянный покой.
Дмитрий весьма обеспокоился. Княгиня Мария в покое никогда не жила. Эта женщина проводит всю жизнь в неустанных трудах и бесконечных заботах о Руси. А беспокойное сердце ее не из железа ковано.
— Матушка? — переспросил Борис Василькович, и Дмитрий увидел в его глазах волнение. — Держится, ни на что не жалуется. Но я-то ведаю, что сердце ее пошаливает. Она ж от лекаря нашего отмахивается, да еще шутит: слишком много дел впереди, а посему сто лет мне Богом отведено. Не подноси мне свои порошки и отвары. Я в полном здравии.… Не бережет она себя, Дмитрий Александрович.
— Худо, — нахмурился Дмитрий. — Вот наведаюсь в Ростов, пожурю. Не посмотрю, что она вдова Василька Константиновича, двоюродного брата отца… А ты что, ближний боярин, не вмешаешься?
Неждан Иванович пожал плечами:
— Упрямая она, князь. Ее сам Бог от дел не оторвет. Боюсь, так и кончится за листом пергамента.
— Не каркай, буркнул Борис Василькович.
(А Неждан Иванович окажется прав).
Ростовский князь попросил в честь его приезда не задавать долгий и веселый «почестен пир».
— Не будем терять времени, князь Дмитрий. Дело мое неотложное.
Дмитрий охотно согласился. После непродолжительной трапезы, в коей участвовали княгиня Васса Святославна, бояре Корзун и Вешняк, и старший «княжий муж» Лазута Скитник, князья решили побеседовать с глазу на глаз.
— Догадываюсь, князь Борис Василькович, что твое безотлагательное дело касается всей Руси.
— Воистину, князь Дмитрий. Литва, свеи и крестоносцы вовсю шастают по псковским и новгородским землям. Их отряды настолько обнаглели, что уже вторгаются в тверские уделы. Иноземцы чувствуют себя хозяевами и всё глубже проникают в пределы Руси. А великий князь всё еще думу думает, когда и как ополчиться на врага. Не хватит ли ему отсиживаться? Я уже дважды посылал к нему гонца, но у Ярослава один ответ: «Ведаю, ждите моего повеления». Вот и ждем, пока иноземец к Ростово-Суздальской земле не подкатится. Сердце стонет, князь!
— Понимаю твою боль за землю Русскую, Борис Василькович. У самого душа не на месте. Был ко мне гонец из Новгорода, просил заступиться. Но что я смогу с одной переяславской дружиной? Спровадил его к великому князю, но тот и ухом не ведет.
— Да почему? Почему Ярослав мешкает?! — гневно выкрикнул Борис Василькович.
— Был у меня тайный человек из Владимира. Две недели назад дядюшка мой, Ярослав Ярославич, послал гонцов в Золотую Орду. Ведь ты, князь, не хуже меня ведаешь, что Ярослав и шагу ступить не может без приказа Менгу-Тимура. А повадки ханов ты лучше меня знаешь. Они считают Русь своей вотчиной. Месяцами, а то и годами послов в ожидании приема томят. Но мнится мне своим умишком, что на сей раз Менгу-Тимур не задержится с ответом. Он повелит Ярославу собирать дружины на западных иноземцев, ибо война Орде выгодна. Русь и Запад гораздо обескровят свои силы, а Орда, улучив момент, бросит свои полчища и на обессиленную Русь, и на ослабевший Запад, да так, что поставят весь мир на колени. Сие — заветная мечта чингисида Менгу-Тимура. Он пытается сделать то, чего не смогли достичь его ни Гаюк, ни Батый. Да что я тебе говорю. Об этом мне поведал в свой последний приезд твой боярин Корзун. А ему — твоя матушка. Таким сведениям — цены нет. И как только княгине Марии сие удается?
— Всё достоверно, князь Дмитрий. Матушка еще со времен хана Сартака, сына Батыя, наладила тесные связи с повелителем Золотой Орды. Тот норовил обратить татар в христианскую веру, за что и поплатился. Его дядя, хан Берке, задушил своего племянника подушкой, но тайные лазутчики княгини Марии до сих пор находятся в Золотой Орде и добывают ей нужные сведения.
— Надеюсь, Ярослав Ярославич об этом не изведает?
— Мыслю, не изведает. Это бы означало смерть княгини Марии.
— Зело рискует, Мария Михайловна, — покачал головой Дмитрий.
Он помышлял задать вопрос о лазутчиках княгини, но сдержал себя, посчитав свое любопытство нескромным.
А княгиня Мария действовала через своего надежного боярина Корзуна, кой дважды в год, водным и санным путем отправлялся по Волге в Сарай-Берке, «задабривая» хана и его приближенных подарками. Один из сановников, бывший близкий друг царевича Джабара (кой ныне под именем Петра обосновался в Петровском монастыре Ростова), принимал соболиные и бобровые меха в своем белом шатре и передавал боярину свежие вести. Другие сведения шли через Лазуту Скитника, кои он также получал от одного из приближенных хана. (Жадны же татары на дорогие меха, серебряные и золотые гривны. Вот уж впрямь: золото не говорит, да чудеса творит).
Борис Василькович как-то посетовал:
— Сколь же добра мы посылаем поганым. Казны не наберешься, матушка.
Но княгиня казны не жалела:
— Богатство — вода: пришла и ушла.
— Народ и без того вконец оскудел от поборов. Едва концы с концами сводит.
Княгиня тяжело вздохнула:
— Ведаю, Борис. Народу как никогда тягостно. Мне страшно не хочется обижать простолюдина, но те сведения, кое мы добываем от ордынцев, перекрывают всякую нужду. Вспомни шестьдесят второй год. Если бы не верные вести о разгоревшихся раздорах между ханами, мы бы не ударили в вечевой колокол, и не добились того, что ныне живем без татарских численников и баскаков. Ныне сами дань собираем. Аль того не стоят подарки ханам?
— Прости, матушка. Ты и на сей раз права…
А беседа продолжалась. Она для того и состоялась, чтобы каждый из князей высказал свои предложения, как быть в такую лихую годину и что предпринять. Пока ни тот, ни другой князь ничего не предлагал, хотя у каждого был свой план. Обычно на ратных советах первым высказывался старший среди князей, другие — либо его поддерживали, либо ставили его слова под сомнение и выдвигали свои суждения.
Князь Дмитрий понимал, если он сейчас, не выслушав Бориса Васильковича, начнет предлагать свой план, то ростовский князь, видя, как нарушается старозаветный обычай, может и осерчать.
Дмитрий не нарушил дедовских правил. Он с подчеркнутым уважением спросил:
— Обстановка довольно сложная, князь Борис Василькович. Запутанная. Только достойный муж в ней может разобраться. Не подскажешь ли, князь, как нам дальше поступать?
Борис Василькович был удовлетворен. Он-то думал, что Дмитрий, уже показавшим себя дальновидным человеком и опытным воеводой, начнет сам давать советы, сам укажет наиболее верный путь к спасению Отечества, но, знать, он этого пути не ведает. Не семи же пядей во лбу у этого семнадцатилетнего юноши.
— Есть мыслишки, князь Дмитрий. Надлежало бы, не дожидаясь приказа Ярослава Ярославича, собрать в единое войско Ростово-Суздальские дружины и двинуть их к Новгороду. На Волхове объединиться с псковитянами и новгородцами и дать твердый отпор иноземцам, да такой зубодробительный, дабы и Запад и хан Менгу-Тимур перестали помышлять о новых нашествиях на Русь.
— Отменно, князь Борис Василькович… Но не посоветуешь ли, как без приказа великого князя собирать дружины?
— И на это отвечу, князь Дмитрий, — степенным, значительным голосом молвил Борис Василькович. — От меня и княгини Марии посланы гонцы во все города великого княжения. Мария Михайловна еще раньше заимела добрые отношения со многими князьями. Не случайно набатный звон прогремел пять лет назад над всей Ростово-Суздальской землей. Мы с княгиней уверены, что и на сей раз города отзовутся.
— А Ярослав будет сквозь пальцы смотреть?
— Уж, коль остальные князья надумают сбиться в один кулак, Ярослав со своей владимирской дружиной не пойдет на междоусобную войну.
— А коль Орду наведет?
— И я, и княгиня Мария убеждены, что Менгу-Тимуру ныне не с руки набрасываться на Русь. Ты, князь, уже толковал, что Менгу-Тимуру куда выгодней, если Русь жестоко сцепится с Западом.
— Мудрен и глубоко взвешен твой план, князь Борис Василькович. Спасибо за науку.
Ростовский князь сдержанно улыбнулся.
— Да уж пришлось покумекать.
Всё, что предлагал Борис Василькович, давно уже созрело в голове Дмитрия. (Боярин Корзун, посланник княгини Марии, внес немалую лепту), но он не стал выдавать себя, чтобы еще больше расположить к себе ростовского князя. В будущих планах Дмитрия, Борис Василькович должен занять значительное место.
— В Литве, как мне стало известно, большие силы собрал Воишелк. Тебе знакомо это имя, князь Дмитрий?
— Весьма. Очень коварный и жестокий человек. Он то надевает рыцарские доспехи и проливает реки крови, то уходит в монастырь, облачается в рясу монаха и занимается богоугодными делами. Ныне он вновь взял в руки меч. Прозвище Воишелка — «волк в овечьей шкуре». Ему ни в чем нельзя доверять, как и его покойному отцу, королю Литвы Миндовгу. После смерти отца, Воишелк, находясь в обители, кою он сам воздвиг на реке Немане, на кресте поклялся, что продолжит жизнь свою в тихой келье и что никогда, как добрый христианин, не будет мстить врагам Миндовга, тем более своему брату Довмонту, кой не раз громил войска короля. Но волк — есть волк. Он сбросил с себя рясу доброго христианина, вышел из монастыря и с небывалой жестокостью стал убивать врагов отца. Расправившись с ними, он провозгласил себя королем Литвы и ныне, как доносят мне гонцы из Новгорода и Пскова, намерен взять эти города.
— Но в Пскове сидит его родной брат Довмонт.
— Увы, князь Борис Василькович. Мы живем в ужасном мире, когда брат идет войной на брата, дядя на племянника, сын на отца. И примеров тому несть числа.
— Да уж ведаю, князь Дмитрий. Нагляделся за свою жизнь на междоусобицы… Но слышал я, что королем Воишелком даже в самой Литве многие недовольны.
— Воистину, Борис Василькович. Народ Литвы долгие годы жил в добром согласии с Русью. Больше того, еще два века назад Литва помышляла встать под защиту Руси. Русские же князья благоприятный момент упустили, но и ныне есть возможность не только отвратить отряды Воишелка от русских земель, но и воссоединиться с Литвой.
— Что-о-о? — протянул Борис Василькович. Слова переяславского князя были для него полной неожиданностью. — Возможно ли сие, князь Дмитрий?
— Литовское княжество не такое уж великое государство. Его народ оказался между двух огней и уже устал воевать то с русскими дружинами, то с ливонскими крестоносцами. Это понял еще знаменитый князь Даниил Галицкий. Именно он задумал объединить Русь с Литвою. Никогда отец не женит своего сына на дочери врага и на-оборот. А Даниил сумел расположить себя к литовским правителям. Сам он женился на сестре литовского князя Тевтивила, кой доводился племянником Миндовга, а затем Даниил Романович женил своего сына Шварна на любимой дочери Воишелка и установил с ним такие дружеские связи, что Воишелк согласился быть посредником мира между Литвой и Русью. И мир был установлен. Король Миндовг передал старшему брату Даниила, Роману, три литовских города: Новогрудек, Слоним и Волковыйск. Таким образом, южным Мономаховичам удалось вновь утвердиться в волостях, занятых, было, Литвой.
— Так-так, — удовлетворенно кивнул Борис Василькович. — Ты не худо ведаешь о делах Даниила Галицкого.
— От отца, — признался Дмитрий. — Вот здесь, на Ярилиной горе, в своем любимом тереме, Александр Ярославич часами рассказывал мне о Миндовге, Данииле Романовиче и Ливонском Ордене. Семь лет назад он поведал мне о своем замысле — заключить военный и торговый союз Руси с Литвой для совместной борьбы с немецкими крестоносцами. Это был грандиозный план.
— Любопытно, — с большим интересом глянул на Дмитрия ростовский князь. — А матушка моя сие ведала?
— Ведала. Александр Ярославич обговаривал сей план с княгиней еще в 1253 году.
— Я хорошо помню приезд великого князя в Ростов. Это было второго мая, когда матушка и отец твой присутствовали при освящении владыкой Кириллом дворцового храма Бориса и Глеба. Но матушка почему-то мне ничего не поведала.
— Ты уж прости ее, князь Борис Василькович. Твоя мудрая матушка иногда оберегала тебя от излишних забот.
— Ну и напрасно, — слегка обиделся Борис Василькович. — Она любит хранить всякие тайны… И что же дальше, князь Дмитрий?
— Отцу моему удалось-таки заключить союз с Миндовгом против крестоносцев. Поход, как ты ведаешь состоялся в 1262 году. В нашем войске была и литовские дружины под началом Довмонта и Товтивила. Мы взяли Юрьев и возвратились в Новгород. В том же году, немцы, устрашившись русского оружия, оправили посольство к великому князю и заключили с ним договор о мире и торговле. План моего отца удался.
— Но ныне, князь Дмитрий, всё изменилось. Войска Воишелка опять рыскают по нашим землям. Пойдет ли король, как ты сказывал, на новый мирный союз с Русью? И какими будут твои действия?
— Признаюсь, князь Борис Василькович, у меня нет твердой уверенности, что союз с Литвой состоится, но попытку к этому я уже предпринимаю. Во-первых, использую родственные связи между русскими и литовскими князьями, а во-вторых, убеждаю короля Воишелка, что Ливонский Орден никогда не оставит своих намерений раздавить Литву. Только союз с Русью, как это прежде случалось, спасет литвинов от порабощения рыцарей. Я уже послал в Литву своих доверенных людей, но не худо бы отправить гонцов и из Ростова Великого. Возможно ли сие, князь Борис Василькович?
Князь отозвался не вдруг: собирать дружины на Литву и в тоже время добиваться мира с Воишелком? Ныне «волк в овечьей шкуре» вряд ли пойдет на соглашение с Русью. Но и доводы князя Дмитрия убедительны. Сумел же Александр Невский добиться мира с Миндовгом. А вдруг и сына его постигнет удача.
— Сие возможно, но допрежь я потолкую с княгиней Марией, коль она зачинала это дело с твоим отцом. Найдется и добрый посол.
— Боярин Корзун?
— Именно он, князь Дмитрий.
— Лучшего посла не сыскать.
Через несколько дней к королю Воишелку отправились Неждан Иванович и Лазутка Скитник с отрядом дружинников.
Глава 20 КАЧУРА
Качура очухался лишь утром. В чадной голове неторопко зарделась тягучая беспокойная мысль:
«Господи, что же я набедокурил? Надо перед Марийкой повиниться».
Толкнул дверь в горницу, но девушке в ней не было. Не оказалось ее и в огороде.
«Никак обиделась. Поди, к Аглае убежала».
Пошел в соседнюю избу к брату, но ни Дорофей, ни Аглая ничего о Марийке не ведали.
«Куда ж она запропастилась? Вот чертова девка».
Вышел на околицу и увидел разворошенный стог сена. Так вот где Марийка ночует. Ну и заспалась.
На сердце полегчало. Подошел к стогу, сунул руку в сено и весело крикнул:
— Буде почивать! Всё царство небесное проспишь.
Но тотчас веселье, как ветром сдуло: от стога виднелся к лесу свежий след. (Августовские росы обильны, и держатся на траве несколько часов).
— Мать честная, — забормотал Качура. Неужели эта дуреха в лес убежала? Ну и норов. А ведь, кажись, хохотунья.
Пришлось идти по следу. Шел и хмыкал в окладистую бороду. И впрямь дуреха. В самую глушь полезла. И чего мекает дырявой башкой? Да разве можно, не ведая леса, в него соваться. Большак-то совсем в другой стороне. А она, знай, прет. Куда? К черту на кулички? А след всё тянется и тянется. Наверняка заплутает, дурья башка.
А вот и валежина на кой она сидела. Никак посидела и одумалась. По следу своему вспять пошагала. Слава тебе, Господи! В Нежданку вернется. Посерчает, посерчает, да и за ум возьмется. А куда ей деваться? Сирота — есть сирота. Никто по ней в Переяславле слезинки не прольет. Да и нельзя ей в Переяславль, коль боярин задумал девку в наложницы взять. От боярина не отвертишься. Сильная рука сама владыка, с ней не потягаешься. Вот и придется тебе, Марийка, смириться. Он, Данила, чем для тебя не мужик? Крепкий, башковитый, всей деревней чтимый. Такого мужика еще поискать на святой Руси. Поживет Марийка неделю, другую, да и согласится стать ее его женой. Не всё же ей в девках куковать. Заживет Данила с молодой супружницей урядливо и счастливо. Появится сын — добрый помощник, да не один. Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын. И девки пойдут, матери подспорье. Без девок нельзя, на деревне соседние парни подрастут. И будет Качура сынами славен, дочерьми честен…
Радужные мысли Данилы закончились на солнечной поляне: след Марийки вновь круто повернул вспять от Нежданки. Качура от досады аж головой крутанул. Вот непутевая! Вновь в самые дебри побрела. Нечистый что ли ее толкает.
Марийкин след вывел Данилу к болоту, и сердце его захолонуло. Господи, да она ж в самую топь полезла! Вот упрямая. Но неужели не поняла, что через зыбун ей не пройти. Никто еще в одиночку не переходил это жуткое болото, а Марийка сунулась — и погибла.
Данила стянул с кудлатой головы свой летний войлочный колпак и размашисто перекрестился.:
— Упокой, Господи, новопреставленную рабу Божию Марию… Прости меня, грешного.
Сник, потемнел лицом Качура. Нет, не простит его Господь. Это из-за него, кобеля похотливого, утонула Марийка, и нет ему за то Божьей милости.
Данила стоял, угрюмо и горестно смотрел на гиблое болото и вдруг… и вдруг совсем неподалеку послышался слабый, замогильный голос:
— Матушка ми-ла-я… Прощай матушка-а…
Марийка всё еще цеплялась руками за мшистую кочку, к коей она так и не смогла подтянуться, ибо зыбун засосал ее по самое горло. Девушка, чувствуя, что обессиленные руки ее вот-вот оторвутся от спасительной кочки, начала прощаться с родной маменькой, совсем забыв, что она уже ушла в мир иной.
Данила, разглядев в болоте голову девушки, крикнул во всю мочь:
— Марийка! Держись, голубушка!
Качура быстро подобрал нужную орясину (мужики, одолев грозное болото, бросали орясины вблизи последних кочей, ведая, что может придется вновь переходить «лешачье место». Правда, путь к большаку, если пробираться к Ростову Великому, проходил только через дремучий лес, но для этого нужно было сделать крюк вокруг топей чуть ли не в пять верст, и мужики, рискуя жизнью, шли напрямик).
Марийка, услышав неожиданный голос, раскрыла глаза и увидела на берегу Качуру. Тот, опираясь на орясину и сторожко ступая на коварные кочи, продвигался к ней навстречу.
— Потерпи, голубушка, потерпи, я сейчас! Опояской тебя вытяну.
И вытянул, и приловчился, дабы взвалить могутными руками Марийку на плечо, — и та вся перекинулась, ломаясь в поясе, — и сумел-таки выбраться на сушь. Бережно положил девушку на траву и сокрушенно охнул:
— Эк, к тебе пиявки-то присосались. Ну, это не беда. Знахарки сказывают, что сии твари человеку пользительны. Ты потерпи, голубушка. Сейчас я их отцеплю.
Качура снял с Марийки свой короткий сермяжный кафтан. Пиявки облепили не только босые ноги, но и руки, и шею. Жутковато было смотреть на истерзанное черными, жирными червяками девичье тело. Но Марийка настолько обессилела и натерпелась за последний час — предсмертных мук, что пребывала почти в бессознательном состоянии.
Она пришла в себя, когда Данила, отодрав пиявки, отыскал в лесу родничок и принес в свернутом лопухе прохладной, хрустально-чистой воды. Приподнял голову Марийки, заботливо молвил:
— Испей, голубушка, и тебе полегчает. Родниковая водичка семь недугов лечит.
Качура и сам не ведал, откуда в нем, обычно сдержанном, чуть грубоватом мужике, вдруг зародились неизъяснимые теплые чувства.
А Марийка, окончательно придя в себя, тихо изронила:
— Спасибо тебе, дядя Данила. Век не забуду.
— Да ладно, голубушка… Ты уж меня прости, идола окаянного, а?
Марийка пристально глянула на Качуру и ничего не ответила.
«Не без гордости девка, знает себе цену», — невольно подумалось Даниле, но это его не озаботило, напротив, порадовало, что у него будет такая достойная жена.
— Ну что, Марийка, — Качура перешел на свой обычный суховатый тон, — еще малость отдохни, да и в Нежданку.
— В Нежданку?.. Нет, дядя Данила, у меня свой дом есть, материнский.
— Да что толку в нем? Ни отца, ни матери, ни сестер, ни братьев. Осталась ты одна, как былинка в поле… Да, кстати, кем отец твой покойный был? Каким ремеслом промышлял?
Марийка тотчас замкнулась. Большие, сиреневые глаза ее стали отчужденными. Она поклялась перед иконой пресвятой Богородицы, что откроет имя отца лишь своему суженому. Только один он изведает ее тайну. Нельзя идти под венец, скрывая судьбу своего рождения любимому человеку, и если тот, после ее рассказа, захочет взять ее в жены, значит, он и есть Богом посланный.
Качура хмыкнул, пожал плечами.
— И чего я такого худого спросил? Чего нахохлилась? Ну не хочешь говорить — и Бог с тобой… Давай-ка, Марийка, путь-дороженьку вспять торить. В Нежданке тебе будет лучше, никакой боярин не достанет.
— И дома теперь не достанет. Меня за последние дни жизнь многому научила. Домой пойду, дядя Данила.
— Вот те на! — опешил Качура. — Да как же ты дорогу сыщешь?
— Сыщу! — твердо высказала Марийка. — Помолюсь Богородице да святым угодникам — и сызнова через болото пойду.
— И опять тебя зыбун заглотит.
— Значит, судьба моя такая, но в деревню я не вернусь. И не уговаривай, дядя Данила.
Качура долгим, долгим взглядом смотрел на решительное лицо Марийки и убедился: девка слов своих не изменит, в Нежданку она действительно не пойдет.
С нескрываемым огорчением молвил:
— Ну что ж, девонька, неволить грех. Однако одну тебя не оставлю, провожу до большака. По тем же кочам пойдем, по коим и допрежь ходили.
Усмехнулся:
— Меня местный болотный царь всегда пропускает. Не зря ему каждую весну жареных куриц подношу. Любит батюшка водяной подарки…Ну, пойдем с Богом.
Качура насчет водяного не шутил. Каждый год, на Егория вешнего[56], он, от всего мира, приносил «царю болотному» три жареных курицы и глиняный горшок хмельного меда. Кидал с кочи в зыбун и приговаривал:
— Прими, батюшка, гостинчик и даруй нам свое благословение на проход через твое болотное царство.
Водяной ухал, бурчал, испускал пузыри и с удовольствием принимал подарки.
Миновав болото, часа через два вышли к большаку — торговой и ратной дороги, связывающей Ростов, Суздаль и Переяславль с Нижним Новгородом. И только тут Качура спохватился.
— У тебя во рту маковой росинки не было. Чай, проголодалась.
— Ничего, дядя Данила, я на еду не прихотливая, не помру. Дойду как-нибудь.
— Не евши и блоха не прыгнет. Ты погодь маленько. Тут неподалеку орешник. Самая пора обрать. Я недолго, хоть чуток подкрепишься.
И получаса не прошло, как Данила вернулся на дорогу, но Марийка вновь бесследно исчезла.
— Ты где? Марийка, где ты? — закричал Качура.
Лишь приглушенное эхо вернулось к Даниле. Недовольно крякнул. Ну что за девка! Хоть бы упредила, что ждать не станет. И как не забоялась одна по большаку идти? До Переяславля еще верст шесть. Вот глупышка!
Постоял несколько минут столбом, вновь покричал и, удрученно вздохнув, подался в лес.
Не знал, не ведал Качура, что с Марийкой опять приключилось новое происшествие.
Часть вторая
Глава 1 КРЕСТОНОСЦЫ
Великий магистр[57] Ливонского Ордена, Отто фон Руденштейн, созвал в свой новый каменный замок всех знатных рыцарей. Ему было около сорока лет. Жилистый, высокий, с густыми рыжеватыми волосами, упавшими на сильные, покатые плечи. Серые глаза горды и суровы, го- лос властный и звучный. С малых лет Отто был посвящен в рыцари, в двадцать — выиграл большой рыцарский турнир, свалив с коня копьем самого непобедимого меченосца последних лет.
Дочь бывшего великого магистра поднесла Отто золоченый шлем и вскоре стала его женой.
Военные походы Отто Руденштейна были делом всей его жизни. Не было года, чтобы он не принимал участия в каком-нибудь сражении, и почти каждый раз возвращался в свой замок в торжественно-приподнятом настроении. Он — первый рыцарь Ливонского Ордена — никогда не знал горечь поражений.
Еще с отроческих лет юный Отто поклонялся великому магистру Ордена, Герману Зальцу. На всю жизнь запомнились его слова:
«Когда государи европейские, подвигнутые славолюбием, вели кровопролитные войны в Палестине и Египте, когда усердие видеть святые места ежегодно влекло топы людей из Европы в Иерусалим, многие немецкие витязи, находясь в этом городе, составили между собой братское общество, с намерением покровительствовать там своим единоземцам, служить им деньгами и мечом, — наконец, быть защитниками всех богомольцев и неутомимыми врагами сарацинов».
Общество еще в 1191 году, утвержденное римским папой Григорием, назвалось Орденом святой Марии Иерусалимской. Рыцари стали облачаться в белые мантии с черным крестом, дав обет целомудрия и повиновения начальникам. Великий магистр говорил всякому новому сочлену:
«Если вступаешь к нам в общество с надеждой вести жизнь покойную и приятную, то удались, несчастный! Ибо мы требуем, чтобы ты отрекся от всех мирских удовольствий, от родственников, друзей и собственной воли. Что ж в замену обещаем тебе? Хлеб, воду и смиренную одежду. Но когда придут для нас лучшие времена, тогда Орден сделает тебя участником всех своих выгод».
И лучшие времена настали: Орден святой Марии, переселясь в Европу, был уже столь знаменит, что великий магистр его, Герман Зальц, мог судить папу, Гонория Третьего. С императором Фридериком Вторым, огнем и мечом завоевал Пруссию, принял под свою защиту Ливонских рыцарей, дал им магистра, одежду, правила Ордена немецкого (Тевтонского) и, наконец, слово, что ни литовцы, ни датчане, ни россияне уже не будут для них опасны.
В 1229 году магистр Ливонского Ордена Волквин, после неудачных сражений с русскими дружинами, решился соединить свой Орден с Тевтонским, который был в большой силе под началом Германа Зальца. Но Герман отклонил предложение Волквена. Тот же в 1234 году потерпел новое поражение от русичей. Княжеские дружины, воспользовавшись победой над Юрьевом, опустошили Ливонскую землю. Магистру Волквину ничего не осталось, как вновь обратиться к Герману Зальцу о соединении обоих Орденов в один.
В 1235 году Герман фон Зальц, чтобы разузнать состояние дел в Ливонии, отправил туда своих командоров[58]. Они возвратились и привели с собой троих представителей от Ливонских рыцарей, которые были обстоятельно допрошены об их правилах, образе жизни, владениях и притязаниях. Потом были спрошены командоры, посланные в Ливонию. Они представили поведение рыцарей меча вовсе не в привлекательном свете, описали их людьми упрямыми и крамольными, не любящими подчиняться правилам своего Ордена.
На съезде единогласно решили дождаться прибытия своего магистра: в 1236 году Волквин сделал опустошительный набег на Литву, но скоро был окружен вражескими отрядами и погиб со всем войском. Тогда остальные Меченосцы отправили посла в Рим представить папе беспомощное состояние Ордена, церкви ливонской, и настоятельно просить о слиянии их с Орденом Тевтонским.
Папа Григорий IX признал необходимость этого соединения, и оно последовало в 1237 году. Первым ливонским магистром был назначен Герман Балк, известный уже своими подвигами в Пруссии.
В 1240 году юный Отто Руденштейн участвовал в походе на русские земли. Немецкие рыцари захватили Водьскую пятину[59], порубежную область Новгорода, и страшно ее разорили. Конные рыцарские разъезды появились в тридцати верстах от великого древнего города. А вскоре Отто на своем боевом коне въехал в Псков. Сердце его было переполнено чувством гордости. Взята неприступная порубежная крепость Руси! А до этого крестоносцы, собранные из многих крепостей Ливонии, захватили русский город Изборск.
Рыцари осаждали Псков целую неделю, и уже не надеялись на успех: мощная крепость выдержала за свою историю 26 осад и ни разу не открыла ворота врагу. Выдали Псков бояре-изменники во главе с посадником Твердилом. Немецкие крестоносцы не только полностью разграбили богатейший город, но и, нарушая устав «Братства святой Марии», насиловали девушек и женщин.
В начале 1241 года крестоносцы начали всё чаще вторгаться в новгородские владения, и поставили своей целю завладеть не только Великим Новгородом, но и Карелией, и побережьем Невы. Вскоре немцы построили на Копорских землях укрепленный город и двинулись дальше, захватив в районе Изборск-Псков-Копорье обширную территорию.
Отто Руденштейн ничуть не сомневался, что он со своими членами братства, облаченными в непробиваемые рыцарские доспехи, пройдут в самую глубь православной Руси и превратят ее в католическую. Так желает римский папа и великий магистр со своим непобедимым войском.
И вдруг случилось непредвиденное. 5 апреля 1242 года «непобедимые» крестоносцы были наголову разбиты на Чудском озере сыном великого князя, Александром Невским.
Отто бился ожесточенно, и всё еще надеялся, что русские будут сломлены огромным войском немцев. Великий магистр вывел на поле боя 12 тысяч рыцарей. Но чуда не случилось. Александр Невский ошеломил рыцарей своим полководческим искусством.
Главным в битве с крестоносцами, как повествует историк — сдержать первый, самый сильный удар сомкнутого строя тяжеловооруженной конницы, и Невский блестяще с этой задачей справился. Боевой порядок его полков был обращен тылом к обрывистому берегу озера, в который должны были упереться в случае прорыва закованные в броню рыцари. За флангами русского строя были спрятаны в засаде лучшие конные дружины, чтобы в решающий момент нанести удар. Замысел Александра Невского полностью удался.
Сначала «немцы и чудь, пробишася свиньею сквозь полки» остановились, упершись в обрывистый берег. Сзади продолжали напирать всей своей массой остальные рыцарские отряды. Враги беспорядочной толпой сгрудились на льду Чудского озера. В этот момент с флангов и с тыла на крестоносцев обрушились засадные русские дружины.
«Войско братьев было окружено», — с горечью воспоминал ливонский летописец.
Готовясь к битве с тяжеловооруженными рыцарями, Александр Невский снабдил часть ратников специальными копьями с крючками на концах, коими можно было стаскивать рыцарей с коней. Другие воины, вооруженные «засапожными» ножами, выводили из строя лошадей. Рыцари гибли, не имея возможности использовать своей основной силы — сокрушительной атаки в конном строю.
Войску крестоносцев было нанесено сокрушительное поражение. Всего лишь немногие конные рыцари смогли пробиться через кольцо окружения. По свидетельству летописца, русские воины, преследовали немцев, «секли, гонясь за ними как по воздуху» и «убивали их на протяжении семи верст по льду, до Соболиного берега… а другие в озере утонули», так как весенний лед не выдержал тяжести рыцарских доспехов.
Сам Отто Руденштейн, несмотря на отчаянное сопротивление, попал в плен. Он был полон бешенства, злобы и уныния, когда его, наряду с другими рыцарями, вели пешком по улицам Пскова.
«Как мы могли потерпеть поражение? — мрачно раздумывал он. — Мы пробились сквозь русское войско и считали битву выигранной. Но кто мог подумать, что князь Александр поставит полк у крутого восточного берега, у Вороньего камня, против устья реки Желча». (Избранная позиция была выгодна тем, что крестоносцы, двигавшиеся по открытому льду, были лишены возможности определить расположение, численность и состав русских войск).
Перед битвой лазутчики облазили всё озеро и донесли обо всех его особенностях великому магистру. Но даже искушенный Герман фон Зальц не мог себе представить, что Невский так хитроумно расставит свои полки.
Позорно то, что Отто сразили не отборные княжеские дружинники, а сиволапые мужики.
«Эти варвары и бьются по- варварски, — с ненавистью думал Отто. — Его, знатного рыцаря, стянул с коня крюком дюжий мужик, а другой — убил его верного скакуна чуть ли не кухонным ножом. Дикари!»
Невский, после того как рыцарей провели по улицам Пскова, приказал заточить их в порубы. Отто, вместе с несколькими крестоносцами, валялись на куче жухлой соломы, в полной тьме земляного узилища, и сыпали на головы варваров проклятия, уже не надеясь остаться в живых.
А князь Александр праздновал победу.
«О, псковичи! — воскликнет летописец. — Если забудете эту славную победу и отступите от рода великого князя Александра Ярославича, то похоже будете на жидов, коих Господь напитал в пустыне, а они забыли все благодеяния его; если кто из самых дальних Александровых потомков приедет в печали жить к вам во Псков и не примете его, не почтите, то назоветесь вторые жиды».
Изумленный страшным поражением крестоносцев, великий магистр Ордена с трепетом ожидал полки Невского под стенами Риги и поспешил отправить посольство в Данию, умоляя короля спасти рижскую Богоматерь от неверных, жестоких россиян. Но Александр Невский, удовлетворенный ужасом немцев, вложил меч в ножны.
Герман Зальц прислал в Новгород «с поклоном» своих послов, которые сказали, что отказываются не только от Луги и Вотьской земли, но и уступают князю Александру знатную часть Летгалии. Попросил магистр, и обменяться пленными.
Летом 1242 года Оттто Руденштейн вернулся в Орден. А через двадцать четыре года, как наиболее именитого командора, его назначили великим магистром…
На совете знатных рыцарей весной 1267 года Отто Руденштейн сказал:
— В свое время Чингисхан создал великую империю. В основе его побед — неукротимая сила воли повелителя и железная дисциплина его воинов. Всё это присуще нашему Ордену. Сейчас мы сильны и сплочены, как никогда. Трагедия Ледового побоища больше не повторится. С тех пор прошло четверть века, и мы уже многому научились. Теперь нас не поймаешь на крючья, засапожные ножи и другие русские уловки. Да и самого Александра Невского нет уже четыре года. Русь осталась без полководца. Великий же князь Ярослав нам не страшен. Он не только не обладает полководческим даром, но и пуглив, как ворона. Наши отряды уже вблизи Новгорода и готовы вторгнуться в пределы Ростово-Суздальской Руси, но князь Ярослав боится и головы поднять. Он знает, что на Руси некому противостоять нашему рыцарскому войску. В земле Русской, после Александра Невского, нет воинственных князей. Дело дошло до того, что в русские города приглашаются чужеземные князья. Все мы наслышаны о литвинах Довмонте и Товтивиле, правителях Пскова и Полоцка. Русские готовы носить их на руках. И за что? За то, что эти предатели бьют своих же соплеменников. Но они еще не встречались с воинами нашего братства. Мы отрубим их головы за измену католической веры. Не хочу об Иудах больше говорить, их смерть не за горами.
Отто на минуту замолчал, и этим не преминул воспользоваться влиятельный рыцарь, командор Валенрод Вернер:
— Мне кажется, великий магистр, что нужно вспомнить о сыне Александра Невского, его походе на город Дерпт.
Руденштейн кинул на командора насупленный взгляд. Он не любил, когда ему напоминали о князе Дмитрии, но на совете самых знатных рыцарей каждый был волен высказаться.
— Говори, Валенрод.
— В жилах переяславского князя течет кровь Невского. Он также умен, храбр и сметлив в военных делах. Его победа над Дерптом оказалась далеко не случайной. Миновало пять лет, и мы можем получить на Руси нового Александра Невского. Дмитрий — опасный враг.
В прохладном помещении замка, хотя и потрескивали объятые пламенем поленья в камине, установилась тягостная настороженная тишина. Рыцари знали: Валенрод затронул самый болезненный для великого магистра вопрос. Отто Руденштейн может вспылить. Он хоть и принимал участие в битве под Дерптом, но ему никогда не забыть жестокого поражения Ордена от двенадцатилетнего (!) сына Невского. Над магистром смеялась вся Европа. Какой-то малолеток разбил непобедимых рыцарей. Да сей позор не смыть Ордену десятки лет!
Устав духовного братства меченосцев хоть и говорил о равных правах членов Ордена, но всё же многие из них не осмеливались затрагивать темы, которые были не по душе великому магистру. Валенрод Вернер осмелился. Он был один из самых родовитых рыцарей, сродник Германа фон Зальца, претендовавший на звание магистра.
Отто, сцепив жесткие, длинные руки поверх шелковой белой мантии с черным крестом, пожевал сухими губами и резко произнес:
— Ты чересчур преувеличиваешь, Вернер. Орден раздавит Дмитрия, как клопа!
— Не собираюсь оспаривать твои слова, великий магистр. Но этот князь, если не принять срочных мер, может усложнить проникновение католичества вглубь Руси.
— Чем? — всё также резко спросил Руденштейн.
— Должно быть великому магистру известно, — невозмутимо продолжал Вернер, — что переяславский князь начал, как и его отец, вести переговоры с Литвой, чтобы объединенными силами попытаться нанести удар по Ордену. Александру Невскому это удалось.
— Невский был великим князем и имел все полномочия вести переговоры от всей Руси. Дмитрий — всего лишь удельный князь, располагающий дружиной в полтысячи воинов. Ему ли вести переговоры о союзе с Литвой? На это есть великий князь Ярослав, но Орден хорошо осведомлен о его бездеятельности. Потуги же князька Дмитрия бесплодны, и я уже принял меры, чтобы этот выскочка не вышел из стен своего города.
Валенрод бросил на магистра проницательный взгляд, но спрашивать о «мерах» не стал: иезуит Руденштейн способен действовать не только мечом, но и давно испытанными средствами — ядом и кинжалом.
— Тебе же, Вернер, коль ты так опасаешься сына Невского, я поручаю досконально изведать о крепостных сооружениях Переяславля. Этот город — змеиное гнездо Александра — должен стерт с лица земли. Да будет всем известно, что после покорения Пскова и Новгорода мы пойдем на Ростово-Суздальские земли. Римский папа и наши единоверцы уже два столетия добиваются превращения Руси в католическую страну. И тому быть! В мире должны существовать лишь две религии — католическая и мусульманская… А теперь я перейду к конкретным предложениям — кто, как и какими отрядами будет двигаться на Русь…
Валенрод Вернер не стал расспрашивать великого магистра — каким путем добираться до Переяславля. Руденштейн посчитал бы его недалеким человеком. Таким Вернер никогда не был. О его изощренном уме знал весь Орден. Вернер, после некоторых раздумий, избрал наиболее надежный путь.
Немецкие купцы были нередкими торговыми гостями многих городов Руси. Под их видом и надумал добраться до «змеиного гнезда» великородный рыцарь. Из подлинных же купцов Вернер взял лишь одного человека, Бефарта, некогда побывавшего в Переяславле.
Торговый караван состоял из семи подвод, груженых необходимым товаром, пятнадцати «обозных» людей и десятка человек охраны, опоясанных мечами. Ничего подозрительного торговый караван не вызывал. Обычный купеческий обоз, шествующий по русским городам.
Благополучно миновав Новгород, Торжок и Тверь (и поторговав в них), купцы в середине августа оказались в пределах Переяславского княжества. Вернер строго-настрого предупредил Бефарта:
— Ты не был в Переяславле восемь лет, но городские купцы могут тебя узнать. На вопросы отвечай: еду из Новгорода, из Немецкго гостиного двора. Наиболее любопытным покажи проездную грамоту с печатью новгородского наместника, племянника великого князя. (Грамота была подлинная: за хорошую мзду жадный на золото Юрий Андреевич выдавал любую «проездную»). А почему так далеко из Новгорода приехали, ответишь: Переяславль богат самыми ценными бобровыми мехами и знаменитой ряпушкой, которую, в засушенном виде, в любом русском городе готовы купить за большую цену.
— Не подведу, — заверил Вернера купец. — Я на торговом деле уже два десятка лет.
— Да уж отменно постарайся, Бефарт. Я дал тебе много золота. И запомни: для тебя я обычный охранник. Будь предельно осторожен. Любая твоя промашка может привести к гибели всего моего отряда.
— Такого не случится, Вернер. Я сумею послужить Ордену.
— Забудь это слово, купец, — сурово произнес Валенрод. — Мы на вражеской земле.
— Вокруг дикий лес, — пытался оправдаться Бефарт.
— На Руси и в лесу есть уши.
Глвава 2 ВАСЮТА
За последние годы Васютка, младший сын Лазуты Скитника, не раз бывал в Переяславле Залесском. Сей град особенно стал дружен с Ростовом Великим. Иногда его торговый обоз ехал в Переяславль вкупе с отцом и старшими братьями, сопровождавшими боярина Неждана Ивановича Корзуна. Тот и вовсе стал частым гостем соседнего удела.
Васютка ведал: боярин навещает князя Дмитрия, как особый посланник княгини Марии Михайловны и Бориса Васильковича, но о чем идет речь он, конечно, не знал. Ничего не говорил о своих поездках и отец. Братья же, Никита и Егор, хоть и стали княжьими дружинниками, но о тайных переговорах также ничего не ведали. Их главная задача — оберегать послов, куда бы они ни ездили.
А неделю назад боярин Корзун, отец и братья и вовсе укатили на край света — в Литву, к королю Воишелку. Тот, как идет молва в народе, лют и кровожаден, на порубежные города нападает, русичей в полон берет и казнит без всякой пощады. И зачем токмо отец с братьями в волчье логово полезли?
Не понять Васютке. Да и не стоит забивать голову всякими невеселыми думами, когда у него торговых дел невпроворот. В последний раз он пообещал переяславцам вновь привезти ходовой товар. Их, казалось ничем уже не удивишь: у самих всякой всячины хватает — и льна, и пеньки, и меду, и воску, и сукна цветного… А вот знаменитого на всю Русь ростовского «лемеха» сколь не привези — с руками отхватывают. Всем осиновый лемех, искусно изготовленный ростовскими умельцами, надобен, — и мужику, и боярину, и владыке, и самому князю. Переяславль заново отстраивается, украшается новыми избами, теремами и храмами. А без кровли, не боящейся ни мороза, ни жары, ни дождливого непогодья, никуда не денешься. Вот и берут нарасхват чудодейственный лемех.
Мать, Олеся Васильевна, всегда провожала «младшенького» с тревогой:
— Не люблю я, сынок, когда ты из города уезжаешь. Всегда душа болит.
— Так я ж с Митькой и Харитонкой. Они люди бывалые. Почитай, всю жизнь по торговой части. С ними не пропаду. Не горюй, мать! — весело, сверкая белозубой улыбкой, отвечал Васютка.
— В дороге всякое случается, сынок. Не приведи Господь, разбойный люд навалится.
— Да что с меня взять, маменька? Лихой люд на деревяшки не позарится. А когда я еду с сукнами да мехами, то еще пять караульных беру. Покуда Бог милостив.
А вот дед, Василий Демьяныч, всегда радовался: хоть один внук пошел по его купеческой стезе. И не худо пошел: того гляди, в набольшие ростовские купцы выбьется. Сам князь, Борис Василькович, его привечает. А коль привечает, может и важное торговое дело поручить. Он-то, Василий Демьяныч, не единожды выполнял разные княжеские просьбы.
Еще когда Васютка в первый раз снарядился в Переяславль, дед подсказал:
— У меня в Переяславле добрый знакомый есть. Ему хоть и за шестьдесят, но всё еще в купцах ходит. Поклон ему от меня передашь. Он тебя и на постой примет.
Купец Силантий Ширка, маленький, кругленький, подвижный старичок, с куцей рыжеватой бороденкой, принял Васютку, как самого дорогого гостя.
— Так ты внучок Василь Демьяныча? — обрадовался купец и серые, приветливые глаза его радушно заулыбались. — Да он мне, как отец родной. Сколь раз меня с собой брал, торговлишке натаскивал. Добрый, башковитый купец. Он меня многому вразумил. Я-то, правду сказать, торопыга, норовил всё поборзей обстряпать, а Василь Демьяныч, человек степенный, меня в ежовые рукавицы брал. Станешь-де торопиться — толку не будет. На торгу деньга проказлива… И давай мою дурью башку поучать. Кабы не он — не вышло бы из меня путного купца. Жаль, завершил свою торговлю, Василь Демьяныч.
— Да уж ему за восемьдесят.
— Недугами не оброс?
— Крепкий у меня дед, на хворь не жалуется.
— Ну и слава Богу… Да ты заходи в избу, Васюта, и живи, сколь душа пожелает…
И вот теперь каждый раз, приезжая в Переяславль, молодой купец останавливался у Силантия Ширка. Теперь уже тот советовал, когда и в каком месте показывать Васютке свой товар. Особенно не приходилось простаивать с «лемехом».
— Слышал я, Васюта, что боярин Ратмир Елизарыч Вешняк надумал новые хоромы ставить. Пошли-ка к нему Харитонку. Наверняка лемех возьмет, и на деньгу не поскупится.
Харитонка вернулся с довольным лицом:
— Боярин надумал весь товар забрать. Пусть-де твой купец едет прямо на двор.
Ратмир Елизарыч, не торгуясь, и вызвав своих холопов, велел разгрузить все четыре подводы. Внимательно поглядев на купца, спросил:
— Твой человек тебя Васютой Лазутычем кликал. Уж не Лазуты ли Скитника сын?
— Сын, боярин.
— Добро, — приветливо улыбнулся Ратмир Елизарыч. — Лазуту я хорошо ведаю. Человек известный. И два сына при нем… А ты чего ж в дружинники не подался?
— Дед меня на торговлю подбил. Он, почитай, всю жизнь в купцах проходил. Занятное это дело, боярин.
— Деньгу наживать?
— Да не в одних деньгах дело. Ране-то я, можно сказать, белого света не видел. Допрежь в деревне сидел, затем много лет в глухомани обитался. А тут, будто птица из клетки выпорхнул. По городам стал ездить. А каждый город по-своему увлекателен и любопытен. Занятно в городах бывать, боярин. По нраву мне такая жизнь. Не каждому дано мир поглядеть. Иной всю жизнь как сверчок за печью просидит и ничего не увидит. А тут!
Лицо парня веселое и открытое, кудри русые, брови черные, глаза васильковые.
«Никак мать у этого детины красавицей была. Пригожий купец, — невольно подумал Ратмир Елизарыч и предложил:
— Заходи в терем, Васюта Лазутыч. Потолкуем малость.
Васютка несколько удивился: ни один еще переяславский боярин его в свои хоромы не приглашал.
Угостив гостя, боярин, поглаживая грузной рукой каштановую бороду, спросил:
— Не поведаешь ли, Васюта Лазутыч, в каких городах тебе довелось быть?
— От чего ж не поведать? — простодушно отозвался Васютка. — В Суздале, Угличе, Ярославле, Юрьеве Польском, Владимире…
Когда купец завершил перечислять города, Ратмир Елизарыч вновь вопросил:
— Как народу в тех городах живется?.. Все ли великим князем довольны?
Благодушное, слегка продолговатое лицо Васютки стало серьезным.
— Всюду несладко, боярин. Едва ли не впроголодь. А всего хуже в стольном граде. Князь Ярослав весь свой люд непомерными оброками обложил. Не почитает народ великого князя, и не токмо во Владимире.
— Что ж о нем говорят?
— Ничего доброго. Сплошная хула. Во всех городах слух идет, что ливонские крестоносцы на северо-западные земли нападают, вот-вот на Ростово-Суздальскую Русь полезут, а великий князь и оком не ведет, да всё на Орду оглядывается. Не люб народу такой повелитель Руси. Многие люди в большом смятении.
— Ты прав, Васюта Лазутыч, на Руси беспокойно, она в ожидании беды, — раздумчиво протянул Ратмир Елизарыч, и, помолчав некоторое время, пристально глянул купцу в глаза.
— А скажи мне, Васюта Лазутыч, пойдет народ в ополчение, коль его князья позовут?
— Князья?.. Смотря, какие. За Ярославом Ярославичем, как я мекаю, не шибко потянутся. Нет ему веры.
— А за кем же потянутся? В народе называют какое-нибудь имя?
— Скрывать не буду. Называют, боярин. Сына Невского — Дмитрия Александровича. За него народ гору своротит. Уважаемый князь.
— Добро, — довольно кивнул Ратмир Елизарыч.
Прощаясь, боярин молвил:
— Будешь в Переяславле, заезжай. Мне с таким купцом непременно надо дружбу водить.
— Благодарствую, боярин.
Пока Васютка шел к красному крыльцу длинными переходами, встречу попадались сенные девки. Те смущенно жались к сухим бревенчатым стенам, кланялись в пояс, томно вздыхали вслед.
— И до чего ж лепый. Господи, родится же такой добрый молодец!
Глава 3 НЕЖДАННАЯ ВСТРЕЧА
Пустой торговый обоз отъехал верст пять от Переяславля. Васютка был в добром настроении: и товар выгодно распродал, и с интересным боярином познакомился. Таких бояр не часто встретишь. Обычно — спесивые, напыщенные, за версту не подступишься. А этот приветлив, прост в обращении, и умом Бог не обидел… Где-то раньше он слышал имя Ратмира Вешняка… Да что же это, Господи! Как-то за обедом от отца и слышал. Отец что-то немногословно обронил о переяславском боярине, а он, Васютка, мимо ушей пропустил. И вот судьба всё же свела с Вешняком.
— Глянь, Васюта Лазутыч, девка шествует! — прервал раздумья купца Харитонка.
Марийка, как увидела на дороге пустые торговые подводы, тотчас, забыв о Качуре, кинулась им навстречу.
— Подвезите, люди добрые до Переяславля. Ноженьки не идут.
— Какой тебе Переяславль, когда мы в Ростов едем. Вот чумовая! — рассмеялся Харитонка.
Марийка удрученно вздохнула:
— Выходит, мой город в другой стороне… Ну, да как-нибудь потихоньку доберусь.
Васютка внимательно оглядел девушку. Милолицая, с пышной, растрепанной косой, но вид у нее усталый, измученный, будто сто верст прошагала. Да и сарафан ее местами изодранный, словно через дремучий лес пробиралась. И к тому же босая. Странно увидеть такую девушку вдали от деревень, на лесной дороге.
Васютка спрыгнул с телеги и близко ступил к чудаковатой незнакомке.
— Уж не заблудилась ли?
Марийка как глянула в лицо молодого статного парня, так и обмерла: вот именно такой добрый молодец ей и грезился Заволновалась, потупила очи, зарделась, и это смущение невольно передалось и Васютке.
— Заблудилась, — не поднимая очей, кротко отозвалась Марийка.
Васютка, сам не ведая от чего, порывисто повернулся к Харитонке и Митьке и приказал:
— Вы поезжайте в Ростов, а я девушку до Переяславля подброшу.
Харитонка недовольно покачал головой:
— Прости, Васюта Лазутыч, но мы без хозяина не можем возвращаться. Олеся Васильевна разгневается. Да и дед отругает.
— А вы потихоньку езжайте. Я вас догоню.
Васютка решительно развернул заднюю подводу и поманил рукой к себе девушку, коя будто к земле приросла.
— Садись, красна девица… Как кличут тебя?
— Марийкой.
— Славное имечко. А меня Васюткой… Да ты не стесняйся, я за подвоз с тебя ничего не возьму.
Купец взмахнул кнутом, гикнул, и сытый конь рысью помчал по укатанной дороге.
— Как же ты заблудилась, Марьюшка?
Голос у Васютки благожелательный и задушевный, а назвал-то как ласково: «Марьюшка». Никто еще девушку так не называл.
Марийка, с трудом преодолев смущение, вновь глянула в лицо Васютки, и сердце ее учащенно забилось. Какие добрые и доверчивые глаза у этого парня! Так бы и смотрела, смотрела в них.
— Тут долгий сказ, Васюта Лазутыч.
— А нам спешить некуда, — и купец убавил прыть коня. — Рассказывай, Марьюшка… Нет, погодь. И до чего ж я бестолковый.
Васютка развязал один из узелков и протянул девушке сладкие петушки на тонких, белых ножках и медовые пряники.
— У братьев моих детки маленькие. Гостинчик им везу. Угощайся, Марьюшка. Ты, поди, проголодалась.
— Спасибо, Васюта Лазутыч. Я уж до дома потерплю.
— Да ты не стесняйся, Марьюшка. Пряники сами в рот просятся. Не так ли? — весело молвил Васютка.
— Так, — улыбнулась Марийка. Она и в самом деле была голодна и с удовольствием скушала лакомый пряник.
Васютка тотчас протянул ей другой, но девушка отказалась:
— Оставь малым ребятам, Васюта Лазутыч. Я уже сыта.
— Говорю, не стесняйся. И не зови меня Лазутычем, а просто Васюткой.
— Так тебя твои люди величают. Видать, ты человек важный. Да и по одежде видать.
— Да никакой я не важный. Торгую помаленьку. Ныне деревяшки для бояр в Переяславль привозил. Не привык я, когда меня по отчеству величают. Кличь меня Васюткой. Хорошо, Марьюшка?
— Не знаю, — вновь потупила очи девушка. — К любому имени привыкнуть надо. Но чует душа — человек ты добрый.
— Может и так, со стороны видней. Отец говорит, что я в маменьку уродился.
— Она ж у тебя ласковая?
— Даже чересчур. Может, когда-нибудь свидишься, сама убедишься… Ну, так расскажешь мне, как ты в лесу очутилась? Расскажешь, Марьюшка?
Марийка в третий раз посмотрела в лицо Васютки, и на сердце её так посветлело, так сделалось тепло, что ей (бывает же так!) очень захотелось поведать всю свою историю. Свою исповедь она завершила перед самым Переяславлем.
Васютка слушал, как завороженный. Какой же диковинный рассказ он изведал. Сколько же испытаний выпало на долю этой сиротинке! И его охватила острая жалость. Ему неудержимо захотелось утешить эту девушку и даже обнять ее, но он, не испытавший ничего подобного и не державший ни одну девушку даже за руку, стушевался. А Марийка почувствовала его порыв и волнение, и сама еще больше смутилась.
Перед проездными воротами Васютка остановил подводу и, всё еще не придя в себя, робко произнес:
— Я еще непременно наведаюсь в твой город, Марьюшка. Может, скажешь, где сыскать тебя? Конечно, если дозволишь.
— Дозволю Ва… Васютка. А сыскать меня просто. Каждый ведает, где стоит изба покойной Палашки… Счастливого пути!
Марийка спрыгнула с подводы и скрылась за воротами.
Глава 4 ТОРГ
Не миновало и двух недель, как Васютка вновь засобирался в Переяславль.
— А ведь, кажись, намеревался в Углич ехать, — молвил Василий Демьяныч. — И уже товар туда в подклете[60] дожидается.
— Передумал, дед. В Переяславле вновь лемех понадобился, — молвил Васютка, однако щеки его почему-то порозовели.
Василий Демьяныч озадаченно поскреб серебряную бороду сухими, увядшими пальцами.
— Был я намедни у мастеров. Лемех еще не готов. Работа тонкая. Это тебе не топорище выстругать. Лемеха и на подводу не наберется.
— А сколь есть, дед.
— Так тебя и дожидаются. Не один ты за сим товаром охотишься. Купцы не дремлют.
— И я окуней носом не ловлю. Толковал я с мастерами. Обещали мне изделье передать.
— Это почему ж тебе такая честь, Васюта Лазутыч? — прищурив глаза, с нескрываемой ехидцей вопросил Василий Демьяныч.
— А я, дед, не торгуюсь, как другие купцы. Сколь мастера запросят, столь и выкладываю.
— Да ну! Эдак-то недолго и без порток остаться.
— Не останусь, дед. С лемехом в накладе не будешь. Здесь вроде бы убыток терпишь, зато в других городах двойную цену дают, не скупятся.
— А с другими товарами как? Тоже серебряники швыряешь? — всё с той же иронией продолжал Василий Демьяныч.
— Ну, уж нет, дед. Не такой уж я простофиля, чтобы деньгами швыряться. Твою науку мне никогда не забыть. И долго приглядываться, и долго прицениваться. Мне худой товар не всучишь, и к ценам я уже приноровился. Да ты и сам все мои дела дотошно ведаешь, нечего на меня телегу катить.
Василий Демьяныч похлопал Васютку по широкому плечу.
— Да ты не серчай, внучек. Стариковская привычка — лишний раз перепроверить. Ведаю: ты меня не подведешь. Есть в тебе купеческая жилка… Да токмо неужели с одной подводой в Переяславль потрясешься? Подкупи иного товару и поезжай с Богом.
— Ныне недосуг мне, дед, время упускать. Обещал одному боярину лемех довезти. Ему на кровлю не хватило. Купеческое слово давал.
Был Василий Демьяныч хоть и в больших летах, но глаза оставались зоркими.
— А чего ты, внучек, покраснел, как рак? Ведаю: врать ты не горазд, норов-то у тебя материнский. Да и отец никогда привирать не любит.
— Да это я, дед, на солнышке подрумянился. Глянь, как в щеки бьет.
— Ну-ну, — чему-то усмехнулся Василий Демьяныч.
Не было случая, чтобы в дальнюю дорогу не проводила Васютку мать, Олеся Васильевна. Всегда обнимет, благословит иконой, проронит слезу, как будто в ратный поход провожает. Ныне на душе ее особенно тяжко: любый муж уехал с сыновьями в злую вражескую землю, к ливонским крестоносцам. Как там они, всё ли, слава Богу?.. А ныне вот и последний сын покидает отчий дом. Неспокойную жизнь себе выбрал Васютка.
— Ты уж береги себя, сынок. Особливо, когда лесами едешь. Дворовые пусть ни копья, ни луки не забывают, а сам бы меч к поясу пристегивал. Неровен час.
— Пристегну, мать, — чтобы успокоить Олесю Васильевну пообещал Васютка. Владению мечом его когда-то научил отец в лесной деревне, а затем пришлось и в сече поучаствовать, когда изгоняли из Ростова Великого татарский отряд баскака Туфана…
Всю дорогу Васютка думал о Марьюшке. Запала в душу — не выкинешь. Славная, чистая девушка. Ни на боярское богатство не позарилась, ни с деревенским старостой жить не захотела. Убежала от насильника и, преодолев страх, пошла через жуткое болото. Пошла, думая о воле, родном городе и материнском доме. Про отца она почему-то и словом не обмолвилась, очевидно, он давно умер, оставив дочь с гулящей матерью. Даже это Марьюшка не скрыла. Не каждая такое о родной матери поведает. Будто самого близкого человека встретила. Доверчивое сердце у Марьюшки… А какого ужаса она натерпелась, когда ее болото заглотало. Трудно даже представить ее состояние. Девушка, ничего доброго не видавшая в жизни, и просуществовав на белом свете всего шестнадцать лет, должна была погибнуть. И всё-таки ее спас этот злодей Качура. Но и после этого Марийка не пожелала остаться со своим избавителем.
Да и в городе ей жилось не сладко. Она уже была сиротой при живой матери, коя месяцами пропадала из дома. Марийка была предоставлена самой себе. Она скиталась по улицам, зачастую питалась впроголодь, хотя, по ее рассказу, никогда не унывала, не впадала в отчаяние, и не черствела душой. Напротив, всегда оставалась незлобивой, общительной и жизнерадостной.
«Удивительная девушка! Как хочется вновь ее увидеть».
И что это с ним? Никогда еще ни одна из девушек его не волновала. А тут повстречался какой-то час, и всё в душе его перевернулось.
«Марьюшка, милая Марьюшка», — проносилось в его голове.
Лемех ему и вовсе никто не заказывал: боярин Ратмир Вешняк закупил осиновое покрытие с избытком. Но Васютка не огорчался: на ходовой товар найдется другой покупатель.
Харитонка и Митяйка же недоумевали: купец впервой пустился в чужой город с одной подводой, да и та, почитай, на две трети заполнена. В прошлый раз он догнал-таки своих дворовых, но всю дорогу до Ростова Великого ехал какой-то непонятный: был молчалив, рассеян и как-то странно улыбался.
Харитонка и Митяйка, поглядывая на неестественного хозяина, хмыкали. Чего это с Васютой Лазутычем? Уж не девка ли его сглазила? Вот и сейчас ведет себя необычно. Погоняет кнутом коня и улыбается. Чудно!
Вскоре показались чешуйчатые купола храмов деревянного Никитского монастыря[61], а еще через некоторое время, с невысокого северного угора завиднелся сам Переяславль, свободно раскинувшийся в обширной долине у места впадения тиховодной реки Трубеж в Плещеево озеро. С юга же и запада в долину спадали крутые откосы высоких холмов.
Васюта остановил коня. В который раз он навещает Переяславль, и не может налюбоваться красивейшим городом. Доброе место выбрал Юрий Долгорукий! Вот и Москву он заложил на живописных семи холмах.
Спустились с зеленого, поросшего соснами угора, и направились к высокому земляному валу, окруженному глубоким рвом, в дно которого были вбиты ряды заостренных кольев. (Они сами по себе уже представляли надежную оборонную преграду). По верху вала тянулась высокая бревенчатая крепость, с двенадцатью бревенчатыми башнями. Три из них (Спасская, Рождественская и Никольская) были проездными и надвратными, с переброшенными через ров мостами. В мирное время мосты не убирались, и каждый мог войти или въехать в город).
Оставив позади себя Спасские ворота, Васютка направил коня к Тайницкой улочке, где проживал купец Силантий Матвеич Ширка. Улочку назвали в честь башни. На земляном валу, в северной его части сохранялся неширокий разрыв. Здесь, внутри вала, был водяной тайник для выхода к реке Трубеж, поэтому башня, стоявшая над ним, называлась Тайницкой.
Изба Силантия Матвеича была довольно крепкой, нарядной и просторной; стояла на высоком, дубовом подклете, имела горницу, повалушу[62] и светелку, украшенные (как и красное крыльцо) причудливой деревянной резьбой.
Жил Силантий с женой Федотьей, — высокой, слегка полноватой старухой, с округлым курносым лицом и улыбчивыми карими глазами. Двое сыновей давно выросли, женились и жили теперь своими домами, промышляя каждый своим ремеслом.
— Сыны у меня толковые, — похвалялся Силантий Матвеич. — Один — в оружейные мастера выбился, а другой — в хамовники[63]. Внуками меня одарили. Слышь, в повалуше носятся, разбойники.
Федотья была на голову выше своего благоверного, но это Силантия не смущало. Напротив, он супругой гордился:
— Она в девицах-то чуть ли не первой красавицей была. От женихов отбоя не было. А вышла за меня, махонького. Даже не пикнула.
— Пикнешь у тебя, — улыбнулась Федотья. — Твой родитель немалую мошну имел, уговорил тятеньку. Куда уж мне было деваться.
— Ну и не прогадала. Другой мужик с оглоблю вымахал, а проку на вершок. В любом деле, хе-хе, даже в любовных утехах. Я ж — хоть куды с добром!
— Постыдился бы, греховодник, — незлобиво проворчала супруга.
— Стыд не дым — глаза не ест.
— Да уж про тебя и речи нет. Бесстыжих глаз и дым неймет.
Так с шутками и прибаутками и жили Силантий с Федотьей…
На сей раз купец, увидев Васютку, малость подивился:
— Чего-то ты, Васюта Лазутыч, зачастил в наш город. Допрежь раз в полгода наезжал.
— Купеческие дела неисповедимы. Где прибыток идет, туда и возвращаемся… Аль надоел я тебе, Силантий Матвеич, в твоих хоромах?
— Побойся Бога, Васюта Лазутыч. Я тебе завсегда рад. Да хоть кажду седмицу[64] приезжай! Не так ли, Федотья?
— Так, государь мой. Ты нам, Васюта, как за родного сына стал. Шибко нравен ты нам, — радушно молвила хозяйка.
— Слышь? — воздел над шишковатой головой короткий мясистый перст Силантий Матвеич. — Моя старуха зря не скажет. Нравен!
У Васютки и без того еще больше посветлело на душе. Не зря его направлял к Ширке дед Василий Демьяныч. Добрый, приветливый купец, а супруга его и вовсе сердечная женщина.
— Спасибо вам, — тепло изронил Васютка и поклонился хозяевам в пояс.
Свою серебристую осиновую чешую он распродал на торгу в тот же день и приказал дворовым отвезти пустую подводу во двор Ширки.
— А я на торгу потолкаюсь, к товаришку приценюсь. В Ростов с пустом не поедем.
Однако в голове Васютки было совсем другое — побыстрее узнать, где проживает Марьюшка. Надо было у Силантия Матвеича изведать, да постеснялся. Да и на торгу спрашивать, где стоит изба покойной Палашки, было неловко. В Переяславле Палашку все должны ведать как непотребную женку.[65] Пристало ли заезжему купцу о ней выспрашивать?
Внимание Васютки привлек иноземный говор. Он приблизился к «Немецкой» лавке, специально построенной для иностранных купцов и тотчас, по лицам торговых людей, определил — купцы западные, и товар богатый: дорогие ткани, оружие, серебряные монеты, украшения из стекла и цветного металла. Подле лавки толпилось больше зевак, чем покупателей. Однако наиболее именитые переяславские купцы некоторые изделия закупали.
Васютка не в первый раз видит иноземных торговых людей, и всегда они были в своих одеждах. Эти же (на удивление) были облачены в русские шапки, сапоги и кафтаны. Один из них (а это был Бефарт) неплохо объяснялся на русском языке.
— Чего это вы нашу одёжу на себя напялили? — спросил один из купцов.
— Наше платье отвлекает внимание. На нас смотрят, как на заморских павлинов, и забывают про товар. Ваше же платье теплое и удобное. Мы непременно закупим его для своих купцов, — ответил Бефарт.
Васютка приценился к украшениям из стекла и цветных металлов. Красивы, затейливы, многим ростовским боярам будут в диковинку. Долго, любуясь, рассматривал и ощупывал руками, а затем принялся торговаться.
Бефарт упорно стоял на своей цене, Васютка — на своей. Никто не хотел уступать. Наконец Бефарт, почему-то оглянувшись на высокого, широкогрудого немца с сухощавым лицом и русой бородкой, произнес:
— Цену сбить — продешевить. Такие изделия украсят любой дом. Но если русский купец пожелает закупить много этих удивительных украшений, то я могу и уступить.
— Много! — твердо высказал Васютка. — Завтра я приеду на подводе и заберу у тебя добрую половину твоих изделий. Но ты уступишь мне треть цены.
Бефарт отрицательно замотал головой.
— Это невозможно, русский купец. Это грабеж!
— Ничуть! Я знаю настоящую цену.
Бефарт вновь оглянулся на высокого немца с сухощавым лицом. Тот кивнул.
— Ну, хорошо, — сдался Бефарт. — Я, в виде исключения и русского гостеприимства, продам украшения за твою цену. Но я хорошо запомню твое лицо, и когда ты окажешься на моей родине, ты уступишь мне за свой товар такую же цену. Согласен, купец?
— Согласен. Но у нас в таких случаях ударяют по рукам. Как тебя называть?
— Бефарт.
— А меня Васюткой. Так по рукам, Бефарт!
— По рукам!
Сделка состоялась.
Довольный Васютка пошел затем в торговый ряд, где продавались различные женские украшения.
«Надо что-то купить Марьюшке, — подумал он. — Но что? Глаза разбегаются».
На дощатых рундуках чего только не было!
Переяславль славился своей торговой площадью, не зря ее прозвали Красной, что раскинулась неподалеку от белокаменного Спасо-Преображенского собора. А еще народ называл ее Вечевой площадью. До сих пор висит на двух дубовых столбах вечевой колокол. Переяславцы никогда не забудут его призывный, яростный звон, призвавший горожан, вместе с Ростовом Великим, Суздалем, Ярославлем и Владимиром, подняться пять лет назад против ордынских насильников.
Сегодня на Красной площади особенно людно: пятница — базарный день. Плывет над рядами стоголосый шум большого торга. Десятки деревянных и каменных лавок, палаток, шалашей, печур…
Торговали по издревле заведенному порядку. Упаси Бог сунуться с каким-нибудь изделием в чужой ряд. Такого продавца взашей вытолкают. Каждый товар — в своем ряду. Сукно — в Суконном; собольи, бобровые, овчинные, ондатровые, лисьи и заячьи меха — в Пушном; кожа, сафьян, замша — в Сафьянном; кафтаны, шубы, епанчи[66], зипуны, армяки, азямы[67], однорядки[68], опашни[69], охабни[70], ферязи[71], шапки, колпаки, кушаки — в Шубном; сапоги, голенища, лапти, подошвы — в Сапожном; неводы, сети, бредни, мережи, сачки, векши, крючки — в Рыбном.
Ратный человек шел в Оружейный ряд, охотник — в Колчанный, где торговали луками, стрелами, колчанами, тетивами, силками, железными («хитроумными») капканами.
Чинность и тишина в Иконном, Серебряном, Жемчужном и Монистом[72] рядах.
Отовсюду слышались призывные, бойкие выкрики торговцев, расхваливающих свой товар, и сыпавших озорными шутками и прибаутками. Покупателей хватали за полы кафтанов и чуть ли не силой втаскивали в свои лавки.
Продают многие: купцы, ремесленный люд, монахи и сельские мужики.
Красную площадь наводнили пирожники, молочники, яблочники, ягодники, грибники, огуречники, квасники. Все с лукошками, лотками, кадками, лубяными пестерями, рогожными кулями. Пробегают веселые коробейники с коробами на головах. Шныряют в густой толпе воришки, гулящие женки, сводни и нищие. Жмутся к рундукам и лавкам нищие, калики перехожие, бахари-сказители и гусельники.
Васютке захотелось пить. Остановился в Квасном ряду. Тотчас подскочил дюжий молодец в кумачовой рубахе. Через шею перекинут сыромятный ремень с двумя медными ендовами. В руке — железная кружка. Молвил скороговоркой:
— Квас ягодный и хлебный, для живота приятен, не вредный.
Васютка полез было в карман за монеткой, но тут его дернул за рукав тучный монах в черном подряснике:
— Испей, сыне, моего медвяного. Зело душу веселит.
Медовый квас в народе любили. Монахи делали его на своих пчельниках. Процеживали сыту, добавляли калача вместо дрожжей, отстаивали некоторое время и сливали сыту в бочку. Получался вкусный медовый квас. В народе его называли «монастырским».
Васютка протянул монетку монаху. Детина с ендовой обидчиво фыркнул и отошел в сторону. А рядом уже стоял другой походячий торговец в синей чуге[73], с вяленой ряпушкой на лотке. Весело проговорил:
— Пей квасок — ряпушкой закусывай. На печи вялена, на солнце сушена. Кто ест — беды не знает, сама во рту тает.
Пришлось Васютке достать еще одну денежку: обычай. Хорош квасок с воблой!
Неподалеку от Монистого ряда мимо проскочил чернобородый цирюльник[74] с приземистым табуретом и парой ножниц за кожаным поясом. Вот он дернул за полу сермяжного азяма длинноволосого, лохматого мужика в лыковых лаптях.
— Погодь, родимый!
Угодливо подставил тубарет, насильно посадил на него мужика и чиркнул ножницами.
Мужик слабо сопротивлялся:
— Не к чему бы…
— Мигом красавцем сделаю. Бородку подрежу, волосья на голове подравняю, — суетился вокруг мужика цирюльник, а сам воровато поглядывал по сторонам: бродячих цирюльников гоняли с площади объезжие люди, назначенные посадом.
Цирюльник расчесал мужику длинную бороду надвое и отхватил ножницами одну половину на два вершка, а вторую укоротить не успел. Он не зря опасался. Перед ним выросла грозная фигура десятского из Съезжего двора.
— Опя-ять!
Цирюльник спихнул мужика наземь, схватил табурет и юрко шмыгнул в толпу. Только его и видели.
Мужик поднялся с земли и растерянно схватился за обезображенную бороду.
— Энта что жа, православныя! А как же я топеря в деревеньке покажусь?
Толпа грянула от дружного смеха.
— Переяславль, милай! Город! — хохоча, ответил рыжеусый мастеровой в кожаном фартуке. И закричал весело, звонко. — Гвозди, подковы — лошадям обновы!
В Монистом ряду Васютка закупил серебряные сережки, а затем, явно смущаясь, обратился с просьбой к одной из девушек:
— Не откажи в любезности, красна девица. Не примеришь ли сей венец да кокошник с подвесками.
— Аль на твою невесту похожа? — улыбнулась краешками губ девушка.
— Похожа.
— Такому красавцу грех отказать, — залюбовавшись парнем, согласилась девушка, и поочередно примерила на своей голове с пушистой косой, обвитой голубыми лентами, венец и кокошник.
— Ну, чисто лебедушка! Как на тебя деланы, — расплываясь в широкой улыбке, проговорил купец с бойкими, рысьими глазами.
Приобрел Васютка и красивый, цветастый убрус[75], в кой завернул свои покупки. Теперь осталось расспросить про Палашкину избу. Ноги невольно понесли его к питейной избе, где (и в те времена) можно было встретить гулящую женку.
Васютке повезло. На крыльце сидела растрепанная баба лет сорока, с помятым лицом и осовелыми глазами.
— Местная?
— Всю жизть тут обитаюсь, — подняла мутные глаза на Васюту женка. — А че те от меня надо?.. Ух, пригожий. Пойдем в сарай за избу.
— В другой раз, женка. Не скажешь ли мне, где стоит изба покойной Палашки?
— Палашки Гулены?.. Пошто те покойница, коль перед тобой живая баба сидит, — пьяно раскачиваясь всем оплывшим, нескладным телом, произнесла женка — и опять за своё. — Пригож, ох, пригож. Айда в сарай, я тя приласкаю. У-ух, любить буду!
Васютка покраснел.
— В другой раз, сказываю, женка. Я тебе денег дам, а ты мне о Палашкиной избе скажи.
— Тогда завсегда.
Женка стиснула в кулаке серебряную монетку и словоохотливо пояснила:
— Ступай в посад. Спросишь там Никольскую слободу. Там и стоит Палашкина изба. О-ох, пригожий!.
Глава 5 НУЖНЫ НОВИНЫ НА РУСИ
Дмитрий с нетерпением поджидал возвращения послов из далекой Литвы. Княгиня Мария на свой страх и риск (пользуясь случаем, что великий князь Ярослав отъехал к хану Менгу-Тимуру) договорилась со всеми удельными князьями Ростово-Суздальской земли, чтобы они также послали своих послов к королю Воишелку. И каждый поехал с грамотой князя, в коих говорилось, что в связи с угрозой Ливонского Ордена, Русь намерена заключить военный союз с Литвой, дабы противостоять вторжению крестоносцев.
Посольство возглавил видный политик Неждан Иванович Корзун. Его имя поддержал каждый удельный князь, ведая об остром, незаурядном и государственном уме ростовского боярина.
«С чем же он приедет? Король Воишелк очень коварный человек, с ним, на сей раз, будет трудно договориться. Посольство не имеет полномочий от великого князя. Корзуну придется приложить немало усилий, чтобы склонить Воишелка на свою сторону. Господи, помоги же ему! Надо сходить в собор и усердно помолиться».
Князь Дмитрий уважал своего владыку за его мудрые, образные проповеди. Некоторые его изречения настолько были выразительны, что они запомнятся на всю жизнь: «Как дождь растит семя, так и церковь влечет душу на добрые дела». «Совершенство состоит не в том, чтобы быть славимому ото всех, но в том, чтоб исправить житие свое и сохранить себя в чистоте». Чудесно сказано!
На проповеди епископа собиралось бесчисленное множество прихожан. И насколько важны были его слова относительно нравов и обычаев русского человека:
«Не погански ли мы поступаем? Если кто встретит монаха или монахиню, свинью или коня лысого, то возвращается. Суеверию по дьявольскому наущению предаются! Другие чиханью веруют, будто бывает на здравие главе. Дьявол прельщает и отвлекает его от Бога волхованием, чародейством, блудом, запойством, клеветою, скоморохами, гуслями, сопелями, всякими играми и делами неподобными. Видим и другие злые дела: все падки к пьянству, блуду и злым играм. А когда стоим в церкви, то как смеем смеяться или шептаться?.. На праздники больших пиров не должно затевать, пьянства надобно бегать. Горе пребывающим в пьянстве! Пьянством ангела-хранителя отклоняем от себя, злого беса привлекаем к себе: дух святый от пьянства далек, ад близок… Веруйте воскресению, жизни вечной, муке грешникам вечной. Не ленитесь в церковь ходить, к заутрене и к обедне и к вечерне; и в своей клети прежде Богу поклонись, а потом уже спать ложись. В церкви стойте со страхом Божиим, не разговаривайте, не думайте ни о чем другом, но молите Бога всею мыслию, да отдаст он вам грехи. Любовь имейте со всяким человеком и больше с братьею, и не будь у вам одно на сердце, а другое на устах; не рой брату яму, чтоб тебя Бог не ввергнул в худшую. Терпите обиды, не платите злом за зло; друг друга хвалите, и Бог вас похвалит. Не ссорь других, чтобы тебя не называли сыном дьявола, помири да будешь сын Богу. Не осуждай брата и мысленно, поминай свои грехи, да и тебя Бог не осудит. Помните и милуйте странных, убогих, заключенных в темницы и к своим рабам будьте милостивы. Игрищ бесовских вам, братия, нелепо творить, также говорить срамные слова, сердиться ежедневно; не призирай других, не смейся никому, а напасти терпи, имея упование на Бога. Не будьте буйны, горды, помните, что, может быть, завтра будете в смраде, гное, червях. Будьте смиренны и кротки: у гордого в сердце дьявол сидит, и Божие слово не прильнет к нему. Почитайте старого человека и родителей своих, не клянитесь Божиим именем и другого не заклинайте и не проклинайте. Судите по правде, взяток не берите, денег в рост[76] не давайте. Не убий, не укради, не лги, лживым свидетелем не будь, не враждуй, не завидуй, не клевещи; блуда не твори не с рабою, ни с кем другим, не пей не вовремя, и всегда пейте с умеренностью, а не до пьянства; не будь гневлив, дерзок, с радующимися радуйся, с печальными будь печален, не ешьте нечистого, святые дни чтите. Бог же мира со всеми вами, аминь!»
Многое было по душе в словах владыки, но кое с чем князь смириться не мог. «Терпите обиды, не платите злом за зло». Вот здесь как быть? Разве можно терпеть обиды, когда враг топчет твою землю, жжет города и веси, убивает беззащитных стариков и детей. Такое снести невозможно, только злом можно ответить на зло. Конечно, владыка может ответить, что его миротворческие слова не относятся к недругам Отечества, а касаются они лишь членов христовой паствы. Но и в таком случае трудно с собой совладать, когда твой родной дядя, православный человек Ярослав Ярославич, творит такие злодеяния, что пройти мимо их невозможно. Смириться — погубить не только своё доброе имя, но и принести немыслимые страдания всей Руси…
Прости, Господи, но твои святые отцы говорят иногда такие слова, кои далеки от истины. В своих проповедях они призывают к добру, милосердию и всеобщей братской любви. Всё это так. Но пока мир очень жесток, и все благие намерения отцов превращаются в утопию. Да и сама православная церковь нуждается в совершенстве. Справедливо ли, когда над русскими христианами стоят иноземные патриархи и митрополиты?
Князя Дмитрия брала досада, что русская церковь полностью зависела от константинопольского патриарха, кой поставлял для него митрополитов, произносил окончательный приговор в делах церковных, и на суд его не было обжалований. Греческий митрополит чувствовал себя всесильным, и во все пятнадцать русских епархий[77] назначал греческих епископов. И как могли такое допустить великие князья?! Иноземный святитель никогда не будет истинным патриотом земли Русской. Взять того же переяславского владыку. Да, он умен, глубоко образован, его проповеди собирают много прихожан, и всё же натура его чуждая, она не русская, а значит, не может понять всю глубину души русского человека. И сие худо: от духовного пастыря очень многое зависит, особенно в лихую годину.
А ведь были времена (при Ярославе Мудром), когда православное духовенство не зависело от Константинополя[78]. Русский митрополит Кирилл избирался в Киеве русскими епископами, он же рукополагал их на епархии.
Период поставления русских митрополитов повторился в 1147 году, когда великий киевский князь Изяслав Мстиславич поставил митрополитом Климента Смолятича, родом из Смоленска, книжника и философа, «какого, — по выражению летописца, — не бывало в Русской земле»[79]. Но решению великого князя воспротивились, собравшиеся в Киеве, епископы. Они потребовали, чтобы Климент Смолятич взял благословение у константинопольского патриарха. «Нет того в законе, — заявили они, — дабы ставить епископа митрополитом без патриарха, а ставит патриарх митрополита. Не будем мы тебе, Климент, кланяться, не станем служить с тобою, потому что ты не взял благословения у святой Софии и от патриарха. Если же исправишься, благословишься от патриарха, тогда и мы тебе поклонимся».
И всё же князю Изяславу Мстиславичу удалось с помощью черниговского епископа Онуфрия уговорить архипастырей… Один только новгородский Нифонт упорствовал до конца, за что терпел гонения от великого князя.
После кончины Изяслава старшинство получил Юрий Долгорукий. Вот он-то и согласился вновь отдать русскую церковь константинопольскому патриарху, не подумав о том, какую непростительную ошибку делает. Климент Смолятич был неотложно свергнут, и на его место был прислан из Царьграда митрополит Константин Первый.
Грубейшую оплошность Юрия Долгорукого попытался исправить Андрей Боголюбский. Он направил грамоту в Киев великому князю Мстиславу Изяславичу, в коей писал, что надобно свергнуть греческого митрополита, выбрать русским епископам нового и потом рассмотреть дело бескорыстно на соборе, представляя, что зависимость от патриарха константинопольского тяжела и пагубна для святой Руси.
Но великий князь Мстислав, ведая о неприязненном отношении к нему некоторых князей и боясь, с другой стороны, раздражения епископов, оставил дело без последствий. Русское духовенство так и осталось под каблуком чужеземного патриарха, что не делает чести ни великим, ни удельным князьям. Русской пастве — русский патриарх! Другого не должно быть… Но неужели и эту тяжелейшую ношу придется взвалить ему, Дмитрию, на свои плечи?!
Но ныне не до этого. Впереди — грандиозная задумка. Лишь бы князья не подвели, лишь бы не кинулись в междоусобицы. А им несть числа! Летописцы подсчитали, что только за последние два века усобицы происходили почти через год. Враждебное войско брало в плен самих жителей — в этом состояла главная добыча, — било стариков, жгло жилища. (По тогдашним понятиям воевать — значило опустошать, жечь, грабить, брать в плен). А ведь князья нередко заявляли, что они идут наказать не народ, а своего супротивника-князя, чем-то ему насолившему. Чудовищная ложь! В летописях отображены сотни случаев, когда князья брали себе в помощь половецкое войско. Властители воевали друг с другом, а жестокие степняки воевали против народа, потому что другого образа ведения войны не понимали.
Олег Святославич много лет добивался Черниговского княжества, но, добившись его, позволил половцам опустошить всю Черниговскую землю. В 1160 году половцы, приведенные Изяславом Давыдовичем на Смоленскую волость вывели оттуда десять тысяч пленных.
Поход Изяслава Мстиславича на Ростовское княжество в 1149 году стоил последнему свыше семи тысяч жителей.
Кроме постоянных княжеских усобиц, половцы и сами по себе нередко опустошали русские земли. Летописи указывают на десятки половецких нападений только за одно минувшее столетие. Кочевники дерзко вторгались на русские земли не потому, что были сильны, а потому что князья, враждовавшие между собой, позволяли половцам разорять неугодные им уделы.
Только единение князей способно превратить Русь в сильную державу. И, слава Богу, что за последние годы междоусобные войны прекратились, да и половцы, убедившись, что Русь сплачивается, перестали набегать на русские земли. Ныне, почитай, все Ростово-Суздальские князья (исключение — Ярослав), готовы не только отразить любое неприятельское войско, но и сами пойти на врага. И это в условиях ордынского ига! Ныне самый опасный враг — Ливонский Орден. Лишь бы удалось боярину Корзуну уговорить коварного Воишелка, и тогда можно смело двигаться на крестоносцев. Народ готов пойти в ополчение.
Недавно князь Дмитрий встречался с игуменом Никитского монастыря, кой посулил, в случае необходимости, послать в ополчение своих монастырских трудников[80]. У Дмитрия было особенное расположение и уважение к монашеству, и уважение это приобрели многие русские иноки своими подвигами. Он видел, как в том же Никитском монастыре, где православие проповедовалось не только словами, но и делом, иноки давали разгул своим грубым страстям: один ест через день одну просвиру, носит власяницу[81], никогда не ляжет спать, но вздремнет иногда сидя, не выходит на свет из темницы. Другой не ест по целым неделям, надел вериги[82] и закопался по плечи в землю, дабы убить в себе похоть плотскую. Третий поставил у себя в пещере жернова, брал из закромов зерновой хлеб и ночью молол его, чтобы заглушить в себе корыстолюбивые помыслы, и достиг, наконец, того, что стал считать золото и серебро совсем ненужными для человека.
«Эти люди, — раздумывал князь Дмитрий, — чисты, истово преданы Христу и сильны духом. Случись нападение врага на их обитель, они будут биться так, как не бьется самый лихой дружинник. Вот с кого надо брать пример. Не случайно многие разумные князья превращают обители в неприступные крепости. И они еще скажут свое слово!
Князь Дмитрий был очень благодарен игумену Никитского монастыря. Это он направил шестилетнему княжичу, по просьбе Александра Невского, первоклассного ученого монаха Власия, кой научил юноту не только грамоте, но и свободно говорить на пяти иноземных языках, в том числе на греческом и латинском. В свои малые годы Дмитрий хотел походить на дядю отца, ростовского князя Константина Всеволодовича, кой всех умудрил духовными и светскими беседами, поелику[83] часто и прилежно читал книги, держал при себе людей ученых, закупил множество старинных греческих и латинских книг, и велел переводить их на русский язык. Константин Всеволодович понуждал духовенство всемерно учить мирян и определял монахов учителями в духовные училища. Он был самым образованным князем своего времени.
Ученый монах Никитской обители не раз говаривал священникам:
— Если властители мира сего и люди, занятые заботами житейскими, обнаруживают сильную охоту к чтению, то тем больше нужно учиться нам и всем сердцем искать сведения в слове Божием, писанном о спасении наших душ.
И надо признаться, думал Дмитрий, что ученые иноки много сделали для борьбы с невежеством русских князей. Польза от знания языков великая, особенно тогда, когда Русь окружена недружественными странами.
— Чтобы хорошо познать врага, надо отменно знать его язык, — не раз высказывал князь Дмитрий.
Когда он ходил с дружинами в Ливонию и воевал Дерпт, то не раз беседовал на языке крестоносцев с местными жителями и пленными немцами, через которых изведал не только быт и нравы враждебной страны, сам дух народа, но и некоторые тайны крепости, что позволило ему одолеть неприступную твердыню.
Жаль, что многие князья ленятся постигать чужеземные языки. Научаться читать и писать на родном языке — и на том учебе конец. И как учителя не усердствуют, княжичи руками и ногами отбиваются: довольно с нас и своего языка, а чтобы с татарами али с греками говорить — на то толмачи водятся.
«Эх, был бы я великим князем, то насильно, каждого удельного властителя заставил бы выучить хотя бы один иноземный язык. От того польза великая. Они даже в свои книги не заглядывают. А сколь можно взять из них поучительного! Хотя бы о той же латинской вере, кою норовят обрушить на Русь крестоносцы, дабы уничтожить православие.
Князь Дмитрий поднялся из кресла и подошел к поставцам, заполненным рукописными книгами. Взял одну из них в руки и отыскал нужную страницу. То была книга святого Феодосия Печерского. На вопрос великого князя Изяслава о вере латинской или варяжской Феодосий отвечал: «вера их зла, и закон их не чист: они икон не целуют, в пост мясо едят, на опресках[84] служат; христианам не следует отдавать за них дочерей и брать их дочерей за себя замуж, не должно не брататься с ними, ни кумиться, ни есть, ни пить из одного сосуда. Но если они попросят у вас есть, то дайте им пищу в их сосудах, если же у них сосудов не будет, то дайте в своих, только потом вымойте эти сосуды и молитву над ними прочтите. Латины Евангелие и Апостол имеют, иконы святые и в церковь ходят, но вера их и закон не чисты, множество ересей они своих всю землю обесчестили, поелику по всей земле живут варяги. Нет жизни вечной живущим в вере латинской, армянской, сарацинской. Не следует их веры хвалить, свою веру беспрестанно хвали и подвизайся в ней добрыми делами. Будь милостив не только к своим домочадцам, но и к чужим: еретика и латынина помилуй и от беды избавь, и мзды от Бога не лишишься. Если встретишь иноверников, спорящих с верными, то помогай правоверным на зловерных. А если кто скажет: и ту и эту веру Бог дал, то отвечай: по-твоему, Бог двоеверный? Разве ты не слыхал, что написано: един Бог, едина вера и едино крещение».
Какую умную книгу написал святой Феодосий Печерский! Как была бы она полезна некоторым князьям, кои должны ведать не только о существовании крестоносцев, но и об их латинской вере. А ведь кое-кто из властителей не различает большой разницы. Вот и в этом деле нужны новины. Надо непременно встретиться с митрополитом. Пусть он соберет не ахти образованных князей и прочитает им проповедь о латинской вере. А знать ее крайне надобно, дабы не пить вина из одного сосуда. Казалось бы, мелочь, но от малого большое зарождается. От православной же веры нельзя отступаться и на вершок. Сила Руси не только в единстве князей, но и в крепкой, ни кем не расшатанной религии. Вот почему для этого и нужен русский митрополит. Но мало кто из князей об этом задумывается. Все они из Рюрикова рода и тем горды, ведая, что звание князей всем им принадлежит по праву происхождения, и не отнимается ни у кого ни в каком случае. Звание князя, приобретаемое только рождением от Рюриковой крови, неотъемлемое, не зависящее ни от каких других условий, равняет между собою всех Рюриковичей, они, прежде всего братья. По княжескому уговору князь даже за самое тяжкое преступление не мог быть лишен жизни, как боярин, а наказывался только отнятием волости. Вот и в этом вопросе слишком недоступен для праведного суда любой властитель. Ну, разве можно прощать князьям, кои, ради своих корыстных целей, наводят на Русь злейших врагов. Нельзя! Выжигаются города и веси, гибнут тысячи русичей. Да такого князя не только надо отлучить от церкви, но и казнить всенародно. Но чтобы это произошло, надо собрать на съезд всех властителей и составить специальный договор, скрепленный клятвенным крестоцелованием. Однако, трудное это дело, чтобы князья пошли на новины.
В покои вошел дворецкий и доложил:
— Прибыл гонец от хана Менгу-Тимура.
Глава 6 ВАСЮТА И МАРИЙКА
Васюта, волнуясь, шел к Никольской слободе. И чем ближе он приближался посаду, тем всё медленнее становились его шаги. Вконец оробев, он присел на завалинку старой, почерневшей от времени избенки и снял шапку с русокудрой головы.
К избенке, от замшелого колодца с журавлем, неторопко шел неказистый мужичонка в посконной рубахе и размочаленных лаптях. В руке нес бадейку с водой. Кудлатый, с редкой куцей бороденкой и с шустрыми озорными глазами. Увидев на завалинке нарядного детину, весело воскликнул:
— Аль в гости ко мне, добрый молодец?
И, не дав рта открыть незнакомцу, словоохотливо продолжал:
— Завсегда радешенек. Заходи! У меня бражка добрая, ковш опростаешь — и ноги в пляс. А коль два — так и песню загорланишь. Я ведь знаю, — не зря к моей избе притулился. Мою бражку даже бояре уважают, поелику она особливая: душу веселит, а угару не дает. Голова, как стеклышко. Заходи!
Васютка добродушно рассмеялся:
— Ну и талалай[85] же ты.
— Откуль меня ведаешь? — подивился мужичонка. — Я, почитай, всех мужиков в Переяславле знаю, а тебя впервой вижу. Откуль мою кличку пронюхал?
Васютка еще больше рассмеялся:
— Да и не ведал я твоей клички. Много калякаешь, вот и назвал так.
— В самую точку! Меня весь посад Талалаем называет. А так-то я Анисим… Но меня всё больше — Аниська. Аниська Талалай. А тебя как звать?
— Васютка.
— Никак, из приезжих?
— Угадал, Талалай. Из Ростова Великого.
— Вона… Из бывшего стольного града, выходит. Славный город. Сорок лет прожил, но ни разу не бывал…А ты, чую, не из ремесленных. И кафтан доброго сукна, и сапоги из дорогого сафьяна, да и руки не загрубелые. То ли сын боярский, то ли княжой послужилец. Не угадал?
— Не угадал, Талалай. Торговлишкой я промышляю, вот и заехал в ваш город.
— А чего ж тогда на моей завалине сидишь? Аль кто испробовать моей бражки присоветовал?
— Случайно присел. Надумал отдохнуть маленко.
— Ну, коль судьба свела, без бражки не обойтись. Уважь, торговый человек. Правда, в избенке моей черт ногу сломает. Так я тебе прямо сюда вынесу.
Аниська шустро шмыгнул в дом и вскоре вышел из него с полным ковшом браги.
— Испей, Васютка. Такой ты отродясь не пробовал.
— Благодарствую, Анисим.
Васютка принял обеими руками расписанный узорами ковш и отпил несколько глотков. Бражка ему и впрямь понравилась. Был в ней какой-то особый смак, коего он и впрямь никогда не испытывал.
— Зело вкусна, Анисим.
— А я что баял? — довольно поскреб короткими, задубелыми пальцам свою лохматую потылицу Аниська.
— Как же ты ее готовишь?
— Не серчай, Васютка, но оного я тебе ни в жизть не скажу. У каждого мастера свои ухищрения да уловки, хе-хе… Бражка тебе пришлась по душе, а ковша не издержал, и всего-то пригубил. Обижаешь меня, торговый человек.
— Прости, Анисим. Я бы с полной усладой, но дела ждут. Нешуточные дела. Нужна здравая голова.
Васютка поднялся с завалинки.
— Прощай, брат Анисим. Спасибо за угощение. Может, когда и свидимся.
— Свидимся, — утвердительно кивнул головой Аниська Талалай.
* * *
Васютка встал близ оконца, прислушался. Из избы раздавался негромкий, напевный голос:
Солнышко, милое солнышко, Обогрей меня своим лучами, Освети мою темную горенку, Порадуй душу мою светлую…«Марьюшка! — пронеслось в голове Васютки. — Песню о солнышке напевает. Значит, не печалится, о бедах своих забыла… А, может, и про его, Васютку, запамятовала? И всего какой-то час виделись. Стоит ли в избу заходить?».
И Васютка вновь заробел. Вот ведь диво дивное! С ордынцами лихо сражался, а к девушке зайти не смеет. Легче вновь за меч взяться и на целый татарский полк кинуться, чем дверь открыть.
Нет, молодой купец обманулся в своих предположениях. Напротив, девушка пела с грустинкой. Она просила солнышко порадовать ее опечаленную душу. Встретился ей добрый молодец, приглянулся, и сгинул. Поди, навек сгинул. Не будет он ее искать. Кому нужная бедная сиротка? У такого пригожего молодца наверняка давно уже есть суженая. Да на него все девушки заглядываются, и не такие как она, Марийка. Бедная, из черного посадского люда. Нет, никогда он больше не возжелает ее увидеть. И нечего о нем больше думать. Выкинуть из сердца!.. И какая же она дуреха, когда первому встречному душу свою открыла. Нараспашку отворила. И что на нее нашло? Почему именно этому незнакомому парню она так доверилась?
Марийка вздохнула и уселась за прялку. Невесело было на ее душе.
«А может, к Синему камню сходить? — вдруг подумалось девушке. — Бабка Пистимея перед своей кончиной наказывала: коль будет совсем худо, наведайся к Синему камню да помолись горячо, и худо отступит… Но к волшебному камню ходят всего один раз. Может, такая беда навалится, что ее девичьи грезы покажутся пустяшными. Вот тогда-то она и пойдет к Синему камню, а пока надо обождать».
Гришка Малыга с заступом на плече шел к избе с огорода. Увидев молодого мужчину в доброй одежде и обувке, нахмурился.
«Уж не притащился ли опять человек Мелентия Ковриги? Сергуня Шибан носа не кажет, так боярин нового послужильца подослал. Похотливый боров!».
Гришка вознегодовал. Надо этого боярского прихвостня крепко шугануть, да так, дабы вовек позабыл дорогу к Марийкиному дому.
Малыга стиснул крепкой ладонью заступ и с угрожающим видом ступил к послужильцу Мелентия Ковриги.
— От боярина притащился?
Васютка растерянно пожал плечами. Вид внезапно очутившегося перед ним мужика был настолько враждебен, что парню стало не по себе.
— От какого боярина?
— Ведаю от какого. А ну ступай прочь!
— Да ты что, мужик, белены объелся?
— Ступай, сказываю, а не то башку рассеку!
Услышав громкие возгласы Гришки Малыги, из избы вышла Марийка и с радостным удивлением уставилась на Васютку.
— Ты-ы? — протянула она и, залившись румянцем, добавила. — Пришел, значит…
Настал черед удивляться Малыге. Он опустил заступ и захлопал глазами на Марийку.
— Кто это?
— Васютка, — тихо отозвалась девушка, и еще больше смутилась.
— Да какой еще Васютка? — продолжал недоумевать Малыга.
— Прости, дядя Гриша. Я тебе о нем ничего не поведала. Это он меня до Переяславля подвез. Сам он из ростовских купцов.
Малыга пытливо поглядел на Васютку, затем на Марийку и хмыкнул. Оба почему-то стушевались, значит, не зря этот молодой купец к избе пришел. Никак, Марийка ему поглянулась. Но это еще ни о чем не говорит. На красивых девок многие глаза пялят — и простолюдины, и купцы, и бояре. Но не у каждого из них чистые помыслы. Вот и этот купчик, видимо, на Марийку позарился. А что у него на уме? Может, одна похоть, как у того же боярина Мелентия.
Гришка хоть и опустил заступ, но глаза его оставались настороженными. Он не ведал, что ему предпринять.
Видя нерешительность Малыги, Марийка, преодолевая всеобщее замешательство, молвила:
— Да ты не тревожься, дядя Гриша. Васютка — человек добрый. Давай пригласим его в избу.
— Будь, по-твоему, Марийка, впускай своего гостя, а я покуда за Авдотьей сбегаю.
— Проходи, Васютка.
— Благодарствую, Марьюшка.
Васютка вошел в избу, снял шапку, перекрестился на правый угол, в коем висела икона пресвятой Богородицы, и опустился на лавку, опустив на колени узелок с подарками.
Изба ему понравилась: опрятная, чистая, сказывалась рука хозяйки.
— Поди, проголодался. Давай я тебя покормлю, — метнулась к печи девушка.
— Спасибо, Марьюшка. Сыт я.
— Да ты не стесняйся, Васютка. Мы с тетей Авдотьей и кашу сготовили, и репу пареную, и лепешки поджаристые. С молоком — вкуснятина! Да вот и тетя Авдотья скажет.
Васютка поднялся, поздоровался с женщиной и вновь опустился на лавку. Авдотья, зорко глянув на парня, облегченно вздохнула. Кажись, и впрямь человек добрый, по глазам видно.
Авдотья слышала последние слова Марийки и, улыбнувшись, поддакнула:
— Лепешки у нас и впрямь удались. С молочком-то топленным сами в рот просятся. Откушай, мил человек.
Васютка ведал обычай: коль в гости зашел, отказываться от угощения грех.
— С удовольствием откушаю.
А тут и Гришка появился. Моргнул супруге и та, без обычного ворчания, поняла. Вскоре на столе оказалась («надежно припрятанная») скляница с вином.
— Молодец, мать! — оживился Гришка. — Человека хлеб живит, а вино крепит. Где винцо, там и праздничек. Ну, так за добрую встречу, православные!
За едой и чарочкой Малыга узнал, что купец (Васютка после выпитой чарки разговорился) случайно встретился с Талалаем.
— Вот те на! — и вовсе оживился Гришка. — Да то мой наипервейший содруг. Уж куды башковитый мужик!
— Башковитый?
— Страсть, Васютка. Уж на что я в любом деле умелец, но Аниська меня за пояс заткнет. Его сам князь Дмитрий Лексаныч ведает.
— Да за какие заслуги?
— За ратные диковины. Аниська такой искусник, что всякие стенобитные орудия может сотворить. Его наш князь с собой в Ливонскую землю брал. Талалай, когда осаждали Юрьев, какую-то стенобитную махину смастерил. Дмитрий Лексаныч его серебряным кубком и боярским кафтаном наградил. Кубок-то он сохранил, а кафтан ему — как пятое колесо к телеге. Всей Никольской слободой в питейной избе пропивал. Затейливый мужичонка.
— Затейливый, — кивнул Васютка.
После трапезы Гришка (у коего давно уже вертелся вопрос), молвил:
— А теперь, мил человек, пора и о себе кое-что поведать. Чьих будешь и кто батюшка твой? Марийка ныне нам вместо дочери, потому и справляюсь.
Васютка ответил, ничего не скрывая:
— Отец мой, Лазута Егорыч, был когда-то крестьянским сыном. В ратниках ходил. Лихо сражался. Заприметили его князь Василько Константиныч и боярин-воевода Неждан Корзун. После гибели Василька Константиныча, сын его, Борис, взял моего отца в старшие дружинники.
— Выходит, в княжьи мужы? Высоко взлетел твой батюшка, — уважительно произнес Малыга. — Уж, не в боярском ли чине ходит?
— Мой отец за чинами не гонится. И вовсе не нужно ему боярство, так он и князю сказал.
— Диковинный твой батюшка…Сам-то один в семье?
— Почему ж? Два брата в княжьей дружине служат. Дома — мать, Олеся Васильевна, и ее отец, Василий Демьяныч. Ему уже ныне за восемьдесят. Он всю жизнь в купцах был, вот и меня на сие дело прельстил. Имя же мое в честь деда нарекли.
— Однако ты важная птица, Васюта Лазутыч, — крякнул в рыжую бороду Гришка Малыга. — Почитай, не токмо купец, но и боярский сын. Отчего ж себя так неуважительно зовешь? Какой же ты Васютка? Словно ты смерд или трудяга из городской черни. Ты — Васюта Лазутыч.
— А мне так проще, дядя Гриша. И мать, и отец, и братья, и дед — всю жизнь меня Васюткой кличут. Я уж к этому привык. И вас всех прошу так меня называть. Хорошо?
Марийка кивнула в знак согласия, Гришка же, переглянувшись с Авдотьей, неопределенно молвил:
— Поживем — увидим. Пойдем-ка, мать, на огород. Пусть молодые потолкуют.
Наконец-то Васютка и Марийка остались одни. С минуту молчали, а затем Васютка, побеждая робость, произнес:
— Я все дни думал о тебе, Марьюшка.
— Правда?
— Богом клянусь. Только и чаял о тебе. Впервой это со мной. Всем сердцем к тебе тянулся… А ты хоть раз вспомнила меня?
Марийка подняла на Васютку свои счастливые глаза и тихо молвила:
— Вспоминала… еще как вспоминала. Думала, больше не увижу тебя.
— Ну и напрасно, Марьюшка.
Васютка ласково провел ладонью по тугой светло-русой косе девушки, затем ступил к лавке, на коей лежал узелок.
— Я тут тебе, Марьюшка, небольшой подарок принес.
Перед глазами девушки предстали кокошник с жемчужными подвесками, серебряный венец и серебряные сережки.
— Это всё мне? — ахнула Марийка.
— Тебе, Марьюшка, прими от чистого сердца.
Девушка, рассматривая подарки, так разволновалась, что слезы выступили у нее на глазах. Никогда еще ей не дарили подарков. А тут сразу такие богатые! Будто какой-нибудь боярышне.
— Что с тобой, Марьюшка?
— Но ведь… но ведь такие подарки только невестам дарят.
— А ты и есть моя невеста, — осмелел Васютка. — Согласна ли, Марьюшка?
У девушки учащенно забилось сердце. Она потупила очи. Васютка назвал ее невестой. Пресвятая Богородица, да не во сне ли всё это происходит?
А Васютка положил свои руки на ее плечи и вновь переспросил:
— Согласна ли, Марьюшка?
Девушка вновь глянула в глаза доброго молодца, и увидела в них столько нежности, что она не удержалась от сладостного чувства и выдохнула:
— Согласна, Васенька.
Глава 7 ХИТРОСТЬ НА ХИТРОСТЬ
Посланец хана Золотой Орды Менгу-Тимура был невысокого роста, но крепкого телосложения. После обильного угощения мурза Джанибек, развалившись в непривычном для него кресле, с довольной, покровительственной улыбкой на жирном, лоснящемся лице произнес:
— Ты, князь Дмитрий, пока недоумеваешь, зачем к тебе явился гонец великого хана. В голове твоей бродят всякие мысли. Менгу-Тимур вызовет тебя в Орду, а может, прикажет выслать твою дружину на войну с врагами ислама или же заставить собрать внеурочную дань. Не так ли, князь?
Дмитрий пожал плечами.
— Я и в самом деле в полном неведении, мурза. Но хочу заметить, ты отменно владеешь русским языком.
Джанибек тоненько рассмеялся:
— Великий хан знает, кого послать по важному делу к урусам. Я пятнадцать лет был баскаком в городе Смоленске и преднамеренно научился вашему языку, зная, как ценят наши ханы своих подчиненных, владеющих языком врага…Сейчас ты в большой тревоге, князь. Из Орды с хорошими вестями не приезжают. Но на этот раз тебе очень повезло, князь Дмитрий. Не стану тебя томить ожиданием. Сейчас ты будешь ликовать. Хан Менгу-Тимур намерен сосватать тебе в жены одну из знатных дочерей рода чингисидов.
Дмитрий окаменел. Он всего ожидал от посланника хана Золотой Орды, но такого!.. В голове — рой мыслей. Почему Менгу-Тимур решил женить его, русского князя, на мусульманке? Какая ему в этом выгода?
Джанибек расценил онемение князя его неожиданной радостью. Пусть подольше продлятся для него эти счастливые минуты.
После некоторого замешательства Дмитрий пришел в себя. Есть выгода! На Руси знают: Менгу-Тимур не только умен, но и чрезмерно хитер. Вероятно, он окончательно убедился, что великий князь Ярослав Ярославич не оправдал его надежд, и теперь подумывает о новом властителе Руси. Конечно, он ведает о славе Дмитрия Переяславского, сыне Александра Невского, после громкой победы над ливонцами в 1262 году. Ведает он и о мнении князей, ни во что ни ставивших Ярослава. Он, Дмитрий, по расчетам хана — один из претендентов на великокняжеский стол. А коль так, то такого князя надо накрепко приблизить к себе, дабы тот стал послушным орудием Менгу-Тимура. Став сродником великих чингисидов, Дмитрий Переяславский будет исполнять любой приказ золотоордынского повелителя. Тогда прощай всякие помыслы об укреплении Руси. Хитер и коварен Менгу-Тимур!.. Но этому не бывать. Он, Дмитрий, никогда не жениться на иноверке. Но как отказаться от «заманчивого» предложения? Прямой отказ приведет Менгу-Тимура в негодование, и он сделает всё возможное и невозможное, дабы не только убрать его, Дмитрия, с Переяславского стола, но и найти способ лишить жизни. Ханы Золотой Орды прекрасно владеют этим давно испытанным оружием. Но тогда все планы Дмитрия — псу под хвост. Литовский король Воишелк, узнав о смерти главного заводилы мирных переговоров, тотчас свернет с Русью всякие сношения. Оживятся ливонские рыцари, для коих мир Руси с Литвой — кость в горле.
Посланец хана заждался ответа. Ну что ж? Надо как-то выкручиваться из сложной ситуации. И он, Дмитрий, кажется, кое-что придумал. На хитрость Менгу-Тимура он ответит своей хитростью.
С доброжелательной улыбкой князь Дмитрий откинулся на спинку кресла и молвил:
— Я почтен вниманием хана Золотой Орды. Его предложение весьма лестное. Породниться с родом великого Чингиса — великая честь для любого русского князя.
Мурза Джанибек, поглаживая мясистой ладонью по животу, скрытому парчовым, темно-зеленым халатом, ублаготворено произнес:
— Я знал, что ты будешь обрадован столь важным и приятным известием. Когда ты прибудешь за нашей прекрасной невестой, князь Дмитрий? Великий хан должен знать точную дату твоего приезда, чтобы достойно приготовиться к достархану.[86]
— Я скажу о точной дате, мурза Джанибек. Если великий хан меня уважает, то он должен уважать и древние обычаи моей страны. Во-первых, иноверка, выходящая замуж за русского человека, должна принять обряд православного крещения, ибо наш Бог не позволяет жить христианину с мусульманкой.
— Ваш закон великий хан нарушать не будет… А что же во-вторых, князь?
— А во-вторых, достопочтимый мурза, на Руси издревле существует обычай, по коему венчание молодых происходит на Покров — свадебник.
— Это когда же?
— Следующей сенью, когда с полей уберут весь урожай, после первого октября. У девушек даже присловье есть: «Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком».
Лицо мурзы вытянулось.
— Значит, свадьбе быть только через год. Я не думаю, что великий хан будет удовольствован таким ответом.
— Но хан и не указывал на какой-то неотложный срок. Не так ли, мурза?
Князь Дмитрий ведал, что татарские гонцы из Золотой Орды не имели права дополнять повеление ханов еще и собственными словами. Они говорили только то, что им было наказано.
Джанибек, поправив белоснежную чалму на голове, замешкал с ответом, и это обстоятельство убедило Дмитрия, что он угодил в самую точку.
— О каком-либо сроке великий хан действительно не говорил. Но будет тебе известно, князь Дмитрий, что Менгу-Тимур не любит долго ждать.
— Всему свое время, мурза. Год — не такой уж великий срок. Не должен же я рушить древние обычаи. Меня и церковь осудит. Великому хану не понравится, когда его зять будет в ссоре с духовенством. Всё должно пройти гладко, мирно и достойно, тем почетнее родство князя с чингисидами. Мнится мне, что хан Золотой Орды не выскажет своего недовольства. Напротив, своей выдержкой покажет нашему народу, что он чтит законы древней Руси, и тем самым приобретет уважение не только среди простолюдинов, но и среди всех русских князей. Все эти слова ты, мурза Джанибек, непременно передай великому хану. Я спрошу о них, когда прибуду на смотрины невесты.
— У меня хорошая память, князь Дмитрий, — всё с той же улыбкой, произнес мурза.
Джанибек оказался в затруднительном положении: он не знал, что ему делать. Он допустил непростительную ошибку, когда не спросил у хана о сроке пребывания в Сарай-город переяславского князя. Князь же Дмитрий не упустил этого момента и выставил свои доводы. В уме ему не отказать. Год — слишком большой срок. И один Аллах знает, как отнесется к словам переяславского князя великий хан. Он может и прогневаться, и вновь отошлет его, мурзу, к Дмитрию. Но теперь уже ничего не поделаешь. Надо возвращаться в Орду.
Князь одарил Джанибека богатыми подарками, что значимо улучшило расположение духа посланника Менгу-Тимура.
Проводив мурзу и вернувшись в свои покои, Дмитрий надолго задумался. Оправдается ли его надежда на благоразумие хана Золотой Орды? Он начал с Менгу-Тимуром рискованную игру. Возможно, хану и понравится его ответ, и он, в самом деле, будет ждать свадьбы целый год. А что произойдет потом, когда он, Дмитрий, откажется от иноверки. Менгу-Тимур поймет, что его основательно одурачили, и постарается нещадно наказать обманщика… Придумать какой-то серьезный повод отрешения? Но хан уже вдругорядь не поверит, тем более он поймет, что за урочный[87] год князь Дмитрий зря времени не терял. Он собрал русские дружины и двинул их на Ливонский Орден.
«Но быть ли посему? Как долго нет из Литвы Неждана Корзуна. Видимо идут трудные переговоры с Воишелком. Король чересчур злопамятен, чтобы забыть вторжение русских войск на его землю. Особенно ему не запамятовать своего родного брата Довмонта. Именно он убил литовского короля Миндовга, отца Воишелка. Но месть Довмонта можно оправдать. Миндовг, после смерти королевы, пригласил к себе красавицу-супругу нальшанского князя Довмонта и насильно заставил ее выйти за него замуж. Возмущенный Довмонт застал Миндовга врасплох и убил его вместе с двумя сыновьями. У короля остался единственный сын Воишелк, и он, естественно, начал жестоко сводить счеты с Довмонтом. Но тот не только не устрашился своего брата, но и сам принялся отважно бить его полки.
Летописцы Пскова сложили о мужественном полководце похвальное «Сказание о Довмонте», кое дошло и до Дмитрия. Вот оно:
«В 6773 (1266) году из-за распри побились литовцы друг с другом, блаженный же князь Довмонт с дружиною своей и со всем родом покинул отечество своё, землю Литовскую, и прибежал во Псков. Был этот князь Довмонт из рода литовского, сначала поклонялся он идолам по заветам отцов, а когда Бог восхотел обратить в христианство людей новых, то снизошла на Довмонта благодать святого духа, и, пробудившись, как ото сна, от служения идолам, задумал он со своими боярами креститься во имя отца и сына и святого духа. И крещен был в соборной церкви святой Троицы, и наречено ему было имя во святом крещении Тимофей. И была радость великая во Пскове, и посадили его мужи псковичи на княжение в своем городе.
Несколько дней спустя задумал Довмонт отправиться в поход с мужами-псковичами, с тремя девяносто, и покорил землю Литовскую, и отечество свое завоевал, и полонил княгиню Герденя и детей их, и всё княжество его разорил, и направился со множеством пленных к городу Пскову. Перейдя вброд через Двину, отошел на пять верст, и поставил шатры в бору чистом, а на реке Двине оставил двух стражей — Давыда Якуновича, внука Жаврова, с Лувою Литовником. Два же девяносто воинов он отправил с добычей, а с одним девяносто остался, ожидая погони.
В то время Гердень и князья его были в отъезде, когда же приехали они домой, то увидели, что дома их и земли разорены. Ополчились тогда Гердень, и Гойторт, и Люмби, и Югайло, и другие князья, семьсот воинов погналось вслед за Довмонтом, желая схватить его и лютой смерти предать, а мужей-псковичей мечами посечь; и, перейдя вброд реку Двину, встали они на берегу. Стражи, увидев войско великое, прискакали и сообщили Довмонту, что рать литовская перешла Двину, Довмонт же сказал Давыду и Луве: «Помоги вам Бог и святая Троица за то, что устерегли войско великое, ступайте отсюда». И ответили Давыд и Лува: «Не уйдем отсюда, хотим умереть со славой и кровь свою пролить с мужами-псковичами за святую Троицу и за все церкви святые. А ты, господин и князь, выступай быстрее с мужами-псковичами против поганых литовцев». Довмонт же сказал псковичам: «Братья мужи-псковичи! Кто стар — тот отец мне, а кто млад — тот брат. Слышал я о мужестве вашем во всех странах, сейчас же, братья, вам предстоит жизнь или смерть. Братья мужи-псковичи, постоим за святую Троицу и за святые церкви, за своё отечество!»
Это был день великого мученика Христова Леонтия Ростовского, и произнес князь Тимофей: «Святая Троица, и святой Леонтий, помогите нам в час сей одолеть ненавистных врагов». Выехал князь Довмонт с мужами-псковичами и Божиею силою и помощью святого Христова мученика Леонтия с одним девяносто семьсот врагов победил.
В этой битве был убит великий князь литовский Гойторт, а иных князей многих убили, многие литовцы в Двине утонули, а семьдесят из них выбросила река на остров Гоидов, а иные на другие острова были выброшены, некоторые же вниз по Двине поплыли. И возвратились мужи-псковичи с радостью великой к Пскову-городу и с многой добычей, и была радость и веселье всеобщее в городе Пскове о заступничестве святой Троицы, и славного великого Христова мученика Леонтия, ибо их молитвами были побеждены супостаты…».
Князь Дмитрий отложил летопись. Добрые слова сказали о Довмонте псковские летописцы[88]. Сейчас для короля Воишелка он первый враг. Не потому ли так долго не возвращаются из Литвы русские гонцы? Дмитрий возлагает на псковского князя большие надежды. Этот бесстрашный полководец должен сыграть видную роль в походе на Ливонский Орден. Он довольно молод, ему нет и тридцати, но слава о псковском князе прогремела далеко за пределами Руси.
(Позднее Дмитрий Александрович выдаст свою дочь за Довмонта).
Мысли князя неожиданно прервал, вошедший в покои, боярин Ратмир Вешняк:
— Едва не сгорел Никольский храм, князь.
Дмитрий резко повернулся к боярину.
— Опять?.. Велик ли урон, Ратмир Елизарыч?
— Господь смилостивился. Занялся, было, но успели потушить. Всё уцелело.
— Слава Богу, — размашисто перекрестился Дмитрий.
Не везет же Никольской слободе. Летом едва ли не вся выгорела. Осталось пять избенок (в том числе — и Палашки Гулены, о чем князь, конечно, не ведал), а вот храму не повезло.
Деревянные церкви не один раз на своем долгом веку горели дотла. То молния зажжет, то дьякон размашется кадилом и заронит под престол уголек, то пономарь забудет затушить перед иконостасом свечу. Церкви стремглав вспыхивали и сгорали со всей утварью. А раз был случай, когда ночью сгорел вместе с деревянным храмом старик-сторож, живший под колокольней и обязывающий вылезать из своей конуры с наступлением сумерек, дабы потянуть за веревку и ударить в колокол.
Сгоревшая церковь восстанавливалась быстро: в один день благочестивыми мирянами свозились бревна из ближайших лесов, обыденкой же обтесывались и распиливались бревна и доски, обыденками рубили стену под самую стреху, обшивали крышей, прирубали колокольный сруб, ставился иконостас.
Но страшнее всего, когда погибал главный городской собор. В 1183 году во Владимире произошел лютый пожар. Сгорела и соборная церковь святой Богородицы со всеми пятью золотыми верхами и со всеми узорочьями, кои были в ней внутри и вне древнего храма: паникадилами серебряными, сосудами золотыми и серебряными, одеждами, шитыми золотом и жемчугом, кои на праздник развешивали в две веревки от Золотых ворот до собора и от собора до владычных сеней.
Через пять лет красивейший, пятиглавый, белокаменный храм был восстановлен.
Глава 8 ВЕРНЕР И МОНАХ КОНРАД
В каждом крупном городе древней Руси для иностранных купцов водился Иноземный двор. Стоял такой двор и в Переяславле, срубленный еще в молодые годы Александра Невского.
После Ледового побоища на Чудском озере к Невскому зачастили иноверцы: допрежь католики от римского папы, затем послы от разных западных королевств, желая не только поближе познакомиться со знаменитым полководцем, но и извлечь какую-то выгоду. Однако Александр Ярославич не поддался ни на сладкоречивые речи папской курии[89], ни на заманчивые предложения королей, суливших золотые горы, если Невский со своей дружиной поможет одолеть того или иного недруга западного повелителя.
Невский был слишком мудрым политиком, чтобы не понимать корыстолюбие римского папы и различных королей.
После кончины Александра Ярославича, Иноземный двор заметно опустел. Малолетний Дмитрий у послов интереса не вызывал, а вот купцы наезжали нередко. Иноземный двор (в народе — «Немецкий») стоял неподалеку от торговой площади и был окружен крепким, дубовым тыном. Двор представлял собой три просторных избы с высокими подклетами, теплыми сенями, повалушами и горенками. Есть где было и товар складировать и купцам разместиться.
Через два дня пребывания в Переяславле к Вернеру Валенроду зашел незнакомый человек в черной монашеской рясе и представился на чистом немецком языке:
— Бруно Конрад.
Имя соотечественника ничего Вернеру не говорило. Он молчаливо кивнул и жестом указал Конраду на высокое кресло.
Валенрод не любил предисловий, поэтому спросил напрямик:
— Кто ты, и почему здесь оказался?
Бруно не был лично знаком с Вернером, но хорошо знал его понаслышке.
— Я — доверенное лицо великого магистра Отто Руденштейна.
— Точнее, Бруно. Мне известно, что у магистра десятки доверенных лиц.
Конрад некоторое время молчал. Худощавое, аскетическое лицо его с властными глазами выглядело загадочным и суровым.
— Буду, откровенен, — наконец заговорил Бруно. — Перед тобой член тайного общества «Карающий меч».
Вернер с нескрываемым удивлением посмотрел на Конрада: в его комнате сидел… убийца. Тайное братство «Карающего меча» создал еще (с благословения римского папы) бывший великий магистр Герман фон Зальц. Оно состояло всего из 33 человек и предназначалось для душегубств самых неугодных Ордену противников. Этих зловещих «братьев» мало кто знал в лицо. «Люди яда и кинжала» старались быть незаметными, и несли свою службу с такой осторожностью, что об их деятельности знал один магистр.
— Я пришел за твоей помощью, Вернер.
— Но прежде ответь мне на второй вопрос.
— Отвечу, Валенрод. Еще десять дней назад я приехал в этот город под видом католического монаха, чтобы рассказать местному епископу и князю Дмитрию о православной вере, которая начинает пускать корни и в наших землях. Ливонские рыцари взяли в плен немало русских людей и дозволили им строить свои церкви. Такая церковь, как тебе известно, Вернер, появилась и в столице Ордена, Мариенбурге.
— Но это единственная православная церковь в Ливонии, и появилась она совсем недавно. Я видел, как десяток пленных ведут в храм под охраной кнехтов.[90]
Лицо Конрада оставалось бесстрастным.
— Ты обличаешь меня в заведомой лжи? Но так задумано великим магистром. Пусть пойдет слух, что крестоносцы с большим уважением относятся к православной вере. С этой целью я и прибыл в Переяславль. И епископу Елизару, и князю Дмитрию понравился мой рассказ. По душе пришлась им и просьба русских христиан прислать в церкви благочестивых священников.
Валенрод усмехнулся:
— Всё, что ты мне рассказываешь, Конрад, — подоплека для посещения Переяславля. Братство «Карающего меча» никогда не занималось богоугодными делами. Не думаю, что князь Дмитрий настолько наивен, чтобы поверить твоим россказням. Поездка твоя, монах-инквизитор, заключается совсем в другом.
Глаза Конрада стали враждебными и хищными. Он не думал, что Вернер догадается, кто он на самом деле.
— В чем же? — желчно спросил монах.
— Великий магистр недавно обронил на совете рыцарей несколько слов, что князь Дмитрий неугоден Ордену, и что он уже принял меры, чтобы переяславский князь не вышел из стен своего города. Ты, Конрад, и есть тот человек инквизиции[91], который должен выполнить приказ Отто Руденштейна.
— На всё воля божья, — с язвительной ухмылкой отозвался монах. — В наших занятиях не обходится без подготовительного труда, но иногда и он не приносит плодов. Князь Дмитрий хоть и принял меня, но вместе с ним неотлучно находился его ближний боярин.
— И тебе не удалось влить в чарку князя яд?
— Ты прав, Вернер, и теперь я вынужден обратиться за твоей помощью.
Валенрод ответил без раздумий, ответил резко:
— Я никогда не помогал, и не буду помогать братству «Карающего меча» и инквизиторам. Я не убийца, а рыцарь, который уничтожает своих врагов лишь в битвах, либо в честных рыцарских поединках.
Лицо Конрада и вовсе исказилось злой гримасой.
— Не забывай, Вернер, что я выполняю приказ самого великого магистра, и каждый рыцарь мне должен оказывать всяческую поддержку.
Но слова инквизитора ничуть не убедили Валенрода.
— В уставе Ордена крестоносцев ничего не сказано о братстве «Карающего меча».
— В уставе всего не напишешь, Вернер, тем более о самом сокровенном, что не обязательно знать всему Ордену. Мы, Вернер, предназначены для особой миссии, которая не признает слова «не буду». Либо ты беспрекословно выполняешь все негласные указания великого магистра, либо Орден уничтожит тебя, как смердящего пса.
Вернер вспылил: никогда в жизни никто не посмел его оскорбить — самого именитого рыцаря Ливонии, давно претендовавшего на титул великого магистра. Он, обычно уравновешенный, порывисто поднялся из кресла и, покрываясь красными пятнами, ступил к Конраду.
— Послушай ты, червь могильный. Не зарывайся! Тебе ли, человечишку подлого рода, угрожать знатному командору[92] и первому мечу Ордена?!
Конрад стиснул ладонями подлокотники кресла, лицо его ожесточилось. Вернер дерзко унизил его подлым званием (а он и в самом деле происходил из черни). Но этот надменный рыцарь, очевидно, не знает, что инквизиторы и члены «Карающего меча» никогда не прощают даже самым могущественным людям Ливонского Ордена, если те отказываются помочь тайному братству.
Конрад, конечно же, немало был наслышан о Вернере, но не думал, что тот настолько заносчив. И всё же Бруно, прошедший многолетнюю школу сурового и скрытого братства и не думал отступать от своего плана. Задавив в себе обиду и сотворив миролюбивое выражение лица, он спокойным голосом произнес:
— Мы оба погорячились, Вернер, но нельзя забывать, что мы представители одного Ордена, и это ко многому обязывает. Ты приехал сюда под видом богатого купца, и великий магистр никогда не забудет, если ты, будучи приглашенным к Дмитрию, сумеешь опустить в его чарку вот эту красную горошину, которая тотчас растворяется, и не только не имеет никакого вкуса, но и действует исподволь, в течение двух недель. Так что никто ничего не заподозрит. А через несколько дней ты уже будешь далеко от Переяславского княжества.
— Я знаю, что князь Дмитрий нередко встречается с иноземными купцами, чтобы расширить торговые связи. Возможно, и мне удастся побывать у него в гостях. Но ты напрасно стараешься, монах. Я не стану подручным в твоих гнусных делах. И на этом закончим беседу.
— Это твои последние слова, Вернер?
— Да!
— Ты делаешь непростительную ошибку, и будешь отвечать перед самим Отто Руденштейном.
— Я найду, что сказать великому магистру.
— В тебе говорит гордыня, Вернер. И всё же запомни мои слова, если захочешь продлить свою жизнь, — жестко произнес на прощание инквизитор и, шелестя черной шелковой рясой, вышел из комнаты.
Шагая по утоптанной тропинке Иноземного двора, Конрад зловеще думал:
«Ты Вернер — безмозглый человек, хоть и считаешь себя мудрецом. Неужели ты не догадался, зачем тебя послал в далекий Переяславль великий магистр. Крепость изведать? Чушь! Крестоносцы никогда не ходили и не пойдут вглубь Руси. Их забота — северо-западные земли. Опасность не в том, что князь Дмитрий сидит в Переяславле, а в том, что тот может возглавить русские дружины и пойти на Ливонию. Поэтому сведения о крепости для Отто Руденштейна ничего не стоят. Дело в другом. Вернер — любимец рыцарей, самый известный человек в Ливонии. Это прекрасно понимает великий магистр. Его возможные неудачи и, тем более, серьезное поражение в войне крестоносцы не потерпят. Они провозгласят великим магистром Вернера. Вот этого-то и боится Отто Руденштейн. Не случайно он отослал лучшего командора в Переяславль — доставить чертеж крепости. Дело крайне рискованное. Малейшая оплошность — и Вернеру конец. На это и надеется великий магистр. Ему не нужен серьезный соперник».
Глава 9 ЛЮБОВЬ
Васютка Скитник другую неделю живет в Переяславле, но торговля и на ум не идет.
Силантий Матвеич, недоуменно поглядывая на молодого купца, вопрошал:
— Ты какой-то чумной, Васюта Лазутыч. Торговлю, как я погляжу, вовсе забросил. Целыми днями где-то пропадаешь. Чего случилось-то?
— Да ничего не случилось. Хожу на торг, к товарам прицениваюсь.
— Ой, лукавишь, Васюта Лазутыч. На Торговой площади я почти ежедень бываю, но тебя что-то не примечал. Чего покраснел, как красна — девица?
Васютка, как уже говорилось, не умел лгать, и ему, со смущенным лицом, пришлось сказать правду:
— Повстречал я, Силантий Матвеич, одну девушку… И ныне сам не свой. Тянет к ней, как буйным ветром.
— Ишь ты, — заулыбался Ширка. — Дело житейское. Давно пора тебя оженить. Сразу бы и сказал, нечего стесняться. И хороша ли девка?
— Лучше не сыскать. Ласковая, и красотой Бог не обидел.
— Вот и ладно. Рад за тебя, Васюта Лазутыч… Токмо хочу изречь тебе, что не в красоте дело. Жену выбирай не глазами, а ушами, по доброй славе… Да, а как же тебе удалось с девкой встретиться? То дело непростое.
— Да уж удалось. То долго рассказывать. Теперь каждый день встречаемся. По городу ходим, и наговориться не можем.
— Каждый день? По городу ходите? — изумился Силантий Матвеич. — Да как же такой срам родители допускают? Аль не по старым обычаям живут? Чудно, парень.
Ширка аж головой закрутил. Было, ему, отчего изумиться.
Жених и невеста обыкновенно до свадьбы не знали друг друга и вступали в брак только по желанию родителей. Невесту никогда не показывали жениху: её покрывали и водили под руки. Многие пользовались этим и часто при выдаче замуж своих дочерей или родственниц совершали возмутительные подлоги.
«Во всем свете нигде такого на девки обманства нет, яко в Московском государстве», — напишет позднее подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин.
Перед свадьбой обычно назначались смотрины, состоявшие в том, что родственница жениха приходила в дом, где жила невеста, рассматривала и испытывала её «изведаючи разум и речи». На этих смотринах родители часто подставляли, вместо некрасивой и уродливой дочери, чужую пригожую девушку, а в церковных записях ставили имя своей дочери, и потом уже ничего нельзя было поделать.
Понятно, как жили такие злосчастные супруги. Нелюбимые жены попадали в невыносимое положение. Мужья преследовали их на каждом шагу, били, сажали в подполье на крапиву, впрягали в соху и всячески издевались над ними. Наконец, чтобы избавиться от постылой супруги, её отправляли или насильно постригали и заточали в монастырь.
— Из чьих же будет твоя девка?
Васютка еще больше засмущался. Ох, как вскинется сейчас Силантий Матвеич!
— Отца Марьюшка отроду не ведала, а мать недавно преставилась.
— Я в городе, почитай, каждого в лицо знаю. Как звали покойницу?
— Палагея.
Ширка на минуту призадумался, а затем, пощипав перстами рыжую бороденку, спросил:
— Изба ее где стоит?
— На Никольской.
— На Никольской?.. Жила без мужа?.. Уж не Палашка ли Гулена, не приведи Господи!
Васюта, как нашкодивший мальчонка, опустил голову.
— Отвечай, паря. Отвечай!
— Она самая.
Силантий Матвеич ошарашено плюхнулся на лавку.
— Ну и нашел же ты себе невесту, ну и порадовал… Да ведаешь ли ты, паря, что мать твоей невесты была непотребной женкой, с коей чуть ли не все переяславские мужики блудили.
— Ведаю! — вдруг осмелел Васютка. — Марьюшка мне всё рассказала. Она благочестивая девушка. И ты, Силантий Матвеич, не смей ее осуждать. Не смей!
Ширка вдругорядь опешил. Теперь уже его удивил жених. Ишь, как невесту свою защищает! Даже в лице переменился.
— Ты чего на меня кричишь, Васюта Лазутыч? Я ж тебя от срама остерегаю. Тебе ли, сыну княжьего мужа, с дочерью прелюбодейки путаться?
— Довольно, Силантий Матвеич! — и вовсе осерчал Васютка. — Марьюшка моя чиста, как родниковая вода. Ты ж ничего не ведаешь о ее судьбе. Она — необыкновенная девушка.
— Ну, тогда поведай о сей святой праведнице, — насмешливо молвил купец.
— Мне скрывать нечего. Поведаю.
И Васютка подробно рассказал всю историю полюбившейся ему девушки, после чего Силантий Матвеич с немалым удивлением произнес:
— Ну и дела, Васюта Лазутыч… Марьюшка твоя, кажись, и впрямь девка благочестивая. И на Качуру не польстилась, и к боярину в услужение не пошла. А какая отважная! Через гиблое болото полезла. Дивная же тебе попалась сиротинка.
— Дивная, Силантий Матвеич… Надумал к отцу и маменьке ее отвезти.
— Дело не шутейное, — крякнул купец. — Отец-то может тебя и плеточкой попотчевать. Не по старине, мол, творишь, неча народ смешить. Тяжко тебе будет, Васюта Лазутыч. Не благословит. Может, мне с дедом твоим, Василием Демьянычем, потолковать. Как никак, давнишние друзья. Глядишь, и поможет в твоем необычном деле.
— Спасибо на добром слове, Силантий Матвеич. Но, думаю, дело до плетки не дойдет. Отец наверняка смирится.
— Ты так уверен? На Руси стародавние привычки не принято ломать. А отец твой, чу, едва ли не в боярах ходит. Это тебе не забулдыга[93] какой-нибудь. Не благословит!
Васютка как-то загадочно улыбнулся.
— Худо ты моего отца знаешь, Силантий Матвеич. Еще как благословит.
— Ну, тебе лучше ведать, — развел своими небольшими широкопалыми руками купец. — И когда намерен домой возвращаться?
— Денька через три.
— Опять, поди, к своей Марьюшке пойдешь?
— Пойду. Без нее и час за год кажется. Ты уж не серчай, Силантий Матвеич.
— Да чего уж теперь. Ступай. Замок да запор девку не удержат, а уж про добра молодца и говорить неча.
* * *
И Гришка Малыга и жена его Авдотья встречали молодого купца радушно. Парень, кажись, и впрямь человек славный: добрый, щедрый и благопристойный. Гришке и Авдотье на кресте поклялся:
— Вы за Марьюшку не волнуйтесь. Никогда ни в чем ее не обижу. Коль будет согласна, в жены возьму, и буду лелеять ее до скончания дней своих.
Гришка и жена его поверили, а Авдотья даже слезу проронила:
— Дай-то бы Бог, Васютка. Она и так настрадалась за свою жизнь, сиротинушка. Почитай, с малых лет всё одна да одна. Мать-то месяцами у хахалей пропадала, не до чада своего ей было. Одари ее счастьем, милостивец. По гроб жизни тебе будем благодарны. В церкви за тебя будем молиться.
Васютка так умилился, что крепко обнял и Малыгу и его супругу.
— Спасибо вам, дядя Гриша и тетя Авдотья, за добрые слова. Вижу, вы для Марьюшки стали вместо родителей. Низко кланяюсь вам за это.
И Васютка земно поклонился, коснувшись пальцами деревянного пола. Еще раз приложился к кресту и неколебимо молвил:
— Всё так и будет, как я сказал.
А Марийка смотрит на всех своими лучистыми очами и не нарадуется. На душе ее светло и празднично. Никогда в жизни не было у нее такой отрады. Ее грезы сбываются. Она встретилась именно с таким добрым молодцем, о коем нередко думала в своих радужных, возвышенных мыслях…
«Васютка, Васенька, Василек. Какой же ты хороший! Таких людей, кажись и на белом свете не бывает. Ну, всем взял Васенька. И красотой, и умом, и сердцем отзывчивым. Любит он ее, всей душой любит… А ведь совсем недавно пережила такие отчаянные, безысходные дни, что жутко вспомнить. Билась, как рыба об лед, ни на что доброе уже ни надеялась. И вдруг… вдруг случилось неожиданное. Явился Васютка, как красное солнышко, и всё круто переменилось. Теперь сердце ее ликует, от несказанной радости ей хочется обнять всех людей и закричать:
— Я счастлива! Я очень счастлива! Я люблю своего Васеньку!
Теперь каждый день они, прижавшись друг к другу, сидели в огородце под яблоней. Васютка нежно гладил ее волосы, так же нежно глядел в ее большие, сиреневые очи и мягко, задушевно говорил:
— Люба ты мне, Марьюшка. Это сам Бог тебя ко мне послал. Уж так люба!
— И вправду Бог, Васенька. Никогда не чаяла тебя встретить. И вдруг, как снег на голову. Теперь только о тебе и думаю. И ты мне люб. Очень люб, Васенька!
Иногда, насидевшись под яблоней, Васютка говорил:
— Шибко приглянулся мне город твой, Марьюшка. Но многое я еще не видел. Может, еще куда-нибудь сходим?
— Отчего ж не сходить, Васенька? Да я с превеликой радостью.
И они, под любопытные взгляды жителей города, бродили то по Переяславлю, то спускались к Плещееву озеру, то поднимались на Ярилину гору, где любовались на летний терем, возведенный еще великим князем Александром Невским.
— Доброе место выбрал Александр Ярославич. Тятенька мне сказывал, что ему довелось побывать в этих хоромах. С самим-де Невским толковал.
— Повезло твоему тятеньке. Большой он у тебя человек… А вот я лишь из толпы Александра Ярославича видела, также и сына его, Дмитрия.
— Что народ о молодом князе сказывает?
— Хулы не слышала, Васенька. Отважный-де князь и крутой. Боярам от него не сладко. Кое-кто из них ропщет. А Дмитрий Александрович весь в батюшку своего покойного.
— Любо слушать. С таким князем Переяславль не пропадет. Вот и тятенька мой как-то о князе добрые слова сказывал… Ныне он аж в Литву с боярином Корзуном к королю Воишелку уехал по делам посольским. Давненько уехал. Не ведаю, вернулся ли домой.
— В Литву? — ахнула Марийка. — Да она, чу, ныне на русские земли нападает. А про короля Воишелка говорят, что он лютей самого злого ордынца. Страшусь я за твоего тятеньку.
— Ничего, Марьюшка. Послов, чу, в западных странах не трогают. Это тебе ни ордынцы и не половцы. Степняки порой никого не щадят.
— Дай-то Бог тятеньке твоему целым и невредимым вернуться, — перекрестилась Марийка.
Налюбовавшись пригожими местами города, они возвращались под свою яблоню, где уже, не стесняясь зевак (огородец Гришка Малыга, как и любой рачительный хозяин, окружил высоким сплошным забором из жердей), вновь прижимались друг к другу, целовались и говорили нежные слова. Они забывали даже про обед.
Из избы выходила Авдотья и звала:
— Поснедали бы, молодые.
— Идем, тетя Авдотья, — отзывалась Марийка, а сама вновь тянулась к своему возлюбленному.
Глава 10 ВРАЖЬИ ЛАЗУТЧИКИ
Как-то Васютка и Марийка оказались неподалеку от Тайницкой башни. Проездные ворота в ней отсутствовали, поэтому многие годы (за исключением крепостных смотрителей) к башне никто не ходил, и она вся поросла кустарником, бурьяном и луговыми цветами. На земляном валу, в северной его части, сохранялся неширокий разрыв. Здесь внутри вала и был водяной тайник для выхода к реке Трубеж.
— Погодь, Марьюшка, — молвил Васютка и полез в заросли, намереваясь добыть для невесты букетик цветов. Начало сентября было на редкость солнечным и теплым, и некоторые цветы еще не осыпались и не увяли. (Сказывалась близость воды).
В зарослях Васютка услышал, как у самой крепостной стены трескуче хрустнула ветка кустарника.
«Человек, — тотчас определил купец. — Но что ему понадобилось у Тайницкой башни?»
И он пошел на звук хрустнувшей ветки. Успел заметить, как у бревенчатой стены незнакомый человек поспешно скручивает в свиток бумажный столбец[94]. Господи, да это тот самый высокий, широкогрудый немец с сухощавым лицом и русой бородкой, на коего несколько раз оглядывался купец Бефарт, у которого он, Васютка, закупал товары.
Васютка смело двинулся на немца.
— Что ты тут делаешь, иноземец, у Тайницкой башни, и что за столбец в твоих руках?
Вернер сунул бумагу за пазуху суконного кафтана и, выдавив на лице простецкую улыбку, на ломаном русском языке произнес:
— У меня схватал шифот.
— По нужде, значит, прихватило? Лжешь, иноземец. А ну покажи столбец!
Но Вернер плотно застегнул оловянные пуговицы кафтана, глаза его приняли суровое выражение.
Все сомнения у Васютки отпали: перед ним стоял лазутчик, кой наверняка срисовывал Тайницкую башню.
— Не покажешь — силой возьму.
— Не возьмешь, — жестко выдавил Валенрод.
Васютка подступил к иноземцу и обеими руками, с силой разорвал застежки кафтана, и тотчас кто-то сзади обрушил на его голову могучий удар. Васютка рухнул на землю и потерял рассудок.
— Молодец, Бертольд Вестерман, — поблагодарил Вернер. — Но, кажется, ты убил этого купца.
— А бес его знает. Не шевелится, — пожал литыми плечами Бертольд и деловито добавил. — На всякий случай надо его связать и заткнуть рот.
Так он и сделал. Это был крупный, обладающий богатырской силой «купец», ближайший помощник и телохранитель Валенрода. Вестерман, как будто предвидя неожиданные ситуации, всегда носил в своей кожаной суме нож, тонкие сыромятные ремни, чистые тряпицы, которыми можно было перевязать раны, и увесистый булыжник. В непредвиденных обстоятельствах Вернер запретил ему пользоваться ножом.
— Запомни, Бертольд. В этом городе мы не должны оказаться убийцами. Иначе мы пропали. А если дело до драки дойдет, вдарь кулаком. Он у тебя грузный. На Руси кулачный бой — любимая потеха. Никто нас не осудит.
Но тут случилось непредсказуемое: в кустарниках никого не было и Вестерман, увидев, что дело принимает опасный оборот, воспользовался булыжником.
Марийка, услышав в кустарниках какой-то шум, а затем и малопонятный разговор, окликнула:
— Васенька! С кем ты там?
В ответ — гробовая тишина. Вернер и Бертольд затаились.
Марийка подождала еще немного и, забывая про всякую осмотрительность, отчаянно полезла в кустарник.
Ее ждала та же участь. Увидев перед собой девушку, Вестерман стремительно подскочил к ней, схватил за плечи и оглянулся на Валенрода.
— Кончать?
Вернер отрицательно замотал головой и тихонько приказал:
— Связать.
Бертольд вновь полез в суму за ремнями.
Марийка, увидев бездыханное тело Васютки, хотела, было, отчаянно закричать, но Вестерман тотчас вбил в ее рот кляп.
Вернер пытливо оглядел девушку. Связана надежно, даже рот вдобавок накрепко перевязан тряпицей. И девка, и купец сдохнут тут у крепостной башни. Он же, Валенрод, практически завершил свою работу и ему пора возвращаться в Ливонию. Надо выехать сегодня же. Береженого Бог бережет.
— Поспешим, Бертольд.
Марийка слушала их чужеземную речь, и слезы бежали из ее глаз. Надо же было такому сотворится. В какой уже раз приключается с ней беда! Только-только счастье привалило и разом оборвалось. Прикончили ее любого Васеньку. Лежит и не шелохнется. И за что, за что эти иноземцы его убили? Какого худа он им сотворил? Полез зачем-то в заросли, и вдруг смерть обрел. Горе-то какое, пресвятая Богородица! Ужасное горе!
Сердце Марийки разрывалось на части. Она настолько полюбила своего Васеньку, что невольно подумала:
«Уж лучше бы меня эти злодеи порешили, а Васеньку не трогали».
Она заливалась горючими слезами, норовила кричать, но ее никто не слышал: уж слишком туго перевязали ее рот и нос.
Марийке было трудно дышать, и она с ужасом осознала, что может погибнуть от недостатка воздуха. Погибнуть вместе с любимым Васенькой… А так-то и лучше: все равно без любимого жизнь не мила. Когда-нибудь вместе их найдут мертвыми, может, вместе и похоронят, и они всегда будут рядом. Так пусть же так и случиться!
Марийка, повернув голову, неотрывно смотрела на лицо Васеньки, и вдруг ей показалось, что у того дрогнули веки.
«Померещилось, — подумалось ей. — У покойников такого не бывает».
Она всё смотрела, смотрела, и вновь дрожание век повторилось.
«Жив! Васенька жив!» — обрадовалась Марийка, и эта несказанная радость настолько ее захватила, что она стала думать, как ей освободиться от пут. Неподалеку от себя она увидела острый обломанный сучок. А что если попытаться с его помощью развязать руки?
Марийка с трудом подползла к сучку, подняла руки и попробовала просунуть острие сучка под ремень. И тот малость подлез. Теперь надо во чтобы-то ни стало ослаблять ремень — и ее руки, в конце концов, будут развязаны. Она пыталась сделать это изо всех сил, но ремень был настолько крепко затянут, что ни в какую ей не поддавался. А Марийка всё тянула и тянула его, пока совсем не ослабнув, не рухнула пластом на землю. Ей почти совсем нечем стал дышать. Теперь надо несколько часов неподвижно лежать и набираться сил.
Большое, огнистое солнце, пробиваясь через заросли, било в глаза.
«Полдни, — подумала Марийка. — Сейчас, отобедав, все спать завалятся. Такой уж обычай на Руси. А вот они с Васюткой уснут вечным сном».
Она не ведала, сколько пролежала, как вдруг услышала тихий, протяжный стон.
«Васенька, милый, ты воистину жив! — возликовала Марийка. — Но как же спасти тебя? Что же мне придумать, любый ты мой!»
И Марийка измыслила. Как же раньше она не могла до этого додуматься? Надо, пока не наступила ночь, катиться через заросли к дороге. Там ее увидит кто-то из горожан и избавит от ремней.
И она, переворачиваясь со спины на живот, покатилась к кустарнику. Но дело это было нелегким: заросли стояли стеной, и каждые три- четыре вершка преодолевались с невероятным трудом. Марийка делала передышку, и вновь, извиваясь ужом, вся истерзанная сучьями, отчаянно двигалась к намеченной цели…
По дороге шли два простолюдина в войлочных колпаках. Увидев связанную девку, ахнули:
— Вот те на! А, говорят, чудес не бывает.
Подбежали к девке и принялись развязывать сыромятные ремни. Толковали:
— Кажись, окочурилась.
— Красивая девка. Весь сарафан в кровищи. И кто ж над ней надругался?
Освободившись от кляпа, Марийка, глубоко вздохнула и в тот же миг лишилась чувств.
— Бедняга… Чего делать-то будем?
— Давай в избу потащим.
* * *
Прежде чем выехать из города, Вернер сказал Бертольду:
— Сходи к башне. На месте ли? Всякое бывает. Да чтоб осторожней, Вестерман.
Бертольд вернулся взволнованным.
— Девка исчезла!
— Как исчезла?! — изумился Вернер.
Бертольд в ответ лишь развел руками.
— А купец?
— Лежит на том же месте.
— А что в городе? Княжьи дружинники не снуют?
— Пока всё тихо.
— Странно.
Валенрод на минуту задумался, а затем произнес:
— Если убитого найдут у башни, за нами устроят погоню. Поехали к Тайницкой!
Вскоре торговая, длинная, крытая повозка-телега Вернера подъехала к башне. Он страшно рисковал, но уже выше говорилось, что у рыцаря Валенрода был изощренный ум.
Бертольд вышел из повозки и принялся поправлять подпругу. Никого не видно. Слава тебе, пресвятая дева Мария! Хорошо, что башня не проездная. Сюда никто не ходит. Да и время выбрано самое подходящее: русский люд после обеда заваливается спать.
Вестерман кивнул Вернеру.
— Всё спокойно.
— Действуйте.
Из повозки проворно выбрались еще два человека, и, вместе с Бертольдом, с мешковиной в руках, полезли в кустарник.
Вскоре Васютка оказался в повозке…
Марийка пришла в себя лишь через трое суток[95] и с удивлением спросила, увидев перед собой пожилую женщину в холщовом сарафане:
— Где я?
— Очнулась, слава тебе, Господи! — истово перекрестилась хозяйка избы. — У добрых людей, голубушка.
— А кто меня спас?
— Мужик мой с сыном. Послала их за лопухами. Хвори всякие меня одолели, а корень лопуха от многих болезней спасает. Отвар его пользительный. Вот и пошли они к Тайницкой. Там лопуха не обрать. И вдруг тебя увидели.
— Сколько же я спала?
— Долго, голубушка. Почитай, три дня.
Марийка порывисто вскочила с лавки, схватила нож со стола и уже в дверях торопливо крикнула:
— Кличь мужиков, а я — к башне!
У нее кружилась голова, подкашивались ноги, но в голове — единственная думка: Васенька, любимый Васенька!
Но Васеньки у крепостной стены не оказалось.
Вот уже четвертый день «торговый караван» командора Валенрода быстро передвигался к Новгороду. Вернер был доволен: его никто не преследовал. И всё же он не давал людям передышки. Дневки были коротки, а ночные сны непродолжительны. Осторожность — мать мудрости.
В Переяславле купец Бефарт распродал весь товар, (по приказу командора ничего не закупал). Поэтому все семь подвод ехали почти налегке. На телегах были лишь запасы корма и овса. «Обозные же люди» (кнехты) большой трудности для сильных и выносливых лошадей не представляли.
Десяток «караульных», (рыцарей), опоясанные мечами, рысили на конях в трех верстах от обоза. В случае погони, один из них помчался бы к повозке Вернера и предупредил его о преследовании, и если бы число княжьих дружинников значительно превосходило число крестоносцев, то Валенрод отдал бы приказ — свернуть в лес. А там… там он будет двигаться по звездам и другим приметам, которые выведут его к северным землям, где уже вовсю разгуливают ливонские отряды.
Но, всего скоре, дело до этого не дойдет. Погоня состоялась бы в первый же день. А вот почему она не произошла — удивительная загадка. Ведь девку кто-то обнаружил и, конечно же, избавил ее от кляпа и ремней. Но почему ж тогда он не освободил и купца?
После долгих раздумий Вернер пришел к окончательному выводу: человек этот, развязав красивую девку, надругался над ней, убил и где-то надежно запрятал. Другого произойти не могло. Девка непременно бы рассказала о приключившемся, худая весть быстро дошла до князя, и тот немедленно снарядил бы своих конных дружинников за «немцами». Однако, есть Бог на земле!
Но произошла еще одна неожиданность. Молодого купца Вернер помышлял выбросить из повозки уже за пределами города. В глухом лесу его, заброшенном кучей хвороста, никогда не найдут. Но купец вдруг оказался жив. Вскоре из-под аксамитной[96] ткани раздался глухой стон. Валенрод с удивлением посмотрел на своего телохранителя.
— Что бы это означало, Бертольд? Оказывается, у тебя не такой уж и сокрушительный удар.
Пораженный Бертольдд развернул аксамит, вытянул изо рта мертвеца кляп и глазам своим не поверил. Купец посмотрел на него широко открытыми глазами и чуть слышно произнес:
— Мерзавец.
Глава 11 ЧАС НАСТАЛ!
В покои князя Дмитрия вошел боярин Ратмир Вешняк и доложил:
— С недоброй вестью к тебе, княже.
— Что нибудь о послах? — встревожился Дмитрий.
— Другое, княже. Немецкие торговые люди схватили у Тайницкой башни ростовского купца Васюту Лазутыча, сына Скитника, и его невесту Марийку…
Боярин всё подробно рассказал, после чего князь Дмитрий хмуро спросил:
— Невеста где?
— Здесь, в сенях терема.
— Приведи.
Марийка, как увидела князя, так и бухнулась в ноги.
— Христа ради, спаси суженого моего, князь Дмитрий Александрыч!
— Встань, Марийка, и расскажи всё до мельчайших подробностей.
Марийка вначале повествовала сбивчиво и возбужденно (сам князь ее расспрашивает!), но затем немного успокоилась и стала держаться более уверенно. Такого случая ей больше не представится, и надо так рассказать князю, дабы он поверил в ее слова и повелел начать поиск пропавшего Васеньку.
Выслушав Марийку, Дмитрий подошел к ней и обнадежил:
— Я приму все меры, чтобы твой жених отыскался.
Повернулся к боярину.
— Прикажи проводить девушку домой.
После возвращения в покои боярина Ратмира, князь произнес:
— Из иноземцев в городе были только немецкие купцы. Я собирался потолковать с ними.
— Поздно, княже. Я уже всё выяснил. Купцы уехали четыре дня назад.
— Тогда всё совпадает. Жаль, что прошло много времени. И всё же снаряди погоню, Ратмир Елизарыч. Если купцов на дороге не окажется, пусть гридни едут до Новгорода и обо всем поведают наместнику великого князя. Тотчас снаряжай! Не зря крутились немцы у Тайницкой башни. И вот что еще. Сын Лазутки был жив. Купцы либо добили его и бросили в реку, либо, по непонятным мне причинам, увезли с собой. Их подводы никто не имеет права досматривать. На всякий случай прикажи проверить Трубеж, что у Тайницкой башни. Поспеши, Ратмир Елизарыч.
Боярин Вешняк вышел, а Дмитрий Александрыч задумчиво зашагал по покоям. Слишком много воли дал немецким купцам сын Всеволода Большое Гнездо, Ярослав Всеволодович. Еще в 1195 году он разрешил немцам постоянно жить в Новгороде и торговать беспошлинно, чем недовольны были русские торговые люди. Кроме того, в Новгороде не только возвели для немцев «Божницу Варяжскую» и «Немецкий двор», но и последовал на всю Русь строжайший указ: немцев в темницы не сажать, судные пошлины с них не брать и дозволить беспрепятственный отъезд в любой город.
Великим доброхотом оказался Ярослав Всеволодович. Такие бы вольности русским купцам за рубежом!..
Однако мысль князя Дмитрия вновь вернулась к сыну Лазуты Скитника. Почему всё же немцы полезли через кустарник к Тайницкой башне и, увидев русского купца, решили его убить? Значит, произошло что-то очень серьезное. Появление Лазутки стало для немцев чересчур опасным. Почему? На этот вопрос пока невозможно ответить. Одно настораживает — Тайницкая башня. На случай длительной осады вражьего войска, она становится главной. Без воды долго не протянешь, и если враг уничтожит эту башню, то весьма худо придется осажденным… Получается, это были не простые купцы, а соглядатаи, кои дотошно надумали осмотреть башню, а возможно и отобразить ее на бумаге. Но это лишь предположение. Надо во что бы то ни стало встретиться с этими купцами.
* * *
Наконец-то прибыли послы из Литвы. По усталым, но довольным лицам Неждана Корзуна и Лазуты Скитника князь сразу определил: поездка была хоть и длительной, но успешной.
— Король Воишелк согласился не только на мир, но и твердо надумал выступить вкупе с русскими дружинами на Ливонский Орден, — без обиняков произнес Неждан Иванович.
Дмитрий Александрович обнял обоих посланников, повеселел:
— Долго же он вас томил в своем Мариенбурге.
— Как в Золотой Орде, — заметил Лазута, с удовольствием закусывая чарку вина соленым белым груздем. Он крайне соскучился по русской снеди.
— Воистину, — кивнул Неждан Иванович. — Но у Воишелка, чтобы нас долго держать, была особая цель.
— Попытаюсь отгадать, — молвил Дмитрий Александрович. — Насколько мне известно от князя Довмонта, брат его не только чрезмерно коварен, но и дальновиден. Всё это время он постигал положение дел в Литве и на Руси. Стоит ли пойти на такой рискованный шаг? Цена союза с Русью слишком велика. Ливонский Орден удвоит, утроит свои усилия. Но и без Руси немецких крестоносцев не одолеть. А Русь сидит не только под Ордой, но и водит дружбу с лютыми врагами Литвы. И в первую очередь с братом короля, Довмонтом, коим недовольны многие литвины. Есть над чем задуматься Воишелку. Всего скорее. он уговаривал своих честолюбивых князей, дабы те на время забыли о Довмонте… Думаю, что король не забывал и Галицко-Волынскую Русь. Едва ли он не заручился поддержкой своих русских родственников и сыновей покойного Даниила Романовича, кои стали владетелями громадных земель. Лев, Мстислав и Шварн могут оказать большую помощь в борьбе с крестоносцами. Так что Воишелк не сидел, сложа руки. Наверняка вы наблюдали, как сновали гонцы от его замка. В чем-то я прав, Неждан Иванович?
— Почти всё так и было, князь. Единственное изменение касается сыновей Даниила Галицкого. Шварн скончался три недели назад. Кстати, он имел большое влияние на короля.
— Жаль, — откровенно посочувствовал Дмитрий Александрович. — Он больше походил на своего отца, чем Лев и Мстислав. Не случайно Воишелк не только отдал за Шварна свою дочь, но и щедро одарил его.
Князю хорошо было известно, что старший брат Даниила, Роман, обрел еще от Миндовга довольно крупный и влиятельный город Новогрудек, а также король передал ему литовские города Слоним и Волковыйск. Шварн же, после смерти Миндовга, по желанию Воишелка был признан наместником Литовским.
Сам же Воишелк опять, было, удалился в свою Данилову обитель, но пребывал в ней недолго, и виной тому стал Шварн. Сын Даниила Галицкого видел жуткие распри, происходящие в Литве и лютые казни, произведенные Воишелком. Оставаться в такой стране наместником было неуютно. Шварн отправил Воишелку грамоту, в коей настойчиво просил того вернуться в Литву, так как в ней вот-вот разгорятся кровавые волнения в пользу природных князей.
Воишелк, оценив ситуацию, вновь возвратился в свой литовский замок и объявил себя королем.
Шварн, прожив несколько лет с дочерью Воишелка, умер бездетным, оставив вдове огромное состояние.
Лишь Лев Даниилович, старший сын князя Галицкого, ничего не приобрел от литовских королей…
Неждан Иванович вытянул из-за пазухи две грамоты с печатями и протянул их Дмитрию Александровичу.
— То договора о мире. Одна тебе, князь, другая — великому князю Ярославу Ярославичу. Повторю: грамотах Воишелк предлагает не только мир, но и зовет русские дружины на крестоносцев.
— Вот и славно. Грамоты — не устные слова. Теперь великий князь не отвертится. Надо смело собирать дружины. Самая пора ударить на Ливонский Орден Час возмездия настал!
Глава 12 ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ
Хитрющий Ярослав Ярославич, хоть и не предпринимал решительных шагов, но через своих несметных соглядников хорошо ведал, что творится в каждом удельном княжестве. Многие князья, такие, как Глеб Василькович Белозерский, его не интересовали. Те сидят в своих городах тихо и мирно, послушно исполняя любое повеление великого князя.
А вот за сыном Невского, Дмитрием, княгиней Марией, ее сыном Борисом, да и некоторыми другими Ростово-Суздальскими князьями — глаз да глаз. Своевольцы! Всё норовят пакость какую-нибудь подкинуть, и гнут на свой хохряк[97]. Митька Переяславский да Бориска Ростовский, эк чего измыслили! Взяли да и послали к королю Воишелку своих гонцов. Без его великокняжеского повеленья! В кои-то веки было, чтобы дела державные решали без государя? (В некоторых своих грамотах Ярослав Ярославич подписывался «государем всея Руси»).
Изведав о таком бесчинстве, великий князь злорадствовал. Недоумки, дурни! Да разве король Воишелк, кой только и предается мечтам, дабы отхватить у Руси все её северо-западные земли, пойдет на мир с какими-то удельными князьями. Да никогда! Надо быть полным глупендяем, дабы согласиться на идиотские предложения.
Немало же посмеялся над князьями Ярослав Ярославич. Поизмывался и над княгиней Марией, заведомо предполагая, что без ее вмешательства гонцы к Воишелку не полетели. Вредная старуха! Давно пора поставить ее на место, но ближний боярин не советует.
— Уж слишком громкое имя, Ярослав Ярославич. Ее ни один великий князь не трогал. Эта ростовская княгиня слишком умна, действует крайне сторожко, за руку не схватишь.
— Терпенья не хватает смотреть на ее выходки. Давно надлежит старухе подрезать крылья.
— И всё же не следует того делать, великий князь. Вся Русь возмутиться. Князья на дыбы встанут. Великая замятня может пойти, да такая, что и Владимир вскинется. Народ-то владимирский, по правде сказать, коль гиль[98] по Руси загуляет, тоже за топоры возьмется.
Ярослав Ярославич пуще всего боялся бунта. Если вдруг стольный Владимир поднимется, то ему даже ордынский хан не поможет. Он всеми силами держался за великокняжеский стол, хорошо ведая, что горожане не только его недолюбливают, но и готовы, как это не раз делали новгородцы, собраться на вече и выгнать своего князя.
Владимир жил не в пустыне и знал, что творится не только в соседних уделах, но и на северо-западе Руси. Крестоносцы нападают на города и веси, выжигают русские поселения и угрожают Пскову и Новгороду. Князья, особенно Дмитрий Переяславский, давно предлагают великому князю собрать общерусскую рать и двинуть ее на Ливонский Орден. Но Ярослав Ярославич помалкивает да всё оглядывается на Золотую Орду.
Чтобы обезопасить себя от гнева Менгу-Тимура, великий князь еще два месяца назад высказал хану: Русь тревожат крестоносцы, и он хотел бы знать, что думает об этом несравненный повелитель Золотой Орды.
Менгу-Тимур, конечно же, не стал раскрывать своих тайных планов, однако, недвусмысленно заявил:
— Когда шакалы нападают на родной очаг, то их можно и попугать.
Больше хан Золотой Орды ничего не добавил, но этого было достаточно, чтобы у Ярослава Ярославича были развязаны руки. Однако и после этого он не стал спешить, дабы собирать дружины удельных князей. Дело не шуточное. Крестоносцы обладают огромной силой, и пойти на них с ратью — палка о двух концах. Можно и на щите вернуться[99]. А это уже конец его великому княжению.
По глубокому убеждению князя Ярослава, Русь без помощи многотысячного войска Золотой Орды не сможет одолеть Ливонский Орден. Правда, Митька Переяславский и Бориска Ростовский послали своих гонцов в Литву, дабы уговорить Воишелка выступить вместе на крестоносцев. Но тому не бывать! Гонцы останутся с носом[100]. А посему — лучше не соваться. И Великому Новгороду, и Пскову он дал от ворот поворот. Нечего понапрасну гонцов гонять.
Но вдруг князь Ярослав получил ошеломляющую грамоту за подписью самого литовского короля, кой не только твердо намерен заключить мир с Русью, но и незамедлительно просит выступить с дружинами на Ливонский Орден, обещая оказать всяческую помощь своими войсками.
Ярослав Ярославич пришел в замешательство. Вот тебе и Митька с Бориской! Уговорили-таки их послы Воишелка. Чего же делать-то, Господи! Неужели и впрямь придется собирать рать? И куда?! За тыщи верст, на край света. Сколь гридней и ополченцев надо собрать, сколь оружья на пешцев набраться! А обоз? И вовсе несметный. Одних лошадей понадобится целые табуны. А кормовых запасов? Прокорми экую рать, когда едва ли не вся дань уходит в Золотую Орду… И чего не сиделось Митьке с Бориской? Ежа что ли им под задницы пустили? Экие радетели Отечества отыскались. А всех больше Митька Переяславский воду мутил. Колобродный князь! Он, именно он во всем будет виноват. Всю Русь разорит. Подумал бы своей бестолковой башкой, на что других князей подстрекает. Надо бы его прыть укоротить. Нечего из себя полководца корчить. Повезло под Юрьевом, думает, повезет и со всем Ливонским Орденом. Дудки! Крестоносцев теперь на подвох не возьмешь. Это Александру Невскому удалось заманить немцев на Чудское озеро, а ныне они втройне усторожливы. Так своей «свиньей» попрут, что костей не соберешь.
Нет, надо от войны отказаться. С Литвой мир заключить (и то великое дело!), а на крестоносцев лучше не замахиваться. Так тому и быть!
Великий князь, было, успокоился, но через несколько дней его мысли круто изменились. Ближний боярин Аверкий Лобан, ведая о намерениях своего покровителя, с удрученным видом доложил:
— Князья ничего не хотят слушать. И Переяславль, и Ростов, и Суздаль, и Углич, и Ярославль, и другие города собирают дружины. Твоих же гонцов, великий князь, дрекольем[101] побивают.
— Ослушники! — закипел Ярослав Ярославич. — И чего им не сидится, придуркам!
— Не сидится, великий князь. Свои дружины норовят к Переяславлю двигать, а уж оттуда к Новгороду и Пскову, дабы и Довмонта с собой прихватить. И во Владимире шум идет. Народ горло дерет: буде князю Ярославу на пуховиках отлеживаться! Надо Русь спасать! Большой шум, князь… Надо бы с дружиной посоветоваться, а то…
— Не учи! — резко осадил ближнего боярина и советника Ярослав Ярославич.
Аверкий Лобан примолк: великий князь в боях трусоват, в державных делах нерешителен, а своих палатах он удалец, может и за плеть схватиться. Случалось!
Ярослав Ярославич, сидя в кресле, надолго ушел в думы. В итоге он решил: как ни хочется воевать, а придется, иначе можно и без стола остаться. Ныне, когда литовский король Воишелк предлагает двинуться на Ливонский Орден вкупе с Русью, князей уже не остановить. И если он, великий князь, останется в стороне, то окончательно поставит на своем стольном граде крест. Вече не миновать. Так что, пока не поздно, надо, хоть и с большим опозданием, слать гонцов по уделам и звать удельных князей на крестоносцев. В оном деле и хан Менгу-Тимур не возражает. Князья перестанут выкобениваться, а народ роптать. Вся Русь поймет, что это он, великий князь, повелел идти войной на зарвавшихся немецких рыцарей, кои беспрестанно вторгаются в русские пределы. И будет ему честь да слава. Ему, а не Митьке Переяславскому.
Глава 13 ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ
Старший сын Даниила Галицкого, Лев, был страшно разобижен. Его братья получили от Миндовга и Воишелка богатые города и поместья, а он остался в своем Перемышле.
После кончины великого Даниила Галицкого, его брат Василько Романович остался князем Владимиро-Волынским, и Льву его богатейшее княжество не досталось. Средний брат Льва, Мстислав, господствовал в Луцке и Дубне, а любезнейший отцу Шварн стал не только великим Галицким князем, но и с помощью Воишелка завладел большей частью Литвы. Дело этим не кончилось. Король снял с себя одежды княжеские, уступил Шварну престол и ушел в Угровский-Данилов монастырь.
Лев был взбешен. Да как можно терпеть такой срам?! Младший брат заимел громадную власть, стал, почитай, королем целой страны, а он, большак, довольствуется одним городишком.
Бешенство Льва несколько поубавилось, когда до него дошла весть о кончине Шварна. Он надеялся, что инок Воишелк передаст ему Литву, но этого не произошло. Воишелк вернулся на престол и заключил с Русью мир.
Лев вновь пришел в ярость. Теперь в Литву полезут русские князья, улестят Воишелка, перейдут к нему на службу и получат от него литовские города. На черта нужен такой мир. Уж лучше бы Воишелк воевал Русь и отдавал завоеванные земли старшему сыну Даниила Галицкого.
Лев Даниилович чрезвычайно любил власть. Собственное честолюбие было куда важнее судьбы родины. Он, женатый на дочери венгерского короля Белы Четвертого, мечтал не только стать великим князем Галицко-Волынской Руси, но и владетелем Литвы. (Был же Шварн ее наместником!). Однако этот угровский инок, поклявшийся всю жизнь служить одному Богу, разрушил все его тщеславные помыслы.
Лев Даниилович возненавидел Воишелка. Этот «волк в овечьей шкуре» должен уйти с его пути. Надо принять все силы, чтобы король Литвы вновь убрался в свою обитель. Он много лет прожил монахом, пусть и сейчас удаляется в свою келью. Надо поговорить с дядей Васильком Романовичем, кой пользуется благосклонностью Воишелка. Не зря тот, проживая в обители, говорил:
«Вот подле меня сын мой Шварн, а там господин мой, отец князь Василько, буду ими утешаться».
Не зря Воишелк называл Василька своим «господином»: Василько Романович помог своим войском утвердиться Воишелку в Литве. Такое не забывается. Лев слишком хорошо знал своего дядю. Тот, как брат Даниила Галицкого, участвовал почти во всех его битвах и был в чести, как отважный полководец. Именно Василько спас Холм — любимый город Даниила, где он был позднее и похоронен.
А случилось это в 1261 году. Один из самых верных и даровитых сподвижников хана Батыя, постаревший Бурундуй, прислал к Даниилу Галицкому своих послов, кои сказали:
— Если ты, князь Даниил, хочешь жить в мире с Золотой Ордой, то встреть с честью Бурундуя, а если не встретишь, будешь ему враг.
Даниил понимал, что его поездка к Бурундую может окончиться его гибелью. Ордынский полководец не забудет, как он бил татарские полки. Он еще несколько лет назад не отказался от мысли сопротивления ордынцам: укреплял города и не позволял баскакам утверждаться в днестровских низовьях. Ближайшим соседом Даниила в Приднестровье был баскак Куремса. В 1257 году князь выступил против него, разбил его войска и «побрал все русские города, непосредственно от Куремсы зависящие».
Через два года Куремса оправился, пополнил свои отряды и появился у Владимира Волынского, но был отбит жителями города. Тогда разгневанный баскак пошел на Луцк, и принялся кидать на стены крепости огромные камни из камнеметных орудий. Но сильный ветер, продолжавшийся несколько дней, относил от города все каменья, бросаемые татарами из машин. Пойти же на осаду крепости Куремса не решился.
В 1261 году Бурундуй во второй раз прислал к Даниилу своих послов, требуя, чтобы великий князь приехал в его шатер, иначе Бурундуй двинет свои тумены на Галицко-Волынскую Русь.
На совете Василько Романович заявил:
— Все мы знаем, брат, что ехать тебе к Бурундую нельзя. Ты погибнешь. Я поеду вместо тебя, возьму с собой племянника Льва и холмского владыку Ивана. (На Руси уже знали, что татары питают слабость к служителям всех религий). Авось, Бог не оставит нас в своей милости.
Василька Романовича поддержали все дружинники Даниила.
Лев отправился к ставке Бурундуя с гнетущим настроением. Встреча с ордынским полководцем ничего хорошего не предвещала. Так и вышло.
Бурундуй встретил посланников Даниила такой отборной бранью, «что владыка Иван стоял ни жив, ни мертв от страха».
Наконец жестокий военачальник сказал князю Васильку:
— Если хочешь, чтобы я тебя не кинул голодным псам, то испепели Холм. Мне противен излюбленный город твоего великого князя. Да и ты, Василий, как мне известно, особо почитаешь город брата. Преврати его в головешки, а всех защитников — урусов уничтожь. Даже младенцев не щади.
Василий Романович поник, а затем, после непродолжительного раздумья, молвил:
— Твоя воля священна, Бурундуй.
Острые, желтые глаза уперлись в Льва Данииловича.
— А ты, сын шакала, разметай мне города Данилов, Истожек и Львов.
— Я исполню любой твой приказ, — послушно произнес Лев. — Но мне нужны твои воины.
— Золотая Орда богата защитниками ислама. Ты получишь моих храбрых багатуров.
Владыку же Ивана отправили к Даниилу «с вестию о гневе Бурундуя».
В тот же день, возглавив татарские тумены, Лев Даниилович поспешно ринулся разрушать города своего родного княжества, и делал это с таким рвением, как будто уничтожал города самых злейших врагов. Даже Бурундуй похвалил:
— Золотая Орда не забудет твое усердие.
По-другому повел себя Василько Романович. Стереть с лица земли Холм — предать брата, основавшего город.
Холм был сильно укреплен. В нем сидело немало ратных людей с пороками и самострелами, так что взять крепость без больших потерь было непросто. Старому же полководцу лишаться своих воинов не хотелось: ему еще, по приказу хана, предстоял большой и длительный поход на Польшу.
И тогда Бурундуй произнес Васильку:
— Это город твоего брата. Ступай к крепости и скажи воинам, которые тебя хорошо знают, чтобы открыли ворота и сдались.
С Васильком Романовичем полководец послал десяток татар и толмача, знавшего русский язык, — слушать, что Василько будет говорить с холмовцами. Брат же Даниила, пока ехал к городу, догадался, что ему предпринять. Он набрал в руки камней и, подъехав к стенам крепости, принялся кричать главным боярам:
— Константин Владимирович и ты Лука Иванович! Этот город не только брата моего Даниила, но и мой. Повелеваю вам сдаться!
И прокричав эти слова, Василько Романович три раза ударил камнем о землю, давая этим знать, чтоб горожане не сдавались, а бились с татарами насмерть.
Боярин Константин Владимирович, стоя на стене, увидел знак, понял его смысл и ответил Васильку Романовичу:
— Ступай прочь, подлый изменник, если не хочешь, чтоб не пустили в тебя стрелу! Ты уже не брат Даниила, а его враг! Мы будем биться до последнего ратника, но город поганым не сдадим!
Толмач, бывший с Васильком, рассказал своему военачальнику ответ Константина, и Бурундуй, не решившись осаждать Холм, отправился опустошать Польшу, откуда уже вернулся в степи…
Старый Даниил Романович до самой смерти не мог простить своего сына, хотя прекрасно понимал, что не выполни он приказ Бурундуя, то его бы ждала неминучая погибель. Но уж лучше почетная смерть, чем открытое предательство.
До самой кончины отца Лев жил, как затравленный волк. Через три года Даниила Романовича не стало… По старине Лев должен стать великим князем Галицко-Волынского княжества. Но отец всё завещал младшему Шварну, а Воишелк передал тому литовское королевство…
Злобой и неистребимой завистью исходил Лев Даниилович. Слава Богу, Шварна уже нет, а вот Воишелк вновь принял мирскую жизнь и он не хочет замечать старшего сына Даниила, питая к нему открытую неприязнь. Надо положить этому конец. Бывший монах должен навсегда уйти в свой монастырь. Возможно, он послушает совета своего «отца» Василька Романовича. Надо немешкотно ехать к дяде. Но тот, конечно, не примет его с распростертыми объятиями. Уж слишком ретиво послужил Лев темнику Бурундую.
Но у Льва не было другого выхода. Неужели у родного дяди такое жестокое сердце, и он не простит своего племянника? Все-таки родная кровь, да и немало лет пролетело с той поры. Дядя хоть и посерчает, но поможет примирить его с Воишелком, а то вражда можете перейти в настоящую войну.
Лев, не без смятения в душе, снарядился во Владимир Волынский. Василько Романович и в самом деле встречал племянника ворчливо:
— Давненько не видел тебя, племянничек.
— Да всё дела неотложные, дядя, — озабоченно произнес Лев. — Забот — полон рот.
— Слышал, слышал о твоих заботах. Чу, дружину на Воишелка собираешь?
— Да как не собирать, дядя, когда Воишелк готов меня проглотить с потрохами. Слушок идет, что король помышляет послать своих воинов на моё княжество.
— Брехня, Лев. Аль ты не слышал, что Воишелк заключил мир с Русью? Ныне он настолько смирен, что даже не поехал жить в свой королевский замок, а остановился в Михайловском монастыре.
— Сомневаюсь я, дядя, в миролюбии Воишелка. Не зря ж его прозвали «волком в овечьей шкуре»… А в обители он, поди, не зря сидит. Очередную пакость задумывает.
— Может, и задумывает, но только не пакость. Воишелк, как я думаю, сбивает с толку ливонских рыцарей и поджидает, когда придут в Литву дружины русских князей. Напрасно ты на него ожесточился. Пора тебе замириться с Воишелком.
Последние слова Василька весьма порадовали князя. Ведь с этим он к дяде и приехал.
— Ты прав, Василько Романович. Не время ныне острить мечи друг на друга. Я готов примириться. Но как это лучше сделать? Может, окажешь помощь?
— Непременно окажу. Завтра же отправлюсь в монастырь, а ты здесь поджидай.
Прежде чем ехать к Воишелку, Василько Романович посетил немца Маркольда, старого советника князя Даниила Галицкого, и только после этого он направился в обитель.
Разговор «отца» и Воишелка был длительным. Оба говорили не только о старшем сыне Даниила Галицкого, но и обсуждали ситуацию, сложившуюся с Русью. Оба пришли к твердому выводу: мир с Русью необходим. Только совместными усилиями можно разбить Ливонский Орден.
Со Львом же Воишелк согласился встретиться во Владимире Волынском, у немца Маркольда. «Все три князя обедали весело, много пили, Василько после обеда поехал к себе домой спать, а Воишелк поехал в Михайловский монастырь».
Примирение состоялось, но Лев твердо уяснил для себя, что король Воишелк не собирается покидать мирскую жизнь, а, напротив, до конца своей жизни остаться владетелем Литвы. И другое обстоятельство вывело из равновесия перемышльского князя. Воишелк не посулил Льву никаких городов и земель, что вновь его взбесило. Он опять останется без власти.
Возбужденный Лев Даниилович поскакал к Воишелку в монастырь.
— Король! Мы славно посидели. Попьем-ка еще!
— А что? — пьяно отозвался Воишелк. — В погребе монастыря хватит вина. Эгей, служки!
Вскоре застолье продолжилось.
— Я хочу выдать тебе, Воишелк, одну большую тайну, — осушив кубок вина, тихо произнес Лев.
— Выдавай, — покачиваясь в кресле, сказал Воишелк.
— Большую тайну. Ни один человек, кроме тебя, не должен о ней знать.
— Служки, прочь из трапезной!
Оставшись один на один, Лев подошел к Воишелку и всё так же тихо, загадочно проговорил:
— Даже стены имеют уши.
— Стены? — поднявшись из кресла, переспросил Воишелк, и осовелыми глазами оглядел своё временное пристанище. Через несколько дней он вновь хотел вернуться в королевский замок, где недавно принимал посольство русских князей.
— Ты, пожалуй, прав… А теперь говори.
Лев наклонился к уху короля и зашептал:
— Твои руки по локоть в крови. Ты, Воишелк, хуже самого злого пса, хуже скотины…
— Что-о-о? — вмиг отрезвел король, но тотчас острый кинжал по самую рукоять вошел в его живот.
Лев, без каких-либо затруднений, вышел из стен монастыря, где его поджидали дружинники, и поехал в королевский замок. Он, ведая, что Воишелк казнил многих литовских князей, помышлял воспользоваться убийством короля и приобрести себе Литву, «но не получил успеха в этом деле, и литовцы выбрали себе единоплеменного князя».
Так порвано было в самом начале мирное соединение Литвы с Русью.
Глава 14 ХУДАЯ ВЕСТЬ
Лазута вернулся в Ростов Великий темнее тучи.
— Аль худо съездил? — неспокойно вопросила Олеся Васильевна, встретив мужа на крыльце — Заждалась тебя, любый мой!
Лазута Егорыч молча обнял супругу и, не проронив ни слова, поднялся в покои. Понуро сидел на лавке и напряженно думал:
«Как передать Олесе слова князя Дмитрия, кои он сказал в конце разговора посланников о Литве. Господи, как поведать черную весть!»…
— Сына твоего, Лазута Еогрыч, убили немецкие купы у Тайницкой башни, но тела его так и не нашли.
«Как поведать? Младшенький — любимый сын Олеси, души в нем не чаяла. Услышит — и рухнет замертво. Уж слишком сердце у нее нежное и чадолюбивое, может и не вынести такого страшного горя… Нет, правды ей не сказать. Молвлю то, как с дворовыми договорился».
— Что ж ты молчишь, любый мой?
Олеся Васильевна дожила до почтенного возраста, но безоглядной любви и ласки своей к мужу не утратила.
— Да видишь ли, Олеся… Васютка, чу, в заморские страны торговать подался… И меня не спросился. Вот я маленько и переживаю.
— Да как не переживать, любый мой! — всплеснула руками Олеся Васильевна. — В такую одаль? Да еще один!
Митька и Харитонка прибыли вместе с Лазутой Егорычем.
Глаза Олеси Васильевны стали печальными.
— Да как же он не побоялся? В заморские страны на кораблях плавают, по окиан-морю. Ужас-то, какой!
— Да ты не пугайся, Олеся. Не один за море подался. С купцами. Пора и ему к заморской торговле приглядеться, коль с купеческими делами связался… Не так ли, Василий Демьяныч?
— Так, зятек. Почин всего дороже, а пора деньги кует. Хватит Васютке по своим городишкам шастать. Надо и в набольшие купцы пробиваться. А кто за морем не бывал, тот еще не купец. Молодец, Васютка!
Но бодрые слова отца Олесю Васильевну не утешили.
— Рассказывали мне, что в окиан-море жуткие бури случаются. Корабль как щепку кидают. Уж на что у нас озеро тихое, но когда буйный ветер поднимется, ладья того гляди, перевернется. А тут!
— Ладья — не корабль, дочка. Дважды за море ходил в молодости. Никакая буря кораблю не страшна, — норовил успокоить Олесю Василий Демьяныч.
— Да и долго, поди, ходить за море?
— Это — когда как, — начал было старый купец, но его тотчас прервал Лазута:
— Долго, Олеся. Ты уж привыкни к этому. Бывает, год, а то и два за морем живут. Привыкни, родная.
Василий Демьяныч глянул на зятя странными глазами, но смолчал.
* * *
Погоня за немецкими купцами не увенчалась успехом. Дружинники князя Дмитрия домчали до самого Великого Новгорода, но в городе купцов не оказалось. Предупредив о подозрительных немцах князя Юрия Андреевича, дружинники вернулись в Переяславль.
— Теперь у меня все сомнения окончательно отпали. Сущие купцы мимо Новгорода бы не проехали. Пошли окольными путями. Город посетили ливонские лазутчики… И всё-таки в этой истории немало загадочного. Отныне надо зорче приглядываться к Немецкому двору…
* * *
Великий князь Ярослав Ярославич не пошел в поход на Ливонский Орден. Вместо себя он отправил своих сыновей Святослава и Михаила. Наказал:
— Вперед не лезьте. С рыцарем биться — не щи хлебать.
— Так ить, батя, без смелости сила попадает на вилы, — молвил старший Святослав.
— На смелого собака лает, а трусливого рвет, — вторил брату Михаил.
Ярослав Ярославич недовольно поджал надменные, рдеющие губы.
— Ишь, какие у меня сынки — говоруны. У калик перехожих пословиц нахватались. Это они всё о богатырях и храбрецах брешут, да разными прибаутками сыплют. Повелю выгнать из хором, бездельников! Вы отца слушайте, коль непутевые башки не хотите потерять. Не сметь, баю, вперед лезть! На то дружинники имеются.
— Кому ж тогда, батя, в челе войска идти? — спросил Святослав.
— Аль не ведаете, кто в воеводы рвется? Митьке Переяславскому! Вот пусть и хорохориться. Но и вы чести своей не роняйте. Помните, вы — сыновья государя всея Руси. Полки правой и левой руки — ваши. А как дело до сечи дойдет — смекайте, как свои головы сохранить. Уразумели?
— Уразумели, — поклонились отцу великовозрастные чада.
Ярослав Ярославич не верил в успех нынешнего похода. Ливонский Орден, если он соберет все свои войска в один кулак, Митьке не осилить. Вернется, коль останется жив, с поджатым хвостом. Давно пора сбить с него спесь. Вот тогда и отвернутся от него князья. Поймут, кто самый умный человек на Руси, и вновь все сплотятся вокруг великого князя. Тогда и повеления Менгу-Тимура будет легче выполнять.
Дружины, собравшиеся в Переяславле, двинулись к Новгороду в конце октября 1267 года. Шли спокойно и уверенно. Рать собралась немалая. А позднее вольются в войско новгородская, полоцкая и псковская дружины. И не только! Литовский король Воишелк поможет крестоносцев бить. Со щитом будет русское войско!
Никто не сомневался в успехе. Но верст через двести из Новгорода примчал гонец на взмыленном коне. Воеводе, князю Дмитрию Александровичу, он поведал худую весть:
— Сын Даниила Галицкого, Лев, убил короля Воишелка и помышлял захватить Литву, но местные князья прогнали убийцу из королевского дворца и выбрали своего князя. Лев бежал в Перемышль, а Литва собирает войска на Русь.
Дмитрий Александрович помрачнел: старший сын Даниила Романовича своим подлым поступком напрочь сорвал мир с Литвой, о коем так трудно добивались и княгиня Мария, и Борис Василькович, и он, князь Дмитрий. А сколько сил приложили Неждан Иванович Корзун с его помощником Лазутой Скитником! Все благие намерения оказались напрасными, их, словно мечом разрубили. Ныне ситуация круто изменится. Ливонский орден заметно оживится, а Литва с новой жестокостью начнет нападать на русские земли. Ныне, уж коль пошли в поход, придется воевать с двумя государствами… Какую же черную весть доставил гонец!
* * *
Псковский князь Довмонт поспешил в Новгород и попросил Юрия Андреевича собрать вече. Племянник великого князя не возражал: дела принимают угрожающий оборот и без городского схода ныне не обойтись.
Вече было бурным и долгим, но на сей раз обошлось без потасовки: даже боярская верхушка поняла, что медлить нельзя. Надо проворно выступать супротив Литвы.
Воеводой выбрали известного ратоборца Довмонта, кой не раз с большим успехом разбивал литовские отряды. Успех сопутствовал русскому войску и на сей раз. Довмонт, не дожидаясь ростово-суздальской рати, не только отразил вражеские войска, но и «много повоевал вражьих земель».
Когда Дмитрий Александрович пришел в Новгород, то Юрий Андреевич ему поведал:
— Довмонт пошел на Ливонский Орден.
— Не слишком ли рискует? — засомневался Дмитрий Александрович.
— Вот и я о том же думаю. У Довмонта не такое уж и великое войско. Тяжко крестоносцев воевать.
(Бывший литовец хоть и принял христианское имя Тимофей, но все его продолжали называть Довмонтом).
Племянник великого князя пытливо глянул в глаза двоюродного брата и, с явным колебанием в голосе, молвил:
— Десять дней назад ушел, но добрых вестей пока не слышно. Крестоносцы — не ливы. На западе их считают лучшими воинами… Стоит ли идти на Орден, Дмитрий Александрович? Может, как-то замириться с ними?
Князь Дмитрий ответил резко и без раздумий:
— Ливонский Орден никогда не пойдет на мир с Русью. Прошлое показывает, что немцы всегда были враждебны к нашему народу. И если мы ныне повернем вспять, то крестоносцы посчитают нас трусами и ударят так по нашему Отечеству, что мы десятилетия будем залечивать свои раны.
— Всё может быть, — нерешительно произнес Юрий Андреевич.
А князь Дмитрий, повернувшись к окну терема, сожалело вздохнул. Хоть и говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, но не в отца пошел Юрий Андреевич. Отец-то, Андрей Ярославич, был деятелен, храбр и дерзок. Он не послушал своего умудренного брата Александра Невского и поднял во Владимире, в 1252 году, дружину на Золотую Орду. Взрывной и неугомонный был князь Переяславский, никого не боялся, ни к кому не прислушивался и люто ненавидел татар… А вот сынок его куда сдержанней и миролюбивей, во многих делах неуверен и до любой войны не охоч. Кое в чем он походит на своего дядю, великого князя Ярослава. Зато у своего двоюродного брата Дмитрий не замечал ни чванства, ни тщеславия, ни стремления к безраздельной власти. Видимо, за это его и терпели гордые, вольнолюбивые новгородцы.
Весть от Довмонта пришла на другой день:
— Новгородская и псковская дружины возвращаются. Довмонт помышлял взять Раковор, но потерпел неудачу.
— В чем причина? — спросил посыльного Дмитрий Александрович.
— Раковор — неприступная крепость. Князь Довмонт оглядел ее и даже осаждать не стал.
— Я так и думал, — молвил князь Юрий. — Еще в Новгороде упреждал: не ходи на Раковор. Крестоносцы считают сей город самой могучей крепостью. Не послушал-таки!
Князь Дмитрий, готовясь к войне с крестоносцами, был много наслышан о Раковоре. Такую крепость и впрямь будет взять нелегко. Воздвигали ее, совместно с немецкими мастерами, датские рыцари, давние недруги Руси, ходившие вместе с немцами в походы.
— Что делать-то будем, брате?
— Подождем Довмонта, — коротко отозвался Дмитрий Александрович.
Воевода Довмонт появился в Новгороде через несколько дней. Это был приземистый, крепко сбитый человек с льняными волосами, живыми, отважными глазами и с двумя шрамами на загорелом сухощавом лице. Он вошел в покои Юрия Андреевича в ратном доспехе, и, стянув с головы мисюрку[102], поздоровался с князьями:
— Доброго здравия, Юрий Андреевич и Дмитрий Александрович.
— И тебе доброго здравия, князь Псковский, — радушно произнес Дмитрий, с интересом вглядываясь в Довмонта. Он впервые видел прославленного воеводу, и сразу про себя отметил: истинный воин, удалец, предприимчивый человек. В княжьих палатах держится достойно и уверенно.
Сбросив на лавку кафтан и, оставшись в серебристом, пластинчатом панцире, тотчас заговорил, обращаясь к воеводе ростово-суздальской рати:
— Литву мы побили, Дмитрий Александрович, а вот крестоносцев разбить не удалось. Пытались взять их главную крепость Раковор, но без стенобитных пороков[103] ее не одолеть. Надо искусных мастеров искать.
— В Новгороде таких мастеров и в помине не найдешь, — развел руками князь Юрий Андреевич.
— И не только в Новгороде, — нахмурил чело Довмонт. — Русские дружины привыкли осаждать крепости без пороков. Незадача!
— Есть у меня такой умелец, — молвил Дмитрий Александрович.
— Да ну! — искренне удивился Довмонт. — Не думал, что на Руси имеются такие мастера.
— Извини, князь, — произнес Дмитрий Александрович. — Ты недавно на Руси и народ наш еще плохо ведаешь. Русский умелец любого немца за пояс заткнет. Сегодня же покажу.
— Твой княжеский розмысл?[104]
Дмитрий Александрович улыбнулся.
— Розмысл по бражному делу.
— Не понял, князь.
— Простолюдин. К чему рук не приложит, всё горит. А бражку он такую выделывает, что ковш выпьешь — в пляс пойдешь, а голова с похмелья не трещит, светлая, как вода родниковая. Вот такой он у меня розмысл.
— Да как же он такую бражку готовит? — заинтересовался Довмонт.
— А бес его знает. Никому своей тайны, ни за какие деньги не выдает.
— Вот бы его вызвать из Переяславля в Новгород, коль он и пороки смастерить сумеет, — молвил Юрий Андреевич.
— И вызывать не надо. Аниську Талалая, так его в народе кличут, я преднамеренно с собой прихватил. Он еще со мной, пять лет назад, на Юрьев ходил, и такие хитроумные пороки сотворил, что удалось крепость в три стены осилить. Вот и ныне сердце чуяло, что без осадных орудий нам не обойтись.
— Отрадно, князь Дмитрий Александрович, — оживился Довмонт, а затем, малость подумав, спросил:
— А что такое Талалай? Имя какое-то необычное.
— На Руси, Довмонт, едва ли не у каждого человека своя кличка. И всех изрядных говорунов Талалаями прозывают.
На другой день, в гриднице, был совет князей, новгородских бояр, псадника Михаила, тысяцкого Кондрата и всех старших дружинников.
Много речей было об убийстве короля Воишелка и срыве мирных соглашений с Литвой, что значительно затруднит поход на немецких и датских крестоносцев. Некоторые новгородские бояре, сторонники князя Юрия Андреевича, высказывались за отмену похода на датчан и Ливонский Орден. Но совет переломил князь Дмитрий Александрович:
— Никогда еще мы не имели такого значительного войска. Предательское убийство Воишелка не должно нас остановить. В Литве сейчас идут кровавые междоусобицы. Каждый крупный князь стремится примерить на себя королевскую корону. Уверен, что литовским войскам ныне не до войны ныне с Русью. Ныне самый опасный враг — немецкие и датские крестоносцы. Последние особенно беспокоят Новгород. Мы должны захватить их крепости, дабы больше не угрожали русским землям и пропускали наших купцов к Варяжскому морю. Думаю, мы без особых потерь пройдем через Латвию и направимся на Раковор, основную твердыню датских крестоносцев, захвативших вкупе с немцами всю Эстонию. Князю Довмонту не удалось овладеть крепостью. Но его особой вины нет. Без внушительного войска и стенобитных орудий Раковор не взять. Крупное войско у нас есть, а пороки изготовим в Новгороде. Упустим момент, распустим дружины — будем кровавыми слезами умываться. Такого нам ни Бог, ни Русь не простят. А посему надо твердо идти на крестоносцев!
Веские, уверенные слова переяславского князя поддержали и Довмонт Псковский, и князь Полоцкий, и сыновья великого князя Ярослава Ярославича, и тысяцкий Кондрат, и посадник Михаил новгородский, пользующийся большим влиянием у боярской верхушки. В результате весь совет оказался на стороне князя Дмитрия. Видя это, вечно колеблющийся Юрий Андреевич, несколько помолчав, подытожил:
— Быть посему. Пойдем на ворога.
Глава 15 В ПЛЕНУ У КРЕСТОНОСЦЕВ
Мариенбург был стольным городом великого магистра Ливонского Ордена, Отто Руденштейна. Он встретил командора Вернера Валенрода сдержанной улыбкой.
— С прибытием, командор. Всё ли у тебя благополучно?
— Поездка оказалось нелегкой, но удачной. Я привез чертеж змеиного гнезда Александра Невского.
Великий магистр не стал спрашивать о трудностях поездки, однако не оставил Вернера без благодарственных слов:
— Я доволен тобой фогт[105] Валенрод. Ты, как всегда, достойно справился с моим поручением. Я не забуду твоего усердия.
Вернер положил на стол магистра бумажный свиток и добавил:
— Мне удалось захватить в плен русского купца, великий магистр.
Обычно бесстрастное лицо Отто Руденштейна заметно изменилось, теперь оно выражало неприкрытое удивление.
— Зачем ты это сделал, командор?
Вернер не стал рассказывать магистру всех подробностей захвата русского человека: это не входило в его интересы. Чем меньше Руденштейн будет знать, тем лучше для Валенрода. Ответил же он так:
— Полонили на обратном пути. Этот купец, когда мы пойдем на земли князя Дмитрия, нам может очень пригодиться. Он отлично знает все пути и дороги. А пока пусть посидит в моем замке.
— Хорошо, фогт Валенрод, — принял обычное выражение лица Руденштейн. — Теперь ты можешь отдохнуть, но передышка будет недолгой. Через несколько дней мы выступим на русские княжества.
Удаляясь на вороненом коне в свой замок, командор с усмешкой думал:
«Знал бы ты, магистр, кого мы полонили. Сына посланника ростовского князя Бориса. Ты б непременно забрал его к себе, ибо на войне с русскими, ты большой любитель поиграть в обмен пленными. Лазута Скитник — не простолюдин, он ходит в чине боярина. Это он приезжал с Нежданом Корзуном к королю Воишелку, и был вторым послом. Сын его, Василий Лазутыч, хоть и является купцом, но дорого стоит. Он, Вернер, поведет свою игру».
Фогту пришлось добираться до Ливонии окольными путями, минуя торговый Новгород. Другого выхода, после некоторых слов пленника, у него не было…
Очнувшись в повозке немецкого «купца», Васютка тотчас сказал, чтобы его немедленно развязали, на что «купец» лишь рассмеялся:
— Многого захотел. Слышь, Бертольд? Развязать его и отпустить к князю Дмитрию в Переяславль?
— Купец шутит, Вернер… Начинается глухой лес. Не пора ли закопать в землю этого живучего торгаша?
— Пора, Бертольд.
— Мерзавцы, — с отвращением произнес Васютка. — Я не боюсь смерти, но и вам не гулять по белу свету. Бог всё равно накажет пакостных людей.
— Говори, говори, — скалил зубы Бертольд Вестерман. — Мы еще поживем, а вот ты скоро сдохнешь, и тебя сожрут всякие ползучие гады.
Вернер приказал остановить повозку, поманил рукой кнехтов и приказал:
— Отнесите пленника подальше в лес, умертвите, выкопайте заступами небольшую могилу и, как следует, заделайте ее дерном и хворостом. А ты, Бертольд, проследи. Поторапливайтесь!
(Русские дороги нередко проходили через гати[106] и незамощенные вязкие места. Колеса оседали по самые ступицы, поэтому в каждую подводу предусмотрительно были положены топор и заступ).
— Негодяи! Мой отец — влиятельный человек в княжестве. Он непременно разыщет вас, стервятников, и жестоко отомстит. Рано радуетесь, псы немецкие!
Бертольд злорадно захохотал, а Валенрод поднял руку. Он, как и купец Бефарт, неплохо знал русский язык.
— Остановитесь, кнехты!
Фогт ступил к Васютке, коего уже потащили в дремучий лес.
— Кто твой отец?
— Старший княжеский дружинник, Лазута Скитник, кой ходит в боярском чине. Он всё равно найдет вас, душегубов, и срубит ваши головы.
Изощренный ум Вернера сработал в мгновение ока. Он вновь поднял руку.
— Отнесите этого купца в мою повозку.
Фогт Валенрод, еще перед поездкой в Переяславское княжество, знал, что к литовскому королю Воишелку отправились послы Дмитрия Переяславского и Бориса Ростовского — бояре Неждан Корзун и Лазутка Скитник. (Вернер имел прекрасных осведомителей). Еще тогда он подумал:
«Русские князья не дремлют. Они отлично ведают, что Литва, постоянно воюющая с Ливонией, заинтересована в военном союзе с Русью. И если Воишелк, откинув гордость и обиды, нанесенные ему Новгородом и Псковом, пойдет на мир с Русью, то Ливонскому Ордену будет куда сложней распространять свою веру и завоевания на русские земли и Прибалтику. А король Воишелк может забыть обиды, даже те оскорбительные, которые нанес ему победными походами родной брат Довмонт. Король-монах довольно умен, чтобы отказаться от заманчивого предложения русских послов. И не дай Бог, если мир состоится!»
В Переяславле фогт Валенрод оставался в неведении. В городе всё было тихо, и не ощущалось никаких признаков, чтобы князь Дмитрий протрубил ратный поход. Всего скорее, он поджидал своих посланников, которые длительное время пребывали у Воишелка.
Лишь в Мариенбурге Вернер узнал, что Русь и Литва договорились начать против Ливонии совместный поход.
* * *
Васютку заперли в одной из небольших комнат каменного замка Валенрода.
С того момента, как он назвал имя своего отца, всё изменилось как по волшебной палочке. Его развязали, стали поить и кормить. Вначале он хотел отказаться от пищи, но затем передумал. Надо копить силы, дабы, улучив удобный час, совершить побег. Но этого ему сделать не удалось: с наступлением сумерек руки и ноги его вновь стягивали сыромятными ремнями, а днем за ним неустанно присматривали кнехты.
И всё же Васютка сделал одну попытку. Во время одного из обеденных привалов, он сидел у разведенного костра и украдкой разглядывал лес, с надеждой ринуться в самую глухомань. Он так и сделал, но до чащобы добраться не удалось.
Васютка повалился наземь буквально через три десятка шагов, забыв о том, что немцы накидали в его сапоги мелкие, но острые камешки. Обе ступни были разбиты в кровь. Он сидел на земле и отчаянно ругался.
— Может, донести его назад? — повернувшись к Вернеру, спросил купец Бефарт.
— Пусть сам возвращается, и навсегда запомнит, что от нас убежать невозможно, — жестоко отозвался командор.
Больше попыток к бегству Васютка не предпринимал: напрасная затея. Теперь только надеяться на чудо. В лесах иногда обитают разбойные люди. А вдруг им удастся столкнуться с иноземцами?
Но с лихими людьми крестоносцы разминулись.
У Васютки продолжала болеть голова, но его не покидали думы о Марьюшке. Что с ней случилось? Пока он ходил через кустарник к стенам крепости, Марьюшка осталась ждать его у дороги. Затем на него напал сзади немец и чуть не убил его. Он упал и на какое-то время потерял рассудок.
Что же стало с Марьюшкой? Она долго ждать не могла. Думается, она окликнула его и, не услышав отзыва, пошла к крепости. Если это так и произошло, то Марьюшку… Господи, об этом даже страшно подумать! Марьюшку загубили те же немецкие купцы. (Позднее Васютка узнает, что это были ливонские крестоносцы). Они, конечно же, не захотели оставить в живых послуха[107]. Но это же жуткая беда! Из-за него, Васютки, немцы убили его любимую девушку, его несравненную Марьюшку.
А то, что произошло убийство, Васютка уже не сомневался. Если бы Марьюшка осталась жива, то она непременно побежала бы к княжескому терему и всё рассказала стражникам у ворот. Князь Дмитрий учинил бы погоню, и он, Васютка был бы освобожден из плена.
— Что вы сделали с моей девушкой? — спросил он в повозке у Вернера.
— С какой девушкой? — сделал удивленные глаза Валенрод. — У тебя, купец, не всё в порядке с головой. Мой Бертольд Вестерман перестарался. Извини, но у него богатырская рука. Разве ты видел девушку у крепости?
— Нет.
— Вот видишь, купец. И мы не видели никакой девушки. Правда, Вестерман?
— Правда, командор. Купчик всё еще бредит. Ему снится сладкий сон, как он тискает свою девушку в постели, — рассмеялся Бертольд.
Вернер перевел слова телохранителя, но Васютка замотал головой.
— Я не верю вашим словам, негодяи. Вы сговорились.
— Думай, как хочешь, купец, но я не желаю больше тебе что-то доказывать.
* * *
В жизни Васютки ничего не менялось. Пошел четвертый месяц его заточения, — гнетущего и монотонного. Дважды в день: поздним утром и ранним вечером один из слуг фогта Вернера приносил ему кувшин с водой, медный поднос с незатейливой пищей, ставил на узкий деревянный стол и молча уходил, не забывая закрыть с обратной стороны дверь на замок.
Еще в первый день, приглядевшись к слуге, Васютка убедился, что он может легко с ним расправиться и сделать новую попытку побега, теперь уже из замка. Но слуга, словно почувствовав намерение узника, широко распахнул дверь, и показал ему на темный, освещенный единственным факелом, длинный коридор, в конце которого виднелась железная решетка, охранявшаяся вооруженными кнехтами.
Васютка скрипнул от злости зубами, а слуга ехидно усмехнулся. У него было недоброе, надменное лицо с леденящими, колючими глазами.
Каждый раз, ставя поднос на стол, он выдавливал из себя ядовитую ухмылку и презрительно смотрел на пленника, словно видел перед собой что-то отвратительное.
Васютка как-то не выдержал и, с необычайной для него резкостью, проговорил:
— Ты чего выкобениваешься, мерзкий паук! Ты дождешься, что я размозжу о стену твою наглую морду!
Увидев разгневанные огоньки в глазах узника, немец, не поняв слов Васютки, но, догадавшись, что этот невольник произнес что-то о нем обидное, разразился бранью:
— Как ты смеешь меня оскорблять, шелудивый пес! Ты, сдохнешь в этом замке. Я сам выколю твои глаза, перережу тупым ножом твою поганую глотку, а голову подниму на копье и швырну ее в подземелье на съедение голодным зверям. Пакостный пес!
Обычно спокойный, невозмутимый (по природе своей) Васютка готов был и в самом деле ударить «паука». Он-то, в отличие от его тюремщика, понял несколько слов и едва сдержал себя.
После ухода немца, он убедился, что это не простой слуга. Слуги с поварни не бывают такими враждебными и заносчивыми. Рыцарь Вернер наверняка приставил к нему одного из своих доверенных лиц. Но ради чего? Ради чего вся эта затея с его пленением? Вернер страшно рисковал. Но зачем?! Зачем он ему понадобился?
Васютка был в полном неведении.
«Паук» перестал молчать и теперь сердито разговаривал с узником в каждый свой приход. Это не прошло для Васютки даром: на четвертый месяц своего заточения он довольно сносно стал понимать язык чужеземцев.
Как-то он спросил «Паука»:
— Я хочу поговорить с твоим хозяином.
— С самим фогтом Вернером?
— Да.
— Это невозможно, грязная свинья. Командору не о чем с тобой разговаривать. Он слишком занят, чтобы тратить время на пустые разговоры.
— И всё же доложи твоему командору, Паук. У меня к нему немаловажный разговор.
— И не подумаю, грязная свинья.
И всё же Васютка надеялся, что немец обязательно сообщит фогту Вернеру о его просьбе. Если пленник намерен рассказать владельцу замка что-то существенное и значимое, то тот придет.
Но миновало четыре томительных дня ожидания, а Вернер так и не появился. Васютке давно уже осточертело сидеть в своем узилище[108], и он настолько ожесточился, что схватил немца за грудки.
— Доложи, упырь, доложи!
Немец отскочил, а затем изо всех сил двинул Васютку кулаком по лицу. Но купец, более крупный и сильный, устоял и дал обидчику сдачи, да такую, что «Паук» грохнулся на пол.
Железная дверь, как всегда, во время прихода немца, была широко открыта. По длинному коридору гулко затопали сапоги кнехтов.
Три копья были готовы пронзить Васюткину грудь.
— Что прикажешь с ним делать, господин Кетлер? — спросил один из кнехтов.
Кетлер, с трудом поднявшись с каменного пола, процедил сквозь зубы:
— Свяжите этого пса.
Васютку связывали под остриями копий. Не брыкнешься!
— А теперь повалите его на пол.
Когда Васютку повергли наземь, к нему подскочил Кетлер и, злобно воскликнув, «скотина!», принялся с особой свирепостью избивать ногами пленника. Избивал долго, с каким-то садистским наслаждением на лице, пока его не остановил один из кнехтов:
— Не довольно ли, господин Кетлер? Фогту Вернеру не нужен мертвый купец.
Кетлер с явной неохотой прекратил избиение, но лицо его оставалось озлобленным и ядовитым.
— Этот скот не захотел жить в приличном месте, так пусть поживет в другом, более шикарном.
В тот же час кнехты перетащили еле живого пленника в тюремный двор замка, бросили в одном из казематов[109] на кучу жухлой соломы, и, запрев дверь на висячий замок, удалились.
Васютка с трудом пошевелил руками и ногами. Здорово же его отделал этот треклятый Кетлер. Воистину он оказался не простым слугой. Кнехты называли его господином. Неужели он рыцарь?! Невероятно! Да он лютее самого беспощадного ката[110].
В углу послышался шорох. Васютка приподнял голову. Что это? Но в каземате было темно, как будто он очутился в земляном порубе. Но вскоре всё прояснилось: по его ногам пробежали какие-то животные.
Господи, да это же крысы! И вот уже две мерзкие твари обрушились на его тело. Васюта закричал, и, откуда только силы взялись, поднялся на ноги и принялся отбиваться от крыс сапогами.
На какое-то время крысы отпрянули, но стоило Васютке опуститься на свое соломенное «ложе», как твари вновь ополчились на его тело. Пришлось ему воевать с крысами до самого утра, пока из узкого зарешеченного оконца не проник солнечный свет.
Твари убрались в щели, зато на смену им откуда-то выползли мыши и забегали по полу. Но это было уже не так страшно: мышей Васютка не боялся.
Он, не спавший и жутко ослабевший, подошел к оконцу. Тюремный двор замка Вернера был со всех сторон окружен толстыми каменными стенами. Все выступы его буйно заросли кустарником и бурьяном. Огромные сероватые глыбы позеленели ото мха и густой плесени, что говорило о глубокой древности этих прочных каменных стен.
«Сколько же темниц в сей каменной тюрьме? — невольно подумалось Васютке. — И кто в них сидит? Ливонские крестоносцы не раз нападали на русские земли и уводили в полон многих отичей. Неужели и в этом замке есть русские невольники? Как же им тяжело пребывать в этих страшных узилищах!»
А затем его осенила отчаянная мысль:
«Неужели пришел конец?»
Глава 16 МЕРЯНСКИЙ БОГ
Тяжко, смуро на душе Марийки. Жизнь стала не мила. Вот уже четвертый месяц, как пропал ее любимый Васенька. Где он и что с ним сделали эти проклятые немецкие купцы?
Не пьет, ни ест Марийка. Уж так исстрадалась душой, так потемнела и осунулась лицом, что постоялец Гришка Малыга как-то не выдержал, и молвил:
— Над кем лиха беда не встряхивалась, дочка? Перетерпеть надо.
— Да как же такое перетерпеть можно, дядя Гриша? Уж я так любила Васеньку! Такого человека на всем белом свете не сыскать. Как тут не горевать, дядя Гриша?
— Воистину, дочка, — сердобольно вступила в разговор Авдотья. — Горе не дуда, поиграв, не бросишь. Долго оно не отступится.
— Наверное, никогда, тетя Авдотья.
— А вот это ты напрасно, дочка. День меркнет ночью, а человек печалью.
— Вот и я толкую, — вновь заговорил Гришка. — Надо как-то свыкнуться, а то, ить, кручина иссушит в лучину. Глянь, как от скорби-то вся увяла. Ты еще совсем молоденькая, надо беречь свою красоту. Вернется к тебе еще счастье.
— Ох, не вернется, дядя Гриша, не вернется. Коснулось оно меня ласковым крылом и упорхнуло.
Как ни успокаивали постояльцы Марийку, но она всё продолжала предаваться печали и сохнуть на глазах. И всё себя упрекала. Ну, как же так приключилось, что она лишилась чувств, когда добрые люди вынули из ее рта тряпицу? Очнулась лишь на четвертый день, и только тогда поведала о своем ненаглядном Васеньке. Слишком поздно дошла весть до княжьих людей. Они хоть и учинили погоню, но немцев, как след простыл.
В первые два дня у Марийки еще теплилась надежда: в реке тело ее суженого не обнаружили. Выходит, не кинули немцы Васеньку в Трубеж, и он жив остался. Может, вот-вот объявится… Но шли дни, недели, месяцы, а об ее Васеньке ни слуху, ни духу. Значит, тайком вывезли его чужеземцы в дремучий лес и загубили.
Правда, иногда приходили к Марийке и другие мысли:
«Нет, нет, Васенька жив. Есть же Бог на свете. Ее суженый — человек чистый, жил без греха. Должен же его защитить Господь».
Однако всё путалось в голове, и чем больше она оставалась в неведении, тем всё горестнее ей становилось жить. Поникшая, вся в слезах, зачастила в слободской храм, а то и в сам Спасо-Преображенский собор и часами молилась, молилась, прося у Спасителя и пресвятой Богородицы милости для Васеньки. Но утешения в душе так и не находила.
Как-то, сходя с паперти храма, к ней подошла согбенная, седенькая старушка в сермяжном облачении. Опираясь на клюку, глянула на Марийку выцветшими глазами и тихо молвила:
— Ты уж прости меня, касатушка. Частенько в храме тебя примечаю… Чую, горе у тебя большое.
— Горе, бабушка Меланья, — кивнула Марийка. — И такое горе, что жить не хочется.
— Вижу, вижу, касатушка… Знать, ведаешь меня?
— Да я, почитай, бабушка, всех в городе ведаю.
— Вот и ладно, касатушка… Не зайдешь ли в мою избенку. Одной-то мне сидеть — докука. А я с тобой потолковать хочу о твоей напасти. Я ведь тебя, касатушка, с малых лет ведаю. Одна ты по городу без родительского присмотра бродишь. Марийкой тебя кличут.
— Истинно, бабушка.
Избенка старушки, хоть и маленькая, неказистая, но опрятная. Всё выметено, выскоблено, вычищено. Пожитков совсем мало: спальная лавка, кадушка с водой подле печи, лохань[111], светец[112], небольшой столец, покрытый белой холщовой скатертью, икона пресвятой Богородицы в красном углу, с мерцающей неугасимой лампадкой.
Старушка указала Марийке на лавку и ласково молвила:
— Откройся мне, касатушка, хотя не всякий человек чужому о своей беде поведает.
— Не всякому, бабушка Меланья. Чужое горе не болит, а вот тебе откроюсь. Чую, сердце у тебя доброе. Всё тебе расскажу да поплачу.
Выслушала старушка Марийку, вздохнула, погладила легкой, почти невесомой ладошкой девушку по светловолосой голове, малость подумала и изрекла:
— Слышала я о твоем несчастье. В городе о пропаже купца всякий ведает. Но не чаяла я про вашу любовь великую. То не каждому суждено. Однако дело твое тяжкое, туманное. То ли сгиб твой добрый молодец, то ли живехоньким остался. Вот и мечется душа твоя. Неведение хуже худой вести. Так можно, касатушка, вконец захиреть.
— Так как же быть-то, бабушка Меланья, коль жизнь не мила?
— А я вот что покумекала… Сходи-ка ты, касатушка к Мерянскому богу, да спытай у него о своем суженом.
— К Синему камню?! — изумилась Марийка. — Но ведь святые отцы его осуждают, не велят к нему ходить. Грех-де это, бабушка.
— Это ныне грех, а исстари камню Синему весь народ поклонялся и молился ему, как самому первому богу… А разве широка масленица — грех, аль обереги нивы от нечистой силы? А девичьи гадания в крещенье Господне? Да мало ли какие древние обряды Русь блюдет, на кои церковные батюшки запрет накладывают. Не так ли, касатушка?
— Так, бабушка Меланья, — неуверенно произнесла Марийка.
— Чую, робеешь, девонька. Так-то нельзя. К Мерянскому богу надо с твердым сердцем ступать.
— Не буду робеть, бабушка, — вытирая слезы, молвила Марийка. — Сегодня же и схожу.
Старушка несогласно замотала головой:
— Седни нельзя, касатушка. К Мерянскому богу лучше в самое доранье ходить, в сумеречь, дабы никто тебя не зрел. Так уж исстари повелось. Наберись смелости и ступай.
— Схожу, бабушка.
Вернулась в свою избу Марийка возбужденная. Авдотья сидела за прялкой, а Гришка Малыга, придвинувшись к светцу, плел мережу. Посадская голь, кормившаяся в лихолетье одной рыбой, часто заказывала умельцу те или иные рыболовные снасти.
Гришка и Авдотья глянули на Марийку и заметили: на этот раз вернулась девушка из храма без слез и, скинув с себя чеботы и старую баранью шубейку, молчком залезла на полати.
— Аль зазябла, дочка? — спросила Авдотья. — На улице студень-зимник[113] подваливает. Эк, ветрило-то завывает, да и снег в оконце бьет.
Марийка ничего не ответила. Постояльцы переглянулись и продолжали своё дело.
Авдотья, суча из пряжи нитку, подумала:
«Замкнулась дочка. Пришла в избу и будто никого не видит и ничего не слышит. В себя ушла. Уж лучше бы полегоньку чего-то делала да потихоньку плакала, а тут появилась какая-то странная, окаменевшая, от всего отрешенная. Как бы, не приведи Господь, умом не тронулась. Тогда — совсем беда».
А Марийка готовила себя к завтрашнему раннему утру. Бабушка Меланья велела идти к Мерянскому богу в сумеречь и с отважным сердцем. Только бы не отступиться и набраться сил!
Не сошла Марийка с полатей и к вечерней трапезе, чем еще больше встревожила Авдотью:
— Что с тобой, доченька? Уж не захворала ли?
— Во здравии я, тетя Адотья.
И больше — ни слова.
Еще больше удивилась постоялица, когда Марийка с первыми петухами сползла с полатей, обулась и накинула на себя шубейку.
— Ты куда это снарядилась, дочка? — поднялась с лавки Авдотья. — Ночь на дворе.
— Надо мне… Утром вернусь, — расплывчато отозвалась Марийка — и вон из избы.
Авдотья тотчас принялась расталкивать похрапывающего супруга.
— Вставай, Гриша. Да вставай же борзее!.. Марийка, кажись, рехнулась. Обулась, оделась и куда-то пошла. Это ночью-то! Давай-ка следом за ней.
Гришка Малыга, скорый на ногу, быстренько облачился и выскочил из избы. На улице было еще темно. На Переяславль обрушился густой, мохнатый снег, щедро засыпая соломенные крыши домов посадской черни, дорогу и тропинки.
От крыльца виднелись свежие следы.
«Слава тебе, Господи, — перекрестился Гришка. — А то бы ищи ветра в поле».
Пошел по следам.
Марийка, узким переулком, свернула в другую слободу, затем в третью, пока не миновала посад и не вышла к подошве Ярилиной горы.
«Господи, да куда же она подалась? — недоумевал Гришка Малыга. — Уж, не к хоромам ли князя Дмитрия Александровича? Но он неделю назад ушел в поход на ливонцев… Куда ж тогда? Совсем неподалеку Плещеево озеро, а в нем — несколько прорубей, приготовленных для ловли рыбы… Неужели повернет к озеру? Тогда дело явственное: Марийка надумала утопиться».
Малыга озадаченно остановился, поскреб заскорузлыми перстами заснеженную бороду в напряженном ожидании.
Наступал робкий зимний рассвет. Гришка с трудом разглядел неотчетливую фигурку Марийки, которая, миновав Ярилину гору, двинулась к старинной деревне, а затем стала подниматься на холм, на коем смутно проглядывался огромный валун.
Сердце Гришки Малыги дрогнуло: Марийка восходила к Мерянскому богу, прозванному в народе «Синим камнем». Что она задумала?
Гришка встал за деревцо и затаился. А Марийка, взойдя на холм, несколько раз перекрестилась, постояла чуток, словно к чему-то прислушиваясь, а потом, низко поклонившись Мерянскому богу, надолго припала к нему грудью.
Гришка ведал: древний языческий бог и в нынешние времена почитался в народе. К нему, невзирая на запрет переяславского епископа, продолжали ходить, поклоняться и обращаться с разными мольбами. И уважение к Синему камню было настолько велико, что владыка никак не мог выветрить из голов своей паствы, что время языческих обрядов давно ушло, и что они несут только пагубу.
Но, как и везде по Руси, языческие обряды по-прежнему справлялись (и будут справляться еще многие века).
Добрый час пребывала Марийка у Мерянского бога, а когда, наконец, отошла от него и стала спускаться с холма, наступило уже светлое утро.
Ведала бы Марийка, что произошло с Синим камнем потом.
(Мерянский бог в нынешние времена расположился неподалеку от Ярилиной горы, подле небольшого ручья Рябцовки, выбегавшего из оврага около деревни Криушкино. Громадный сероватый валун ледникового периода «не сидел на месте», его постоянно беспокоили весенние льды, сдвигая с места. Ныне он наклонился к Плещееву озеру, понемногу сползая в песок. В глубокой древности меряне-язычники поклонялись и Синему камню. В те далекие времена, как гласит местное предание, он находился на возвышенном месте, неподалеку от современной Борисоглебской слободы. Возле него устраивались обряды моления и жертвоприношения. Даже с принятием христианства Синий камень в течение веков почитался местным населением, что вызывало немало беспокойства у церковников, считавших несовместимым пребывание языческого божества возле православного монастыря.
По приказу царя Василия Шуйского камень был зарыт в глубокой яме, где он пролежал около двух столетий. Но структура почвы нарушалась, весенние паводки исподволь размывали яму, и вскоре он вновь предстал перед жителями, привлекая к себе еще больше поклонников.
В 1788 году решено было использовать камень под фундамент строившейся в то время городской церкви. Мерянский бог был водружен на большие сани, и его повезли по льду озера. Однако лед не выдержал огромнейшей тяжести, треснул, и камень ушел под воду. Весенние, южные ветры, гнавшие лед к северу, тащили за собой и камень. Через 70 лет его постепенно вынесло льдами на берег.
В прошлом веке на страницах губернских газет шла полемика о том, какие силы подняли Синий камень на берег. Высказывались разные мнения, вплоть до действия магнитного притяжения берегового грунта.
Наиболее убедительной оказалась точка зрения историка Н. М. Меморского, который утверждал, что камень был поднят на берег силою весенних льдов.
В настоящее время камень, совершивший много тысяч лет тому назад длительное путешествие со Скандинавского полуострова, забытый «бог» мерянских племен, мирно лежит на берегу Плещеева озера…
Марийка вернулась в избу (Гришка ушел домой заранее) с просветленным лицом.
— Жив мой любимый Васенька. Жив!
Часть третья
Глава 1 ПОХОД НА ЛИВОНИЮ
Упругий знобкий ветер, кидая на ратников секучий холодный снег, сердито гудел с самого утра.
Боярин Мелентий Коврига, подняв меховой воротник стеганого бараньего полушубка, и нахлобучив на крупный мясистый нос лисью шапку с малиновым верхом, озлоблено думал:
«И чего ради князь Митька этот поход задумал? Чего ему в теплых хоромах не сиделось? Эк куды поперся. В Неметчину! Глянь, какое войско на крестоносцев поднял. Первым воеводой идет. Славы ему захотелось. Юрьева ему мало, ныне Раковор подавай. А сей город, чу, неприступный. Ходил на него псковский выскочка Довмонт, да по шапке получил. Вспять прибежал. Мудрено-де без пороков ливонскую крепость осилить. А ты чего думал?… Да и с пороками толку не будет. Экого умельца князь Митька выискал. Бражника Аниську Талалая! Он зелье[114] лопать великий искусник, а не осадные орудья мастерить».
Трясясь на пегой лошади, Коврига оглянулся на обоз.
«Вон его пороки тащат на санях. Сколь лошадей из сил выбиваются! Пять недель в Новгороде передвижные башни для осадных машин топорами тюкали. Митька, забыв все дела, ежедень подле плотников и Аниськи крутился, каждое бревно ощупывал, будто невесту себе выбирал. А толку? Башни его либо на полдороге развалятся, либо ночью вражьи лазутчики спалят. И не токмо ливонские. Литва тоже неприятельская страна. Она никогда Довмонту не простит. В любой час может рать уколоть. Не шибко по нутру ливам русская рать. Хуже того — совсем не по нутру. Лев, сын Даниила Галицкого, взял да и порешил короля Воишелка. Вот те и добрый мир, князь Митька. В лужу ты сел со своей затеей. И до чего ж переяславский князь опрометчив. Хотел отворотить от пня, а наехал на колоду. Нет, князюшка, ты хоть и сказывал, что Литву пройдешь с войском без помехи, да не тут-то было. Сторонники Воишелка столь пакостей могут натворить, что не расхлебаешь. Кабы вспять не повернул, Митька… Вот бы радость была для всех ратников! Охота ли им тащиться, да еще в стылую зиму, к черту на кулички. К самому Варяжскому морю. Никому не охота!».
За спиной боярина ехал ближний его послужилец-дружинник, Сергуня Шибан. Бараний полушубок обтянул крутые плечи, черная окладистая борода заиндевела, покрылась сосульками.
Боярин иногда оглядывался на своих воинов, и Сергуня видел его недовольное лицо. Мелентий Петрович явно раздосадован. Не любитель он ходить в большие и далекие походы. Зачастую уклонялся, прикидывался недужным, но в этот поход пришлось ему снаряжаться. Напугал его князь Дмитрий, крепко напугал!
Еще в Переяславле, куда собирались ростово-суздальские дружины, Дмитрий, на совете своих «княжьих мужей, поглядывая на боярина Ковригу, недвусмысленно и резко заявил:
— Ныне решается судьба Отчизны. Либо мы попадем под пяту Ливонского Ордена, либо дадим ему такой урок, что крестоносцы надолго забудут нападать на святую Русь. И сие будет зависеть от каждого из нас. Ныне я не потерплю никаких отговорок. Тот, кто не вольется со своей дружиной в общерусское войско, будет без пощады наказан. Я не только лишу его всяких чинов и вотчин, но и выставлю на вече.
Мелентий Коврига прибыл в свои хоромы чернее тучи. Его подавленный вид бросался всем дворовым людям в глаза.
— Аль случилось что, государь мой? — напугано вопросила супруга.
— Случилось. Будь он трижды проклят!.. Снаряжай в поход, Устинья. На рыцарей иду!
— На лыцарей?! — подивилась супруга и часто закрестилась. — Это что за народ такой? Николи такого не слышала. Никак, какие-то царские люди.
Устинья Якимовна была женщиной недалекой, и, как большинство боярских жен, вела замкнутый образ жизни. О татарах, вестимо, она ведала, а вот о «лыцарях»…
— Какие царские люди! — сорвался на крик Мелентий Петрович. — Дура набитая! То — злее самого лютого ордынца! Снаряжай в поход, сказываю!..
«Снаряжать в поход» для Устиньи означало снабдить войско боярина кормовыми запасами: напечь, насушить, навялить всякой снеди.
— На сколь дён, государь мой?
— Каких дён?! — вновь взвился раздраженный Мелентий Петрович. — Дай Бог живехоньким через полгода воротиться. На край света посылает меня наш разлюбезный князюшка. К Варяжскому морю! Копье ему в брюхо.
О Варяжском море Устинья тоже не слышала, а вот слово «полгода» произвело на нее такое сильное впечатление, что она оторопело ахнула и всем своим дородным телом плюхнулась на лавку.
— Пресвятая Богородица! Это сколь же корму надо заготовить на твое воинство! Да мне с поварихами и за неделю не управиться.
— Выступаю через три дня. И не сиди колодой!
Коврига махнул на ошарашенную супругу рукой, вышел из хором и приказал позвать конюшего[115], дабы подсчитать, сколько потребуется взять в поход подвод, возниц и лошадей из боярского табуна. Боже милосердный, сколь же всего понадобиться! А какие убытки придется понести! Ну и князь Митька, ну и злодей. Такой великий урон вотчине нанес! Одних добрых лошадей сколь пропадет. Война-то, чу, будет нещадная.
Когда Мелентий Коврига увидел на себе взгляд молодого князя в гридне и услышал его строгие слова, то первым делом подумал:
«Не высоко ли вознесся, Митька? Я тебе не смерд, и не холоп, а вольный человек. Никто тебе не давал права старозаветные устои рушить. Седни я служу у тебя, а завтра могу и к другому князю податься. И ничего ты со мной не сможешь содеять. Любой боярин или дружинник по старине волен покинуть тебя, так что поубавь свою спесь… Так, пожалуй, и сделаю. Возьму, да и переметнусь к другому удельному князю. Завтра же переметнусь! Буде Митьке служить».
Но когда Мелентий Петрович перебрал в уме всех удельных ростово-суздальских князей, то лицо его стало кислым. Все князья в немалой дружбе с Митькой Переяславским, едва ли они примут его, Ковригу, к себе на службу… Тогда, может, в древний Киев отъехать? «Мать городов русских». Но в Киеве столь много своих бояр, что среди них не мудрено и затеряться, и никакой выгоды не получить… А уж про Новгород, Псков и Галич — и говорить неча. Там бояре дерзки и своевольны, готовы друг другу горло перегрызть.
В стольный град Владимир, к Ярославу Ярославичу? Доброе место. Великий князь наверняка бы его принял. Даже рад был: бегут от неугодного племянника бояре! То-то бы слух по всем уделам распустил. Но к Ярославу идти — время неподходящее. Великий князь даже своих сыновей, Святослава и Михаила, в поход отправил… Нет, как ни крути, как ни верти, а придется остаться в Переяславле. А коль так — идти в злосчастный поход. Другого пути нет. Теперь главное, ежели и впрямь с ливонцем сражаться надлежит, крепко голову поберечь. Ох, каким надо усторжливым быть! Помоги живу остаться, Господи.
Мелентий Коврига, забыв про окружающих, перекрестился.
А Сергуня Шибан усмешливо подумал:
«Трусоват наш боярин. Еще и до сечи далеко, а он уж у Бога милости просит. Ох, как не хотелось идти ему в поход. Какими только словами князя Дмитрия не поносил! Он только до девок наипервейший храбрец. До сих пор Марийку вспоминает, да его, Сергуню поругивает. Упустил-де красну-девку, дурья башка. Девка-то смачная, для утехи лучше не найдешь. Знает толк в девках старый кобель… А вот Марийку жалко. Не везет девушке. В Переяславле только и разговоров. Повстречался Марийке молодой купец Васютка Скитник, сын важного человека Лазуты Егорыча, кой самому ростовскому князю служит. Полюбили-де друг друга, но любовь их была недолгая: убили немецкие купцы Васютку. А за что? Один Бог ведает. Вот как в жизни бывает. Марийке этой надо в ноги поклониться. Она его, Сергуню, от лихих людей спасла, а то бы лежать ему убитым посреди леса. Славная девушка, а он еще норовил ее к боярину утащить. А человек этот — и вовсе дрянь.
Коврига не только великий прелюбодей и худой воин, но и страшно пугливый боярин, когда садится за стол. Мелентий Петрович боится отравного зелья. Нет-нет, да и молвит ближнему послужильцу:
— Сколь именитых людей отравили, и не токмо татаре, а свои же дворовые люди. Глаз да глаз за ними!
Коврига завел строго установленный порядок кормления. Ключник испытывался перед дворецким[116]. Он ставил перед ним яства и всё отведывал. Дворецкий, отведав, относил поднос стольнику; тот же, приняв блюдо, должен был покушать в глазах боярина, прежде чем ставить к нему на стол. А чашник, как поднести пить своему властелину, сам отливал в ковш и выпивал, и уж потом подносил к боярину. То же самое происходило и с всякими лекарствами в виде порошков, «пользительных» настоек и отваров[117].
Сергуня вновь глянул на боярина и вздохнул. Ратоборцем его не назовешь. Меч Ковриги, поди, заржавел в злаченых ножнах. Побаивается битв Мелентий Петрович. А ведь боярин, хоть и в годах, но в доброй силе. На медведя можно выпускать. Так нет: чуть, где сеча — к обозу жмется.
Сам же, Сергуня Шибан, побоищ не чурался. Не раз бывал он в сечах, и никто не мог ткнуть в него пальцем и сказать, что Шибан в сражениях труслив как заяц. Напротив, бывалые воины его похваливали: молодец-де, Сергуня, лихо бился, не то, что твой боярин.
Шибан принимал похвалу, как должное. Принимал с достоинством. Своего меча он не посрамит ни в какой битве. Что же касается боярина Ковриги, то Сергуня (особенно после неудачного похищения Марийки) стал всё чаще помышлять — навсегда покинуть Мелентия Петровича. Не к лицу ему, отважному и вольному человеку, выполнять гнусные поручения похотливого Ковриги. В этом походе он отличиться в боях с крестоносцами, и попросится в дружину князя Дмитрия Александровича.
* * *
На время похода Дмитрий Александрович облачился в свой княжеский доспех. В сече же, как и задумано, он наденет на себя шелом и кольчугу рядового воина.
Сейчас же на князе стальные бахтерцы из наборных блях, «наведенных через ряд серебром, на голове — низкая, изящно выгнутая ерихонка[118], имевшая на венце и ушах золотую насечку, а на тулье высокий сноп из дрожащих золотых проволок, густо усыпанных во всю длину их яхонтовыми искрами. Сквозь полку ерихонки отвесно проходила железная золоченая стрела, предохранявшая лицо от поперечных ударов Блестели серебряными разводами наручи и рукавицы. На плечи падала кольчатая бармица[119], скрещенная на груди и закрепленная круглыми серебряными бляхами.
На поясе, плотно стянутом пряжкой поверх бахтерец и украшенном разными привесками, «звенцами» и «бряцальцами», висел крыжатый меч в драгоценных ножнах. У бархатного седла с серебряными гвоздями и с такими же коваными скобами прикреплен был булатный топорик с фиолетовым бархатным черенком в золотых поясках».
Поверх доспеха развевалось на ветру зимнее (на меху) алое корзно, застегнутое на правом плече золотой пряжкой. Штаны из мягкой кожи были всунуты в красные сафьяновые сапоги.
Обок воеводы ехали сыновья Ярослав Ярославича, Святослав и Михаил, как бы подчеркивая своё знатное представительство. В челе общерусского войска обычно ходил сам великий князь, но на этот раз, изменив издревле заведенный порядок, Ярослав Ярославич решил отсидеться в своем стольном граде, и послал вместо себя сыновей, кои и должны возглавить рать. Но еще в своих палатах великий князь предварил ненужную обиду сыновей:
— О гордыни забыть. Войско вверяю переяславскому князю. В свары с ним не вступать, но и честь свою блюсти. Пусть князь Дмитрий не забывает, что под боком у него находятся сыновья государя всея Руси… Уразумели, как себя вести, сыны?
— Уразумели, отец. С двоюродным братцем своим в распри вступать не будем, но и помыкать собой не позволим.
Так и ехали впереди войска три брата, внуки князя Ярослава Всеволодовича.
Князь Дмитрий Александрович внутренне посмеивался:
«Брательники власть показывают. Подле воеводы-де идем. В чести! А того не понимают, что обоим надлежит впереди своей владимирской дружины идти. Так нет, под владимирским стягом едет тысяцкий. Можно было брательникам и подсказать, но уж лучше пока промолчать. Пусть поважничают. Перед битвой же он поставит и Святослава и Михаила в полки железной рукой».
Остальные князья не чванятся: каждый идет в челе своей дружины. Даже новгородский князь Юрий Андреевич, не последовав примеру своего дяди, прихватил с собой тысяцкого Кондрата и посадника (главы боярской верхушки) Михаила, и пошел на Ливонский Орден. Он мог бы тоже ехать близь общерусского воеводы, но остался с новгородцами.
Виден червленый стяг и Довмонта Псковского. Держится уверенно, молодцом. На ратных советах (во время привалов) высказывает толковые предложения, к коим он, князь Дмитрий, всегда прислушивается. Довмонт — коренной житель Литвы, и не ему ли давать советы. Литву, по коей ныне следует войско, он знает вдоль и поперек, особенно дороги и местных властителей. Одни могут сделать ночную вылазку и напасть со своими воинами на спящую рать, другие — выступить побоятся, но могут подрубить лед в речушках и реках, дабы напакостить русскому войску. Третьи же не сделают ни того, ни другого, но вести рать по их владениям — совершить большой крюк, что не входило в планы воеводы. Ценен и крайне необходим был для русичей Довмонт Псковский!
Князь Дмитрий, собираясь в поход на крестоносцев, немало был наслышан о Ливонии, но свои познания он считал недостаточными, и в этом он убедился после длительной беседы с Довмонтом. Тот же поведал, что завоеватели Эстонии и Латвии не сумели создать единого государства. Немецкая Ливония явилась сложным разнородным соединением из целого ряда самостоятельных образований с очень слабой центральной властью.
В Ливонии с самого начала действовали три основные политические силы: рыцарский Орден, церковь и города. Фиктивно главой Ливонии считался первое время глава ливонской церкви, рижский архиепископ, затем — магистр Ливонского Ордена. Фактически же все три основные политические силы были совершенно самостоятельны. Даже непосредственно подчиненные рижскому архи- епископу, епископ дерптский, эзельский и курляндский были самостоятельными владетелями внутри своих земель и осуществляли там всю полноту власти.
Однако важнейшей силой в Ливонии был рыцарский орден. Великий магистр Ливонского ордена, на первых порах подвластный архиепископу Риги, постепенно выдвинулся на первое место в Ливонии. Ордену «братьев» стало принадлежать около половины всех земель в стране. Правда, его владения не составляли сплошного массива: орденские земли лежали вперемежку с епископскими. Но Орден был значительно сильнее церкви, ибо он выступал как единая сила, тогда как епископы и архиепископ защищали свои интересы каждый в отдельности.
Третьей влиятельной силой были большие города: Рига, Дерпт, Раковор, Нарва, Ревель[120]… Они пользовались самостоятельностью, имели свой магистрат[121], свой суд, свои законы и свою военную силу (городское ополчение).
Все эти три образования постоянно боролись друг с другом.
— История Ливонии, — с сожалением рассказывал Довмонт, — история непрерывной и острой борьбы. — Все грызутся, как кошки с собакой. Церковники дерутся против городов, Орден против отдельных епископов, города, против Ордена. А в Риге противоборствуют сразу три «хозяина» — архиепископ, городской магистрат и магистр Ливонского Ордена. Сложные отношения усугубляют и датские крестоносцы. Они завоевали северных эстов с городом Ревелем[122]. Правда, в первый раз датчане владели Эстонией недолго, но уже через восемь лет орденские немцы забрали эстов в свои руки. Помогло Ордену и то обстоятельство, что датское войско, захватившее Эстонию, в подавляющей части своей состояло из немецких рыцарей, которые и завладели большинством земель.
— А что ныне с раздорами? — спросил тогда князь Дмитрий. — Слышал я, что Ливония сбивается в один кулак.
— Ты прав, князь. Перед угрозой нашествия русского войска немцы прекратили всякие свары. Здесь вовсю постарался великий магистр Отто Руденштейн. Он сумел утихомирить не только попов, но и города. Немцы — народ особый. Когда они почувствуют злополучие, идущее со стороны неприятеля, то забывают о собственных бедах и тотчас начинают собирать могучее войско. Бюргеры[123] не жалеют для рыцарей ни хлеба, ни денег, и даже каждый город выставляет ополченцев. Так что ныне Ливонский Орден как никогда силен.
— Но и мы не лыком шиты, — произнес Дмитрий Александрович. — Впервые, после татарского вторжения, нам удалось собрать тридцать тысяч ратников. Коль крестоносцы не напугаются, злая будет сеча… А ты как мыслишь, Довмонт?
— Сеча будет злая, да вот только…пойдет ли на нее великий магистр, — почему-то задумчиво произнес псковский князь.
Слова полководца Довмонта оказались для князя Дмитрия неожиданными.
— У тебя есть какие-то предположения?
— Отто Руденштейн отлично понимает, что даже в случае своей победы, он потеряет огромное количество крестоносцев. Такая победа ему не нужна. Орден его заметно ослабнет, и тогда ему уже не быть ведущей силой в Ливонии. Едва ли такого захочет великий магистр.
— Выходит, он может и уклониться от битвы?
— Может. Магистр не только достойный противник, но и весьма умный, расчетливый человек. Зря он в битву не кинется.
Разговор князя Дмитрия с Довмонтом произошел еще неделю назад. Сейчас же войско шло по литовским землям.
Глава 2 КОНЬ КНЯЗЯ ДМИТРИЯ
Под князем рысил аргамак[124]. Это был удивительный, необыкновенной породы конь, коему завидовали, ехавшие обок с воеводой, сыновья Ярослава Ярославича. Бросались в глаза стройные, точеные, очень сильные ноги, широкая грудь, упругий стан и мускулистая шея. Гладкая шелковистая шерсть, отливающая синеватым блеском, была черной как смола.
Автандил (так звали коня) был молод. Его подарили князю восточные купцы, приехавшие с Терека.
— То помесь аргамака с кабардинской лошадью, — пояснили купцы. — Но получился он вылитый кабардинец. Красавец — конь! А зовут его Автандилом, в честь нашего князя..
Дмитрий Александрович как увидел «кабардинца», так весь и загорелся. Он, с детства большой любителей скакунов, сразу отметил: конь редкостный, такому цены нет.
— Я, купцы, отдам вам за Автандила столько золотых гривен, сколько запросите.
Но купцы чинно ответили:
— Конь не продается. Это скромный подарок нашего кабардинского князя. Горцы хотят жить в вечном мире с вашим народом.
Дмитрий Александрович поклонился в пояс и степенно произнес:
— Я с большой благодарностью принимаю столь знатный подарок вашего князя и, ведая помыслы наших удельных князей, хочу твердо заверить, что Русь никогда не станет врагом кабардинцев. Мы намерены жить в вечной дружбе. Вы же, купцы, в моем княжестве, можете торговать вольно и без всяких пошлин.
Купцы ответили князю низким (восточным) поклоном и предупредили:
— Автандил пойман в диком табуне. Он своевольный и гордый. Его долго укрощал один из лучших наших джигитов, Георгий, который и прибыл с нами.
Князь Дмитрий глянул на молодого, сухотелого кабардинца в темно-синем чекмене и с кинжалом на поясе. Тот придерживал за узду коня, который пританцовывал на месте. Глаза кабардинца, как показалось Дмитрию, были грустными.
— Переживаешь, джигит? Нелегко, поди, с конем расставаться?
Толмач перевел слова Георгия:
— Конь для джигита — роднее человека. Человек может предать, конь — никогда. Нет лучшего друга.
— Хорошо сказал, джигит, — похвально произнес Дмитрий Александрович, продолжая с восхищением посматривать на коня. — Я награжу тебя, Георгий. Перед тем, как выехать домой, мой конюший покажет тебе княжеский табун. Выбирай самого лучшего скакуна. Думаю, и у меня найдутся прекрасные кони.
Джигита охватила буйная радость. Он самозабвенно любил лошадей и горестно думал, что вернется домой на телеге купцов, а теперь он приедет к горцам на превосходном коне. Он знал, что у русских князей есть отменные скакуны.
— Спасибо, князь, — низко поклонившись, тепло произнес Георгий. — О твоем щедром подарке будут рассказывать не только мои сыновья, но и мои внуки и правнуки. Горцы никогда не забывают добрых поступков.
Князь Дмитрий подошел к Автандилу и хотел, было, ласково потрепать ладонью по гриве, но конь, удерживаемый за узду джигитом, будто ударенный плеткой, тотчас резко отпрянул в сторону.
— С норовом. Люблю таких, — одобрительно молвил Дмитрий Александрович.
— Я сожалею, князь, но Автандил признает только меня. Приручить его будет непросто.
— Ничего, — улыбнулся Дмитрий Александрович. — Как-нибудь управлюсь.
Конь и в самом деле оказался сноровистым. Всю неделю князь не подходил к Автандилу (был занят неотложными делами), а затем он послал к кабардинской лошади своего мечника Волошку Севрюка, кой слыл отличным наездником и не раз уже укрощал молодых, непокорных коней.
Волошка явился к Дмитрию Александровичу с окровавленным лицом.
— Прости, князь, но я ничего не могу поделать с этим Автандилом.
— Скидывает?
— Скидывает. Я едва не сломал себе руки и ноги. Буйный конь!
— Ну что ж, тем лучше, Волошка. Обуздать такого коня — немалая честь. Надо попробовать.
Но мечник замотал головой и с откровенным испугом посмотрел на Дмитрия Александровича.
— А может, не надо, князь? Конь-то и впрямь бешеный. Не приведи Господь, насмерть расшибет. Он и впрямь никого не подпускает. Зверь-конь!
— Тем лучше, Волошка, тем лучше! — вновь затвердил своё князь.
Дмитрия Александровича охватил задор. Он тотчас позвал к себе постельничего, дабы облачиться в другую одежду.
Князь сбежал с красного крыльца в одной белой льняной рубахе, кожаных портках и мягких сафьяновых сапогах.
— А плеть? Плеть забыл, княже! — ковыляя за Дмитрием Александровичем, закричал Волошка.
— На бешеного коня с плетью не ходят! — не поворачивая головы, отозвался князь.
Мечник Севрюк (родом был из Новгород-Северской земли, почему и прозвали «Севрюком»), прихрамывая, плелся за Дмитрием Александровичем и недовольно бурчал:
— Ну и пошто лезет? Так-то и башку потерять недолго. Сам через недельку обуздаю. А ныне нечего и лезть. Спаси и сохрани его, милостивый Господи!
На дворе стоял красные день. Большое, ласковое солнце освещало своим июльским радужным светом нарядные княжеские терема на Ярилиной горе. Тишь и благодать обуяла землю.
Два молодых, дюжих гридня, держась за узду, с трудом (Автандил упирался, брыкался, зло бил копытам) вывели из обширной деревянной конюшни непослушного жеребца.
— А может, мы сами как-нибудь, князь. Конь-то совсем дикий, — сторожко кашлянув в русую бородку, молвил один из гридней.
— Отродясь таких непокорных коней не видывал, — вторил другой гридень. — Волошке не удалось, так мы с Якушкой испытаем.
— Сам! — решительно молвил князь и добавил. — А теперь помолчите. Один я буду с конем изъясняться.
Дмитрий Александрович остановился напротив головы жеребца и в упор уставился в его фиолетовые глаза.
— Ну, здравствуй, Автандил, — спокойно начал разговор князь. — Привыкай к моему голосу. Ты хорошо послужил своему джигиту, а отныне мне будешь служить. Славно служить, Автандил. Без хозяина тебе никак нельзя. Ты будешь мне верным другом.
Сказав эти слова, Дмитрий Александрович неторопко обошел коня, а затем вставил ногу в стремя.
— Гридни, прочь от коня!
Гридни, с трепетом глянув на князя, отскочили в стороны, а Дмитрий Александрович легко и пружинисто взметнул свое сильное, упругое тело в седло.
Автандил взбунтовался. Он тотчас завис немыслимой свечой, взбрыкнул мощным крупом, но князь, с необычайным трудом, усидел в седле. Конь завис свечой в другой, в третий раз, но стальные шенкеля диктовали жеребцу неустрашимую волю человека.
Но Автандил не сдавался. Он помчал к теремам и вдруг с разбегу грянулся на передние ноги.
Гридни и дворовые люди, наблюдавшие за Дмитрием Александровичем, испуганно ахнули: всё, конец князю!
Но князь каким-то чудом, вцепившись сильными руками за поводья и, откинувшись всем телом назад, удержался в седле.
Автандил поднялся и застыл на месте. Удила порвали его черные большие губы в кровь. Дмитрий Александрович легким движением поводьев развернул коня и медленно поехал к конюшне. Автандил покорился!
— Слава князю! — грянул двор.
Дмитрий Александрович сошел с коня. Его лицо было довольным. Не зря он с одиннадцати лет занимался выучкой необъезженных коней из своих табунов. Не зря неоднократно падал и весь в синяках, шишках и кровоподтеках возвращался в терем. Зело же пригодилось укрощение строптивцев!
Автандил же и впрямь оказался превосходным конем. Вороной кабардинец отлично переносил летнюю жару и зимние морозы, долго мог терпеть без еды и питья, отлично рысил и переходил в стремительный галоп. Но главное, чему поражался Дмитрий Александрович — кабардинец был чрезвычайно надежен и умен. В любом месте оставь его без привязи — никуда не убежит, будет стоять и часами ждать своего хозяина. В учебных же ратных «потехах» Автандил был настолько послушен, что не отвлекался в самых жарких минутах, чутко улавливая нажатие колен князя и, поворачивая, куда нужно было всаднику.
Приучил его Дмитрий Александрович и к одной весьма нужной новинке — вопреки всем правилам, оставлять врага слева, под неудобную руку. А князь в сече и левой владел, не хуже, чем правой.
Золотой конь был у Дмитрия Александровича! Своим мечникам и конюхам он приказал беречь Автандила пуще глаз своих…
Сейчас, в зимнем походе, князь Дмитрий сидел в красивом, расшитыми узорами, седле, под коим находился чепрак[125] с серебряной бахромой. Конская грива была покрыта особой сеткой из червонной пряжи, «штоб не лохматило». Сбруя обложена золотыми и серебряными бляхами с драгоценными самоцветами; «стремена злаченые», даже ноги Автандила были украшены легкими изделиями из серебра и золота.
Таков был старозаветный обычай: и воевода, и конь его должны выделяться из всего войска.
Но в сече князь Дмитрий Александрович изменит этот прадедовский обычай.
Глава 3 ЛИВОНСКИЙ СЮРПРИЗ
Сыпал мелкий, колючий снежок. Рать продолжала двигаться по землям бывшего покойного короля Воишелка. Пока обошлось без стычек: Литва, раздираемая междоусобицами, пропускала русское войско на Ливоский Орден. Рать растянулась на несколько верст. Позади каждой княжеской дружины тянулся обоз. И чего только в нем не было! Первым делом на многих санях везли доспехи и различное оружье. Отменное оружье!
Воевода был спокоен: ратник ни в чем не будет уступать крестоносцам… Войско имело совершенное вооружение, изготовленное русскими мастерами, и всё лучшее, что производили оружейники Запада и Востока: щиты круглые и овальные, копья харалужные, мечи русские, литовские, булатные, кончары[126] фряжские[127], топоры легкие, кинжалы обоюдоострые, стрелы каленые, сулицы немецкие, шеломы злаченые, шишаки (боевые наголовья) русские, калантари (безрукавные, со стальными пластинами доспехи) злаченые, щиты червленые, чеканы, рогатины, сабли и байданы (пластинчатые кольчуги) булатные, палицы железные, корды (однолезвийные, прямые или слегка искривленные клинки), шеломы злаченые с личинами, кольчуги сварные и клепаные, шлемы с высоким шпилем для еловца (флажка), «чеснок — спотыкач», крюки серповидные железные на длинных древках для стаскивания всадников с коней…
На особых, широченных, специально изготовленных санях, могучие кони-бахматы[128] тянули осадные и метательные орудия: пороки, пращи[129] и самострелы.
Аниська Талалай смастерил такие пороки-камнеметы, которые могли метать тяжеленные глыбы на сорок саженей. А дабы без больших потерь подвести осадные орудия к крепости, Аниська попросил князя Дмитрия Александровича срубить специальные деревянные башни, чтобы укрыться в них умельцам с пращами, тяжелыми самострелами и камнеметами.
Князь Дмитрий просьбу мастера одобрил, и бревенчатые башни-туры были сооружены в Великом Новгороде.
Сейчас боевые туры волокли на санях кони шестеркой. В буйные метельные дни (случалось и такое) тяжелые сани застревали в сугробах, и тогда на помощь приходили пешие ратники из сельского ополчения.
Позади саней с доспехами, оружьем и башнями тянулись сани, нагруженные кормовым и питейным запасом: ржаными и пшеничными лепешками, сухарями, сушеным мясом и рыбой, толокном[130], медом, копченым салом, мочеными яблоками, бочонками с водой, брагой и винами… Некоторые бояре, любители свежатины (как Мелентий Коврига), везли на санях даже живых бычков.
Особая забота для воеводы, князей, бояр и дружинников — корм для лошадей. Конных всадников более двадцати тысяч. Потребовались сотни розвальней[131], на кои были нагружены рогожные кули с овсом и большие возы сена.
Князь Дмитрий еще заранее предупредил каждого удельного князя:
— Биться с крестоносцами будем в основном на конях. Путь предстоит далекий, а посему овса и сена взять не в обрез, а с запасом. Иначе выйдем на ливонца на отощалых лошаденках. Какая уж тут битва? Каждый обоз сам буду доглядывать!
И тут подал свой голос (совет князей и бояр происходил в Переяславле) боярин Коврига:
— А может, князь Дмитрий Александрович, нам большие обозы не снаряжать?
— И что ж ты предлагаешь, Мелентий Петрович? — нахмурился князь.
— Так ить по весям Литвы пойдем.
— ?
— Литва то и дело на наши земли нападала и разбойничала. Не худо и нам поживиться, когда по литовским деревням пойдем. Там и сенца, и овса, и разной снеди прихватим. Чего нам ливов жалеть, коль они нас не щадили?
Князь Дмитрий отнесся к словам боярина довольно сурово:
— Худая речь твоя, Мелентий Петрович. Стоит нам одно литовское село разорить, как вскинется вся страна. И доведется нам биться на две стороны. Но тому не бывать. Уж, коль выбрали меня воеводой, то твердо скажу: тот, кто позволит разорить хоть один литовский дом, буден без пощады наказан. И слово своё я сдержу.
Когда войско вступило в первую литовскую деревню, то она оказалась пустой: все жители, уведя с собой лошадей и скот, и, увезя кормовые припасы и пожитки, скрылись в лесах.
Тогда Дмитрий Александрович снарядил в очередное поселение гонца, повелев ему сказать, что русичи никого не тронут и грабить никого не станут. Многие из ливов не поверили и вновь сбежали в леса, некоторые же остались и были крайне удивлены, что русичи не только их не тронули и ничего в домашнем хозяйстве не разорили, но даже погреться в дома не попросились.
Следующее село уже в лесах не укрывалось. Местный староста вышел к воеводе, низко поклонился и сказал:
— Ливонские рыцари нас насмерть устрашили. Де, руситы всех мечами посекут, даже младенцев на копье вскинут, а жен и дочерей сраму предадут. Пожитки и скот себе загребут, а дома в пепел обратят… Но слух прошел, что вы обижать наш народ не собираетесь. Так ли это, воевода?
— Изрядно же вас орденские братья запугали. Нешто вы забыли, как в не столь далекие времена, наши народы жили в мире и добром согласии? Ни один литвин не боялся русских людей и даже просил защиты от тех же крестоносцев, кои неустанно на вас набегали.
— Твоя правда, воевода. Простой народ никогда не хотел войны с руситами. Это наши местные князья со своими дружинами набегают на ваши земли, чтобы чем-то поживиться и еще больше разбогатеть. Мало им своего добра, стервятникам! Мы же, маленькие людишки, всегда против таких набегов. Князья и князьки, когда идут со своими головорезами, и нас грабят подчистую. Плохое наше житье: и свои разоряют и ливонские рыцари, а крестоносцы пуще всего. Будем молиться за тебя, воевода, чтобы побил ливонца.
— Побьем, отец. Орденские братья забудут, как опустошать и захватывать чужие земли.
— Да спасет вас Христос и ниспошлет вам победу, — вновь с поклоном произнес староста и, глянув на заснеженных ратников, добавил. — В избы-то заходите, обогрейтесь, перекусите малость. Житье наше хоть и скудное, но чем богаты, тем и рады.
* * *
Из Великого Новгорода примчал гонец на взмыленном коне. Конь так и повалился у белого воеводского шатра.
Могутный мечник Волошка хотел, было, остановить нарочного, но тот (сам — дюжий детина) оттолкнул Севрюка широким плечом и распахнул полы утепленного шатра.
Волошка же, дружинник, хоть молодой, но бывалый, шмякнул незнакомого вершника увесистым кулаком по голове, да так крепко, что нарочный растянулся у шатра.
— Будешь знать, как к князю напродир пробиваться!
Дмитрий Александрович, услышав шум, вышел из шатра, спросил Волошку:
— Что тут у вас?
— А Бог его знает, княже. Какой-то вершник, без спроса и ведома, помышлял к тебе прорваться, вот я, и шмякнул его легонько. А вдруг он какое-нибудь зло умыслил?
Дмитрий Александрович глянул на павшую лошадь и, с неодобрением в голосе, произнес:
— А конь был породистый. Такого доброго скакуна загубил.
Каждый дружинник давно уже знал, что князь жалел любую загнанную лошадь.
— И чего примчал, дуралей? Да еще коня запалил, — вторя князю, проворчал Волошка.
— Сам дуралей, — приподнимая голову, очухавшись от удара, сердито вымолвил нарочный. — Я — посыльный от новгородского вече со спешной вестью.
Дмитрий Александрович подал нарочному руку и молвил:
— Поднимайся, посыльный, и проходи в шатер, коль прибыл от новгородского вече.
Князь сел на приземистый походный стулец и усмешливо произнес:
— Никак опять бояре что-то не поделили?
Гонец, потирая широкополой ладонью ушибленное место, молвил:
— Совсем иное, князь Дмитрий Александрович. В Новгород прибыли многие послы от великого магистра Отто фон Руденштейна, городов Риги, Фелина и Дерпта и запросили мира.
Князь Дмитрий от неожиданности поднялся со стульца.
— Ливонский Орден запросил мира? — ошарашено переспросил он. — А ну выкладывай, гонец, все подробности.
— Токмо твоя рать из Новгорода вышла, как на другой день немцы пожаловали. Их послы сказали новгородским боярам, что рыцарство ливонское желает остаться в дружбе с Русью, не помышляет помогать датским крестоносцам и не станет вмешиваться в их дела с князьями русскими, и на том крест целовало.
— Даже так?.. И бояре послам поверили? — с сомнением произнес князь.
— Почитай, поверили. Один лишь Юрий Михайлыч, тесть великого князя Ярослава, что выдал за него свою дочь Ксению, усомнился. Надо, грит, привести к кресту всех пискупов и божиих дворян[132].
— И что послы?
— Послы заверили, что орденские братья на сие согласятся. В тот же час боярин Юрий Михайлович повелел собрать вече, на коем новгородцы заявили, что доверят немцам лишь тогда, когда магистр и рыцари принесут клятву на кресте.
— Молодцом люд новгородский, — довольно молвил князь. — И как же дале дело порешили?
— Новгородский епископ немешкотно отправился в Мариенбург к великому магистру, и вскоре от владыки прибыл архимандрит Феодосий со словами, что сам Отто Руденштейн и его рыцари крест целовали. Вот тогда вече и отправило меня к тебе, князь Дмитрий Александрович. Не надеялся уж тебя догнать, да, знать, Бог помог.
— Рать велика, да и обоз немалый, шибко не побежишь… Ты хоть коня и запалил, но вестью своей проворной и нежданной заслужил награду.
— Да Бог с ней, с наградой, — отмахнулся посыльный. — Мне бы коня доброго — и тотчас вспять. Надо спешно Великому Новгороду доложить.
— Будет тебе конь… А ты, Волошка, неотложно скликай князей на совет.
Глава 4 В МАРИЕНБУРГЕ
Отто фон Руденштейн сидел в полном одиночестве за столом, отпивал из серебряного кубка вино малинового цвета и продолжительно раздумывал:
«Новгородский епископ отъехал из Мариенбурга в добром расположении духа. Отлично! Пастырь полностью уверовал в мирное намерение Ордена, и он скажет об этом Новгороду, а тот — князю Дмитрию. Русского пастыря сопровождал дерптский епископ Александр, подчеркивая нерушимый обряд святого крестоцелования. Ха! Русские люди слишком доверчивы. Им никогда не понять тайных замыслов великого магистра».
Еще три месяца назад Отто Руденштейн и подумать не мог о каком-либо мире с Русью. Орден святой Марии уже готов был напасть на Псков и Новгород. Время было выбрано удачное. Во-первых, король Литвы Воишелк, озлобившись на псковского князя Довмонта (который не только убил отца Воишелка, короля Миндовга, но и не раз опустошал литовские земли) надумал жестоко отомстить соплеменнику Довмонту. Во-вторых, великий магистр собрал большое войско, которое вслед за Воишелком нанесет сокрушительный удар русским княжествам.
Отто Руденштейн не сомневался в победе. Особенно ему хотелось захватить Псков, тот самый город, который в его бурной юности принес ему несмываемый позор.
Великому магистру никогда не забыть, как в 1242 году его полонил на Чудском озере Александр Невский. Ладно бы сам великий полководец полонил, а то какой-то сиволапый мужик стащил его крюком с коня, а другой — убил его верного скакуна чуть ли не кухонным ножом. Срам!
Но еще большее бесславие Отто Руденштейн испытал в Пскове, когда его, наряду с другими рыцарями, провели по улицам города, а затем бросили в вонючую земляную тюрьму. И гнить бы в ней до самой смерти, если бы в Новгород не прибыли «с поклоном» послы Германа Зальца, которые, отказавшись от захватнических намерений, попросили Александра Невского обменять немецких узников на русских пленных.
Вскоре Отто Руденштейн оказался в Ливонии, но о своем бесчестьи ему уже не забыть до самой смерти. Однако оправдать свой давний позор он сможет, если ему удастся захватить Новгород и Псков. И он непременно это сделает.
Великий магистр готов был протрубить сбор крестоносцев, как вдруг он получил известие, что Русь и Литва сговорились о мире и совместном походе на Ливонский Орден. Изумлению Отто Руденштейна не было предела. Как такое стало возможно?! Король Воишелк простил жестокую измену Довмонта и теперь вместе с ним и русскими князьями собирается напасть на крестоносцев!
Вся обстановка в прибалтийских землях резко изменилась. Воевать с русичами и ливами великому магистру явно не хотелось. Надо, пока не поздно, уговорить литовских князей и Воишелка отказаться от мира с Русью, пообещав им свой мир. Воишелк от заманчивого предложения не должен отвернуться: Ливонский Орден — самый грозный для ливов враг, и они с радостью примут соглашение с «братьями святой Марии», зная о том, что крестоносцы почти ежегодно обрушиваются на их города и села.
Но соглашения не потребовалось: буквально через несколько дней Отто Руденштейн узнал сногсшибательную новость: сын покойного Даниила Романовича Галицкого, Лев, заманив Воишелка во Владимир Волынский, убил короля. Литва возмутилась и разорвала мирный договор с Русью.
Отто Руденштейна, обычно невозмутимого человека, охватило ликование. Теперь у него руки полностью развязаны. Он пройдет через Литву, как нож через масло, а затем, имея многотысячное войско крестоносцев, легко захватит ненавистные русские города.
Но вскоре ликование великого магистра сменилось тревогой. Тайные лазутчики донесли, что в Новгороде собралась тридцатитысячная русская рать под началом переяславского князя Дмитрия, сына знаменитого Александра Невского.
Отто Руденштейн, конечно, знал о подготовке русских дружин к походу на Ливонский Орден, но это его не беспокоило. Русь основательно обессилена нашествием монголо-татарскими полчищ, и ей не удастся собрать внушительного войска. Когда-то князь Андрей Переяславский, сын великого князя Ярослава Всеволодовича, попытался сколотить большое войско против Золотой Орды, но это ему не удалось. В его рать вошла лишь дружина тверского князя. Но этих сил было недостаточно. Князь Андрей потерпел сокрушительное поражение и бежал в Швецию. Такое же поражение поимеет и князь Дмитрий, и потеряет славу завоевателя города Юрьева.
Но когда великому магистру донесли, что переяславский князь сумел собрать дружины семи князей, с ополченцами городов и сел, и что он выступил к Великому Новгороду с тридцатитысячной ратью, то Отто Руденштейн крепко призадумался. Он провел всю ночь в мучительных раздумьях и рано утром решил: надо перехитрить князя Дмитрия. Сейчас нежелательно вступать с ним в битву. Стоит ее проиграть — и братья Ордена святой Марии выберут нового великого магистра. Им станет командор Вернер Валенрод, зять бывшего владетеля Ливонского Ордена, Зельца Германа. В таком исходе Отто Руденштейн не сомневался. У Вернера много сторонников и немало великолепных побед. Он давно уже считается первым рыцарем ливонского братства. Вернер крайне опасен. Не случайно магистр послал его с «купцами» в далекий Переяславль, надеясь, что Валенрод погубит себя какими-нибудь неосторожными действиями. Но этого не случилось. Этот хитроумный Вернер доставил магистру план переяславской крепости.
Выскочка, властолюбец, напыщенный гордец! Он не захотел оказать помощь его доверенному лицу — Бруно Конраду, члену тайного общества «Карающий меч». Вернер не побоялся самого умного инквизитора. Такое, ни он, великий магистр, ни «Карающий меч» даже знатному рыцарю не простят. Вернер Валенрод должен погибнуть. Но это произойдет чуть позднее. А пока надо собрать всех командоров, наиболее влиятельных рыцарей и епископов в Мариенбург на совет и высказать своё решение. Вначале все будут удивлены, но он, великий магистр утихомирит рыцарей. Ему есть что сказать.
Собравшиеся и в самом деле были немало изумлены предложением великого магистра — замириться с русскими князьями. Возник такой шум, какого еще не слышала каменная палата для совещаний мариенбурского замка. Когда все накричались, поднялся, досель молчавший, Вернер Валенрод и резким голосом произнес:
— Рыцари недовольны, магистр. Все мы — представители великого немецкого народа, всегда храброго и воинственного, не можем терпеть такого унижения. Только трусливый заяц способен сунуть голову в сугроб при виде хищного зверя.
Отто Руденштейн вспыхнул. Намек Валенрода был слишком прозрачным. Этот дерзкий рыцарь переходит все меры приличия. Не пора ли его осадить?.. Нет, пусть упивается своей речью. Не зря говорят: язык мой — враг мой, прежде ума рыщет.
А Вернер, не стесняясь Отто Руденштейна, всё так же резко продолжал:
— Сейчас Ливонский Орден как никогда силен. Мы способны выставить до шестидесяти тысяч крестоносцев. Вдвое больше русского войска. И что же предлагает нам великий магистр? Снять рыцарские доспехи и преклонить колени перед каким-то удельным князем. Постыдно и неразумно, орденские братья! Немецкий народ нас никогда не поймет. Мы покроем себя несмываемым позором.
Валенрод, громко стуча сапогами, подошел к Отто Руденштейну и, глядя ему прямо в глаза, жестко произнес.
— Я прошу тебя, великий магистр, отказаться от трусливого предложения или… или мы подумаем о новом магистре.
В палате замка застыла напряженная тишина. Отто Руденштейн удивился: он думал, что многие из рыцарей его поддержат, но все словно в рот воды набрали. Выходит, крестоносцам по душе пришлись слова вызывающего Вернера. Даже дерптский епископ Александр, которого магистр считал своим другом, не захотел за него заступиться. Пора снимать напряжение зала.
Отто Руденштейн поднялся из кресла и, неторопливо оглядев каждого рыцаря и духовного пастыря, приступил к своей, давно приготовленной речи:
— Сядь на свое место, мой верный командор. Мне хорошо известна твоя преданность Ордену святой Марии. Ты достоин самой высокой похвалы. Действительно Ливонский Орден был бы посрамлен, если бы, как ты говоришь, наши славные рыцари преклонили колени перед Дмитрием Переяславским. Но того никогда не будет. Рыцари наголову разобьют русское войско.
В палате, по каменным стенам которой были развешаны горящие факелы, раздались недоуменные возгласы:
— Ты только что, великий магистр, говорил о другом!
— Как тебя понимать Отто фон Руденштейн?!
— Сейчас поймете, рыцари. На войне хитрость приносит больше пользы, чем сила. Битва не доставила бы нам желаемого результата. Да, мы как никогда, могучи и, вне всякого сомнения, опрокинем войско Дмитрия. Но подумайте — какой ценой? Русские дружины всегда бьются насмерть. Мы, как это не прискорбно, потеряем добрую треть рыцарей. Это же двадцать тысяч крестоносцев! Целая армия! Неужели вам нужна такая победа?
В зале опять-таки установилась мертвая тишина. Великий магистр назвал страшную цифру. Но он прав: без значительных потерь не обойтись. Русские — и в самом деле отменные воины.
Почему-то все повернулись к Валенроду, и тот, несколько помолчав, вновь заговорил:
— Война любит кровь, рыцари. Без этого не обойтись. У нас нет другого выхода. Павших крестоносцев мы с великими почестями похороним, помолимся святой Марии, и они отойдут в обиталище Иисуса Христа. Так ли я сказываю, славные рыцари?
Палата снова загудела:
— Ты прав, командор!
— У нас нет выхода, Вернер!
По лицу великого магистра пробежала потаенная усмешка.
— Есть выход, братья! — громко воскликнул Отто Руденштейн. — Не зря я долго размышлял. Мы заключим с Русью мир. Ложный мир! Поверив Ливонскому Ордену, князь Дмитрий утихомирится и с непреклонной уверенностью пойдет на датский Раковор, куда он давно и собирался. Раковор не только не пропускает русских купцов на море, но и неустанно делает пакости Руси. Но до Раковора мы Дмитрия не допустим. Когда он, в надежде на легкую победу станет подходить к крепости, мы всей своей громадой встретим его со всех сторон, и уничтожим. Неожиданность принесет нам громкую победу. Дмитрий не успеет расставить свои полки. Мы возьмем в плен этого самонадеянного князя и с петлей на шее проведем его по городам Ливонского Ордена. А затем…
Великий магистр выдержал паузу и жестко произнес:
— Затем мы возьмем ненавистные города Псков и Новгород и обрушимся на все северо-западные земли Руси. У нас не будет преград, — Отто Руденштейн язвительно усмехнулся. — Все дружины ушли с Дмитрием, а мертвецы, как всем известно, не воюют. Вот для этой сладостной победы я и намерен заключить с Русью ложный мир. Теперь, как я думаю, мои славные рыцари перестанут упрекать своего магистра.
«Отто Руденштейн как всегда вероломен. Ложный мир с Русью не принесет ему чести. Давно все знают, что великий магистр — великий инквизитор и вся деятельность его зиждиться на коварстве, обмане и тайных убийствах. Не случайно он держит при себе верных псов из «Карающего меча».
Вернер Валенрод любил честные, открытые поединки. Но спорить сейчас с магистром бессмысленно: большинство рыцарей (кому хочется погибать в честной битве с русскими дружинниками?) поддержат Руденштейна.
Так и случилось. После непродолжительного молчания, палата огласилась одобрительными, воинственными возгласами:
— Мы с тобой, великий магистр!
— Мы побьем Русь!
— Слава магистру!
Отто Руденштейн посматривал на рыцарей довольными глазами. Его план, о котором он думал всю минувшую ночь, удался. Победа над русскими полками будет также страшна и чудовищна, как неслыханное нашествие монголо-татарских орд на Русь… А что же касается Вернера Валенрода, то дни его сочтены. Больше никто не посмеет грубить великому магистру. Он еще долго будет сидеть на троне Ливонского Ордена.
Глава 5 УЗНИК
С каждым днем в каземате Васютки становилось всё холоднее. Рыцари его взяли в сентябре, и тогда еще солнце, проникая через узкое зарешеченное оконце, немного согревало его каменное помещение. А затем миновали грязник[133], братчины[134] и зимник[135] и наступил лютый сечень[136]. В темнице стало совсем холодно. Одно было утешение: в холода куда-то исчезли крысы, война с которыми отрывала у Васютки много сил.
Днем он пытался согреться оловянной кружкой кипятка, которую приносил ему со скудной пищей новый надсмотрщик Карлус, а ночью зарывался в груду жухлой соломы, изгаженную мышами, но теплей от этого не становилось.
Васютка очень исхудал, а однажды стылой ночью его охватил лютый озноб, и к утру его объял такой недуг, что он не мог подняться со своего «ложа».
Надсмотрщик Карлус, войдя в узилище с жидкой похлебкой, глянул на Васютку и покачал головой. Узник был явно болен. Пылающее лицо покрылось липким потом, русич бредил и глухо стонал.
Карлус потряс узника за плечо, но тот даже не смог глаз открыть. Его била мелкая дрожь.
Надсмотрщик постоял, подумал и пошел к фогту Вернеру. Выслушав Карлуса, командор произнес:
— Ступай к Кетлеру. Пусть он переведет пленного в другое помещение, разведет камин и пришлет к купцу лекаря Иогана.
Пожилой лекарь, невысокий, лысоватый немец в коричневом камзоле, явился к пленнику с порошками, настоями и отварами, зная о твердом приказе фогта Вернера — исцелить русского купца во чтобы-то ни стало.
У Васютки оказалось не обычное простудное заболевание, он застудил легкие. Лекарь возился с ним добрые две недели, пока узник не почувствовал заметное облегчение.
— Слава тебе, дева Мария! — размашисто перекрестился Иоган. — Ожил, наконец. А я-то уж побаивался — подниму ли тебя. Хворь твоя оказалась тяжкая.
— Спасибо тебе, лекарь, — сидя на мягком ложе, поблагодарил Иогана Васютка.
— Свою молодость благодари, а то бы тебе не встать. А теперь внимательно выслушай меня, русич. Если хочешь быть окончательно здоровым, то еще две недели продолжай пить мои настои. Тебе их будет приносит Карлус. И не пропускай ни одного дня!
— Постараюсь, Иоган… Скажи мне, какой ныне идет месяц?
— А ты разве не знаешь?
— Кетлер мне никогда не говорил. Судил по снегу, кой видел за оконцем. Думаю, ныне уже идет лютый студень.
— Я не знаю, что означает твой «студень», но на дворе сейчас месяц-генварь, пятое число.
— Зимник? — удивился Васютка. — Долго же я у вас загостился.
— На всё воля Господня, — развел руками лекарь. — И еще хочу тебе сказать, русич. Настои будут исцелять твою хворь, но ими сыт не будешь. Тело твое мне напоминает скелет, обтянутый кожей. Тебе, русич, нужно хорошо питаться, иначе ты можешь попасть в сети другой болезни.
— А вот здесь воля твоя невыполнима, Иоган, — усмехнулся Васютка. — Ты забыл, что я пленник, а пленника кормят хуже, чем скотину.
Лекарь подошел к камину, подбросил два коротких, сухих полешка и, многозначительно посмотрев на пленника, произнес:
— Я доложу твои слова фогту. И если ты ему нужен, то господин командор сделает так, что ты поправишься и телом. Мыслю, так и будет. Не зря же он приказал избавить тебя от недуга. Рыцарь Вернер Валенрод ничего напрасно не совершает.
В тот же день, на ужин, Васютке подали жареную курицу и чару сладкого красного вина. Купец головой крутанул. Ну и ну! Иоган оказался прав. Он нужен Вернеру. Но зачем? С какой целью он держит его в своем замке?
Однажды он попытался попросить Кетлера доставить его к командору, но тот лишь злобно рассмеялся и всячески оскорбил пленника. Не сделать ли такую просьбу новому надзирателю Карлусу? Он совсем другой человек — более добрый и уравновешенный, ни разу не обругал его грязным словом.
— Послушай, Карлус, — начал Васютка на другое утро, когда надзиратель принес ему на медном подносе пищу и кубок вина. — Не сможешь ли ты оказать мне большую услугу?
— Смотря какую, русич, — неопределенно отозвался надзиратель.
— Мне бы хотелось переговорить с хозяином замка. Ты способен доложить о мой просьбе Вернеру?
— Это невозможно, русич. Напрямую я не вхож в палаты фогта.
— А как же ты доложил о моем недуге и пище?
— Через господина Кетлера. Всё делается через него. Только он решает такие дела.
Худое лицо Васютки помрачнело. Паук (как прозвал он Кетлера) и словом не обмолвится о просьбе пленника. Уж чересчур злобный он человек, чтобы устроить встречу с Вернером.
Длительно посмотрев на нахмурившееся, исхудалое, бледное лицо Васютки, надзиратель, пошевелив железной клюкой красные угли в камине, сочувственно произнес:
— Я понимаю, русич, что тебе очень хочется встретиться с хозяином замка. Тебе тяжело. В одиночной тюрьме не только можно умереть от болезни, но и сойти с ума.
— Я не боюсь никаких напастей. Пусть я погибну, но меня изо дня в день мучает лишь один вопрос: почему рыцарь Вернер держит меня в своем замке. Почему?!
Последнее слова Васютка даже выкрикнул, выкрикнул с яростью.
— Ну хорошо, русич. Я попытаюсь поговорить с Кетлером. А если из этого ничего не получится, я расскажу о твоей просьбе главному повару, который лично подает пищу фогту. Наберись терпения.
— Да спасет тебя Христос, Карлус.
* * *
Фогту донесли просьбу пленника. Это сделал Кетлер. Еще в сентябре месяце Вернер приказал своему доверенному лицу:
— Купца не баловать. Пусть узнает, что значит сидеть в тюрьме на скудной пище вместе с крысами.
— А если он сдохнет? — желчно, с садизмом на лице, спросил Кетлер.
— До этого не допускать. Если купец умрет, то ты понесешь суровое наказание.
Кетлер недоуменно хмыкнул:
— Я не понимаю тебя, господин командор.
— Тебе нечего и понимать. Я не намерен отчитываться перед своими слугами. Выполняй то, что тебе приказано.
Кетлер обидчиво фыркнул и вышел из палаты Валенрода. Свою злость он вымещал на пленнике. Он ненавидел русских людей, считая их дикими варварами, которые сравнимы лишь со скотиной.
Однажды ночью, когда узник спал, фогт тихо вошел в казамет и приказал Кетлеру осветить факелом лицо пленника. Оно было настолько худым и изнеможенным, что Вернер метнул суровый взгляд на своего доверенного слугу.
— Этого купца скоро унесут в могилу. Ты плохо выполняешь мой приказ, Кетлер. С завтрашнего дня я назначаю другого надзирателя.
— Но я видел в нем всего лишь пленника, хотя и не жаждал его гибели, — норовил оправдаться Кетлер.
— Помолчи! — повысил голос Валенрод. — А кто жестоко избил беззащитного купца?
Кетлер удивился: кто-то из стражников всё-таки доложил об избиении узника. Но кто? Этого никогда не узнаешь. Ясно одно: у фогта всюду имеются свои глаза и уши. Но почему-то Вернер ничего не сказал ему, Кетлеру. Странно.
Вышагивая в сопровождении телохранителя Бертольда Вестермана и слуг с факелами к парадной двери замка, Валенрод думал:
«Этот купец, сын известного посланника Лазуты Скитника, оказался крепким и выносливым человеком. Ни разу он не пожаловался на холод, нищенское питание и отвратительную камеру с мышами и крысами. Другой бы начал бить кулаками в железную дверь и просить улучшения своего невыносимого содержания. Купец всё перенес и вытерпел, что делает ему немало чести».
Командор преднамеренно проверял русича, чтобы убедиться — стоит ли игра свеч. За слабака и рохлю, никчемного сына, отец и ломаного гроша не даст. А вот за достойного сына посланник ничего не пожалеет. Ныне, как донесли лазутчики, Скитник находится в составе войска князя Дмитрия. Он, хоть и в годах, но силен, как медведь. Сказывают, бывший ямщик и кузнец князя Василька Константиновича, что мужественно погиб в битве с татарами на реке Сить. О его геройской гибели легенды дошли даже до немецкой земли.
Вернер Валенрод уважал неустрашимых ратоборцев. С такими интересно воевать, и тем почетней поразить бесстрашного воина копьем или мечом. Война же близится. Войска князя Дмитрия идут уже по землям Литвы и вскоре они вступят во владения датских крестоносцев.
Магистр Руденштейн тоже зря времени не теряет. Подписав «вечный» мир с Русью, он собирает всех ливонских рыцарей в Мариенбурге, готовя неожиданный удар (а если уж честно — предательский удар) князю Дмитрию в спину. Конечно, такую победу честные хронисты[137] не назовут блистательной, даже в угоду великому магистру, на что тот и надеется. Напрасно, Отто! Такую коварную победу не назовешь победой века. Разве что твои крючкотворцы-лизоблюды напишут о тебе как о великом полководце. Но история никогда не верит придворным лживым хронистам.
Уже в своих покоях Вернер внезапно подумал:
«Великий магистр говорил только о Пскове и Новгороде. О Переяславле же Залесском он и словом не обмолвился. Выходит, этот город не входит в его планы… Тогда зачем он посылал его, первого рыцаря Ордена, в столь далекое и небезопасное путешествие? Зачем?.. Ливонский Орден никогда не ходил на Ростово-Суздальскую Русь. Его удел — пограбить северо-западные рубежи, и не больше.
Любой предыдущий великий магистр отчетливо понимал, что пройти из земли Немецкой через всю Русь — полностью потерять всех крестоносцев. Даже великий полководец, хан Батый, напав на русичей со своим 500-тысячным войском, был страшно раздосадован гибелью сотен тысяч своих неустрашимых воинов. Куда уж идти вглубь Руси Отто Руденштейну, когда его войско едва ли не в десять раз меньше татарского? Он об этом и не помышляет.
Значит, поездка Вернера была бессмысленной. План переяславской крепости никому не нужен. Пустая бумажка. Какой же вывод?.. Думай, командор, думай! У тебя разумная голова, и ты непременно должен разгадать странное поручение великого магистра. Некоторые рыцари нашептывают, что он, Валенрод, давно уже стал неудобен Отто Руденштейну, ибо является первым претендентом на его высокий трон. Не в этом ли разгадка?
Великий магистр полагал, что он, Вернер, не справится со сложным поручением, вернется в Мариенбург с поникшей головой и потеряет славу первого рыцаря. Орден святой Марии не терпит тех, кто не справляется с заданием великого магистра. А раз так — Вернер Валенрод отодвинется в тень и навсегда забудет свою высокую мечту — стать властелином Ордена.
Но Отто Руденштейн просчитался, продолжал раздумывать командор. Он, Вернер, не только удачно справился с поручением магистра, но и привез в Ливонию ценного пленника, который, при определенных условиях, может спутать все карты переяславскому князю Дмитрию.
Купец напрашивается на разговор. (Главный повар фогта сумел таки передать просьбу пленника). Но чего он добивается? Освободить его из тюрьмы? Глупо. Такого вопроса купец не будет задавать. Улучшить его жилище и стол? Но и это условие выполнено. Теперь пленник пойдет на поправку, и, к началу битвы с русичами, он будет выглядеть совершенно здоровым, таким, каким в последний раз видел его отец. Надо разрешить купцу и продолжительные прогулки, чтобы вернулся его огнистый румянец на щеках… Русич не должен обижаться на хозяина замка. И всё же он упорно желает с ним, Вернером, встречи… Ну что ж. Встреча состоится.
Глава 6 ЛИХО ВОЕВАТЬ ЗИМОЙ
Зима выдалась стылой и метельной. Поход был труден. Особенно доставалось дружинникам и пешим ратникам: не князья и бояре. Этим на дневках и ночевках — мороз не мороз, да и в пути едут на конях в теплых меховых сапогах и шубах.
Князьям и боярам их дворовые люди (тех тоже забрали в рать) ставили нарядные шатры. Внутри — утаптывали снег и устилали его широкими и сухими сосновыми досками и толстыми тюфяками. Верх же шатра утепляли медвежьими шкурами и ватными одеялами. А чтобы одеяла не отсырели от снега, весь шатер обвивали рогожами.
Пешие и конные ратники умудрялись по-своему прятаться от морозов и метелей. Они, ведая стародавние «хитрости» русских воинов, ставили копья «горкой» и из них строили шалаши из еловых лап, ветвей и прутьев, покрывая сооружения войлоком. Нутро же застилали сеном, соломой и залезали туда на ночлег. Но всем сена и соломы не хватало: обозные люди жадничали, сокрушенно сетовали:
— На лошадей сена не хватает, а вы по шалашам тащите. А не подумали, малоумки, что нам еще вспять тыщи верст ехать. Где корму набраться?
Но «малоумки» не отступали:
— А нам что, замерзать? На лютого ворога идем. В такой сечень можно и вовсе околеть. Кто ж тогда ливонца будет бить?
Обозные хоть и жалели простолюдинов, но коней, ведая строгий наказ большого воеводы, жалели еще больше.
И все же замерзших людей в рати не оказалось: сказывалась природная привычка людей жить в суровых условиях зимы. Во время дневок князь Дмитрий старался разбивать военный стан в лесу, где легче укрыться от непогодицы. Ратники, поставив шалаши, разводили костры, готовили на огне варево, таяли снег в бадьях для лошадей, толкались друг с другом, а нередко и боролись для сугрева, дабы застоявшаяся кровушка заиграла по жилам.
Другие же ратники (во время привалов) надевали короткие, но широкие лыжи, обитые лосиной кожей, вешали на плечо лук и колчан со стрелами, и уходили в лес, дабы подстрелить зверя или птицу. Придя с добычей, обделывали ее, коптили на кострах и ели.
Как-то к одному из костров, раз в неделю досматривая войско, в сопровождении князей, некоторых бояр и старших дружинников, подошел большой воевода. Ратники встали, скинули с кудлатых голов малахаи и поклонились в пояс.
— Сидите, сидите, — махнул рукой князь Дмитрий. — И шапки оденьте. Никак, зайца подбили? …Эге, да тут и мой умелец Анисим.
— Наш пострел везде успел, — с улыбкой ответил один из ратников. — Это он, воевода, зайца стрелой сразил.
— Молодец, Анисим. Да ты я вижу и в охотничьем деле горазд.
— По мужицкому умишку это сущий пустяк. Эко дело зайчишку подстрелить.
— Не скажи, не скажи, Анисим. Всякое дело сноровки требует… Вкусно пахнет.
— А ты отведай, воевода, — засуетился Талалай и протянул Дмитрию Александровичу кусочек поджаренной зайчатины.
— Не откажусь, — весело отозвался князь и подсел к костру.
У Аниськи заиграли лукавые огоньки в шустрых, озорных глазах.
— Под зайчатину, воевода, и бражки бы не грех испить.
Князь и глазом не успел моргнуть, как Талалай в сей же час выхватил из-за пазухи оловянную фляжку. Сдвинув на лохматый затылок треух, побултыхал хмельным зельем и оживленно молвил:
— Испей, воевода. Веселит, крепит и сто недугов сымает!
Дмитрий Александрович рассмеялся:
— И всё-таки не забыл свою бражку. Поди, и на глоток не осталось?
— Не угадал, воевода. Целехонька. До победы решил не пить.
— Да ну? Это первейший переяславский бражник? И как же ты терпишь, Анисим?
— Терпеть не беда, было бы чего ждать. А тут особливый случай подвернулся. С самим воеводой доведется чокнуться. Да и повод есть.
Зеленоватые глаза Аниськи продолжали оставаться озорными.
— Аль праздник какой?
— Седни крещенский сочельник[138], а завтра Богоявление[139]. Сам ведаешь. Но не в праздниках суть, воевода. Я, чать, никогда не забуду, как ты меня когда-то кубком вина и шубой наградил. Вот и я ныне хочу тебя угостить.
— Спасибо, Анисим. И все-таки оставь свое намерение, как ты и задумал. До победы! Сразим крестоносца, вот тогда и выпьем на радостях из твоей баклажки. Слово даю! Не так ли ратники?
— Истинно, воевода!
— Побьем лыцаря, тогда и гульнем, — дружно загалдели пешцы.
— А побьем крестоносца? — пытливо глянул на ратников Дмитрий Александрович.
И княжьи мужи, и пешие ополченцы примолкли, но глаза у всех посуровели. Мужики перестали даже жевать. Ишь, с каким напряжением смотрит на них большой воевода. Крестоносцы сильны, шапками их не закидаешь.
Почему-то все повернулись к Аниське Талалаю, а тот засунул баклажку за пазуху и, глянув князю прямо в глаза, твердо высказал:
— За нас не сумлевайся, воевода. Не для того мы свои дома, жен и детей покинули, чтобы они нас горькими слезами оплакивали. Не для того святая Русь стольких воинов выставила. Вернемся со щитом, князь Дмитрий Александрович! И так думает каждый.
— Верно, Аниська!
— Не бывать тому, чтобы святая Русь срам понесла!
— Быть нам со щитом!
У костра находились пятеро ратников. Князь Дмитрий обнял и облобызал каждого и благодарно молвил:
— Спаси, спасибо вам, други. С такими воинами любой ворог не страшен… Ну, бывайте здоровы, а я к другим ратникам схожу.
— Да храни тебя Бог! — закричали ополченцы.
* * *
Большой воевода объезжал ратников, спрашивал: нет ли недужных, чем питаются, достаточно ли кормовых запасов, хватает ли теплой одежды, не пропал ли у воинов боевой дух?..
О многом разговаривал Дмитрий Александрович, и чувствовал, что его встречи живят и подбадривают ратников.
Воины же, провожая князя, степенно и уважительно толковали:
— Заботливый и дотошный воевода. С таким не пропадем, православные.
Проверял Дмитрий Александрович и обозных людей. Особенно его привлекало оружие, сложенное на санях-розвальнях. Он приказывал откинуть рогожи и подолгу осматривал доспехи, представляя, как они будут выглядеть на ратниках.
Русские воины поверх обычной одежды перед сечей надевали довольно короткую, не доходящую до колен, кольчужную рубашку. Кольчуга имела короткие рукава и боковые разрезы внизу, облегчавшие посадку на коня; надевалась она через голову, и у ворота спереди имела надрез; обычно её подпоясывали кожаным сыромятным ремнем.
Однако кольчуги были не у всех воинов, так как кольчужный доспех был слишком дорог. Простолюдины вместо него носили куяк — кожаную безрукавную рубаху с нашитыми на нее металлическими бляхами.
Необходимой частью воинского снаряжения был шлем — шелом. Типично русским был остроконечный шлем — «луковица». Он заметно отличался от иноземного, а именно — отсутствием забрала, зато необходимой частью его была бармица — кольчужная сетка, прикрепленная к шлему изнутри, спадающая на спину и плечи и застегивающаяся под подбородком. А вместо забрала служил подвижной наносник — стрелка.
Но за период борьбы с монголо-татарами русские шлемы изменили свою форму. Они потеряли высокие навершия, ибо высокие шлемы легко было сбить саблей.
Некоторые русские шлемы-мисюрки имели плоский верх и всё ту же кольчужную сетку — бармицу, короткую спереди и удлиненную с боков и сзади.
Защитным оружием служил щит миндалевидной формы, который держали в руках заостренной стороной вниз. Делали его из прочного дерева и обтягивали кожей и оковывали железом. В центре он обычно имел железную круглую бляху.
Оружием для нападения служили обоюдоострый меч, сабля, копье-рогатина, короткое металлическое копье-сулица, кистень, состоявший из древка и прикрепленной к нему на цепи гири, а также топор, лук, и колчан со стрелами.
Конные дружинники князей и бояр носили тягиляи — длинные кафтаны с воротником-козырем. Их шили на подкладке, а между подкладкой и верхом проводили слой пакли с вложенными в него железными пластинами. Такие тягиляи спасали не только от ветра и холода, но и от вражеского копья, меча и сабли.
Князья и бояре надевали на грудь, поверх кольчуги, короткую металлическую кирасу для защиты от колющего и рубящего оружия; на руки — металлические пластины (наручи) и рукавицы. Ноги защищали «бронированные» сапоги — бутурлуки, или сапоги, покрытые пластинами, наподобие чешуи. Поверх доспеха воеводы надевали еще и налатник — короткий плащ типа нарамника с не сшитыми в боках полами и широкими короткими рукавами. Налатник имел спереди разрез и застегивался на медные или оловянные пуговицы.
Кроме чисто русского оружия обозы везли на санях и немало иноземных доспехов, вплоть до рыцарских.[140] Сейчас же князья, бояре, дружинники и пешие ополчены, шли и ехали налегке (без тяжелых доспехов).
Дмитрий Александрович также снял свое богатое «выездное» облаченье, и был одет в теплые меховые порты и полушубок на песцовом меху. Голову его покрывала горлатная шапка, сшитая из горлышек куницы, с бархатным верхом. Из оружия лишь меч опоясывал воеводу, с которым он никогда не расставался.
Простые же ратники были одеты в привычные овчинные полушубки и заячьи шапки. Однако среди ополченцев боярина Мелентия Ковриги Дмитрий Александрович заметил несколько мужиков, облеченных в армяки, кои считались летней одежкой, и в лапти с онучами. Мужики хоть заметно и приободрились при виде большого воеводы, но сразу бросалось в глаза, что их весьма донимает стужа.
Дмитрий Александрович сурово сдвинул густые, изогнутые брови.
— Чего ж ты, Мелентий Петрович, своих ратников не оберегаешь? Сам-то, небось, три шубы на себя напялил.
— Так, ить, по скудости своей, князь. Где зимней одёжы на дворовых людей набраться?
— По скудости? — еще больше посуровел Дмитрий Александрович. — А ну-ка, гридни, скиньте рогожи с саней боярина!
Гридни скинули. И без того пухлые, розовые щеки Мелентия Ковриги стали свекольными. На санях чего только не было! Тягиляи, добротные шубы и полушубки, меховые шапки, теплая обувь…
Сергуня Шибан, ближний послужилец боярина, смахнув с черной окладистой бороды сосульки, довольно крякнул: будет сейчас на орехи Мелентию Петровичу, всё скупердяйство его открылось. Так ему и надо, сквалыге!
— А это кому, Мелентий?
— Так ить дорога дальняя, князь. А обратный путь? Всю одежонку поиздерут. Поберегаю до сечи.
— Поберегаешь? — вскипел Дмитрий Александрович и резко приказал:
— Снимай с себя шубы — и ополченцам!.. Не хлопай глазами. Снимай! А всех остальных — из обоза приодень. И чтоб никаких армяков и лаптей. Не позорь войско русское!
Мелентий Петрович принялся стягивать с себя теплые шубы. Срам-то какой! Да еще при своих смердах! Но и перечить князю нельзя. Ишь, как гневно глазами сверкает. Того гляди, меч выхватит. Весь в покойного батюшку. Тот уж куды, как грозен был.
Князь Дмитрий поехал в сторону других дружин, а ополченцы Мелентия Ковриги проводили его восхищенными взглядами. Молодец, большой воевода! Изрядно же он за простолюдина заступился, да и боярина жестко проучил, век Мелентию не забыть. А то и в самом деле едва не окоченели в такую-то стужу. Ныне — любой мороз — не мороз.
Морозы поутихли через несколько дней, зато на рать обрушилась неугомонная метель, да такая адская, что князь Дмитрий забеспокоился: рать двигалась по открытой местности, и если бешеная вьюга не успокоится, то и люди, и кони и обозы не только застрянут в сугробах, но и вовсе будут завалены снегом.
К Дмитрию Александровичу, прикрываясь поднятыми воротниками, подъехали новгородский князь Юрий Андреевич и сыновья великого князя, Михаил и Святослав.
— Беда, воевода! — весь залепленный снегом прокричал Юрий Андреевич. — Ничего не видно. Метель-завируха может нас закрутить!
— Что делать? — пересиливая неистовый гул ветра, вопросил князь Святослав.
Большой воевода не находил пока ясного и четкого ответа. Впервые он сталкивается с такой бесноватой, дьявольской метелью. Новгородский князь прав: в такой чудовищный буран, когда в трех шагах коня не заметишь, легко можно и заблудиться, да так заплутать, что люди вконец обессилят, не ведая, куда идти и как с бураном бороться… Переждать, остановить войско? Тоже не выход. Буран в считанный час завалит всю рать, и сколько после этого останется в живых — один Бог ведает.
Жаль, нет рядом псковского князя Довмонта. Еще неделю назад Дмитрий Александрович послал его вперед, в Немецкую землю, дабы окончательно прощупать крестоносцев — так ли уж они заинтересованы в мире с Русью и не попытаются ли заманить знаменитого Довмонта в хитроумную ловушку, на кою рыцари всегда способны.
Князь Дмитрий не доверял Ливонскому Ордену. Хотя были и клятвы, и заверения епископов, и грамоты с печатями, подписанные самим великим магистром, но сердце подсказывало: будь осторожен, ливонцы всегда к Руси враждебны, их захватнические цели давно известны всему народу…
Но сейчас речь не о крестоносцах. Ныне надо спасать войско. Довмонт, не раз бывавший в этих землях, что-то бы посоветовал, но его нет, и теперь Дмитрий не ведал, что предпринять.
— Может, повелишь шатры поставить? — чуть ли не в ухо прокричал Юрий Андреевич.
— Сдурел, князь! Мы будем свои шкуры спасать, а ратники гибнуть?!
— Сами подохнем, — отъезжая от большого воеводы, буркнул Юрий Андреевич.
Пауза князя Дмитрия оказалась затяжной. Военачальники ждали его решения, а он продолжал молчать.
— Надо двигаться. Двигаться вперед! — наконец твердо произнес он.
— Так заплутаем же! — вновь отчаянно прокричал князь Юрий Андреевич. — И ста сажён не пройдем!
Дмитрий Александрович и сам понимал, что новгородский князь прав, но другого выхода он не видел. Надо попытаться, чтобы всё войско шло след в след. А вдруг Господь поможет и спасет рать.
Подле Дмитрия Александровича оказались Неждан Иванович Корзун и Лазута Егорыч Скитник.
— Прости, воевода, но тебе хочет слово сказать Лазута Скитник. Он — воин бывалый. Когда-то меня с дружиной, в такую же метель до стана вывел.
— Говори, Лазута Егорыч.
— Войску стоять нельзя. Твоя правда, князь. Но дозволь мне повести за собой рать. Меня метель не закружит, выведу войско в самый тишок.
— Каким образом? — пожал широкими плечами Дмитрий Александрович.
— Извиняй, князь, — кашлянул в заснеженную рукавицу Лазута Егорыч. — По нюху собачьему.
— И чего ж ты будешь нюхать в такую завируху[141]? — недоуменно спросил воевода и махнул рукой. Пусть ведет рать этот пожилой, но видавший виды воин. Не зря его Неждан Иванович и раньше нахваливал.
Лазута Егорыч понимал, какой огромный груз взваливает он сейчас на свои плечи. Метель-то и в самом деле невиданная. Стоит ошибиться, малость оплошать — и с войском может приключиться жуткая беда. О своей же судьбе он не тревожился. Выгонят его из княжьих мужей — и Бог с ним. Без дела он не останется. Олеся, любимая супруга, ждет, не дождется его возвращения домой. Но сейчас о том — и думы нет. Надо спасать русские дружины.
Вопреки решению большого воеводы Лазута Егорыч повернул своего коня вправо. Князь хотел, было, вмешаться: куда это он поворачивает войско? Но боярин Корзун предупредительно произнес:
— Доверься Скитнику, воевода. Он только один ведает куда идти. Доверься!
— Добро.
Через полусотню саженей Скитник остановился и с немалым смятением подумал:
«Не чую, Господи! В такой бешеной круговерти немудрено и в другую сторону податься. Если не учую запаха — тогда совсем пропащее дело. Помоги же мне, Спаситель!»
Конь с трудом пробивался через сугробы. Храпел, фыркал, едва вытягивая ноги из снежных завалов. Метель залепляла его большие фиолетовые глаза, и если бы не твердая рука наездника, направлявшая его за повод, он давно бы сбился с выбранного пути.
А наездник думал только о широкой и глубокой лощине с макушками вечнозеленых елей, кою он приметил еще до вьюги, и коя находилась справа, где-то в трех верстах от войска.
Еще с отроческих лет, когда Лазутка, иногда замещая отца (известного на всю округу ямщика), гонял коней по летним и зимним, лесным большакам (а вся Ростово-Суздальская Русь утопала в лесах), он всегда остро ощущал неистребимый запах елей и сосен. А затем он и вовсе стал заядлым ямщиком, и, вылетая на открытый простор с каким-нибудь купцом, Лазутка, задорно помахивая кнутом, уже отчетливо чуял дух леса, хотя до него и было не так уж и близко. Случалось это и в метели.
Купец, высовываясь из возка, неспокойно кричал:
— Экая завируха навалилась. Не замело бы дорогу, ямщик!
— Выберемся! — скалил крепкие, молочные зубы Лазутка…
«Выберемся… Но тогда была не такая слепящая, свирепая метель», — невольно подумалось Лазуте Егорычу.
Он уже с трудом двигался в нужном направлении. Как ни натягивай повод, но когда не видно ни зги, мало-помалу свернешь в сторону, и вся твоя затея рухнет. И ты не только приблизишься к лощине, но и очутишься в противоположном месте.
Беспокойство всё больше охватывало Лазуту Скитника.
«Зачем, зачем я напросился?! — завладела им отчаянная мысль. — Тут и сам дьявол заплутает. И если метель продлится хотя бы еще день, то с ратью буде покончено. И это случится тогда, когда Русь напрягла последние силы, дабы остановить вторжение иноземцев… Господи, да помоги же мне! Ну, помоги же, всемогущий Господи!»
Скитник никогда не был ревностным прихожанином, но на сей раз, он обращался к Богу со слезами на глазах.
Глава 7 НЕ ПРЕДАМ СВЯТУЮ РУСЬ!
Васютка был на прогулке, когда к нему подошел надзиратель Карлус. Узкое, скуластое лицо его, с длинным хрящеватым носом, было улыбчивым и довольным.
— Можешь порадоваться, русич.
— Ты подашь мне на обед калач со сбитнем, — пошутил Васютка.
— О калаче я слышал, а вот о сбитне ничего не знаю. Ты мне расскажешь, и я скажу повару, чтобы он приготовил тебе такое блюдо.
— Едва ли твой повар захочет приготовить мне лакомство… Чего такой веселый?
— Я выполнил твою просьбу, купец. Командор Вернер Валенрод ждет тебя в своем тронном зале.
— Это правда?! — оживился Васютка.
— Клянусь святой Марией.
— Я никогда не забуду о твоей услуге, Карлус. Ты очень добрый человек.
— Поспешим, купец. Командор не любит ждать.
Вскоре Лазутка оказался перед высокой металлической дверью, расписанной причудливыми узорами вокруг длинного бронзового креста. У двери застыли двое стражников, вооруженные мечами и копьями.
— Приказано доставить к господину фогту, — доложил Карлус.
Стражники молча раздвинули копья: они были уведомлены о приказе командора.
— Ты войдешь один, а я подожду тебя за дверью, — сказал надзиратель.
Каждый ливонский замок имел тронную палату, которые, по своему зодчеству, мало чем отличались друг от друга, выделяясь лишь роскошью отделки и обстановкой.
Палата фогта Вернера была внушительных размеров — широкой и длинной, способная вместить более двухсот гостей. Стены ее были обиты толстым малиновым сукном, расписанным мелкими серебристыми крестами. На передней стене виднелось распятие Христа. Зарешеченные окна были узкими и напоминали бойницы, и если бы не горящие светильники, развешенные по стенам, то в тронной палате было бы довольно сумрачно.
Командор Вернер возвышался на высоком деревянном кресле. Он, облаченный в белый плащ с черными крестами, сидел за длинным столом, на котором стояли два трехсвечника и лежала раскрытая рукописная книга.
Позволив пленнику оглядеть палату, Валенрод несколько минут вглядывался в узника, а затем негромко сказал:
— Мне стало известно, купец Васютка, что ты добивался встречи со мной.
— Да, Вернер.
— У тебя появились какие-то вопросы?
— Да! Особенно один.
— Хорошо. Я непременно отвечу на него. Но вначале хочу узнать у тебя — доволен ли ты условиями своего заключения? Нет ли каких-нибудь жалоб?
— Ни каких. В последние недели ты, Вернер, предоставил мне пригожую жизнь. Я нахожусь в тепле, выхожу на прогулки, отменно питаюсь и даже пью хорошее вино. Так с пленниками не поступают. Меня сдерживают лишь толстые стены твоего замка.
— Отлично, купец. Хочу добавить, что тебе оказана большая честь. Ты принят в тронном зале. Ни одному узнику это было не позволено. Даже кнехт не имеет права войти в главную палату рыцаря. И если ты в дальнейшем проявишь благоразумие, то тебя ждет большая удача. Я вижу, как ты порываешься задать мне свой главный вопрос, но я отвечу на него чуть позднее.
— Но почему, Вернер? — порывисто двинулся к столу командора Васютка, но фогт остановил его движением руки.
— Так надо, купец. Но вначале Карлус отведет тебя в крестовую палату.
Командор позвенел колокольчиком и стражники приоткрыли дверь.
— Карлус! Проводи купца к прелату[142].
— Слушаюсь, господин командор.
Надзиратель, держа в руке светильник, повел Васютку по каменным переходам и лестницам. Из одного помещения донесся шум, грохот посуды, смех и визг женщин, и звуки бешеной музыки.
— Что это? — спросил Васютка.
— Господин Кетлер отмечает свой день рождения, — с нескрываемой насмешкой отозвался Карлус.
Навстречу попались три девушки в странных для Васютки облачениях. (На них были пышные, широкие платья из тафты с жабо [143] и буфами[144]). Девушек, гулко топая громадными сапогами со шпорами, сопровождали двое мужчин в черных бархатных камзолах, с вышитыми на груди белыми крестами. Мужчины тискали девушек и громко, пьяно хохотали.
Когда веселая толпа прошла мимо и скрылась в шумном помещении, Васютка вновь спросил:
— Откуда эти девушки?
— Пленные латышки и эстонки. Рыцари превратили их в наложниц… Ты видел, как одна из девушек хлопнула меня рукой по плечу?
— Твоя знакомая?
Карлус почему-то остановился. Лицо его нахмурилось.
— И не только. Моя соплеменница, эстонка. Год назад её схватили в одной из деревень и…
Карлус не договорил и с сумрачным лицом махнул рукой.
— Так ты разве не немец? — удивился Васютка. — Из эстов?
Но надзиратель опомнился: он слишком много наговорил пленнику. В этих мрачных стенах замка слишком «тонкие» стены.
— Идем к прелату, русич.
Васютка не понимал, зачем послал его к священнику командор Валенрод. Что на уме этого хитрого фогта?
Крестовую палату никто не охранял. Надзиратель открыл дверь и произнес:
— Мне приказано доставить русского купца, ваше священство.
— Пусть войдет.
Приват Иоган встречался с иноземцем по просьбе командора Вернера, которого он любил и считал своим верным другом. Они были знакомы много лет, и делились самым сокровенным. Вчера Иоган заехал к фогту в гости и тот, поделившись своими планами, подробно рассказал ему об узнике.
Приват был высоком, статным человеком, с крупной русокудрой головой и большими, выразительными глазами. Длинные волосы были рассыпаны по его широким плечам.
— Присаживайся, купец, — указал священник на широкое, обитое бархатом кресло. Он говорил на чистом русском языке.
«Горазд, однако», — хмыкнул Васютка.
Крестовая комната слегка напоминала ему русскую церковь. На правой стене находилось большое, золоченое распятие Христа. Потолок изображал небо — с ангелами и херувимами с золотыми крыльями. Подле распятия — серебряная купель. На полу были устланы черные ковры с лунами и звездами. Стол, покрытый парчовой тканью, был освещен бронзовым шанданом с тремя толстыми восковыми свечами. На нем лежали богослужебные книги и какие-то узкие желтые полотенца.
— Тебе повезло, сын мой, — полнозвучным задушевным голосом начал свою речь прелат. — Ты находишься в крестовой палате самого известного рыцаря братства святой Марии фогта Вернера Валенрода, истинного служителя христианской веры.
— Это крестоносец-то Вернер истинный служитель Бога? — не скрывая насмешки, прервал прелата Васютка. — Он вор и убийца. В его замке содержатся узники, и творится блуд. Какой же он христианин?
— Ты заблуждаешься, сын мой. Господин Вернер вынимал меч для защиты самой справедливой веры на земле — католической. Этой же цели послужило и твоё заключение. Вором же он никогда не был.
— Послушай, католический отче. Самая справедливая христианская вера та, кою имеет лишь одна святая православная Русь. Другой не было и не будет! — горячо молвил Васютка.
— Опять ты заблуждаешься, сын мой. Ваш так называемый православный народ — язычники!
— Ну, это ты слишком загнул, отче, — осерчал Васютка.
— А я говорю язычники! — повысил свой голос прелат. — Кому вы молитесь и отбиваете поклоны?
— Святым иконам.
— Чепуха, сын мой. Простым деревяшкам, о которых вы ничего не знаете. Высшие истины вероучения недоступны русским людям. Вы построили тысячи церквей, но на что они похожи? На торжища! Вместо того, чтобы усердно молиться Христу, в храмах ваших не только разговаривают и спорят, но и даже дерутся и бранятся непотребными словами.
— Лжешь, отче! — с яростью в голосе произнес Васютка. — Нет того в наших святынях.
— Ты еще молод, сын мой, и многого не знаешь, — сдерживая раздражение, продолжал Иоган. — Истинные христиане часто посещали Русь и своими глазами видели, что творится в ваших церквах. Люди несколько часов стоят толпой, им негде даже присесть. Нужны железные ноги, чтобы не упасть от изнеможения. А с Богом надо говорить в полной тишине и без усталости. Ваша вера — не христианская. Ваши князья ставят себя выше Христа, ибо епископы и прочие иереи у них в полной зависимости. Священники не смеют и рта раскрыть, ибо любое неповиновение грозит им снятием с прихода. Это уже измена. Страшная измена Христу и святой деве Марии.
— Ложь и еще раз ложь!
— Помолчи, сын мой, и выслушай меня до конца. Орденским братьям предначертана высокая цель. Они призваны Богом искоренить язычество, искоренить всюду, где оно существует. И тогда будет одна истинная вера, которая избавит мир от кровавых войн и народных бедствий. Настанет царство благоденствия… Вижу по твоему лицу, что ты намерен вступить со мной в бесполезный спор. Не спеши, сын мой. Пусть остынет твое сердце. Пусть оно наполнится терпением, благочестием и благоразумием. Я понимаю, что ты хочешь заступиться за свою веру, но, повторяю, вера твое неугодна Богу, ибо она языческая. Мы, сын мой, научим тебя правильным молитвам, и тогда ты поймешь все христианские добродетели. Навсегда забудешь, как в своих храмах поклонялся куску дерева и слушал вздор грязных, невежественных попов…
Речь прелата звучала долго и убаюкивающе. Васютка едва не задремал в удобном, мягком кресле. (Он, конечно, не знал, что этот католический отче обладает особым даром внушения).
А прелат заключил свою продолжительную речь такими словами:
— Ты, сын мой, станешь верным защитником Христа и святой девы Марии. Твердо скажи мне: желаешь ли ты стать христианином и признаешь ли католическую веру?
Васютка, стряхнув с себя завораживающую дремоту, четко услышал последние слова. Он поднялся из кресла и веско ответил:
— Меня лживыми словами не усыпишь. А посему твердо отвечу тебе, отче: даже под самой лютой пыткой я не предам святую Русь и не приму твою поганую католическую веру. Я не хочу больше тебя слушать.
Лицо прелата исказилось от гнева. Вся его беседа оказалась напрасной: он не выполнил дружескую просьбу командора Вернера.
Прелат также поднялся из кресла, ступил к узнику и посмотрел на него пронзительными глазами.
— Вижу, что ты хочешь остаться язычником. Тогда тебя ждет смерть. Язычник не должен жить на этой земле.
— Уж лучше смерть, чем вечный плен.
* * *
Фогт Валенрод расхаживал по своей тронной палате и раздумывал:
«Этот русский — трудный орешек. Я был уверен, что он откажется от принятия католической веры. Глупец, он слишком предан своей языческой религии. Об этом же рассказал и Иоган, хотя прелат питал некоторые надежды, но все его внушения оказались напрасными… И всё же остается еще одна попытка проверить узника. Она ничтожна, но не надо забывать, что узник является купцом».
И командор приказал привести к нему упрямого пленника.
На этот раз Валенрод приступил к разговору без обиняков:
— Говори, купец, что ты меня хотел спросить.
— Зачем ты меня держишь в плену, господин Вернер?
— Я так и догадывался, что тебя давно мучает этот вопрос… Ты мне пришелся по сердцу. Сейчас с тобой хорошо обращаются. Единственное исключение — ты, купец, не можешь выйти из стен моего замка. Но и это поправимо. Ты уже, наверное, заметил, что я не бросаю на ветер слов. А посему ты поверишь тому, что я тебе сейчас скажу. Я могу отпустить тебя на волю, но при одном условии.
— Стать католиком?
— Нет, купец. Я убежден, что ты и на костре останешься верен своему языческому православию. У меня другое предложение. Ливонскому ордену нужны умные торговые люди. Я дам тебе золото, много золота, и ты займешься своим любимым делом. Поезжай в любую страну Западной Европы, поезжай за море в Англию — и торгуй себе на здоровье. Правда, некоторую часть прибытка ты будешь отдавать в мою казну, но она не станет тебе в тягость, и через год, другой, ты будешь самым богатым купцом Европы. У тебя появятся многочисленные слуги, прекрасный замок и цветущие женщины. Но есть маленькое «но». Ты должен дать мне клятву, что никогда не перейдешь рубеж Руси.
— Лепота! — захлопал в ладоши Васютка. — И всего-то малюсенькая мелочь — забыть свою Отчизну. Уж такое заманчивое предложение, господин Вернер. Спасибо тебе, благодетель.
Насмешка сошла с лица Васютки, глаза его стали холодными и отчужденными.
— Послушай, господин Вернер. Никакие царские посулы[145] не заставят меня стать изменником.
Васютка вытянул из-под рубахи серебряный нательный крест и, приложившись к нему губами, твердо заявил:
— Клянусь не изменять православной вере и святой Руси. Я не принимаю твоего предложения, господин Вернер.
— Ступай прочь!.. Я подумаю над твоей дальнейшей судьбой.
Васютку увели в тюремное помещение, а командор молчаливо застыл у решетчатого окна.
«Этому русичу цены нет, — с невольным уважением подумал он. — Его не прельстишь ни богатством, ни славой, ни золотом. Он чересчур предан своей земле. Побольше бы таких рыцарей в Ливонском Ордене. Некоторые готовы за горсть монет перебежать к датскому или шведскому королю. Тем ценнее этот русич. Он так и не узнал всей правды. За такого пленника, посланник князей Дмитрия и Бориса, боярин Лазута Скитник, способен многим пожертвовать. И это весьма важно, когда русское войско приближается к Немецкой земле.
Глава 8 ЗИМНИЙ РАТНЫЙ СТАН
Рать отдыхала в лесной лощине. Лазута Егорыч Скитник сумел-таки не заблудиться и вывести изнемогающую рать в обширную лесную лощину. Но чего это стоило! Кони увязали в глубоких сугробах, падали на колени. Пешие ратники шли им на помощь, вытаскивали на себе груженые возы.
Особенно трудно было вытянуть розвальни с тяжеленными осадными орудиями. Аниська Талалай кричал охрипшим голосом:
— Навались, навались, ребятушки!
Десятки людей пробивались к возам. Одни — поднимали увязших коней, другие — утаптывали перед конями снег, третьи изо всех сил налегали на розвальни. И вся эта работа творилась при неистовой, не утихающей метели.
Пока добирались до спасительной лощины, розвальни приходилось вытаскивать много раз. От заснеженных ратников валил пар. Некоторые из них настолько намаялись, что принимались ворчать на Талалая:
— Ну, Аниська, замучил ты нас. Дались тебе экие махины!
— Ничего, ничего, ребятушки. Вы уж потерпите, не сетуйте. Вернемся в Переяславль — всех вусмерть своей бражкой напою.
— Бражки не хватит, Аниська. Глянь, какая орава тебе помогает.
— Хватит, ребятушки. В долгу не останусь. Каждому — по три ковша. Навались!
Наконец-то в громадной лощине оказалось всё войско. Здесь, в низине, было гораздо тише. Метель крутила лишь верхушки елей.
У ратников были раскрасневшиеся лица; белые бороды, усы, ресницы. Снеговики, да и только!
К Лазуте Скитнику подошел князь Дмитрий Александрович и прямо-таки поклонился в пояс.
— Век твоей службы не забуду, Лазута Егорыч. Уберег-таки войско. Диву дивлюсь: как тебе такое удалось? У тебя и впрямь нюх собачий. Молодцом. Награжу тебя достойно.
— Спасибо на добром слове, князь. Но не ради награды я старался. Я уж — старый пень — шибко сомневался, что лесной дух унюхаю. Годки своё берут.
— А вот и напрасно. За тобой и молодому не угнаться.
Обернулся к князю Борису Ростовскому.
— Ты его береги, Борис Василькович. Такие люди дороже золота.
— Непременно сберегу, князь Дмитрий.
Князь Борис доволен: не подвел большого воеводу Скитник. Особую благодарность надо выразить боярину Неждану Корзуну: это он надоумил Дмитрия Александровича повести за собой рать Скитнику.
Похвалили отца и сыновья, Егор и Никитка, дюжие добрые молодцы, кои неотлучно находились при родителе.
— А мы за тебя, батя, страсть переживали.
— Идем за тобой, а у самих поджилки трясутся. А вдруг собьешься, а вдруг закружишь в таком буране. А ты знай куда-то продираешься. Ну и молодчага же ты, батя!
— Да ладно вам, сыны. Эко дело ель унюхать, не впервой, — скромничал отец. — Давайте-ка укрытия готовить. Ищь, как метель разыгралась. Сидеть нам здесь долго.
Когда поставили шатры и шалаши, большой воевода собрал князей и бояр на совет.
— Лазута Егорыч предвещает, что метель продлится не менее двух дней. Худо! Каждый день промешки отнимает у нас и корм для лошадей, и еду для ратников. Но ничего не поделаешь, придется обождать. Да и по правде сказать — длительная остановка нам сейчас весьма нужна. Главная задача — сберечь людей и коней, поелику без них победы не добыть. После совета прошу всех князей и бояр объехать свои дружины и дотошно изведать — нет ли недужных и ослабленных воинов. И обозы свои не щадить. Кормить ратников вволю! Тоже касается и лошадей. Они страшно изнурены. Ни сена, ни овса не жалеть!
— Так ить недолго и с гулькиным носом остаться, — недовольно высказал боярин Качура.
— Опять ты за своё, Мелентий Петрович, — сердито покачал головой большой воевода. — Ведаю твои непомерные обозы.
— Не такие уж они и непомерные, на глазах тают. Но я не о себе пекусь. За всё войско радею. До Раковора нам еще идти и идти, никакого корма не наберешься. Ты бы, князь Дмитрий, дозволил ратникам в деревнях пошарпать[146], а то ить и до голодухи недолго.
Дмитрий Александрович ведал: не праздный вопрос подкинул ему Мелентий Коврига. Кормовые запасы и в самом деле не беспредельны. Княжьи мужи давно намекают, что неплохо бы пополнить обозы за счет чужеземцев. Но князь Дмитрий был иного взгляда, о коем он и на совете молвил:
— Ныне мы идем по земле эстов. Они и без того разорены Ливонским Орденом. И если мы «пошарпаем», как предлагает Коврига, хоть в одной деревне, об этом станет известно всему эстонскому народу. И нас начнут считать такими же лютыми врагами, как крестоносцев. Эсты — гордый народ. Они не простят нашего разбоя, и постараются отомстить. Так неужели мы уподобимся шаромыжникам?[147] Мы, русские воины, идущие освободить эстов от грабительских нашествий крестоносцев? Не бывать тому!
— А как быть с обратным путем? — стоял на своем Коврига. — Почитай, от самого Варяжского моря будем домой топать. Обозы и вовсе опустеют.
— Отвечу, Мелентий. Победа над крестоносцами покроет нас немалой славой. Эсты будут считать нас своими освободителями. Вот тогда-то мы и попросим их поделиться кормовыми запасами. Добровольно!.. А теперь хочу послушать князей и бояр. По нраву ли вам мои слова?
В шатре застыла тишина. Все уставились на нижегородского властелина Юрия Андреевича, племянника великого князя Ярослава. Нижегородский князь всегда считался одним из самых влиятельных людей. Ему и начинать.
Юрий Андреевич, не имевший твердых убеждений, глянул на своего умного посадника Михаила, и тот качнул лысой головой: соглашайся, мол, князь.
— До победы еще далеко… Бабушка надвое сказала, но князь Дмитрий прав. Лазить в сусеки эстов пока нельзя. Авось, продержимся.
Затем свое слово сказал князь Ростовский, и речь его была более резкой:
— Никакой «бабушки», князь Юрий. Сомнение хуже смерти. Мы разобьем крестоносцев! И пока идем до Раковора, ни один двор эста не должен быть разграблен. Я за свою дружину ручаюсь. Не так ли, Неждан Иванович?
— Каждый ростовец уверен в победе, князь. И эстов мы не обидим. Поход труден, но приваряжские народы должны уверовать в нашей дружбе. Сие — необходимое условие, — степенно молвил боярин Корзун. Он (умнейший политик своего времени) лучше всех понимал, чего будет стоить даже малейший разор единственного поселения эстов.
Поддержали большого воеводу и остальные военачальники.
— А сколь нам идти до Раковора? — спросил племянник великого князя, Святослав.
— Трудно сказать, — отвечал князь Дмитрий Александрович. — Вьюга весьма замедлит наше дальнейшее передвижение. По таким сугробам войску идти тяжело, но прикинуть можно. Спросим нашего бывалого человека. Как, Лазута Егорыч.
Скитник даже порозовел от такой чести. Ныне все его считают, чуть ли не предсказателем непогодья, вещуном.
— Да как сказать, — кашлянул в бороду Лазута Егорыч. — Если метелей больше не будет, то дойдем до крепости недельки через две. Раньше никак не получится. И без метелей каждый день придется вытаскивать розвальни и сани. Не по разу на день. А когда Бог сподобит подойти к Раковору, то денька два надо бы ратникам отдохнуть. Вот и смекай, князь Дмитрий Александрович.
— Спасибо, Лазута Егорыч. Я примерно так и прикидывал.
— А кой прок нам, почитай, к самому морю тащиться? Есть и поближе вражьи крепости, — произнес боярин Коврига.
— Чудно слышать от тебя такие слова, Мелентий Петрович. Раковор для Руси — как бельмо на глазу. Ни один торговый человек не может пробиться к морю. А без торговли с Западом мы несем большие убытки. Новгородцы сие лучше всех ведают. Не они ли год назад, снарядив войско, ходили на Раковор, но потерпели серьезную неудачу. Крестоносцы издевательски похвалялись: никогда не допустим Русь к морю. Пусть не вылезают из своих берлог, ходят в медвежьих шкурах и питаются грибами. Заморских товаров им вовек не видать… Но дело не только в торговле. Датские крестоносцы, большую часть из коих представляют рыцари Ливонского Ордена, полностью захватили землю эстов и теперь норовят завладеть Северо-Западом Руси. Я не раз уже об этом сказывал, но у тебя, Мелентий Петрович, никак уши заложило. Что же касается других крепостей, то на них не стоит и отвлекаться. Большая часть рыцарей, изведав о целях нашего похода, давно уже ушли под Раковор. Именно там находится основная сила крестоносцев. Именно там они и будут разбиты.
Дмитрий Александрович говорил с такой твердой уверенностью, что она невольно проникала в сердце каждого присутствующего на совете.
Неждан Корзун не переставал дивиться. Молодому князю недавно стукнуло восемнадцать лет, а он уже обладает не только мужской силой, но и глубоким разумом. Действительно, это бросается в глаза, он весьма похож на своего знаменитого отца, наделенного богатырской силой и незаурядным умом. Не случайно Александру Ярославичу уже в двадцать лет пришлось вынуть меч против крестового похода на Русь шведских крестоносцев. Король Швеции собрал в 1240 году огромное войско, кое на многих кораблях подошло к Неве. Вражеский начальник, ярл[148] Биргер прислал к князю Александру гонцов: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою». Услышав это, князь, как сказывает летопись, «разгорелся сердцем» и отправился в новгородский Софийский собор. Там он молился, вспоминая слова пророка: «Суди, Господи, обидящим меня и возбрани борющимся со мною, приими оружие и щит, стани в помощь мне».
Получив благословение новгородского Спиридона, князь Александр стал ободрять своих воинов словами: «Не в силе Бог, а в правде».
В воскресенье 15 июля 1240 года небольшая княжеская дружина, не дожидаясь сбора основного войска, неожиданно напала на шведов. «И была сеча великая с католиками, и перебил их князь бесчисленное множество, а самому герлу возложил печать на лице острием своего копья».
В марте 1242 года Александр Невский освободил от немецких крестоносцев Псков, а в субботу 5 апреля на льду Чудского озера нанес новое сокрушительное поражение Ордену меченосцев.
Дело полководца славно продолжает его сын, князь Дмитрий. Русь никогда не забудет его отважного похода на Дерпт (Юрьев), кой Дмитрий взял в двенадцать (!) лет. Что-то будет под Раковором?
Неждан Иванович, как трезвомыслящий человек, понимал, что после срыва о мирном соглашении с Литвой, коя была намерена вступить в военный союз с Русью против крестоносцев, взять сильно укрепленный Раковор будет непросто. Ростовцы хоть и уверены в победе, но она может даться нелегко. Возможны немалые потери. Воины возлагают большие надежды на стенобитные орудия, кои искусный умелец Талалай изготовил на дворе новгородского архиепископа. Они мощны и надежны — спора нет. Но удастся ли их подвести к стенам неприступной крепости? Сколько ратников и коней могут погибнуть! Но без урона войны не бывает. Не худо бы опробовать стенобитные орудия на какой-нибудь менее мощной крепости. Тогда все недостатки и промахи осады будут видны. Не потолковать ли об этой задумке с большим воеводой?.. А до ратных сражений надо беречь и воинов и коней. «Поелику без них победы не добыть». Дмитрий Александрович совершенно прав. Во что бы то ни стало поберечь! И не скупиться на корма и теплую одежду, как это делает Мелентий Коврига. Он уже не первый раз заводит разговор о том, дабы поживиться за счет чужеземных деревень. Едва вступили в Литву, а Мелентий на ливов уже нож точит. Надо-де по сусекам полазить. Большой воевода строго-настрого одернул боярина, да и не только его. Досталось и сыновьям великого князя, Святославу и Михаилу. На сегодняшнем совете они уже Мелентия не поддержали, но глаз да глаз за ними. Кичливы и строптивы, как их отец, но пока, слава Богу, из повиновения большого воеводы не выходят. У князя Дмитрия Александровича твердая рука.
После совета военачальники разъехались по своим дружинам. Громадная лощина (почитай, в три версты) втянула в себя всё войско и напоминала гигантский шумный табор. Вход в лощину тянулся неприметно, исподволь, иначе бы тяжелые возы и розвальни с башнями и стенобитными орудиями пришлось бы оставить наверху.
Остро пахло дымами сотен костров, варевом. Звенькал металл. Ратники, сидя у огня, точили терпугами[149] боевые топоры, наконечники стрел и копий; многие из обозных людей латали поизносившуюся конскую упряжь.
Боярин Коврига бранился:
— Наберись тут упряжи. Это надо ж так изодрать, оболтусы! А хомуты на что похожи? Я немалые деньжищи за упряжь заплатил, казну опустошил, а мои нечестивцы настоль ко всему нерадивы, что им плевать на боярские убытки. Ну, погодите у меня! Вернусь из похода — каждого плеточкой попотчую.
— Не в первой, боярин. Но токмо нашей вины нет, — норовил перечить один из мужиков.
— Заткни пасть, охламон! И чтоб упряжь была как новехонькая. Но кожу и дратву лишку не тратить. Уразумел, Емелька?
— Уразумел, — буркнул обозный.
Когда Коврига отъехал к дружине, Емелька сплюнул (скряга!), вновь окинул хмурыми глазами упряжь и вздохнул. Это тебе не кнут починить. В конской упряжи чего только нет! Узда, хомут со шлеей, дуга, пристегиваемая гужами к оглоблям и хомуту, кой стягивается супонью, седелка с чересседельником для подъема оглобель и две вожжи. Всё это для одиночной упряжи. В парной же пристяжной упряжи прибавляется еще узда, хомут со шлеей, привожжек и пара постромок с вальком; парная дышловая упряжь: две узды и хомуты со шлеями, две пары постромок, двое нашильников, от хомута к дышлу, две пары вожжей. В троичной упряжи — еще другая пристяжка; в четверне с выносом — парная дышловая упряжь, парная без вожжей и нашильников, с выносными постромками, взятыми за крюк дышла. В упряжке бочкой, или гусем, постромки передних лошадей крепятся за гужи задних.
И всё это было в огромном обозе. Работы для починки в невпроворот. В ход шли запасные ремни, шила, иглы, дратва, куски кожи, дышловые крюки…
А сколь изношенных подков надо заменить, сколь железных ухналей[150] в лошадиные копыта вбить! Обозным людям передохнуть некогда.
— Слава Богу, хоть в затишке оказались, а то бы пропащее дело, — молвил Емелька Бобок, грузный, чернобородый мужик с крепкими сноровистыми руками.
— Воеводе надо в ноги поклониться. Увел-таки от буйной завирухи, — молвил другой обозный.
— А вот и не воеводе, — поправил сотоварища Бобок. — Слух прошел, что от метели увел ростовский боярин Лазута Скитник. Сам-то он в годах, но, бают, толковый человек. Вот так-то, Вахоня.
— Скитник? — латая гужи, переспросил Вахоня, долговязый мужик лет сорока. — Знакомое имечко. Когда-то я знавал Скитника. Но то был ямщик из Ростова. Давно это было. Заночевал у меня. Могутный парень и нравом веселый. Поглянулся он мне. Купца на два дня из Ростова привозил.
— Выходит, Скитник, да не тот. И на старуху бывает проруха, — произнес Емелька.
— И всё же Скитника среди бояр я не слыхал. Ямщика того, почитай, вся Ростово-Суздальская Русь ведала. Глянуть бы на него.
— А ты глянь, Вахоня. Он те по знакомству — шубу со своего плеча, — рассмеялся Бобок.
Глава 9 КАРЛУС
Узник полагал, что после посещения католического попа и фогта Вернера его тюремная жизнь заметно изменится: его вновь переведут в холодный каземат с мышами и крысами, отменят прогулки и посадят на черствый хлеб, жидкую похлебку и кружку протухшей воды. Командором будет сделано всё, чтобы узник протянул ноги.
Но прошло несколько дней, но никаких изменений в Васюткиной жизни не произошло.
— Почему Вернер не удалил меня в каземат? — спросил Васютка надзирателя.
— Я и сам удивлен, русич. Никаких новых приказов господин фогт мне не отдавал, — ответил Карлус.
— Никак не могу понять Вернера. Он очень странно себя ведет.
— И мне странно, купец… Таких пленных в этом замке я еще не встречал.
— А в замке есть и другие пленные?
— Да как тебе сказать, русич… Я не обязан отвечать на такой вопрос.
По лицу надзирателя пробежала тень. Он подсел к камину и, хмуро глядя на тлеющие угли, несколько минут молчал.
— Не хочешь — не говори, — пожал плечами Васютка. — Иногда я забываю, что ты мой надзиратель.
Васютка подошел к надсмотрщику и коснулся ладонью его головы.
— Правда, ты совсем не похож на надзирателя, Карлус. Обычно они грубы и жестоки, а ты тихий и добрый человек. А посему давно хотел тебя спросить. Как ты оказался надзирателем?
— Ты много хочешь знать, Васютка.
Карлус впервые назвал своего заключенного по имени, и это несколько подивило заключенного. Вот уже несколько месяцев он не слышал своего имени.
— Ешь свой обед, но не торопись. Я хочу тебе кое-что рассказать. Мне до тошноты надоело ходить в надзирателях. Это не по мне. Когда-то я был простым крестьянином. Сеял хлеб, имел на хуторе свой дом, славную жену и четверых маленьких детей. Держал лошадь, овец и корову. Жил сносно, не голодовал. Жизни радовался, но беда всегда под боком ходит. Лет десять назад, как сейчас помню, справляли мы с семьей праздник Лиго-Яна[151]. Веселился с женой и детишками, и вдруг, как снег на голову, набежали немецкие крестоносцы и начали зверствовать. Меня к телеге привязали, избили до полусмерти, а над женой надругались. Затем вывели со двора скотину и подожгли дом. Корову и овец на мясо зарезали и начали пировать. Крестоносцев было около сотни. На другой день они бросили меня, детей и жену, связанных, на телегу и привезли в этот замок. Три дня нас ничем не кормили, приносили только воды. Тогда я сказал немцам:
— Дети и жена умирают. Чем они провинились? Вы не орденские братья, а нелюди.
А крестоносцы, знай, хохочут. Я встал на колени и сказал:
— Убейте меня, а детей и жену отпустите.
Каким-то образом мои слова дошли до хозяина замка. Им оказался Вернер Валенрод. Он пришел в каземат и спросил:
— Ты действительно предпочел бы умереть ради своих родных?
— Да, — отвечал я.
— Хорошо. Я исполню твою просьбу. Но казнь твоя будет очень жестокой. Ты умрешь в нечеловеческих муках.
— Это меня не страшит. Для меня жена и дети дороже всего на свете.
— Достойный ответ. Попрощайся со своими родными и приготовься к казни.
Попрощался. Велел им добираться до своего родного брата, и после этого жену и детей отпустили. Я же несколько дней ждал казни. Но вскоре пришел человек от Вернера и заявил, что хозяин замка меня помиловал и назначил надзирателем над пленными девушками. Я согласился, в надежде на побег из этого ужасного замка.
— И кто же эти пленницы? — прервал рассказ надзирателя Васютка.
— Те, кого уговорили быть наложницами для увеселительных пирушек рыцарей. Латышки, литовки и эстонки. Недавно ты видел их, Васютка, когда мы шли к прелату.
— А русских девушек в замке нет?
— Были и русские, но они отказались обслуживать крестоносцев. Тогда их продали, кажется османским[152] купцам.
Васютка тотчас вспомнил свою любимую Марьюшку. Господи, как-то она там в своем Переяславле? Поди, оплакивает его, слезами исходит. Марьюшка, чудная, славная Марьюшка! Дня не проходит, чтобы он, Васютка, не думал о ней. Уж так хочется глянуть в её сиреневые, лучистые глаза, услышать её мягкий, нежный голос…
А Карлус продолжал:
— Но побег мой так и не состоялся. Замок надежно охраняют меченосцы. Шли годы, я совсем уже отчаялся. Мне противно было охранять падших женщин, но вдруг мне повезло. Вернер, этот непредсказуемый командор, несколько месяцев назад вызвал к себе и предложил мне надзирать русского купца. До сих пор не пойму, почему он заменил Кетлера, почему перевел тебя в теплое помещение и почему приказал хорошо кормить? Какая-то загадка. Я ничего не понимаю, Васютка.
— О том же и я тебе могу сказать, Карлус.
— Это не мое имя. Так меня приказал называть господин Вернер. Настоящее же мое имя — Войдылл. Но для тебя, Васютка, я по-прежнему останусь Карлусом. Никто не должен знать о нашем разговоре.
— Об этом мог бы и не предупреждать, Карлус. Выходит, ты тоже пленник. Горькая же твоя судьба, — с грустью молвил Васютка.
— Сейчас кое-что изменилось. С той поры, как я оказался твоим надсмотрщиком, господин Вернер разрешил мне выходить из замка.
— Выходить из замка?! — поразился Васютка.
— Да. Я почти вольный человек. Куда хочу — туда и иду. Но через три часа я должен вернуться в замок.
— Ничего не разумею. Поясни, Карлус.
— Да всё дело в том, что если я через три часа не вернусь, стражники доложат обо мне господину командору.
— Ну и что? А ты к эстам беги. Глядишь, с женой и детьми встретишься.
— И рад бы, Васютка, — тяжело вздохнул Карлус, — но слишком господин Вернер хитер. Он мне сказал: если убежишь, то твою семью заживо в землю закопают. Мои люди знают, где остановилась твоя жена.
— И ты ему веришь?
— Верю, Васютка. Не так уж далеко живет мой брат. В нескольких часах конного пути. Ты же знаешь, что сейчас вся эстонская земля под властью Ливонского Ордена. Я ненавижу немцев. Слишком много крови пролили крестоносцы, обращая мой народ силой в католическую веру. Они отняли у эстов землю, покой и свободу, установили свои порядки. Если девушка захочет выйти за эстонца, то первую брачную ночь она обязана провести в постели рыцаря, в поместье которого она живет. За побег же из поместья отсекают ногу. Орденские братья хуже зверей… Давай твою посуду, мы слишком заговорились.
Карлус взял поднос, вышел из комнаты и звякнул за собой затвором. Васютка же прилег на свое ложе и задумался. Этот надзиратель — славный человек, но жизни его не позавидуешь. Он тот же узник, лишенный родного очага. Десять лет он не видел своих детей и жену. Ребятишки стали совсем уже взрослыми. Они и жена давно уже оплакали своего отца и мужа, так как ведают, что он спас их ценою своей жизни. А Карлус жив, он не так уж и далеко от дома, но убежать не может. Вернер, этот таинственный Вернер, пустых слов на ветер не кидает. Он доподлинно ведает, где живет семья Карлуса… Да что Карлус! Сам в таком же неведении. Сколь бы он, Васютка, не размышлял над поступками Вернера, он не мог их осмыслить, и это продолжало его не только беспокоить, но и раздражать. Не будет же вечно его держать в своем замке господин Вернер. У него есть какая-то цель. Но какая? Увы, ответ мучительно непостижимый.
Чтобы не думать о Вернере, Васютка начинал вспоминать свой дом: нарочито ворчливого деда, ласковую матушку, степенного отца и своих братьев, Никитку и Егорушку. Где они сейчас? Да с ними всё ясно. Братья — на службе у ростовского князя, а отец… отец, либо в Ростове Великом, либо вновь куда-нибудь отъехал посланником Бориса Васильковича. Он, вкупе с боярином Нежданом Корзуном, зачастую ездит. Отца в городе уважают, справедливым и мудрым называют. Простым народом он не гнушается, хотя и ходит в боярском чине. Старший княжий дружинник! Не каждому то на роду написано. Но отец, когда бывает дома, посмеивается.
«Меня, сыны, боярином кличут. Но какой из меня боярин! Ни гордыни, ни спеси. Я из подлых людей, ямщик. Даже когда гонцом княжьим еду, ямщиком себя мыслю. Самая отрада, когда был ямщиком».
Вот такой он, Лазута Егорыч. Простолюдины к нему частенько со своими нуждами приходя, а то и просто за советом. Никому не отказывает, и никогда мзды не берет. Честный у Васютки отец.
Мать же вспоминал чаще всех. Братья ведали, что он — матушкин любимец. Младшенький! Большая часть материнской ласки на Васютку приходилась. Уж как она лелеяла своего сына, как заботилась о нем, как беспокоилась за его дальние торговые поездки!
«Уж ты остерегайся, Васенька. Чу, в лесах лихие люди на купцов нападают. Ты всегда к большому обозу приставай».
Перекрестит, благословит иконой Божьей матери, поцелует, а у самой — тревожные слезы на глазах.
Васютка успокаивал, что с ни ничего не случится, и выезжал из ворот. А мать, Олеся Васильевна, всё стояла и стояла, пока ее любый сын не скроется из глаз. Так было и в последний раз…
Васютка горестно схватился руками за голову. Господи! Сколь же она слез пролила, изведав о погибели сына, сколь настрадалась, и до сих пор страдает! А дед с отцом? Они, скупые на мужскую слезу, хоть и не плачут, но очень горюют. Да и у братьев всякое веселье пропало, грустными ходят. Молодые их жены, поди, утешают. Но кто деда, мать и отца утешат? Будь ты проклят, Вернер!
Нет, нет, лучше не думать о нем. Всё равно все его поступки необъяснимы. Мысли путаются. Надо о Марьюшке помышлять. Тогда все черные думы улетучиваются и на душе становится теплее.
* * *
В начале февраля Карлус пришел в комнату невольника взбудораженным. Поставив поднос с обеденной едой на стол, надзиратель, почему-то оглянувшись на закрытую дверь, тихо и взволнованно произнес:
— Я принес тебе радостную весть, Васютка.
— Вернер упал с коня на турнире рыцарей? — пошутил узник.
— Дался тебе этот Вернер… Русское войско идет по землям эстов. Где-то через неделю оно пройдет вблизи нашего замка.
Васютка оторопел от неожиданного известия. Соотичи рядом. Господи! Да это же несказанное счастье!
— Как изведал? — придя в себя, спросил Васютка.
— Вчера Кетлер праздновал свои именины. Пригласил дружков. Все напились, как свиньи, и много болтали про русскую рать, которую ведет на Раковор переяславский князь Дмитрий. С ним-де новгородская, псковская, владимирская, ростовская и другие дружины.
Васютка от радости даже в ладоши хлопнул.
— Хорошо ведаю князя Дмитрия. Добрый воевода. Значит, и батюшка с братьями в походе.
В порыве радостных чувств Васютка крепко обнял Карлуса.
— Вот уж потешил! Большая рать собралась. Князь Дмитрий замок Вернера не пропустит. Непременно захватит.
— А вот здесь я тебя опечалю, Васютка. Немцы подписали мир с Русью. Они не будут мешать походу русских дружин на Раковор, захваченный датскими крестоносцами, зато и русские не станут трогать немецкие крепости.
Радостное лицо Васютки помрачнело, будто черная туча его накрыла.
— Значит, рать пройдет мимо… Отец и братья пройдут мимо, и мне уже никогда не выйти из этой треклятой крепости. Никогда, Карлус!
— Не отчаивайся, Васютка. Я, кажется, придумал выход. Мы совершим побег.
— Да какой побег, друг мой Карлус! — отмахнулся узник. — Ты же сам сказывал, что за побег твою семью уничтожат.
— Не уничтожат, я всё продумал.
— Не знаю, не знаю. Сомнительная затея. Но меня-то кто выпустит?
— Послушай, Васютка. Как мне стало известно из тех же разговоров Кетлера, немецкие соглядчики подсчитали, что русская рать пройдет мимо замка через неделю. Мы сбежим накануне, ночью. Я принесу тебе железную пилку и длинную веревку. Когда ты подпилишь решетку, я приеду в твою комнату, и мы спустимся по веревке на землю.
— А стражники?
— Они охраняют только ворота. Мы же спустимся с другой стороны. Там будут кустарники.
— Но тебя могут хватиться.
— Едва ли. Нам повезло. Через шесть дней немцы будут отмечать именины господина Бертольда, и как всегда напьются.
— Но как ты принесешь веревку? До земли не менее пятнадцати сажен.
— Долями, под своей курткой. Думаю, никто не заметит.
— И что дальше?
— За ночь мы доберемся до русской рати.
— А утром тебя хватятся, и господин Вернер пошлет своих головорезов на хутор, где живет твоя семья. Я не хочу, чтобы она погибла, а посему никуда с тобой не побегу.
— Но ты же будешь спасен, Васютка.
— Такой ценой? Нет, Карлус, я всю жизнь буду проклинать себя за погибель твоих детей, жены и твоего брата. Это не по мне.
Карлус подошел к узнику и обнял его за плечи.
— Так вот ты какой, русич… Спасибо тебе. Не зря когда-то ваши князья, придя на наши земли, правили честно и справедливо. Наш народ не испытывал обид и притеснений.
(Эст говорил правду. Повторяясь, следует заметить, что Верховная власть русских князей над прибалтийскими племенами не нарушала общественной и политической жизни этих племен. Русские князья предоставляли своим прибалтийским подданным полную свободу, как в вопросах внутреннего управления, так и внешнеполитических отношений. Эсты, ливы и латыши судились своими старейшинами на основе старинных обычаев; старейшины и вожди, по своему усмотрению, считаясь лишь с волей соплеменников, вели войны и заключали договоры. Полной свободой пользовались прибалтийские племена и в вопросах вероисповедания. Оставаясь языческим, население Ливонии[153] поклонялось своим древним богам, олицетворяющим силы природы. Правда, благодаря тесному общению с русскими христианство в его православной форме в какой-то степени проникало к прибалтийским народам. Но никакие попытки не только насильственного, но даже активного распространения христианства среди прибалтийских племен со стороны русских, по-видимому, не имели места[154]. Генрих Латвийский, католический священник, свидетель и участник немецкого завоевания Прибалтики, описавший его в своей «Хронике Ливонии», с удивлением отмечает, что русские князья, покоряя какой-нибудь народ, не заботятся об обращении его в христианскую веру. Эти слова политического противника русских ярко подчеркивают характерные черты русской власти, оставлявшей в неприкосновенности, как общественный строй прибалтийских племен, так и старую языческую религию и весь освященный веками уклад жизни. Именно этими особенностями власти русских князей объясняется тот факт, что в борьбе, развернувшейся в начале XIII века, симпатии населения Прибалтики оказались на стороне русских, и немецким завоевателям пришлось столкнуться с союзом русского и прибалтийского народов.
— Думаю, и ныне наши дружины идут по земле эстов без обид и притеснений, — молвил Васютка.
— Да. Об этом я слышал от крестоносцев. Они удивлены, что русские воины не грабят наши хутора и деревни… Но не будем отвлекаться. Чтобы ты ни говорил, но надо готовиться к побегу. Погоди, не возражай. Моя семья не погибнет. За ночь мы добежим до войска, и ты попросишь твоего отца, чтобы мне выделили полтора десятка дружинников.
— Да батюшка на колени перед своим князем встанет. Непременно выпросит!
— Вот и отлично, Васютка. С дружинниками мы доберемся до хутора, а затем я уведу семью и брата в укромное место.
— А ежели к хутору немцы наскочат?
— Может, и наскочат. Но обычно господин командор посылает в погоню не больше десяти крестоносцев. Такое дважды случалось за мою жизнь в замке. Наскочат и повернут назад. Немцы никогда не вступят в сечу с русскими, если они будут в меньшинстве.
— Так, так, — заинтересованно глянул на надзирателя Васютка, но затем на минуту призадумался и вновь лицо его стало озабоченным.
— Ты обо всем хорошо подумал, Карлус, но забыл, что сейчас зима. Нам не добежать до войска по такому глубокому снегу. Вспомни, сколь было лютых метелей?
— Добежим, Васютка. Я ж сказал тебе, что всё тщательно продумал. Когда меня выпускают из замка, то я хожу на один хутор, который совсем неподалеку. Там живут эсты, и мы стали добрыми друзьями. А эсты, хочу тебе заметить, никогда не расстаются с лыжами. Когда мы окажемся в кустах, там буду спрятаны и двое пар лыж. Ты когда-нибудь вставал на них?
— Конечно, вставал. Я ведь когда-то вместе с братьями в лесной деревне жил. Сколь раз за зайцами бегали.
— Хорошо, Васютка. С завтрашнего дня начнем готовиться к побегу.
Глава 10 ВЕЛИКИЙ МАГИСТР
Столица Ливонского Ордена Мариенбург. Большая палата, освещенная трехсвечниками. На стенах, обитых красным бархатным сукном, висят огромные портреты предков Отто Руденштейна в широких золоченых рамках.
Великий магистр гордится своим именитым рыцарским родом. Его отец, дед и остальные пращуры немало сделали для процветания Ордена. Отто нередко посещает свою «родовую» палату, подолгу останавливается напротив каждого портрета и любуется изысканной работой художников. Но каждый портрет в золоченой рамке, — это целая эпоха, история рыцарства. Богатейшая история!..
* * *
Вокруг рыцарей, как напишет историк, которых одни называют неустрашимыми воинами, преданными вассалами, защитниками слабых, благородными слугами прекрасных дам, галантными кавалерами, а другие — неустойчивыми в бою, нарушающими своё слово, алчными грабителями, жестокими угнетателями, дикими насильниками, кичливыми невеждами, вертелась в сущности история европейского средневековья, потому что они в те времена были единственной реальной силой. Силой, которая нужна была всем: королям против соседей и непокорных вассалов, крестьян, церкви; церкви — против иноверцев, королей, крестьян, горожан; владыкам помельче — против соседей, короля, крестьян; крестьянам — против рыцарей соседних владык.
Горожанам, правда, рыцари были не нужны, но они всегда использовали их военный опыт. Ведь рыцарь — это прежде всего профессиональный воин. Но не просто воин, а всадник — в шлеме, панцире, со щитом, копьем и мечом. Всё это снаряжение было весьма дорогим: еще в конце X века, когда расчет велся не на деньги, а на скот, доспехи вместе с конем стоили 45 коров или 15 кобылиц. А это величина стада или табуна большой деревни.
Но мало взять в руки оружие — им надо уметь отлично пользоваться. Для этого необходимы беспрестанные утомительные тренировки с самого юного возраста. Недаром мальчиков из рыцарских семей с детства приучали носить доспехи. Таким образом, тяжеловооруженный всадник должен быть богатым человеком. Крупные владетели могли содержать при дворе очень небольшое число таких воинов. А где взять остальных? Ведь крепкий крестьянин, если и имеет 45 коров, то не отдаст их за груду железа и красивого, но не годного для хозяйства коня.
Выход нашелся: король обязывал мелких землевладельцев работать определенное время на крупного, снабжать его нужным количеством продуктов и ремесленных изделий, а тот должен был быть готов определенное количество дней в году служить королю в качестве тяжеловооруженного всадника.
И к XI–XII векам эти всадники превратились в касту рыцарей. Доступ в это привилегированное сословие становился всё более трудным, основанным уже на родовитости, которая подтверждалась грамотами и гербами. Еще бы: кому хочется тесниться и допускать к жирному куску посторонних.
За клятву верности сеньору рыцарь получал землю с работающими на него крестьянами, право суда над ними, право сбора и присвоения налогов, право охоты, право первой брачной ночи и т. д. Он мог ездить ко дворам владык, развлекаться целыми днями, пропивать, проигрывать в городах деньги, собранные с мужиков. Обязанности его сводились к тому, чтобы во время военных действий служить на своих харчах сеньору около месяца в году, а обычно и того меньше. За «сверхурочную» службу шло большое жалованье. Военная добыча — трофеи, выкуп за пленных, сами пленные — тоже доставалась рыцарю. Можно было во внеслужебное время и поработать «налево» — наняться к постороннему сеньору или к городскому магистрату.
Постепенно рыцари стали всё больше и больше манкировать[155] своими обязанностями. Иногда по условиям ленного договора, рыцарь должен был служить то количество времени, на которое у него хватит продовольствия. И вот такой храбрый муж являлся с окороком, прилагая все усилия, чтобы съесть его за три дня, и уезжал в свой замок.
Ну а как рыцари воевали? По-разному. Сравнивать их с кем-то очень трудно, так как они в Европе были в военном отношении предоставлены самим себе. Разумеется, в сражениях участвовала и пехота — каждый рыцарь приводил с собой слуг, вооруженных копьями и топорами, да и крупные владетели нанимали большие отряды лучников и арбалетчиков. Но исход сражения всегда определяли немногие господа-рыцари, многочисленные же слуги-пехотинцы были для господ хоть и необходимым, но лишь подспорьем. Да и что могла сделать толпа необученных крестьян против закованного в доспехи профессионального бойца на могучем коне? Рыцари презирали собственную же пехоту. Горя нетерпением сразиться с достойным противником, то есть рыцарем же, они топтали конями мешающих им своих же пеших воинов. С таким же равнодушием рыцари относились и к всадникам без доспехов, лишь с мечами и легкими копьями. В одной из битв, когда на группу рыцарей налетел отряд легких всадников, они даже не сдвинулись с места, а просто перекололи своими длинными копьями лошадей противника и только тогда поскакали на достойного врага — рыцарей.
Вот тут-то и происходил настоящий бой: два закованных в железо всадника, закрытых щитами, выставив вперед длинные копья, сшибались с налёта, и от страшного таранного удара, усиленного тяжестью доспехов и весом лошади в сочетании со скоростью движения, враг с треснувшим щитом и распоротой кольчугой или просто оглушенный вылетал из седла. Если же доспехи выдерживали, а копья ломались, начиналась рубка на мечах. Это было отнюдь не изящное фехтование: удары были редкими, но страшными. Об их силе говорят останки воинов, погибших в сражениях — разрубленные черепа, перерубленные берцовые кости. Вот ради такого боя и жили рыцари. В такой бой они кидались очертя голову, забыв об осторожности, об элементарном строе, нарушая приказы командующих.
При малейшем признаке победы рыцарь кидался грабить лагерь врага, забывая обо всем, — и ради этого тоже жили рыцари. Недаром некоторые короли, запрещали бойцам ломать боевой порядок при наступлении и ход битвы из-за грабежа, строили перед боем виселицы для несдержанных вассалов. Бой мог быть довольно долгим. Ведь он распадался обычно на нескончаемое количество поединков, когда противники гонялись друг за другом.
Рыцарская честь принималась весьма своеобразно. Устав тамплиеров (первого ордена, под названием «Тайное рыцарство Христово и Храма Соломона», созданного в 1118 году) разрешал рыцарю нападать на противника спереди и сзади, справа и слева, везде, где можно нанести ему урон. Но если противнику удавалось заставить отступить хоть нескольких рыцарей, их соратники, заметив это, как правило, ударялись в паническое бегство, которое не в силах был остановить ни один полководец. Сколько королей лишились победы только потому, что преждевременно теряли голову от страха!
Никакой воинской дисциплины у рыцарей не было и быть не могло. Ибо рыцарь — индивидуальный боец, привилегированный воин с болезненно острым чувством собственного достоинства. Он профессионал от рождения и в военном деле равен любому из своего сословия вплоть до короля. В бою он зависит только сам от себя и выделиться, быть первым может, только показав свою храбрость, добротность своих доспехов и резвость коня. И он показывал это всеми силами. Да кто же тут мог что-то ему указать, приказать? Рыцарь сам знает всё, и любой приказ для него — урон чести. Такое самосознание рыцаря было хорошо известно полководцам, государственным деятелям — светским и церковным. Видя, что несокрушимые всадники терпят поражения из-за своей горячности и своеволия, вылетая в атаку разрозненными группами, и зная, что тяжелая конница непобедима, когда наваливается всей массой, государственная и церковная власть принимала меры, чтобы навести хоть какой-то порядок. И тогда с конца XI века, во время крестовых походов, стали возникать духовно-рыцарские Ордена со строгими уставами, регламентирующими боевые действия. Таким стал Тевтонский орден, объединившийся затем с Ливонским.
Решив завладеть русскими землями, Ливонский Орден стал придерживаться строгих правил, уделив особое внимание коннице и придумав новое построение, названное «клином» или «кабаньей головой». Применение «клина» принесло Ливонскому Ордену (за исключением 1242 года) немало побед.
* * *
В окружении своих предков, великому магистру хорошо думается. Он, Отто Руденштейн, также немало сделает для могущества Ордена. Скоро (совсем скоро!) он сокрушит русские дружины, без особых потерь захватит Псков, Новгород и другие северо-западные княжества Руси, и прославит свое имя на века. И никто ему, великому магистру, не помешает — ни Литва, ни Золотая Орда. Литва жестоко оскорблена убийством своего короля Воишелка, которое неразумно совершил русский князь Лев Даниилович, а Золотая Орда недовольна тем, что Псков, Новгород, Полоцк и некоторые другие города почти вышли из повиновения великого князя Ярослава и перестали платить татарам дань.
Хан Менгу-Тимур разгневан, и его можно понять: Русь уходит из-под цепких когтей Орды. Татары никогда не допустят этого. Русь для них — слишком лакомый кусок. Не случайно Менгу-Тимур прислал в Ливонский Орден своих гонцов. И не только в Орден. Он разослал своих послов в Литву, Швецию и к датским крестоносцам. Грамот с послами не отправлял, осторожничал: уж слишком далек путь из Сарай-Берке до западных стран. Надо ехать через всю Русь, и если хоть одна грамота попадет в руки какого-нибудь русского князя, то все старания Менгу-Тимура окажутся под угрозой срыва. Послы должны передать его повеления на словах:
«Вы много лет враждуете с Русью и давно хотите овладеть ее северо-западными землями. Ваши устремления могут успешно претвориться. Русь хоть и покорена татарами, но Псков, Новгород, Торжок, Полоцк и другие города пытаются выйти из власти Золотой Орды. Накажите эти мятежные города, треть ясыря[156] и добычи отдайте Золотой Орде. Хан Менгу-Тимур не будет мешать вашему вторжению. А если вы не воспользуетесь благоприятным моментом, то 600 тысяч татарских воинов хлынут на Европу, и не только повторят путь великого джихангира Батыя, но и завоюют всю вселенную».
Для вящей убедительности всем послам были вручены золотая ханская пайцза и специальная печать, о которых знали все западные короли, князья и магистры.
Ордынские послы значительно подтолкнули западных врагов к набегам на Русь. Но Отто Руденштейн не слишком доверял хану Золотой Орды. История показала, что все татаро-монгольские повелители не только чересчур хитры и жестоки, но и вероломны. Любую страну они могут заманить в такую ловушку, из которой уже не выбраться. Невмешательство Золотой Орды в войну между Западом и Русью может быть обманчивым. Менгу-Тимур не тот человек, чтобы спокойно отдать крестоносцам на пожирание многие русские княжества. Треть добычи Орде — не та цена, чтобы рыцари завладели огромными северо-западными землями Руси. Далеко не та цена! Хан преследует какие-то иные планы. Быть того не может, чтобы такой тщеславный и властолюбивый человек отказался от влиятельных и богатейших княжеств.
И Отто Руденштейна осенила догадка. Менгу-Тимур преднамеренно сталкивает Западную Европу с Русью. Он надеется, что победителя не будет. И Европа и Русь в жесточайшей войне будут обескровлены, и тогда Менгу-Тимур действительно бросит свои многочисленные полчища на ослабленные страны и «завоюет всю вселенную».
«Но этого не произойдет, — усмехнулся великий магистр. Войска Ливонского Ордена не будут обескровлены. Он, Отто Руденштейн, сам придумал хитроумную ловушку, заключив с ратью князя Дмитрия «мирный договор». Войско большого воеводы идет себя хладнокровно и безмятежно по землям эстов и не знает, в какой капкан оно скоро угодит. Внезапный и неожиданный удар немецких крестоносцев внесет несусветную панику в ряды русских полков, и они будут уничтожены в считанные часы. Свершив блестящую победу, он, великий магистр, может уже не беспокоиться за судьбу своего Ордена. Едва ли Менгу-Тимур осмелиться выступить на его великолепное войско. Он будет скрипеть зубами за свою неосмотрительную ошибку и станет довольствовать одной разбитой Русью.
А пока полки князя Дмитрия идут спокойно. Войско Довмонта, убедившись в мирных отношениях немцев, вернулось к основной рати. Большой воевода, наверное, очень доволен докладом псковского князя. Дмитрий убежден, что он легко расправиться над датскими крестоносцами: силы их, без Ливонского Ордена, не так уж и велики. Пусть же не рассеется его уверенность.
Он же, Отто Руденштейн, с сегодняшнего дня вновь объявит большой сбор ливонских рыцарей. Сбор пришлось приостановить, когда в Орден прибыл досмотрщик князя Дмитрия, псковский князь Довмонт. Тогда великий магистр послал по крепостям с жестким наказом быстрых гонцов:
«Пока Довмонт в Ордене, прекратить всякое перемещение рыцарских отрядов до особого распоряжения».
И вот час настал! Крестоносцам и кнехтам приказано прибыть в Мариенбург до десятого февраля. Стекается огромное, стотысячное войско. Через несколько дней «стальной клин» двинется к датской крепости Раковор. Великая победа Отто Руденштейна близка!
В палату неслышно, словно тень, вошел член тайного общества «Карающий меч», инквизитор Бруно Конрад.
— Вы меня приглашали, великий магистр. Я явился в точно назначенное время.
— Присаживайся, Бруно, — взыскательным голосом произнес Отто, указывая Конраду на низкое, мягкое кресло.
Великий магистр до сих пор был недоволен поездкой инквизитора в Переяславль-Залесский. Тот не выполнил его строжайшего поручения — отравить ядом князя Дмитрия — и с повинной головой явился в Ливонию. Правда, он всячески обелялся[157]:
— Мне нужна была помощь, великий магистр, но командор Вернер Валенрод решительно отказался мне способствовать. Он вел себя вызывающе и говорил о «Карающем мече» в оскорбительном тоне. И это член братства святой Марии! Чистоплюй!
— Ты так обзываешь первого рыцаря Ливонского Ордена? — со скрытой иронией спросил Отто Руденштейн.
— Да, великий магистр. Человек, который не хочет помогать нашему святому братству, не имеет права носить звания первого рыцаря. Его пример может стать заразительным. С «Карающим мечом» перестанут считаться другие рыцари. А тайное общество, как известно, создано самим великим магистром.
— Ты хочешь сказать, что своим отказом инквизитору, командор Валенрод бросает тень на Отто Руденштейна?
— Вне всякого сомнения. Этот зять Зельца Германа (Бруно Конрад отлично знал, что Отто Руденштейн недолюбливал бывшего великого магистра) слишком из себя возомнил.
— Что именно?.. Сейчас я хотел бы от тебя услышать правду, Бруно. Чего добивается наш знатный рыцарь?
Острые глаза инквизитора испытующе впились в лицо Отто Руденштейна. Бруно давно уже догадывался, что хочет от него услышать правитель могущественного Ордена. И вот время пришло.
— Фогт Вернер Валенрод мечтает стать великим магистром… Даже при вашей еще жизни.
Отто не стал спрашивать инквизитора, откуда у него такие сведения, но его слова убедительны и точно выверены. Бруно Конрад не был на последнем совете влиятельных рыцарей, но до него не могли не дойти дерзкие высказывания Вернера:
«Только трусливый заяц способен сунуть свою голову в сугроб при виде хищного зверя».
«Я прошу тебя, великий магистр, отказаться от трусливого предложения или… или мы подумаем о новом магистре».
Вернер изрекал и другие вызывающие слова, которые поразили всех рыцарей, но ни один из них не захотел остановить дерзкого командора, и это больше всего смутило Отто Руденштейна. Выходит, Вернер, бросая в лицо великому магистру резкие слова, чувствовал за своей спиной значительную поддержку, которая может обернуться трагедией для Руденштейна. Командор ждет удобного момента, чтобы занять трон властелина Ливонского Ордена. Но что для фогта может явиться удобным моментом? Неужели он думает о том, что крестоносцы будут разбиты русскими дружинами? Быть того не может. Такой опытный воин, не раз участвующий в крупнейших сражениях, должен отчетливо понимать, что русское войско потерпит сокрушительное поражение… Тогда на что он надеется? Станет поджидать какого-то промаха великого магистра? Или заполучит поддержку самого римского папы? Всего можно ожидать от зятя Зельца Германа. Но стоит ли спокойно ждать неожиданного выпада? Рискованно. Остается единственный выход. Пока не поздно, Вернера надо убирать, убирать руками инквизитора. Он сегодня же отдаст негласный приказ Конраду, и тот выполнит его с большим удовольствием, так как ненавидит самонадеянного фогта.
— Что ты предлагаешь, мой верный Бруно?
— То, о чем думает великий магистр.
Отто Руденштейн промолчал: пусть Конрад договаривает.
— Люди, отказавшие помогать тайному братству, не достойны находиться в рядах Ордена… Они должны исчезнуть.
— Исчезнуть? — коварно улыбнулся великий магистр. — Я этого даже в своих мыслях не допускал.
— Я тоже, — с такой же коварной улыбкой произнес инквизитор. — Я ничего от вас не слышал и не был сегодня в вашем замке, великий магистр.
— Ты прав, мой верный Бруно. Завершим нашу беседу.
Оба расстались довольными.
Глядя на картины своих пращуров, Отто Руденштейн удовлетворенно подумал:
«Бруно Конрад обладает изощренным умом. Здесь, в Ливонии, смерть Вернера будет выглядеть естественной, она не вызовет у крестоносцев и святых отцов никаких подозрений… А князь Дмитрий погибнет в победной сече».
Глава 11 ПЕРЕЕЗД В МАРИЕНБУРГ
Побег должен был состояться в ночь с субботы на воскресенье. И узник, и надзиратель с нетерпением ждали установленного часа. Казалось, ничто не предвещало беды. Первые дни недели прошли спокойно, а утром в четверг Карлуса вызвал к себе Кетлер и с ядовитой ухмылкой произнес:
— Собирай своего пленника. Переезжаем в Мариенбург.
— Почему, господин Кетлер? — удивился надзиратель.
— Таков приказ командора. Выезд сегодня, в полдень.
Затем Карлус узнал, что из замка в Мариенбург, столицу великого магистра, выезжают все крестоносцы. В замке остаются только «веселые девушки», помощник повара и несколько стражников.
С удрученным лицом Карлус явился к своему невольнику.
— Всё пропало, Васютка. Наш побег не состоится.
— Ты допустил какую-то оплошность?
— Нет, Васютка.
И Карлус рассказал узнику недобрую новость, коя повергла пленника в смятение. Васютка с силой ударил кулаком по столу.
— Но это же всему конец, Карлус! Нам уже никогда не удастся бежать. Никогда!!
Надзиратель угрюмо молчал. Ему нечего было сказать. На сердце его было также скверно, как и у его пленника. Теперь, и в самом деле, ему уже никогда не увидеть свою жену и детей. В Мариенбурге надеяться на побег не придется: там новый хозяин со строжайшей охраной и новые порядки.
Придя в себя от замешательства, Васютка недоуменно глянул на Карлуса.
— Но зачем Вернер тащит меня за собой в другую крепость? Зачем ему лишняя канитель? Что у него все-таки на уме?
— Вот и я в полной растерянности, Васютка. Ведь командор мог бы тебя оставить в своем замке. Цепных псов у него хватает… А тут везти на войну своего пленника. Странно всё это.
— На войну?
— На войну, Васютка. Как мне удалось узнать, в Мариенбурге собираются все рыцари Ливонского Ордена. Такие сборы всегда назначаются на случай войны. Видимо, крестоносцы собираются напасть на русское войско.
— Напасть?.. Но ты мне как-то говорил, что крестоносцы подписали мир с Русью.
— Говорил, но, кажется, что-то изменилось, иначе господин фогт не стал бы собираться в Мариенбург.
В полдень затрубили трубы и «братья святой Марии» в полном рыцарском облачении выехали на конях из стен крепости. Позади конницы потянулся отряд пеших кнехтов. Среди них оказались и Карлус с Васюткой. Только они были без оружия.
Невольник шел в окружении врагов и вдыхал полной грудью живительный воздух. День оказался погожим: легкий, бодрящий морозец и невысокое солнце, ласкали людей и мягкие серебристые сугробы. Изредка набегал тихий, легкокрылый ветер.
«Благодать-то какая!» — непроизвольно подумалось Васютке, но тотчас его обожгла черная безутешная мысль:
«Господи, с кем я иду и куда? В стан злейших супротивников Руси. Я слышу вражеский говор, вижу на себе злобные взгляды, но ничего не могу поделать. Я полностью зависим от этих чужеземцев. Я беспомощен, Господи!»
И померк погожий день для Васютки, и чем дальше он шагал по заснеженному полю, тем всё больше им обуревала отчаянная мысль:
«Надо выхватить у немца копье и проткнуть им, пока меня не уничтожат, нескольких кнехтов. Тогда жизнь моя окажется не напрасной. Я умру, но уведу с собой в могилу трех или четверых недругов. Сейчас я так и сделаю!»
Васютка кинул взгляд влево, на ближнего немца. Крупный, толсторожий, в утепленной коричневой куртке, опоясанной широким кожаным ремнем, на котором болтался длинный меч в ножнах. Копье кнехта покоилось на правом плече.
Сейчас, сейчас! Надо собраться с силами, улучить момент и вырвать у этого мордатого немца копье. Ну же!
И в тот же миг руку Васютки крепко стиснул, шедший обок, Карлус. По ожесточенному лицу невольника он догадался, что тот задумал что-то недоброе.
— Остынь, — тихо проговорил он.
А Васютка аж зубами скрипнул. Ну, зачем этот Карлус помешал ему?! Неужели он не понимает, что его терпению пришел конец? Господина Вернера не покидает на его счет какая-то хитрая задумка, но и он Васютка в темечко не колоченый. В любом случае фогт не отпустит его на волю. Тогда какой смысл пленнику жить? Уж лучше храбро погибнуть, чем долгие годы обитаться в немецких узилищах. И как этого не может понять его добрый надзиратель?
Сумрачно шагал к Мариенбургу Васютка Скитник. На привалах его кормили как обычного кнехта, а ночью он спал в какой-то захудалой, крестьянской избенке, вместе с Карлусом и десятком немцев.
Хозяина, его жену и пятерых ребятишек кнехты выгнали на двор.
— Перемерзнут, — недовольно покачал головой Васютка. — Хоть бы малых ребят пожалели.
— Эстов они не жалеют. Деревня небольшая, из всех домов хозяев выгнали. Одна надежда на сеновал, — прошептал Карлус.
Через два дня пути отряд командора Вернера оказался в Мариенбурге. Это был довольно большой город, укрепленный мощной каменной крепостью. Город кишел рыцарями и кнехтами.
«Здесь, как в муравейнике. Огромное же войско собрал великий магистр», — шагая к замку Отто Руденштейна, подумал Васютка.
Фогту Вернеру Валенроду, как первому рыцарю Ордена, отвели одну из самых лучших комнат, в верхней, светлой части замка. Другие рыцари заняли дома купцов и торговых людей, а кнехты забили все жилища городской бедноты.
Васютка же и Карлус очутились в полуподвальной комнатенке замка.
— Любопытно, что сказал о нас магистру командор, — произнес надзиратель.
— Догадываюсь. Не зря же нас облачили в одежду кнехтов.
Вернер, зная о том, что ни один человек без дозволения магистра не может размещен в замке, преднамеренно обратился с просьбой к Отто Руденштейну:
— Я хотел бы, чтоб великий магистр, оказали мне небольшую услугу.
— С большим удовольствием, мой верный командор, — радушно улыбнулся Отто.
— Не найдется ли местечка моим пятерым кнехтам. Я уважаю их за отличную службу.
— Кнехтам? — с некоторым удивлением произнес Отто Руденштейн. — Я-то подумал, что ты будешь хлопотать за какого-нибудь рыцаря… С кнехтами дело проще. У меня свободно полуподвальное помещение. Удобств там, правда, мало, но зато твои кнехты будут укрыты от ветра, дождя и снега. На улице мерзкая погода. Пусть располагаются.
После этого разговора, в темную комнатенку Васютки и Карлуса явился Кетлер и строго наказал:
— Ведите себя, как кнехты. Ни один человек великого магистра не должен догадаться, кто вы на самом деле. Если проговоритесь, тотчас умрете. Рядом, в соседней комнате, будут жить еще три человека. Подлинные кнехты. Я стану навещать вас каждый день.
— И долго мы здесь будем торчать? — спросил Васютка.
— Не задавай глупых вопросов, — резко отозвался Кетлер.
— А мне где быть? — в свою очередь спросил надзиратель. Обычно он посещал невольника во время его кормления.
— Тебе? — ехидно скривил рот Кетлер. — Ты будешь сидеть с узником. Ведь вы теперь одной веревочкой связаны.
— А кто же будет приносить обеды?
— Опять же ты, наш верный страж, — с тем же ехидным выражением лица произнес Кетлер и удалился из комнатушки.
Узкое помещение тускло освещало лишь одно крохотное оконце. Иногда было видно, как мимо него топали сапоги обитателей замка.
— Это тебе не замок Вернера, — оглядевшись, сказал Карлус.
В комнатушке не было ни очага, ни постели, ни стульев. Даже стол отсутствовал. К тому же было сыро и прохладно.
— Это же настоящий каземат, Васютка. Там хоть соломы бросили. Нам же придется ночевать прямо на каменном полу.
— Всё повторяется, Карлус… Тебя не насторожили слова Кетлера о веревочке?
— Насторожили.
— Неужели это прямой намек на наш неудавшийся побег?
— Быть того не может. Откуда мог узнать Кетлер о побеге? Мы разговаривали только в твоем помещении. О трех же кусках веревки, которые я пронес под курткой, никто не видел, иначе об этом сразу бы доложили Вернеру.
— И всё же Кетлер бросил загадочные слова. А с какой колкостью он их произнес!
— Да он всегда говорит с издевкой, Васютка. Не принимай близко к сердцу.
— Не знаю, не знаю.
К вечеру пришел кнехт из соседней комнатки и сказал Карлусу:
— Забери два ватных матраса. Господин Вернер у нас добрый.
Ночью оба долго не могли уснуть. Тесно прислонившись друг к другу спинами, чтобы не так донимал холод, каждый думал о своем. Васютку преследовала одна и та же мысль: почему командор потащил его за собой в Мариенбург и не оставил в своем замке? Почему он вновь оказался в мерзлом каземате? Если здесь он пробудет несколько дней, то вновь подхватит простудный недуг, кой может привести его к смерти. То же ожидает и бедного Карлуса. Но ему-то за что такое наказание? Он ни в чем не провинился. Вот уж действительно: необычно ведет себя этот Вернер. И все-таки почему, Господи?! Но он так не находил ответа.
Утром вновь заявился Кетлер.
— Еще не сдохли, добрые приятели? Вам крупно повезло. Сегодня выступаем из Мариенбурга.
— Куда?
— Ты слишком любопытен, пленник. Советую тебе как можно реже высовывать язык.
— Язык на замок не запрешь, Кетлер.
— Господин Кетлер… Будь моя воля, я бы твой поганый язык не только на замок запер, но и вырвал из глотки.
— Да уж ведаю тебя, кровавого палача, — зло произнес Васютка.
Кетлер с большим трудом сдержал свою необузданную ярость.
— Скоро я не только вырву твой язык, но и по частям рассеку твоё тело, собака!
С этими словами Кетлер вышел из комнатушки, а Васютка обернулся к надзирателю.
— Куда ж немцы выступают?
— Ума не приложу, Васютка, — развел руками Карлус. — Должно быть, к новому месту сбора.
— Ближе к сече, — предположил невольник.
Глава 12 ГРАНДИОЗНАЯ БИТВА
Дружины двигались к реке Кеголе, на коей стояла крепость Раковор.
После морозных дней и неистовых метелей, с 4 февраля 1268 года началась оттепель. Снег посерел, стал рыхлым, на полях появились проталины, а через десять дней снег и вовсе истаял.
Ратники радовались теплу, пригревающему солнышку, щебетанью полевых и лесных птиц. Всем стало гораздо легче: в морозы и метели дневки и ночевки были не сладки. Ныне же и грязь не великая помеха, да и та денька через три-четыре подсохнет.
Когда да Раковора оставалось верст семь, князь Дмитрий вновь собрал военачальников на совет.
— Наступает решающий час, воеводы. Сегодня мы дадим отдых дружинам, а завтра утром облачимся в доспехи и подступим к Раковору. Русь веками грезила Варяжским морем, дабы утвердиться на нем и выйти на морские просторы. Море нам нужно до зарезу[158]. Наши ладьи с товарами будут ходить в северные страны и приносить нам немалую выгоду. И не в одной торговле дело. Утвердившись на море, к нам хлынут не только заморские купцы, но и иноземные зодчие и розмыслы, в коих нуждается Русь. Всё это надобно для процветания нашего Отечества. И чтобы вековые мечты исполнились, ныне мы всем располагаем, — и добрым войском, и горячим желанием победить и осадными орудиями, перед коими не устоять ни одной каменной крепости. Я верю в ваше мужество, воеводы!
На сей раз никто не спорил. Каждый князь заверил большого воеводу, что его дружина не посрамит земли Русской.
Довольный ответами княжьих мужей, Дмитрий Александрович вновь обратился с прежней, настоятельной просьбой:
— После совета прошу всех разойтись по своим дружинам. Надо еще раз проверить всё ли готово к битве, да и воинов подбодрить. Ведаю, что перед сечей у многих ратников на душе неспокойно. Чего греха таить — на легкую победу рассчитывать не приходится. Некоторые ратники с поле брани могут и не вернуться. Война бескровной не бывает. Каждого ратника обойдите. Пусть он почувствует уверенность в своих силах… Я же — к Анисиму Талалаю. От его пороков и метательных снарядов будет очень многое зависеть… В добрый путь, воеводы!
* * *
Утром, облачившись в ратные доспехи, войско потянулось вдоль реки Кеголы. Дмитрий Александрович, как и обещал, не стал одеваться в свой, видный всем дружинам, нарядный и драгоценный доспех. Он отказался и от корзна, кой всегда приметен даже вражеским полкам. Теперь он — обычный воин: медный шелом, простая, но довольно прочная кольчуга, меч в дешевых ножнах, овальный красный щит.
Большого воеводу лишь осудил Мелентий Коврига. Молвил своему ближнему послужильцу Сергуне Шибану:
— И чего придумал, наш стратиг? — последнее слово боярин произнес с насмешливой колкостью. — Де, враг не изведает, если его, князя, с коня свалят. Сгиб-де, рядовой воин, не велика для войска потеря. Да разве так можно? Он же большой воевода. Его каждый воин должен в сече зреть.
— А вдруг большого воеводу со стен стрелой сразят?
— Туда ему и дорога, — глухо, с нескрываемой желчью, отозвался Коврига.
— Да ты что, Мелентий Петрович? — ахнул Сергуня. — Тогда всё войско дрогнет, и не видать нам Раковора. Потеря большого воеводы всегда плачевна.
— Не шибко-то по Митьке и рыдать станут. Не велика потеря. Найдутся и более знатные люди. Есть, кому в челе войска ходить.
Сергуню будто кнутом стеганули, он аж в лице переменился. Добро, Ковригу ратники не слышат, а то бы и не побоялись, что такие мерзкие речи высказывает боярин. Ну и ну!
— На сыновей великого князя намекаешь?
— А что, Шибан? И Святослав, и Михаил — люди именитые.
— Только меча на врага не поднимали. Да они князю Дмитрию и в подметки не годятся.
— Ты чегой-то на меня глазами злобно сверкаешь? Давно стал примечать, что не горазд ты стал к службе моей. Не так ли, Сергуня?
— Врать не стану, боярин. Не по нраву ты мне. Худой ты человек.
— Что-о-о? — прищурив глаза, всё также сипло и приглушенно закипел Мелентий. — Да как ты смеешь, свиное рыло? Плетки захотел!
— Руки коротки, боярин! — громко воскликнул Сергуня. — Я тебе не холоп, а вольный человек, дружинник. Ухожу от тебя, клопа вонючего!
Мелентий от дерзости такой разинул щербатый рот, а Сергуня лихо вскочил на коня, гикнул и помчал к воеводскому шатру.
Обозные люди, стоявшие неподалеку от боярина и слышавшие слова Шибана, прыснули от смеха.
Мелентий Петрович разразился бранью:
— Молчать, паскудники! Ну, погодите у меня, недоумки. Прибудем домой — батожьем высеку. Надолго запомните мою порку, псы смердящие!
Мужики угрюмо отошли к своим саням. Емелька Бобок, пощипав заскорузлыми пальцами слежавшуюся, иссиня-черную бороду, глянул на напарника Вахоню и осерчало буркнул:
— Вот те и наставил нас на битву, дьявол брюхатый. Вечно облает.
— А Шибан-то его ловко словцом стеганул. Клоп-де вонючий, хе-хе, — с ухмылкой молвил Вахоня.
— Ловко. Молодцом, Сергуня. Боле к Мелентию не вернется. Поди, к самому князю Дмитрию на службу попросится.
— Дай-то Бог, Вахоня. Дмитрий Лексаныч, чу, никогда воинами не помыкает. Уважают его дружинники.
* * *
Войско вышло к реке и… остановилось от изумления. На противоположном берегу «вдруг увидели перед собою полки немецкие, которые стояли как лес дремучий, потому что собралась вся земля немецкая, обманувши русичей ложною клятвою».
Лицо большого воеводы пошло красными пятнами: он на минуту оцепенел, как и все ратники. Измена, предательская измена! Крестоносцы, не взирая на клятвы великого магистра Руденштейна и дерптского епископа Александра, нарушили мирное соглашение, и вышли на встречу русскому войску.
— Господи! — перекрестился новгородский князь Юрий Андреевич. — Да тут немцев тьма тьмущая. Весь брег полками усеяли… Что делать-то будем, князь Дмитрий?
— Биться! — придя в себя, резко ответил большой воевода.
— Но рыцарей втрое больше. Стоит ли лезть на железную свинью[159]?
Большой воевода глянул на новгородского князя смурыми глазами.
— Аль перепугался, Юрий Андреич?
— Не в испуге дело, князь Дмитрий. Даже батюшка твой, Александр Ярославич, едва ли бы сцепился с такой громадой.
Ливонское войско и в самом деле выглядело угрожающим. Впереди выдвинулись отборные рыцарские полки, поблескивая на солнце стальными шлемами (с прорезями для глаз), прямоугольными щитами, длинными копьями, обнаженными мечами и кирасами[160]. Каждый рыцарь, с головы до ног, закованный в броню, напоминал движущую крепость на сильном, боевом, также бронированном коне. И если вся эта железная махина двинется вперед, то у любого супротивника дрогнет в тревоге сердце. Сомнет, стопчет, раздавит!..
Сколь многочисленных побед нанесло врагам это сокрушительное войско!
«Его не остановить», — побледнев, подумал князь Святослав.
— Надо отходить, — вслух проронил брату, князь Михаил.
Мелентий Коврига как увидел немецкие полчища, так от страха и глаза вытаращил. Пресвятая Богородица, экое войско несметное! Сейчас как хлынет — костей не соберешь. Пропадай головушка… Поворачивать коней надо, пока не поздно. И чего это Митька ждет? Поворачивать!
— Вижу стяг великого магистра… Сам Отто Руденштейн в войске… Да и шатер с хоругвями епископа виднеется. Никак, сам Александр из Дерпта пожаловал, — подъехав к большому воеводе, произнес псковский князь Довмонт.
— Собрались, вороны, — процедил сквозь зубы Дмитрий Александрович.
— Но почему крестоносцы стоят? — недоуменно глянул на большого воеводу Юрий Андреевич.
— Глянь на лед, князь. Оттепель. Рыцари боятся, что лед не выдержит.
Князь Дмитрий не ошибся.
Лед реки Кеголы спутал все планы великому магистру. Он помышлял перейти реку, неожиданно окружить русскую рать со всех сторон, устроить ей переполох и в считанные часы с ратью покончить.
Теперь же всё круто изменилось. Но Отто Руденштейн ничуть не огорчился: князь Дмитрий, увидев перед собой такое огромное войско, с позором повернет назад. Другого исхода и быть не может. Только самый безмозглый человек решится на битву. Но это безумие. Переяславский князь не такой дурак, чтоб как комару кидаться на медведя. Сейчас он еще некоторое время постоит, еще больше ужаснется, отдаст приказ об отходе своих дружин, и навеки расстанется со своей былой славой — покорителя Юрьева.
Князья перестанут почитать Дмитрия, они отшатнутся от него и разбредутся по своим уделам. Русью овладеет страх. А он, великий магистр, всеми силами обрушится на Псков, Полоцк, Новгород и другие северо-западные русские города.
Лишь одно обстоятельство слегка угнетало сердце Отто Руденштейна. Без сегодняшнего сражения князь Дмитрий останется жив. Но, возможно, в другой раз Бруно Конрад не сделает промаха… Да и фогт Вернер пока еще цел. Конрад помышлял незаметно его убить в сражении с русскими. Чертов лед!..
Васютка стоял среди кнехтов и, благодаря своему высокому росту, хорошо видел на противоположном берегу Кеголы русское войско. Своё, родное, отчее войско! Душа его была переполнена ликующим чувством. Сейчас начнется битва, всё смешается, и он постарается оказаться среди своих воинов. Наконец-то он обретет избавление и вскоре увидит своих самых дорогих и близких ему людей — отца и братьев, Никитку и Егорушку. Господи, какое же это счастье!.. А затем, разбив треклятых крестоносцев, ратники разойдутся по городам и весям. Вначале он прибудет в Переяславль к Марьюшке, а затем привезет ее домой, в Ростов Великий и покажет своей ласковой матушке. То-то она возрадуется!
Васютку толкнул в бок Карлус.
— Ты чего улыбаешься? Сейчас русичи побегут вспять.
— С чего ты взял? — недовольным голосом произнес Васютка.
— А ты разве не видишь?
Васютка никогда не был бывалым воином. За рекой он увидел большое войско, кое способно наголову разбить крестоносцев. А то, что и немцев много (он не знал реальных вражеских сил) — не придавал этому значения. Русские воины и не с такими неприятелями управлялись. Разве не Александр Невский побил рыцарей на Чудском озере? Нет, сейчас ратники наберутся духу и пойдут вперед…
Фогт Вернер Валенрод нервно кусал губы. Он, умудренный в рыцарских поединках, мечтал сразиться с самим князем Дмитрием. Пусть все увидят, как он искусно поразит этого русского полководца. Отто Руденштейн лопнет со злости, хотя и не подаст вида, щедро наградив своего первого рыцаря новыми землями. Но этого не произойдет. Тонкий лед Кеголы растопил все надежды Вернера. И надо же было такому случиться. Уж слишком рано наступила весна.
А что получилось с пленником? Все старания командора превратились в пустую затею. Опытный Вернер знал, что если бы не помешала Кегола, княжеские дружины всё равно бы начали сечу: уж такая натура русского человека ничего не страшиться. Это показало татарское нашествие, когда на каждого русича приходилось по десять ордынцев, и всё же они отчаянно сражались, заведомо идя на смерть. Конечно, они бы проиграли и эту битву, но можно было обойтись без лишних потерь крестоносцев, если бы он, Вернер, показал русскому войску знатного пленника. Командору (через своих многочисленных соглядатаев, да и по посольским делам князя Дмитрия) было хорошо известно, что боярин Лазута Скитник пользуется огромным уважением у большого воеводы, и ради этого он прекратил бы сечу и достойно увел бы свои дружины назад. Оценил бы этот шаг Вернера и великий магистр. Выиграть сражение с малыми потерями — дар полководца. Магистр тщеславен!
Что же теперь делать с пленником? Командору он уже больше не нужен. Убить? Но все рыцари знают, что Вернер — не палач. Уж лучше бы он убежал из замка, вместе со своим надзирателем Карлусом. (Командор знал обо всех приготовлениях к побегу. В помещении пленника было проделано незаметное отверстие, и Кетлер каждый день докладывал, о чем разговаривают русич с эстом)… А, может, когда русские еще не повернули, поторговаться с князем Дмитрием по какому-нибудь важному делу?
Пожалуй, впервые фогт Валенрод не знал, что ему делать со своим пленником.
* * *
Князь Дмитрий стоял в мучительном раздумье. Его слова с нетерпеньем ждут все дружины, а он пока ничего для себя не решил. Нет, о возвращении вспять войска не может быть и речи. Рать проделала огромный путь, перенесла немыслимые тяготы, подошла почти к самому морю — и теперь с великим срамом возвращаться на Русь? Да лучше кинжал в сердце! Он примет сражение, примет!
— Что надумал, воевода? — не выдержав затянувшегося молчания князя Дмитрия, спросил Довмонт.
— Пойдем вдоль реки, подступим к Раковору и станем его осаждать.
— А рыцари ударят в спину?
— Ударят, ударят, Довмонт! — с раздражением отозвался князь. — Но мы прекратим осаду, развернемся и примем бой с рыцарями.
— Рискованно, воевода. Датские крестоносцы выйдут из крепости, и мы окажемся в капкане.
— Да знаю! Мы разорвем этот капкан.
Полководец Довмонт лишь головой покрутил: чересчур отчаянное решение надумал принять большой воевода. Уж на что его, Довмонта, считают храбрецом, но такой приказ он отдавать бы не стал.
К князю Дмитрию подъехал Лазута Егорыч. Видя суровое лицо большого воеводы, он начал без излишних предисловий:
— Я, почитай, всю жизнь прожил на берегах озера Неро. Часто ходил и рыбачил по весеннему льду. Дозволь мне, князь, по Кеголе прокатиться.
— Не провалишься?
— Бог не выдаст, свинья не съест. Дозволь?
— С Богом! — понял задумку Скитника Дмитрий Александрович.
Лазута Егорыч тронул повод коня и спустился на лед. И князья, и ратники, и крестоносцы замерли. Сейчас лед треснет, надломится, и воин с конем рухнут в воду. А Лазута Егорыч неторопливо выехал уже на середину Кеголы.
«Князь Дмитрий выслал ко мне посланника, чтобы запросить от Ливонского Ордена мир. Но посланник, если не утонет, получит твердый отказ», — самодовольно подумал великий магистр.
Но смельчак почему-то слез с коня и принялся долбить лед копьем. Ему, всего скорее, потребовалась лунка.
— Что он делает? — спросил Отто Руденштейн командора Вернера. (Первый рыцарь Ордена, согласно давно принятому обычаю, на время походов и битв должен находиться вблизи великого магистра).
— Рыбки достать захотел, — хохотнул один из рыцарей. — Русичей голод одолел.
— Не до смеха, Карл, — одернул рыцаря Вернер. — Думаю, этот человек проверяет толщу льда.
— Глупо. Мы уже проверяли Кеголу.
Лазута Егорыч пробил, наконец, лунку, смерил толщу льда копьем, затем ловко вскинулся в седло, проехался до вражеского берега и вернулся к большому воеводе.
— Сейчас он доложит своему князю, что по такому льду его дружинам в доспехах не пройти, — насмешливо произнес Отто. — Но меня удивляет сам Дмитрий. Неужели он думает напасть на наше войско? Он что — умом тронулся?.. Сейчас этот конник остудит его пыл.
— Ну что? — остро и напряженно вглядываясь в лицо Скитника, спросил воевода.
— Наше войско, почитай, вдвое легче ливонского. Уверен, лед выдержит, князь.
У Дмитрия Александровича — камень с плеч. С каким нетерпением ждал он положительных слов Скитника!
— Спасибо тебе, Лазута Егорыч… Быть битве! Воеводы — ко мне!
Когда Дмитрия Александровича тесно обступили военачальники, большой воевода, решительно и твердо высказал:
— Идем через реку на крестоносцев!
— Мы не думали биться с рыцарями в открытом поле. Надо собираться в полки, — молвил псковский воевода Довмонт.
— А кому и с кем в полках стоять? — спросил новгородский князь Юрий Андреевич.
— Я уже подумал об этом. Псковичи с Довмонтом встанут по правую руку. Я с переяславцами, ростовцами и дружиной князя Святослава также встану по правую руку, но повыше Довмонта. Князь Михаил с тверичами — по левую руку. А новгородцам, кои не раз сталкивались с крестоносцами, быть в челе железному полку. Не подведи, Юрий Андреевич. Новгородцы, еще со времен Александра Невского, лучше всех знают повадки рыцарей. Вначале будет тяжело, но бейтесь изо всех сил, а затем мы ударим левыми и правами полками…
Великому магистру прискучило сидеть на своем бронированном коне. Ему было хорошо видно, как русские воеводы сбились в кучу. Все они были в дорогих, сверкающих на солнце доспехах, лишь один ни чем не выделялся, облаченный в доспех рядового воина. По-видимому, это был один из мечников большого воеводы. Но который же он? В Переяславле его видел командор Валенрод. Может, он разглядит?
— Ты не узнаешь, господин фогт Вернер, князя Дмитрия?
— В доспехах трудно различить, великий магистр. Одно могу сказать, что Дмитрий — высокого роста, но таким выделяется лишь какой-то простой воин. Всего скорее это его телохранитель.
— Воеводы о чем-то совещаются, а вернее, грызутся, — с насмешкой произнес Руденштейн. — Мне надоело ждать, когда они покажут нам спину… Наконец-то, господин Вернер? Воеводы покакали к своим дружинам. Сейчас русские уберутся прочь.
Но через некоторое время, язвительно улыбающееся лицо Отто Руденштейна круто изменилось: оно стало изумленным: загудели боевые трубы, забили тулумбасы[161] и русские войска начали выстраиваться в полки.
— Князь Дмитрий надумал перейти Кеголу?!
— Да, великий магистр, — повеселевшим голосом отозвался командор. — Русские считают, что лед выдержит их дружины.
— Очередная глупость. Десяток рыцарей уже пробовали перейти Кеголу и едва не утонули.
Еще вчера Отто Руденштей послал на реку десяток конных крестоносцев, но те не успели проехать и несколько шагов, как лед гулко и страшно затрещал, и рыцари начали проваливаться в воду, едва успев выскочить на отлогий берег.
— Сейчас мы увидим вторую Иордань[162], — посмеиваясь, произнес магистр.
Командор Вернер конечно знал, что доспехи русских воинов гораздо легче ливонских, но он был не уверен, что Кегола выдержит многотысячное войско. Мелкими же группами перебегать реку было бесполезно: их тотчас сомнут конные рыцари. Даже если допустить, что всё дружины переберутся на берег, то и в этом случае их ждет жесточайшее поражение. На что же надеются русичи? На случайную удачу? Но это смешно. Уж слишком велико преимущество Ливонского Ордена. Разгром дружин очевиден, и все-таки они решили переходить опасную Кеголу. Диковинный все же этот русский народ!
Когда все дружины были построены в полки, князь Дмитрий въехал на своем Автандиле в гущу переяславских и ростовских воинов, коих он должен повести за собой, снял с головы шелом и громко произнес:
— Сегодня, други мои верные, наступил решающий час. Немецкие рыцари оказались коварны и вероломны. Они разорвали мирное соглашение и тем самым предали Христа, чей крест они целовали в своей лживой клятве, пытаясь учинить нам ловушку. Но мы-то, православные люди, хорошо ведаем, что тот, кто предает Христа, будет им же и наказан, наказан мечами наших воинов. И ничего страшного нет, что клятвопреступников оказалось больше нас. Бог не в силе, а в правде. От Бога отказаться — к сатане пристать. Так в народе говорят. А посему никогда не будет того, чтоб сатана одолел Господа. Я верю в вас, други мои! Пора покончить с ливонскими набегами на святую Русь. Пора показать нашу русскую силу. С именем Бога мы разобьем сатанинских братьев. Отважно бил их Александр Невский со своими славными воинами, и мы будем немцев изрядно бить! Бить во имя пресвятой Руси!
— Побьем, Дмитрий Александрыч! — горячо грянули дружины.
— Буде немцу по Руси шастать!
— С нами Бог!
Князь Дмитрий смотрел на волевые, непоколебимые лица ратников, и по телу его пробежала та приподнятая, горячая волна, что вносит в душу стойкую уверенность.
— Спасибо, други! — большой воевода благодарно склонил голову перед дружинниками, затем надел шелом и вернулся к новгородцам, кои должны первыми начать вылазку.
Князь Дмитрий и новгородцам сказал напутственные слова, и те прониклись ими, отозвались также решительно и дружно:
— Со щитом будем, воевода!
— Побьем ливонца!
Князь Дмитрий, еще раз глянув на противоположный берег, усеянный крестоносцами, взмахнул рукой:
— С Богом, новгородцы! Впере-ед!
Весь передний полк, с развернутыми стягами, рысью двинулся на Кеголу.
«Только бы лед выдержал», — перекрестился Лазута Скитник.
Рядом с отцом сидели на конях Егор и Никита. Лица их сосредоточенные и напряженные, а по телу пробегает нервный озноб. Когда-то они участвовали в малой сече, разбив в Ростове Великом сотню татар на Ордынском дворе. Но здесь-то не сотня врагов, а несметные полчища, облаченные в такую непробиваемую броню, кою, сказывают, ни стрела, ни меч, ни копье не берут. Попробуй, одолей такую силищу!.. Но страха в сердцах почему-то не было.
— Прошли таки, — удовлетворенно молвил Лазута Егорыч.
— Прошли, батя, — кивнул Никита.
— Сейчас в «свинью» врежутся, — сказал Егор. — Ух, какой звон и рёв пошел! Пора бы и нам с переяславцами выступать. Уж скорее бы!
Лазута Егорыч пытливо глянул на сыновей. Оба нетерпеливые, жаждущие кинуться в сечу. Добро, что не ведают страха. Но в них говорит молодость. Молодой на битву, а старость на думу. А подумать есть о чем. Ливонцы преднамеренно вышли в открытое поле. Вокруг — ни лесов, ни скрытых лощин, ни увалов[163]. Неожиданный удар каких-нибудь из полков напрасен: всё обозримо на многие версты. И другая напасть: крестоносцев, почитай, втрое больше. Перевес противника огромен. Другой бы большой воевода отвел войска, но князь Дмитрий не дрогнул. Он поверил в силу русских воинов и пошел на могучего врага. Похвально, зело похвально, князь Дмитрий! Но битву еще надо выиграть.
— Глянь, батя! Новгородцы полностью зажаты немцами. Ну, чего князь Дмитрий медлит? — встревоженным голосом произнес Никита.
— Князь ждет, когда больше крестоносцев втянутся в битву… Скоро, сыны, и мы двинемся. Держитесь меня и сражайтесь с оглядкой. Не зевайте и не лезьте напролом. Враг может и сзади ударить. Меч притупится — гасилом[164] по шелому бейте. Эта надежная штуковина любую жизнь загасит.
Лазута Егорыч говорил неторопливо и степенно, как будто с сыновьями в лес на охоту снаряжался. Богатырски сложенный, он выглядел Ильей Муромцем с Добрыней и Алешей.
Углядев, что новгородцы уже слишком глубоко врезались в «свинью», большой воевода махнул рукой правому и левому полкам.
— Пора!
И пошли дружины на Ливонский Орден, а вслед за ними и пешие ратники, стремясь обхватить немцев с обеих сторон. Вот тут-то и разгорелась кровавая сеча!
Конники с гиком, ревом и свистом хлынули на крестоносцев. В первом десятке всадников, на своем быстром, черногривом, кабардинском коне летел князь Дмитрий. Обок, низко пригнувшись к буланой, развевающейся гриве, мчал любимый княжеский мечник, Волошка Севрюк — проворный слуга и отменный наездник.
Сшиблись!
Зазвенела сталь, посыпались искры, и загуляла злолютая битва. Свирепая, жуткая. Никто не хотел уступать. В бешеной, звериной злобе рубились с русскими воинами крестоносцы. Остервенело хрипели из закрывающих лицо железных масок:
— На куски порубим!
— Всех до единого уничтожим!
Рыцари хрипели на своем немецком языке, а русские, также остервенело, выплескивал своё:
— Не шарпать наши земли, треклятые ироды!
— Побьем, свиные рыла!
Гул, стон, рев гуляли над полем брани. Ржание коней, звон мечей, щитов, кольчуг и лат, тяжелые, хлесткие удары копий и сулиц, топоров и палиц, кистеней и дубин, обитых железом; ярые возгласы, стоны, крики и вопли раненых.
Сеча!
Ужасающая, грандиозная сеча.
«Ни отцы, ни деды наши, скажет летописец, — не видали такой жестокой сечи».
Неистовствовал князь Дмитрий. Ох, как пригодились ему, да и его дружинникам длительные потешные игры с «ливонскими крестоносцами». Навсегда запомнились ему и ценные наставления отца, Александра Ярославича, кой не единожды рассказывал о знаменитой битве на Чудском озере:
— Крестоносцы любят сражаться на своих длинных копьях. Когда рыцарь, весь в броне, бешено несется наперевес с копьем на противника, то удар его чудовищен и неудержим. Либо от него надо уклоняться, либо будь таким же сноровистым, ловким и могучим. И всё же, надо признаться, рыцарь в таком налете гораздо искуснее. Таранный удар его страшен. У врага и щит треснет, и кольчуга будет распорота, и он, оглушенный, вылетит из седла. Крестоносец приучается к рыцарским поединкам с детства. Русские же воины, к великому сожалению, к оному не приспособлены. Если их доспехи выдерживали, а копья ломались, начиналась рубка на мечах. Вот здесь уже сильнее русский. Его основное оружье — испытанный меч, коим он владеет мастерски. Когда брань идет на мечах, русскому ни ордынец, ни ливонец не страшен. А посему, сынок, когда доведется тебе сражаться с крестоносцами, лучше пускай свои полки в гущу. В ней крестоносцам с копьями не развернуться. Когда начинается свалка, им уже не до копий. Они их даже бросают. Сам видел на Чудском озере. Вот тут-то русскому воину нет цены. Тут не только меч, но и другое оружье в ход идет. Но и про своего коня не забывай. Конь, прирученный к битвам — большое подспорье.
И до чего ж прав оказался отец! Когда дружины и пешцы навалились с обеих сторон на врага, крестоносцам было уже не до копий.
Не случайно говорил Александр Невский и про коня. Привыкший к сечам Автандил и впрямь оказался превосходным конем. Вороной кабардинец, как рассказывали горцы, не только отлично переносил летнюю жару и зимние морозы, долго мог терпеть без еды и питья, но и отлично рысил и переходил в стремительный галоп. Но главное, чему удивлялся Дмитрий Александрович — Автандил был до чрезвычайности надежен и умен. В любом месте оставь его без коновязи — никуда не убежит, будет стоять и часами ждать своего наездника.
В ратных же «потехах» Автандил был настолько послушен, что не отвлекался в самые жаркие минуты, чутко улавливая нажатие колен всадника и, поворачивая, куда нужно было хозяину.
Приучил его Дмитрий Александрович и к одной весьма полезной новинке — вопреки всем правилам, оставлять врага слева, под неудобную руку. А князь в сече и левой владел, не хуже, чем правой. Вот это-то и пригодилось сейчас Дмитрию Александровичу.
В зимнем походе, большой воевода сидел в красивом, расшитыми узорами, седле, под коим находился чепрак с серебряной бахромой. Конская грива была покрыта особой сеткой из червонной пряжи, «штоб не лохматило». Сбруя обложена золотыми и серебряными бляхами с драгоценными самоцветами; «стремена злаченые», даже ноги Автандила были украшены легкими изделиями из серебра и золота.
Таков был старозаветный обычай: и воевода, и конь его должны выделяться из всего войска. Но перед самой битвой Дмитрий Александрович, как и обещал, снял с коня всё драгоценное убранство. И ни один рыцарь не мог подумать, что неустрашимый всадник, оказавшийся перед ним, оказался простым воином. Это и удивляло крестоносцев. Какой-то обычный, рослый ратник, в заурядном доспехе, так сноровисто, изворотливо и бесстрашно бился, что наводил ужас на рыцарей. Было заметно, что ратник не только обладал богатырской силой, но и был искушенным воином. Особенно поражал его черный изворотливый конь, который крутился ужом и оказывался в самом неподходящем для рыцаря месте, «не с той руки». И русич виртуозно пользовался этим преимуществом, ударяя рыцаря своим крыжатым, тяжелым мечом, да так мощно, что противник валился с коня.
Вокруг могучего всадника, подстать, ему сражались на конях крепкие, хваткие ратоборцы. (Это были отборные мечники князя Дмитрия, во главе с Волошкой Севрюком). Они не только храбро и умело сражались, но и успевали прикрывать большого воеводу от неожиданных ударов рыцарей.
Великий магистр и командор Вернер пока еще не вступали в бой. Они выжидали решающего перелома. Пока всё шло по плану Отто Руденштейна. Если уж русичи и двинулись через Кеголу (что и поразило магистра), то они пошли на явную погибель. Пройдет еще немного времени, и железный немецкий клин раздробит основной полк князя Дмитрия, а затем начнет добивать менее сильные полки — правого и левого крыла. Так было во многих битвах с европейскими войсками.
У Отто Руденштейна даже не было малейшего сомнения, что его рыцари в считанные часы раздавят русские дружины. Никогда еще того не было, чтобы войско, превышающее противника больше чем в три раза, потерпело поражение. Такого чуда Европа не знала, и никогда не узнает!
Но прошел час, наступил другой, а русские и не думали трубить к отступлению. А ведь рыцарский клин давно уже расчленил основной полк на мелкие части и принялся за фланги. Когда же русские «крылья» отпрянут и побегут в разные стороны? В этом злом, гулком, звенящем месиве ничего уже не поймешь. Ясно только одно: льется обильная кровь, гибнут и русичи и непобедимые рыцари.
Еще через час великий магистр окончательно убедился, что перелома так и не дождешься. Русские воины бьются с такой иступленной злобой и необычайной яростью, что трудно ждать оглушительной победы.
Понял это и фогт Вернер. Его изумление было беспредельным. Никогда еще он не наблюдал такой ожесточенной битвы. Чем упорнее шло сражение, тем настойчивее и напористее становились русские воины, как будто и не понимали, что они в меньшинстве.
— Мы слишком много теряем рыцарей. До вечера мы лишимся тысячи воинов Ордена. Не пора ли приостановить битву, великий магистр? — с неожиданным предложением выступил командор.
— Да ты с ума сошел! — недовольно воскликнул Руденштейн. — Как это «приостановить?»
И Вернер наконец-то рассказал о своей давнишней задумке с русским пленным.
— И ты думаешь, что князь Дмитрий пожалеет сына своего посланника?
— Князь Дмитрий будет рад нашему предложению. Он всё равно понимает, что его воины будут рубиться до последнего, и он останется без войска. Принятие же нашего предложение покажется его войску благородным, и князь Дмитрий достойно уйдет с остатками полков на Русь. Его никто не осудит. А мы останемся победителями, и не понесем огромного урона. Соглашайся, великий магистр.
Отто Руденштейн с минуту молча пожевал тугими, обвисшими губами и ворчливо произнес:
— Ты любитель всяких тайн, господин командор, о которых великий магистр должен был знать… Но я принимаю твой план.
Вскоре по всему ливонскому войску звонко запели серебряные трубы и замелькали белые полотнища на высоких древках. Рыцари (хотя и в полном недоумении) поняли, что эти сигналы означают конец битвы, или того хуже: великий магистр отдал приказ о поражении своего войска.
Также поняли сигналы крестоносцев и русские дружины. Но их недоумение было гораздо большим, чем у немцев. Неужели железные рыцари сдаются?
Битва остановилась.
К Васютке, который вместе с Карлусом находился неподалеку от шатра дерптского епископа Александра, подъехали Вернер с Кетлером.
— Переодевайся, русич, — приказал командор.
Кетлер протянул пленнику узел, в котором находилась бывшая одежда Васютки: темно-вишневый кафтан, шапка, опушенная лисьим мехом, бархатные портки и красные сафьяновые сапожки. Вся одежда вычищена, приведена в должный порядок.
— К чему это, Кетлер?
За Кетлера ответил фогт Валенрод:
— Я знаю, что твой отец, посланник ростовского и переяславского князей, Лазута Скитник, находится в этом войске. Я отпускаю тебя, купец, к твоему отцу. Ступай и радуйся жизни.
— И ради этого великий магистр остановил битву? — удивился Васютка.
— Да, купец. У великого магистра доброе сердце.
— Здесь какой-то подвох, Вернер.
— Мне не отпущено время на пустые разговоры, купец. Садись на коня.
Однако у командора была большая проблема: ни Отто Руденштейн, ни он, Вернер, так и не могли определить — кто же из семи князей, приведших свои дружины в Ливонию, является Дмитрием. Пришлось фогту взять с собой глашатая, который, после нескольких гулких ударов в литавры, зычно восклицал:
— Великому магистру нужен для переговоров князь Дмитрий!
Дело оказалось нелегким. Попробуй, услышь слова толмача-глашатая в громадном стотысячном войске.
На драгоценные доспехи фогта Валенрода был накинут на плечи тонкий белый плащ, испещренный черными крестами. Обок с ним ехали глашатай и Васютка в своем русском облачении.
Русичи диву давались:
— Кто-то из наших едет. Чудно!
— Как он среди немцев оказался?
— А, может, какой-нибудь изменник.
Да и сами крестоносцы недоуменно пожимали плечами. Откуда взялся в войске этот русский человек? Зачем первый рыцарь Ливонского Ордена ведет его к князю Дмитрию?
Наконец-то глашатай был услышан большим воеводой. Пока он ничего для себя не уяснил. Остановка битвы была совершенно непредсказуемой. А уж появление русского человека — и вовсе малопонятно. Что же задумал великий магистр?
— Тебе нельзя сказываться князем Дмитрием, — молвил ближний боярин, также участвующий в сече, Ратмир Елизарыч.
О том же произнес и Неждан Корзун:
— Если в тебе, князь, узнают большого воеводу, то рыцари кинут все силы, чтобы тебя загубить. Давай я назовусь князем Дмитрием.
— И не подумаю, Неждан Иванович. Ты уж в годах, а меня рыцари всё еще за юноту принимают… Волошка! Доставь-ка мне княжеское корзно. Приму посла великого магистра по-княжески.
После очередного удара в литавры и возгласа глашатая, кой находился от князя Дмитрия в пятидесяти шагах, большой воевода накинул на плечи княжеское корзно и поднял руку.
— Остановитесь! Я — князь Дмитрий!
Вернер и его сопутники придержали коней. Командор пытливо глянул на князя и тотчас безошибочно его распознал. Он! Князь Дмитрий, которого видел в Переяславле.
— Я приветствую тебя, доблестный воевода, — начал свою речь командор. — Ты совершил поступок мужа, перейдя Кеголу и напав на наше рыцарское войско. Похвально!.. Но вначале скажи, есть ли в твоей дружине твой посланник, боярин Лазута Скитник?
— Мои бояре по хоромам не отсиживаются.
— Отлично.
Вернер сдернул с головы пленника шапку и Лазута Егорыч, бывший неподалеку от большого воеводы, ахнул:
— Васютка!.. Сынок.
— Мы здесь, Васютка! — с неописуемой радостью закричали братья.
— Молчать, купец, — негромко приказал командор. — Ты еще успеешь наговориться с отцом. А если надумаешь без моего дозволения поскакать к своим, то немедля погибнешь. Кетлер проткнет тебя копьем. Да и с коня ты не сможешь убежать.
Ноги Васютки, на всякий случай, были накрепко привязаны сыромятными ремнями к стременам коня.
Из глаз Лазуты Егорыча скользнула в седую бороду скупая слеза. Его душа была на седьмом небе. Васютка, его родной сын Васютка, коего он давно оплакал, жив! Господи, какое же это счастье! Мать-то, Олеся Васильевна, как обрадуется!..
А фогт Вернер продолжил свою речь:
— Я буду говорить от имени великого магистра Отто Руденштейна. Он, как член братства Ордена святой Марии, решил совершить благочестивый поступок и приказал отпустить пленника, сына Лазуты Скитника, к своему отцу.
— Я хорошо ведаю поступки великого магистра. Все его деяния несут своекорыстную цель. В этом мы уже недавно убедились. О каком же благочестии можно говорить, когда Отто Руденштейн нарушил клятву крестоцелования? — сурово произнес князь Дмитрий.
— Я, рыцарь Вернер Валенрод, не уполномочен отвечать за разрыв мирных соглашений великого магистра. Я всего лишь его поданный. Разговор идет о пленнике. Повторяю: магистр отпускает его.
— И что же взамен, рыцарь?
— Магистр освобождает пленника, а ты, князь Дмитрий, прекращаешь битву и распускаешь дружины по своим княжествам.
«Так вот в чем разгадка всех деяний командора Вернера», — пронеслось в голове Васютки.
— Хитро задумано, — с усмешкой проговорил князь. — А если я отклоню предложение магистра и продолжу битву?
— Неразумно, князь Дмитрий. У тебя не хватит сил, чтобы добыть победу. Всё твоё войско останется лежать на этом поле. Да и сын твоего посланника будет незамедлительно убит. Решай, князь!
Большой воевода надолго замолчал. Он видел перед собой окаменевшее лицо Лазуты Егорыча и думал:
«Ныне от моего приказа будет зависеть судьба сына Скитника. Отец мучительно переживает, в глазах его слезы. Аж на душе стало мерзко. Уж так не хочется стать виновником гибели молодого Васютки, об исчезновении коего он изведал еще в Переяславле… Но и уходить с поля брани — отдать победу злейшему врагу, кой двинется затем на Псков и Новгород… Нет, такого он, князь Дмитрий, не допустит. Если уж он и отойдет от Кеголы, то вглубь Руси не двинется, а встанет перед Псковом и побьет ливонца… Правда, сам отход мучителен и бесславен. Ох, как затрубят крестоносцы о своей победе на всю Европу! Русские перепугались и опрометью бежали от необоримых рыцарей! Слава, Ливонскому Ордену!
Князя Дмитрия охватили противоречивые мысли. Неужели отступать? Но это позор.
Большой воевода вопросительно глянул на Лазуту Скитника.
— Что скажешь, Лазута Егорыч?
Скитник пристально посмотрел в глаза князя Дмитрия и, кажется, всё понял. И в этот момент раздался крик Васютки:
— Батя! Не соглашайся! Бейте ливонцев!
— Спасибо, сынок! — утирая кулаком слезу, отозвался Скитник. — То — достойный ответ. Мы тебя, славного сына, будем всегда помнить.
Лазута Егорыч поклонился Васютке в пояс и повернулся к большому воеводе.
— То же самое я хотел сказать и тебе, князь Дмитрий. Нам нужна победа, а не бесчестье.
Дмитрий Александрович крепко обнял Скитника и душевно молвил:
— Вдругорядь спасибо тебе, Лазута Егорыч. Ты вырастил доброго сына.
Затем большой воевода выхватил из ножен меч и громко воскликнул:
— На ливонцев, други!
Командор Вернер тотчас приказал Кетлеру опустить древко с белым полотнищем, что означало: сражение продолжается.
— А с пленником что?
— Уведите пока к шатру епископа, — с раздражением ответил Вернер.
Князь Дмитрий вновь скинул с плеч корзно и ринулся в сечу. Русские воины поперли на немцев с удвоенной силой. Лютый, привыкший к битвам Автандил большого воеводы, храпел и злобно рвал острыми зубами плечи крестоносцев. Вновь «сошлись копье на копье, меч на меч, топор на топор, конь на коня… Кровь не успевала стечь по лезвию к рукояти, брызгалась каплями в стороны и кропила истоптанную землю».
Большую помощь княжеским дружинникам оказали пешие ратники. (Не зря Дмитрий Александрович приказал наковать побольше копий, с длинными, изогнутыми крючьями).
Пешцы стягивали крестоносцев крючьями с лошадей и на земле добивали «гасилами».
— Лупи по «бадьям!» — во всю мочь кричал Аниська Талалай, кой не остался в обозе и прибежал с возницами на поле брани.
— Лупи! — вторил Аниське обозный боярина Мелентия Ковриги, долговязый Вахоня.
— Круши гадов! — опуская тяжелое гасило на «бадью», — орал грузный, чернобородый Емелька Бобок.
Ратники прозвали «бадьями» защитные, железные шеломы рыцарей, надетые на головы и похожие на бадьи и ведра.
Помощь пешцев (а их было довольно много в каждом полку) оказалась настолько неоценимой, что привело великого магистра, наблюдающего с невысокого холма за битвой, в ярость: крестоносцы таяли, как последний апрельский снег.
— Русские сражаются не по правилам, — гневно высказывал он командору Вернеру, вспомнив «Ледовое побоище» — Лапотное мужичье вновь стягивает баграми рыцарей и убивает их коней засапожными ножами.
Когда-то великий магистр клялся, что больше не допустит такого позора.
— Варвары бьются по-варварски.
— Жаль, что нам помешала Кегола. Она спутала нам все карты. Передний полк не выдержал бы «кабаньей головы» и был бы раздавлен.
И чем же помешала река? Повторим. Всё дело в том, чтобы сохранить строй к решающему моменту схватки, конница подходила к противнику шагом, «была покойна и невозмутима, подъезжала не торопясь, как если бы кто-нибудь ехал верхом, посадивши впереди себя на седло невесту». И только подъехав к врагу совсем близко, рыцари бросали коней в более быстрый аллюр. Медленное сближение имело еще и тот смысл, что экономило силы лошади для решающего броска и схватки.
Пожалуй, самым удобным построением был издавна придуманный для тяжелой конницы «клин», «кабанья голова», или «свинья», как называли его русские дружинники.
«Кабанья голова» имела вид колонны, слегка суженной спереди. Давно известно, что конницу водить в колоннах очень выгодно, так как в этом случае лучше всего сохраняется сила её массированного, таранного удара. Это не столько боевое, сколько походное построение, когда «клин» врезается в ряды противника, воины, едущие в задних рядах немедленно «разливаются» в стороны, чтобы каждый всадник не топтал передних, но в полную меру проявил свои боевые качества, равно как и качества коня и оружия. У «клина» было и еще одно преимущество: фронт построения был узок.
Дело в том, что рыцари очень любили сражаться, но совсем не хотели умирать — ни за сеньора, ни за святую церковь. Они должны были и хотели только побеждать. Этому, собственно, и служили их доспехи. Этому служил и «клин». Ведь когда отряд рыцарей медленно, шаг за шагом, приближался к врагу, он становился великолепной мишенью для лучников противника. Хорошо, если у кого нет метких лучников. А если есть? Если у них вдобавок отличные дальнобойные, мощные луки?
Татары при Лигнице именно из луков буквально расстреляли прекрасно защищенных доспехами рыцарей. А при построении «клином» перед вражескими стрелками оказывалось только несколько всадников в самом надежном защитном снаряжении.
— Князь Дмитрий перехитрил нас. Он понял, что наш «клин» не может сползти к реке. Поэтому мы не смогли показать преимущества «кабаньей головы». Всё наше построение сломал этот переяславский князек, — сказал командор.
— Будь он проклят! Кто мог знать, что он рискнет пойти через Кеголу? Кто? — великий магистр был вне себя. — Вернер. Хватит тебе любоваться, как погибают наши славные рыцари. Хватит! Кидай свой отряд в сражение! Пробейся к Дмитрию и убей его. Убей!
— Я давно жду твоего приказа, великий магистр. Я постараюсь разыскать князя Дмитрия, хотя он и сбросил свой плащ.
К Отто Руденштейну приблизился член братства «Карающий меч» Бруно Конрад. Тихо спросил:
— Не пора, великий магистр?
— Не спеши, Бруно. Может, ему и впрямь удастся убить Дмитрия. Не упускай фогта из виду. Он не должен вернуться с битвы, — едва слышно произнес Руденштейн.
После свидания с сыном, Лазута Скитник с таким ожесточением набросился на рыцарей, что крестоносцы отскакивали от него в стороны. Вид русского боярина был страшен. Его удары мечом были настолько могучи, что они рассекали шеломы и латы, и поражали рыцарей насмерть. Богатырски сложенный Лазута Егорыч лез в самую гущу врагов, не думая о своей гибели. Он неистово мстил за своего сына Васютку, забыв даже о своих остальных сыновьях, кои шли за ним, и коим приходилось очень нелегко в этом кровавом месиве.
После одного из ударов, у Скитника сломался меч, но ему вовремя подкинул с земли оглоблю один из обозных людей, сам орудовавший длинным увесистым багром.
— Держи, ямщик!
Это был мужик Вахоня, кой признал-таки в знатном человеке бывшего ямщика, и кой когда-то ночевал в его избе.
— Спасибо, друже! — выкрикнул Лазута Егорыч. Привычное когда-то «оружье» ему крепко пригодилось: оглоблей он сшибал с коня железного всадника с первого же удара.
Ловко бились и ростовский князь Борис Василькович и боярин его Корзун, и неистовый псковский воевода Довмонт, и сыновья великого князя Святослав с Михаилом…
А вот новгородский посадник Михаил и тысяцкий Кондрат были убиты. Новгородскому полку было нелегко: он самый первый принял бой «кабаньей головы», и сдержал напор крестоносцев; не случайно здесь всех больше полегло дружинников и пеших воинов.
Несколько легче пришлось правому и левому крыльям, но и они постепенно были втянуты в «кабанью голову». Однако стенка на стенку — не получилась. Как-то само по себе произошло, что русские и их неприятели сбились в отдельные гигантские группы, где творилась полная неразбериха, и рекой лилась кровь. Но вот на эту-то «неразбериху» и рассчитывал князь Дмитрий, хорошо зная, что когда рыцари теряют свой строй, то становятся неуправляемыми и нарушают дисциплину. Но пока они еще понимают, что их большинство, и что русских с каждым часом сечи будет всё меньше и меньше, и что скоро наступит момент, когда они полностью полягут на поле брани. Но миновало не менее пяти часов, а русские бились всё упорнее и ожесточеннее, и всё больше падало на землю рыцарей.
Командор Вернер, лучший рыцарь Ордена, искусно сражаясь с русскими воинами, искал глазами князя Дмитрия. Ему очень хотелось победить именно этого ратоборца, большого воеводу, чья слава гремит уже с 12 лет. Но как отыскать его в таком огромнейшем войске, которого Европа еще и не видывала. На переговорах о пленнике князь Дмитрий сидел на удивительно красивом коне в окружении некоторых князей и бояр в дорогих, сверкающих доспехах. Особенно он приметил отца узника, Лазуту Скитника, высоченного витязя в серебристой кольчуге и в шеломе с бармицей. Вот его-то и надо найти в этой оглушительной сече. Всего скорее, где-то неподалеку бьется и большой воевода.
Не меньше часа, прорываясь, то к одной группе воинов, то к другой, высматривал фогт Валенрод посланника князя Дмитрия и все-таки заметил его. Ринулся к нему и увидел наконец-то рослого всадника в простом доспехе. Он! Князь Дмитрий. Его обличье, которое он хорошо запомнил еще в Переяславле. Слава тебе, дева Мария!
Вернер начал исподволь прорубаться к большому воеводе. Поединок с опытным врагом — его страсть, его жизнь. Скольких храбрых рыцарей он поверг наземь, изумляя своей непревзойденной ловкостью и отвагой орденских братьев!
И вот он в трех шагах от Дмитрия.
— Защищайся, князь! Я бросаю тебе перчатку! — в предвкушении от неминуемого поединка, в радостном упоении воскликнул командор.
Большой воевода, увидев перед собой закованного в броню ливонца, сразу узнал его. Это был тот самый рыцарь, кой назвал себя Вернером Валенродом, и кой привел с собой сына Лазуты Скитника. Возможно, этот крестоносец со своими «купцами» и захватил его в плен.
Возглас «бросаю перчатку» (Дмитрий об этом ведал) означал вызов на поединок, при котором никто не должен вмешиваться в бой ратоборцев.
На Вернера накинулись, было, мечники во главе с Волошкой, кои не ведали смысла вызова на дуэль, но князь остановил их:
— Прочь от рыцаря! Я сам с ним поквитаюсь. Сам!
И поединок начался. Командор пожалел, что ему пришлось оставить копье, но он обладал неоспоримым преимуществом. Во-первых, его латы намного крепче, чем кольчуга князя, а во-вторых, его защищенный броней конь, более тяжел и сам по себе представляет движущуюся крепость. Да и разница в мечах была ощутима. Меч рыцаря был чуть длиннее, уже и легче русского меча. С таким мечом гораздо искуснее сражаться.
От первого же удара Вернера князь умело защитился своим красным овальным щитом, а когда рыцарь замахнулся для второго удара, конь Дмитрия (на удивление командора очутился с другой стороны, под левую, неудобную руку крестоносца). Такого трюка командор явно не ожидал. Князь же, как уже говорилось, лихо бился как с правой, так и с левой руки.
При первом же наскоке фогт убедился, как со страшной силой обрушился о его крепкий щит вражеский меч. Фогт сразу же понял, что перед ним отважный воин, обладающий богатырским ударом.
Крестоносцы ждали победы своего прославленного рыцаря. Она вселит в их сердца бесстрашие и мужество, придаст новые силы для битвы с врагом. Поражение — повергнет в уныние, вызовет ужас и смятение перед грозным противником.
Русские же ратники, раскиданные по всему немецкому войску, лишь немногие знали, что их большой воевода рубится сейчас с первым рыцарем Ливонии. Об этом не знал и сам князь Дмитрий, приняв отважного крестоносца за обычного рыцаря. (Он, конечно же, не слышал о доблестных победах Вернера).
Воины вновь сшиблись. Вернер успел отскочить под удобную для себя правую руку. Прикрываясь щитами, взмахнули мечами. Зазвенела сталь, посыпались искры. Так продолжалось несколько минут, пока князь не обнаружил слабое место вражеского коня, а именно его шею, прикрытою легкой, не такой уж прочной железной сеткой. Он вдругорядь направил Автандила в левую сторону от рыцаря и, пока тот заслонялся щитом, мощно рубанул мечом по шее коня крестоносца.
Конь вместе с рыцарем рухнул на землю. «Бадья» свалилась с головы. Князь спрыгнул с Автандила и только сейчас хорошо разглядел лицо противника. В глазах его застыло и удивление, и ужас. Непобедимый Вернер впервые повержен на землю!
Князь Дмитрий вновь взмахнул мечом, но опускать его на голову рыцаря так и не стал, памятуя русскую пословицу: «лежачих не бьют».
— Поднимайся, немец. Продолжим рубку без коней.
И начался пеший поединок.
Блистали мечи, лязгало железо. Вернер бился жестоко. Обозленный своей неудачей, фогт хотел побыстрее уложить князя и вновь поднять в глазах рыцарей свою пошатнувшуюся славу.
Однако более гибкий и верткий юный князь на земле держался цепко. Вернеру никак не удавалось поразить врага своим мечом. Князь ловко защищался и выжидал удобного момента.
Бились отчаянно, долго. Фогт всё время что-то гневно и воинственно выкрикивал, а Дмитрий сражался молча, стиснув зубы, сурово поблескивая из-под шелома зоркими глазами.
Вернер, уверившись в своей победе, всё наседал и наседал. Его узкий меч, словно молния, сверкал в воздухе, тяжело опускаясь на русский щит. Вот-вот князь дрогнет и обретет смерть на поле брани.
Но Дмитрий сам продолжал наносить могучие удары. Он знал, что его меч хоть и вынут из простых кожаных ножен, но сработан из знаменитой, крепчайшей дамасской стали. И этим надо воспользоваться.
Князь стал лишь изредка обмениваться ударами, и вот, улучив момент и, собрав воедино всю оставшуюся силу, Дмитрий неожиданно для крестоносца взмахнул тяжелым мечом и обрушил его на кирасы рыцаря, да так мощно, что кирасы лопнули, обнажив на груди окровавленную белую рубаху. Тяжело раненный Вернер побледнел, зашатался и в другой раз оказался на земле.
— Слава князю Дмитрию! — закричали мечники большого воеводы и немногие ратники, кои оказались неподалеку от полководца.
Князь Дмитрий не стал добивать крестоносца.
— Взять рыцаря в плен! — последовал его приказ.
Рыцари, наблюдавшие за поединком своего прославленного командора, сникли, чем не преминули воспользоваться русские ратники.
— Бей ливонца!
— За работу, крючники!
Бруно Конрад, увидев поверженного командора, скривил в довольной ухмылке тонкие губы.
«Скоро он сдохнет. Туда ему и дорога, выскочке! Сама дева Мария способствует тому, кто не захотел помогать «Карающему мечу».
Рыцари пятились от дружинников и пешцев, и Бруно Конрад поспешил незаметно выскользнуть из жестоко дерущегося клубка. Ему надо принести хорошую весть великому магистру, который, конечно, так и не увидел пешего поединка.
— Ну? — выжидательно выдавил из себя Отто Руденштейн.
— Думаю, великий магистр, тебе важнее гибель нашего властолюбивого фогта, чем какого-то русского князя. Их на Руси, как блох на паршивой собаке.
— Вернер убит?
— Да, великий магистр.
Бруно решил немного приврать, увидев, как, обливаясь кровью, фогт даже не мог приподняться с земли. Его поволокли за ноги.
Отто Руденштейн оцепенел. Юнота Дмитрий победил несокрушимого рыцаря! Плохой знак. Теперь русские воины еще больше воодушевлены и с неукротимой злостью накинутся на крестоносцев. И откуда у них столько сил?! Рыцарей становится всё меньше и меньше. О, пресвятая дева!
Бруно Конрад, глядя в помрачневшее лицо Руденштейна, догадался о его чувствах.
— Я понимаю, о чем ты думаешь, великий магистр. О Пирровой победе[165]. Но если бы фогт остался жив, то рыцари не потерпели бы таких потерь. Они бы…
— Замолчи, Бруно! — словно змея прошипел Руденштейн.
Живой Вернер, несомненно, стал бы великим магистром, но это никак не входило в планы главы Ливонского Ордена. И хорошо, что фогт погиб. Однако его не устраивала и «Пиррова победа». Руденштейн всё еще надеялся на крупный успех рыцарей. Отменно, что лишь немногие крестоносцы видели неудачу командора Валенрода.
Но неблагоприятная удручающая весть вскоре загуляла по всему немецкому войску. А русские (они тоже мало помалу изведали о блестящем подвиге своего большого воеводы) всё лезли и лезли, словно у крестоносцев и не было численного превосходства.
Сеча продолжалась еще три часа. Чувствуя, что вот-вот наступит перелом, и рыцари уже готовы к бегству, на поле брани выехал сам великий магистр и, не удержавшийся в шатре, епископ Дерпта, Александр. Размахивая золотым нагрудным крестом, владыка закричал:
— Братья! С нами Христос и пресвятая Мария! Истребим поганых русичей во славу католической веры! Смерть язычникам!
— Смерть! — отозвались крестоносцы, но ответ их был слаб, недружен и вял, будто листья деревьев робко на ветру прошелестели.
Увидев, как в задних рядах немцев заколыхались стяги и хоругви с изображением Христа, князь Дмитрий понял, что великий магистр и епископ решили вступить в битву. Ну что ж? Пора и ему, большому воеводе, показаться всему войску в своем княжеском облачении.
— Волошка! Доставай корзно!
Вокруг князя сражались десятки молодых, но крепких дружинников. Дмитрий Александрович накинул на широкие плечи своё приметное алое корзно, застегнул на золотую пряжку и привстал на стременах.
— Мои славные и верные други! Мы бьемся уже целый день. Изрядно бьемся! Рыцари же сражаются через силу. Они уже почувствовали, что победа выскальзывает из их рук. Нужно одно решающее усилие и враг побежит. Да будет еще яростней ваш меч. Впере-е-ед, други! За святую Русь!
Русичи отозвались зычными, оголтелыми возгласами:
— Вперее-е-ед! Побьем немца!
— За святую Русь!
И этот удар был настолько яростен, и силен, что рыцари дрогнули и побежали.
Васютка и Карлус стояли неподалеку от шатра епископа. Вначале они находились в окружении десятка немцев, но когда дерптский владыка сел на коня и вытянул из ножен меч, то он позвал с собой и кнехтов.
— А рыцарям-то не до нас стало. Лихо же русичи бьются, — повеселевшим голосом сказал Васютка.
— Лихо, — кивнул Карлус.
Еще через некоторое время Васютку и вовсе озарила радостная улыбка.
— Бегут рыцари… Не помочь ли им? Давай к нашим пробиваться.
— Да мы же в одежде кнехтов.
Крестоносцы, доставившие пленника к шатру епископа, вновь сняли с Васютки его родную одежду и вновь облачили в коричневую куртку кнехта.
— Таков приказ фогта Вернера, — пояснили они. — Здесь, среди немцев, нечего тебе красоваться в русском кафтане. Рыцари злы, могут и копьем проткнуть. А надо бы.
Теперь возле шатра остались лишь три священника, кои неустанно молились за победу Ливонского Ордена.
— Вот и добро, что мы в одежде кнехтов, — молвил Васютка и, оглянувших на святых отцов, добавил. — Как до наших доберемся, куртки сбросим. А оружья на поле хватает. Да и коней без всадников не перечесть.
Ни великий магистр, ни епископ Александр не смогли остановить крестоносцев. Рыцари не любили умирать. Их обуял страх. Еще больше они перепугались, когда их владыку, который с мечом попытался отбиться от русских, кто-то из ратников убил увесистым «гасилом».
«Русские сломили немцев и гнали их семь верст вплоть до Раковора».
Удалось повоевать и Васютке с Карлусом. Пленник, очутившись среди русских, нашел на поле брани не только меч и копье, но и доброго коня, на коем и поскакал за рыцарями. Бронированные рыцари и кони убегали тяжело. Их быстро достигали более легкие русские всадники и крушили врага.
— Молодец, Васютка! — закричал, скакавший обок Карлус, когда увидел, как его бывший пленника поразил копьем голову рыцаря, и тот повалился с коня.
И сам Карлус без удачи не остался…
Всё больше и больше рыцарей, с гулким звоном грохались на землю.
«Русская конница не могла пробиться по их трупам».
Победа была уверенная и грандиозная. Западные историки и хронисты назовут битву под Раковором предвестницей Грюнвальда[166], а князя Дмитрия станут именовать лучшим полководцем Европы XIII века.
Послесловие
Битва завершилась в сумерки перед Раковором. Большой воевода сразу же собрал князей: надо было решать вопрос с крепостью. Некоторые «княжьи мужи» на совет не явились. Одни были убиты, другие тяжело ранены. Среди убитых оказались Ратмир Елизарыч Вешняк и Мелентий Коврига. (Последний трусливо погиб в первые же минуты битвы)… Всего же на поле брани пала пятая часть русского войска. Это была большая и горькая потеря.
На совете единодушно высказались: чтобы не нанести новый урон дружинам, Раковор, пока, в осаду не брать, но рыцарей еще больше наказать, дабы они забыли нападать на Северо-Восточную Русь. Такое поручение большой воевода отдал Довмонту, чей полк пострадал меньше всех.
Летописец отметит: «Довмонт с псковичами опустошили Ливонию до самого моря и, возвратившись, наполнили землю свою множеством полона».
Дружины князя Дмитрия вернулось к берегам Кеголы и «три дня стояли на костях (на поле брани) в знак победы, на четвертый тронулись, везя с собою избиенных братий, честно отдавших живот свой».
В первый же день победы состоялась радостная встреча Васютки с отцом и братьями. (Правда, один из них, Егор, оказался серьезно ранен, и его полпути везли на телеге. Недуг его исцелил княжеский лекарь). Изведав, что Васютку пленил в Переяславле фогт Вернер, Лазута Скитник попросил большого воеводу разрушить на обратном пути замок командора. Дмитрий Александрович охотно согласился:
— Добро, Лазута Егорыч. Не зря же мы тащили осадные орудия такую одаль. Проверим их в деле. Анисима хоть слегка мечом и зацепили, но лекарь мой зело искусный, поправит умельца.
Первый рыцарь Ливонского Ордена скончался, когда русское войско стояло на костях. Вернера пожалел… Васютка.
«Странный всё же этот рыцарь, — подумал он. — Храбрый и, кажись, не подлый… Вороны кружат. Очи рыцарю выклюют».
Васютка набрался смелости и пошел к большому воеводе. После его рассказа, князь Дмитрий молвил:
— Добрая душа у тебя, Василий. Будь, по-твоему. Похороним рыцаря на его земле. Но замок отдадим на откуп Талалаю.
Сердце владений Валенродов, — замок представлял собой грозное зрелище. Всего сто лет назад прадед Вернера с воинами и домочадцами в случае опасности укрывался в деревянной башне, обнесенной частоколом. Ныне же вместо этого на высоком холме в излучине реки были возведены могучие стены толщиной в четверть сажени (5 метров) и выстой почти в полтора сажени (15 метров) и несколько башен. В одной из них были тяжелые ворота из крепкого дуба, сверху окованные железом. Замок окружал ров, через него к воротам вел бревенчатый мост, который при нападении врага можно было легко и быстро разобрать. Сзади ворот оскалились острыми зубьями две подъемные решетки. Стоило опустить их, и тот, кому удалось прорваться за ворота, оказывался в ловушке, не успев попасть во двор.
Двор замка делила на две части высокая (выше внешних) стена. Широкое пространство перед ней занимали разные службы: здесь жили воины и слуги, располагались конюшни. Во внутреннем дворе, по ту сторону стены, высилась башня, гораздо выше и надежнее всех остальных, с редкими узкими окошками-бойницами — донжон (дом хозяина замка). Внутри донжона были три зала один над другим, разделенные каменными сводами, расписанными орнаментом, несколько комнат, кухня и оружейная. Но главным были не роскошные покои, а надежные ворота и стены.
В подвалах замка хранилось много запасов, воду для питья брали здесь же, в колодце. На случай войны выручали и тайные подземные ходы.
Войско и осадные орудия обложили замок Вернера 3 марта. Немногочисленные слуги, выйдя на стены, едва ума не лишились. Как же так? Они со дня на день поджидали возвращения отряда фогта с победной вестью, а тут их окружило огромное войско русских. Да как такое могло случиться?!
Ко рву подъехал на своем Автандиле князь Дмитрий в окружении лучников, и громко произнес на довольно приличном немецком языке. (За иноземные языки его с восьми лет посадил отец, Александр Невский).
— Ливонский Орден разбит. Мы привезли тело вашего хозяина Вернера. Примите его и похороните на своем погосте. Сами же укройтесь. Мы не хотим вашей смерти. Но замок сей мы разрушим.
Метательные орудия сбили ворота в первый же час, а вот с мощными стенами пришлось повозиться.
— Не подведи, Анисим, — озабоченно молвил князь Дмитрий.
— Орудия слажены надежно, хватило бы глыб, воевода — отвечал Талалай.
— Велик ли запас?
— На два дня.
— Крепость мощна, спору нет. Но крепость мы должны непременно разбить. Чую, нам с врагом еще не раз придется биться. Подтяни поближе осадные орудия.
Десятки ратников навались на метательные «махины», приблизили их к замку, и вновь полетели на крепость тяжелые каменные глыбы. Еще через два часа по стене побежали извилистые трещины, а затем огромной дырой обозначился и первый пролом. К вечеру крепость была разбита. Аниську ждала новая княжеская награда…
Васютка привез в родной дом из Переяславля радостную Марийку. Ликованию Олеси Васильевны не было предела. Любимый сын не только оказался жив, но и приехал в Ростов Великий с красавицей женой, кои прожили долгую и счастливую жизнь.
В Марийкином доме остались жить Гришка Малыга и Авдотья.
Сергуня Шибан, после битвы под Раковором, перешел на службу к князю Дмитрию Александровичу и пребывал в дружине до конца его жизни, показывая в новых сражениях примеры необычайной удали.
Ростовский князь Борис Василькович скончался в 1277 году, а его боярин Лазута Егорыч Скитник, дожив до 86 лет, умер в 1288. Супруга, Олеся Васильевна, окруженная внуками и правнуками, пережила своего мужа на один год.
* * *
Блестящая победа князя Дмитрия разрушила все радужные планы великого хана Золотой Орды, Менгу-Тимура. Он не только отказался от «завоевания всего мира», но и не решился послать свои тумены на Русь. Да, Ливонский Орден разгромлен, и можно бы начать покорение Европы, но для этого не обойтись без войск хана Ногая. Еще в княжение Александра Невского начались в Золотой Орде раздоры. Ногай, «надменный могуществом», не захотел повиноваться хану и сделался в окрестностях Черного моря независимым владетелем.
Одному же Менге-Тимуру идти на захват Европы расхотелось. Да и Русью теперь особо не поживишься. Она, после грандиозной победы князя Дмитрия над ливонскими рыцарями, заметно окрепла. Князья уверовали в свои силы и всё больше склоняются к единению. Сын Александра Невского, находясь в ореоле славы, и не подумает теперь жениться на ханской дочери. Его ждет Владимирский стол и невеста какого-нибудь именитого русского князя.
Ярослав же Ярославич не оправдал никаких надежд, и это больше всего удручало Менгу-Тимура. «Великий князь Ярослав, следуя примеру отца, старался всеми способами угождать хану и подобно ему (был отравлен) кончал жизнь свою на обратном пути из Орды в 1272 году, куда он ездил с братом Василием. Тело его было отвезено для погребения в Тверь. Ярослав не умел ни довольствоваться ограниченной властью, ни утвердить самовластия смелой решительностью; обижал народ и винился, как преступник; не отличался ратным духом, ибо не хотел сам предводительствовать войском, когда оно сражалось с немцами; не мог назваться и другом Отечества, ибо вооружал татар против Руси».
После смерти печально известного Ярослава Ярославича, на Владимирский престол (с помощью Менгу-Тимура) был возведен младший брат Александра Невского — Василий Ярославич. Но и он оставил в народе самые худшие воспоминания. В его княжение татары вновь провели вторичную перепись русского населения для платежа дани, «и народ терпеливо сносил своё унижение».
Большую часть времени великий князь проводил в Орде и скончался в Костроме, по возвращении из Сарай-Бату, на сороковом году от рождения.
Народ вздохнул, когда в 1276 году на Владимирский престол сел знатный муж, сын Александра Невского, князь Дмитрий. Его правление было долгим — 18 лет. За эти годы Дмитрий Александрович немало сделал для укрепления могущества Руси. Благодаря дальновидной политики и, умело используя вражду между ханами Золотой Орды и Ногаем, ему вновь удалось решить самый главный вопрос с ордынскими баскаками, которые, со своими многочисленными отрядами, перестали приезжать в русские города за данью. Дань, как и после восстания Ростово-Суздальской Руси в 1262 году, стали собирать удельные князья, что в какой-то мере облегчило и без того многострадальную жизнь народа.
Немало сделал великий князь Дмитрий и для осуществления своей давнишней мечты по укреплению русского православия.
Еще до своего великого княжения Дмитрий Александрович встретился с митрополитом Кириллом и посветил беседам с владыкой несколько дней. Митрополит прислушался к советам прославленного князя и дал слово, что будет проводить независимую политику от Константинополя. Больше того, пообещал постепенно заменить греческих епископов на русских пастырей во всех пятнадцати епархиях.
Князю Дмитрию повезло. Кирилл многие годы вел себя так, как будто и не был рукоположен чужеземным патриархом. Его полюбили и князья и миряне. Особенно по душе пришлись ему речи князя Дмитрия, обеспокоенного нелицеприятными делами в некоторых храмах.
Кирилл, «знаменитый миротворец князей и друг Отечества», сведав о многих беспорядках в делах церковных, ревностно желал их исправить.
В 1274 году митрополит приехал из Киева во Владимир с архимандритом Печерской лавры Серапионом, чтобы посвятить его там в Епископы. Во Владимир же он созвал епископов Далмата Новгородского, Игнатия Ростовского, Феогнота Переяславского, или Сарского, Симеона Полоцкого, и, рассуждая с ними, издал церковные правила.
«Доныне, — напишет Кирилл, — уставы церковные были омрачены облаком еллинской мудрости; ныне же предлагаются ясно, и неведение да не будет извинением. Уклонялся от истинных правил христианства, какое мы видели следствие? Не рассеял ли нас Бог по лицу земли? Не взяты ли грады наши? Не истреблены ли князи острием меча? Не отведены ли в плен семейства? Не опустошены ли церкви? Не томимся ли ежедневно от ига безбожных и нечестивых врагов? Се казнь за нарушение уставов церкви!»
Уверенный, что нравственность мирян во многом зависит от нравов духовенства, Кирилл повелевает дать священный сан единственно людям непорочным, коих жизнь и дела известны от самого детства; соседи и знакомые должны засвидетельствовать их честность, трезвость и добрые склонности. Житель иного удела (следственно, неизвестный в той епархии), раб не освобожденный, гражданин, не платящий дани, господин жестокий, лжесвидетель, убийца, мздоимец, безграмотный человек, незаконно женатый, отчуждаются от сего сана. Иерею надлежит иметь 30 лет от рождения, дьякону — 29.
Епископам строго запрещается брать с них деньги за поставление, кроме определенных митрополитом семи гривен для крилошан. Всякая мзда, так называемая посошная и другие, отменены.
Далее сказано: «Мы сведали, что некоторые иереи в волостях новогородских от Пасхи до всех святых празднуют только и веселятся, не крестят никого и не отправляют службы божественной: такие да исправятся или да будут извержены! Известно нам также, что многие люди, держатся древних языческих обыкновений, сходятся в святые праздники на какие-то бесовские игрища, криком и свистом сзывают подобных себе пьяниц и бьются дрекольем до самой смерти, снимая с убитых одежду: отныне кто не перестанет тешить дьявола такими гнусными забавами, да будет отлучен от церквей божиих; да не приемлют от него никаких приношений, то есть ни просфор, ни кутьи, ни свеч; когда же умрет, да не отправляют по нем божественной службы, и тело его да лежит далеко от святых храмов!»
В числе многих обыкновений, противным уставам церковным, Кирилл осуждает обливание при крещении, говоря, что оно беззаконно и что крестный должен быть всегда погружен в сосуде особенном.
Таким образом, приписывая государственное бедствие разврату народа и заблуждениям духовенства, сей митрополит хотел искоренить их мерами, согласными с образом мыслей своего века.
Князь Дмитрий Александрович всецело поддерживал новые уставы митрополита, тем самым, способствуя не только укреплению православной церкви, но и самого русского государства.
Но была у князя Дмитрия еще одна повседневная забота: защита Руси от ордынских набегов, разорений и поборов. Но ему многие годы противоборствовал его меньшой брат, Андрей Александрович, князь Городца Волжского, кой вздумал завладеть великим княжением, вопреки древнему обычаю, по коему старший в роде заступал место отца.
Лестью и дарами задобрив нового хана Золотой Орды, брата умершего Менгу-Тимура, Тудан-Мангу, Андрей получил от него ярлык на великое княжение. Но не тут-то было! Андрею не удалось овладеть Владимирским столом, и тогда он вновь помчался Сарай-Бату[167], дабы оклеветать брата: Дмитрий не хочет ханскому слову покориться и сойти с великого княжения по слову Тудан-Мангу…
Великий хан был разъярён: вот уже десятки лет ни один русский князь не смел перечить повелению хана Золотой орды. Менгу-Тимур не решился послать войска на победителя Ливонского Ордена, но это сделает он, хан Тудан.
Чтобы посадить князя Андрея во Владимире ордынским военачальникам пришлось кинуть на Русь несколько карательных туменов, но как только монголо-татарская рать возвратилась в Орду, «князь великий Дмитрий Александрович пришел в Переяславль Залесский, и начал рать собирать, и град крепить, и отовсюду начали к нему собираться люди многие».
И опять князю Андрею пришлось ехать за ордынской помощью и жаловаться на Дмитрия Александровича, что тот хану повиноваться не хочет и дань платить.
Тудавн-Мангу послал на непокорного князя «рать многую», под началом царевичей Тураитемира и Алына. Великий князь Дмитрий, собрав значительное войско, двинулся на врагов и наголову их разбил. Царевичам, с жалкими остатками воинов, едва удалось убежать в Орду.
После установления иноземного ига это было первое большое сражение, закончившееся изгнанием монголо-татар за пределы русских земель. И произошло это в 1285 году, почти за сто лет до сражения Дмитрия Донского, потомка князя Дмитрия Александровича.
Великое княжение Дмитрия продолжалось еще девять лет. Он скончался в 1294 году и был погребен в своем родном Переяславле.
Слава о великом полководце должна жить вечно.
Об авторе
Валерия Замыслова по праву называют одним из ведущих исторических романистов России. Его талантливому перу принадлежат романы «Иван Болотников» (в трех томах), дилогия «Ярослав Мудрый», «Набат над Москвой», «Горький хлеб», «Дикое Поле», дилогия «Ростов Великий», «На дыбу и плаху», «Грешные праведники», «Святая Русь» (в трех томах), «Семен Буденный», «Великая грешница», «Картофельный бунт», «Иван Сусанин», «Град Ярославль» и др. произведения. Его называют «волшебником русского слова», «певцом святой Руси», «гордостью ярославской литературы», «человеком-легендой». Столичные критики и историки ставят творчество В. Замыслова в один ряд с творчеством выдающихся мастеров слова В. Шишкова, А. Толстого, В. Пикуля, В. Шукшина, Д. Балашова, П. Проскурина. О талантливых произведениях писателя написано немало статей и рецензий и даже монографий, на его имя пришло свыше одной тысячи отзывов читателей, что красноречиво говорит о большом интересе к книгам Валерия Замыслова.
В. Замыслов — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, Лауреат литературной премии имени И. З. Сурикова (первой степени), Почетный гражданин города Ростова Великого, Почетный академик Международной академии МАПН.
За большие заслуги в области литературы награжден Почетным знаком «За заслуги перед городом Ярославлем». 2007 год был объявлен в Ростове Великом «Годом писателя Валерия Замыслова».
Примечания
1
Ливония — вся территория современной Латвии и Эстонии со второй четверти тринадцатого века, завоеванная немецкими рыцарями.
(обратно)2
Исключение составляют факты, относящиеся уже к периоду борьбы с немецким завоеванием Прибалтики.
(обратно)3
Саксы — древнее германское племя, населявшее северо-западную Европу и Британию.
(обратно)4
Свеи — шведы.
(обратно)5
Достархан — угощение, а также нарядная скатерть, расстилаемая для пиршества.
(обратно)6
Остаться на бобах — обмануться в расчетах, остаться ни при чем.
(обратно)7
Вёдро — ясная, сухая солнечная погода.
(обратно)8
Морковкино разговенье — день Успения, 15 августа.
(обратно)9
Лазутчики — разведчики.
(обратно)10
Жмудь — одна из литовских областей.
(обратно)11
Потир — чаша с поддоном, в коей, во время литургии, возносятся святые дары.
(обратно)12
В 1930 году потир был передан Переяславским музеем в Оружейную палату Московского Кремля.
(обратно)13
Майолика — обожженная глина, покрытая непрозрачной глазурью и рисунком.
(обратно)14
С конца XIII века собор стал усыпальницей переяславских удельных князей. В 1294 году здесь был похоронен князь Дмитрий Александрович, а в 1302 — последний переяславский удельный князь Иван Дмитриевич, сын Дмитрия Александровича.
(обратно)15
Тумен — отряд в 10 тысяч воинов.
(обратно)16
Лепое, лепый — красивое, красивый.
(обратно)17
В данной главе использованы краеведческие материалы К. Иванова и И. Пуришева.
(обратно)18
Морда — рыболовная снасть, сплетенная обычно из ивовых прутьев, в виде узкой круглой корзины с воронкообразным входом; то же, что верша.
(обратно)19
Канитель — очень тонкая витая позолоченная или посеребренная проволока, употребляемая в золотошвейном деле.
(обратно)20
Лемех — старинное чешуйчатое покрытие из осиновых дощечек, нижние концы которых заострялись в виде ступенчатого клина. Отсюда и название «лемех», так как такие дощечки напоминали заостренный лемех плуга.
(обратно)21
Гридень — дружинник.
(обратно)22
Гайтан — плетеный шнурок или тесьма.
(обратно)23
Женка — в данном случае незамужняя женщина.
(обратно)24
Пользовать — лечить, исцелять.
(обратно)25
Косая — так в народе называли смерть.
(обратно)26
Акулина-гречишница — 13 июня
(обратно)27
Сулейка — плоская бутыль.
(обратно)28
Тиун — приказчик.
(обратно)29
Пожитки — мелкое имущество, домашние вещи.
(обратно)30
Каган — император.
(обратно)31
Журавль — колодец.
(обратно)32
Чеботы — башмаки.
(обратно)33
Оратаи — пахари, крестьяне.
(обратно)34
В правление Золотой Ордой Батыя город назывался Сарай-Бату.
(обратно)35
Ногай — татарский правитель терр. от Дона до Дуная. Имел большое влияние в Золотой Орде, выдвигал на ханский престол своих ставленников, умер в 1300 году.
(обратно)36
Ногайская Орда — феодальное государство кочевников (ногаев, позднее ногайцев) к северу от Каспийского и Аральского морей, от Волги до Иртыша. Выделилась из Золотой Орды в в конце 14 — начале 15 вв… Центр — г. Срайчик.
(обратно)37
Курултай — военный совет.
(обратно)38
Пайцза — пластинка, выдававшаяся татаро-монгольскими ханами в 13–15 веках, как верительная грамота.
(обратно)39
Охулка — порочащая хула, осуждение, брань.
(обратно)40
Поруб — опущенный в землю деревянный сруб, куда сажали преступников.
(обратно)41
Свеи — шведы.
(обратно)42
Рюриково городище — усадьба, обнесенная стеной, где жили князья, правители Великого Новгорода. Городище находилось в трех верстах к югу от города.
(обратно)43
Адриатическое море — Черное море.
(обратно)44
Посконь — домотканый холст из волокна конопли.
(обратно)45
Убрус — женский головной убор, платок.
(обратно)46
Ильин день — 20 июля по ст. стилю.
(обратно)47
Колок — деревянный гвоздь, укрепленный в чем-либо (обычно для вешания).
(обратно)48
Ясырь — невольники.
(обратно)49
Емь — основное этническое ядро, из которого образовался финский народ, занимала преобладающую часть территории нынешней Финляндии, побережье Финского залива от района нынешнего города Хельсинки до реки Кюммене и большую часть внутренней территории страны. До середины XII века Новгородская республика занимала господствующее положение в Восточной Прибалтике, контролируя, частности, и Финский залив, так как по обеим его сторонам лежали подвластные Новгороду эстонские и карело-финские земли. Сумь, занимавшая юго-западное побережье Финляндии от полуострова Ханко до реки Кумо, не была подчинена Новгороду.
(обратно)50
Легаты — дипломатические представители римского папы.
(обратно)51
Нюландия — одна из областей Финляндии.
(обратно)52
Сарацины — старинное название мусульманских народов (арабов, турок и т. п.), принятое у европейцев.
(обратно)53
Зарод — стог сена, обычно продолговатой четырехугольной скирды.
(обратно)54
Изограф — живописец, иконописец.
(обратно)55
Грудная жаба — болезненные явления в области сердца; стенокардия.
(обратно)56
Егорий вешний — 23 апреля.
(обратно)57
Магистр — титул главы средневекового монашеского или рыцарского Ордена, а также лицо, носившее этот титул.
(обратно)58
Командор — одно из высших званий в средневековых духовно-рыцарских орденах, а также лицо, имевшее это звание.
(обратно)59
Пятина — одна из пяти административных районов, на которые делилась Новгородская земля в древней Руси.
(обратно)60
Подклет или подклеть — нижний нежилой этаж старинного русского дома, избы, служащий для хранения чего-л., а также нижний ярус в церквах.
(обратно)61
Никитский монастырь — поставлен в 12 веке. Примерно совпадает с основанием Переяславля. До середины 16 века он не имел каменных сооружений и был бедной обителью.
(обратно)62
Повалуша — летняя не отапливаемая комната, в которой спали в теплое время года.
(обратно)63
Хамовник — ткач, полотнянщик, скатерник.
(обратно)64
Седмица — неделя.
(обратно)65
Непотребная женка — неприличная, непристойная.
(обратно)66
Епанча — старинная верхняя одежда в виде широкого плаща.
(обратно)67
Азям — старинная верхняя одежда крестьян, имеющая вид долгополого кафтана.
(обратно)68
Однорядка — мужская одежда в виде однобортного кафтана без воротника.
(обратно)69
Опашень — долгополый кафтан с короткими широкими рукавами.
(обратно)70
Охабень — верхняя широкая одежда в виде кафтана с четырехугольным меховым воротником и прорезями под рукавами.
(обратно)71
Ферязь — одежда с длинными рукавами, без воротника и перехвата.
(обратно)72
Монисто — женское украшение — ожерелье из бус, монет или каких-либо разноцветных камушков.
(обратно)73
Чуга — старинный русский кафтан с рукавами до локтя.
(обратно)74
Цирюльник — парикмахер.
(обратно)75
Убрус — платок.
(обратно)76
В рост — под проценты.
(обратно)77
Новгородская, Ростовская, Владимирская, Волынская, Белгородская, Черниговская, Юрьевская, Переяславская, Холмская, Полоцкая, Туровская, Смоленская, Перемышльская, Галицкая, Рязанская, Владимирская на Клязьме.
(обратно)78
Константинополь (Царьград) — столица Византийской империи. Основан великим римским императором Константином I в 324–330 годах на месте города Византии. В 1204 году стал столицей Латинской империи крестоносцев. Отвоеван византийцами в 1261 году. В 1453 году взят турками, переименован в Стамбул. В 1453–1918 годах Столица Османской империи, затем до октября 1923 года — Турции.
(обратно)79
Климент Смолятич — киевский митрополит в 1147–1154 годах, выдающийся древне-русский писатель, широко образованный мыслитель, знаток Гомера, Аристотеля и Платона. Боролся за независимость русской православной церкви от Византии. Рядом с ним можно поставить епископа Кирилла из Турова — знаменитого оратора, прозванного «русским Златоустом».
(обратно)80
Монастырские трудники — крестьяне, работающие на монастырских землях.
(обратно)81
Власяница — одежда, сделанная из волос, в роде вериг, на голом теле — для «умерщвления плоти».
(обратно)82
Вериги — кандалы, цепи, железа, оковы; разного рода железные цепи, полосы, кольца, носимые на голом теле; железная шляпа, железные подошвы, медная икона на груди, с цепями от нее, иногда проколотыми сквозь тело или кожу.
(обратно)83
Поелику — поскольку, так как, потому что.
(обратно)84
Опрески — лепешки из не квашеного теста.
(обратно)85
Талалай — болтун, пустомеля.
(обратно)86
В данном случае к пиршеству.
(обратно)87
Урочный — то есть данный на определенные срок.
(обратно)88
Сказание о благоверном князе Довмонте — северно-русское княжеское житие, близкое по жанру Житию Александра Невского, но более светское по характеру. Его герой — князь Довмонт (Тимофей) (? — 1299), литовец по происхождению, княжил в Пскове в 1266–1299 гг. Под его предводительством русские войска одерживали блестящие победы над Ливонским Орденом и Литвой. Сказание пользовалось огромной популярностью в Пскове и Новгороде, вошло в летописи этих земель.
(обратно)89
Папская курия — совокупность центральных учреждений, посредством которых папа римский осуществляет управление католической церковью. Курия — окружение римского папы, боровшееся за распространение католичества в другие страны, особенно на Русь.
(обратно)90
Кнехт — рядовой солдат.
(обратно)91
Инквизиция — (от латинского — розыск), в католической церкви в 13–19 вв. судебно-полицейское учреждение для борьбы с ересями и наиболее опасными врагами католиков. Дела велись тайно с применением жестоких пыток. Еретики обычно приговаривались к сожжению на костре. В 16–17 вв. одно из основных орудий Контрреформации. Особенно свирепствовала Инквизиция в Испании. В 20 в. функции Инквизиции частично перешли к одной из конгрегаций римской курии.
(обратно)92
Командор — одно из высших званий в средневековых духовно-рыцарских орденах, а также лицо, имевшее это звание.
(обратно)93
Забулдыга — беспутный, опустившийся человек.
(обратно)94
Столбец — документ в виде длинной ленты из подклеенных один к другому листов для хранения в свитке.
(обратно)95
По данным медиков сильный стресс может привести человека в бессознательное положение на длительный срок.
(обратно)96
Аксамит — вид старинного плотного узорного бархата.
(обратно)97
Хохряк — горб. (Гнут на свой хохряк, — т. е. действуют только по своей воле, не считаясь с мнением других людей).
(обратно)98
Гиль — смута, мятеж, скопище.
(обратно)99
Вернуться на щите — проиграть сражение;
Вернуться со щитом — выиграть сражение.
(обратно)100
Остаться с носом — потерпеть неудачу.
(обратно)101
Дрекольё — дубины, палки, колья.
(обратно)102
Мисюрка — воинская шапка с железной маковкой или теменем и защитной сеткой.
(обратно)103
Пороки — подступные или осадные орудия, стенобитные башни.
(обратно)104
Розмысл — инженер, архитектор.
(обратно)105
Фогт — высший сановник после великого магистра.
(обратно)106
Гать — настил из бревен или хвороста для проезда через болото или топкие места.
(обратно)107
Послух — свидетель.
(обратно)108
Узилище — темница, застенок, тюрьма.
(обратно)109
Каземат — одиночная камера.
(обратно)110
Кат — палач.
(обратно)111
Лохань — глиняный сосуд с носиком, для умывания.
(обратно)112
Светец — подставка для лучины, освещающей жилье, а так же старинный осветительный прибор из подставки и укрепленной в ней лучины.
(обратно)113
Студень, зимник — декабрь месяц.
(обратно)114
Зелье — в данном случае вино, пиво, медовуха, брага, в другом — яд; в более поздних веках — порох.
(обратно)115
Конюший — начальник над конюхами. В 15–17 веках — придворный чин в Московском государстве; лицо, ведавшее Конюшенным приказом — учреждением, возглавляющее царскими конюшнями, экипажами, лошадьми.
(обратно)116
Дворецкий — в древней Руси: старший слуга, ведающий столом и домашней прислугой.
(обратно)117
Следует заметить, что такое правило широко бытовало на Руси в кругу княжеских, боярских, а позднее и царских семей.
(обратно)118
Ерихонка — разновидность шлема.
(обратно)119
Бармица — железная сетка.
(обратно)120
Город Талин, основанный эстонцами в 1219 году.
(обратно)121
Магистрат — городское управление в некоторых западно-европейских странах, а также здание, где помещалось это управление; муниципалитет.
(обратно)122
Официальное название города Талин, основанный эстонцами в 1219 году.
(обратно)123
Бюргер — горожанин в Германии и в некоторых других странах.
(обратно)124
Аргамак — старинное название восточных породистых верховых лошадей.
(обратно)125
Чепрак — суконная или ковровая подстилка под седло лошади.
(обратно)126
Кончар — род меча, долгого палаша с узкой полосой.
(обратно)127
Фряжские — итальянские.
(обратно)128
Бахматы — крепкие, выносливые лошади, способные перевозить тяжелые грузы.
(обратно)129
Пращи — сложенный петлей ремень, с донцем, куда кладется камень, который мечут с большой силой, закружив пращу.
(обратно)130
Толокно — овсяная мука, употребляемая в пищу с водой, молоком, маслом.
(обратно)131
Розвальни — низкие и широкие сани без сиденья, с расходящимися врозь от передка боками.
(обратно)132
Пискупы и божии дворяне — рыцари.
(обратно)133
Грязник — октябрь (а так же: грудень, листопад, свадебник, зазимье).
(обратно)134
Братчины — ноябрь (листопад, грудень, как и названия октября).
(обратно)135
Зимник — декабрь (студень).
(обратно)136
Сечень — январь (зимник).
(обратно)137
Хронисты — так назывались на Западе летописцы.
(обратно)138
Крещенский сочельник — 5 января.
(обратно)139
Богоявление — 6 января. (Все даты в романе приведены по старому стилю).
(обратно)140
Об иноземном оружии писалось выше.
(обратно)141
Завирухой иногда на Руси называли метель.
(обратно)142
Прелат — высшее духовное лицо (архиепископ, епископ, настоятель монастыря) в католической и английской церквах.
(обратно)143
Жабо — отделка из кружев или легкой ткани в сборках или складках на груди у ворота женской блузки или платья.
(обратно)144
Буфы — пышные сборки на платье, расположенные тесными рядами.
(обратно)145
Посул — обещание или взятка.
(обратно)146
Пошарпать — пограбить.
(обратно)147
Шаромыжник — тот, кто любит поживиться за чужой счет; ловкач, жулик..
(обратно)148
Ярл — герцог.
(обратно)149
Терпуги — подобие напильников.
(обратно)150
Ухнали — специальные гвозди для подков.
(обратно)151
Лиго-Яна — древний летний праздник прибалтийских народов. Был связан с культом солнца и плодородия, подобно празднику Ивана-Купалы у славян.
(обратно)152
Османским — турецким.
(обратно)153
Ливония — вся территория современной Латвии и Эстонии со второй четверти тринадцатого века, завоеванная немецкими рыцарями.
(обратно)154
Исключение составляют факты, относящиеся уже к периоду борьбы с немецким завоеванием Прибалтики.
(обратно)155
Манкировать — пренебрегать.
(обратно)156
Ясырь — невольники.
(обратно)157
Обелятья — оправдываться.
(обратно)158
До зарезу — до крайности, чрезвычайно.
(обратно)159
Железная свинья — конные рыцари применяли особый строй войска в виде клина или трапеции, прозванные русскими «железной свиньей».
(обратно)160
Кирасы — металлические латы на спину и грудь.
(обратно)161
Тулумбасы — на Руси старинное название музыкальных инструментов — литавры и барабаны.
(обратно)162
Иордань — название проруби в водоеме, сделанной к христианскому празднику Крещения для совершения обряда водосвятия.
(обратно)163
Увал — вытянутая в длину возвышенность с пологими склонами.
(обратно)164
Гасило — так в народе называли оружие (кистень), в виде короткой палки с подвешенным на ремне или цепочке металлическим шаром, тяжестью.
(обратно)165
Пирр — (319–273 до н. э), царь Эпира. Воевал на стороне города Тарента с Римом, одержал победы при Гераклее (280) и Аускулуме (279), последнюю ценой огромных потерь (так называемая «Пиррова победа»).
(обратно)166
Грюнвальдская битва — 15 июля 1410 года, окружение и разгром войск немецкого Тевтонского ордена польско-литовско-русской армией, которая положила конец продвижению немецких рыцарей на Восток.
(обратно)167
Сарай-Бату — так стала называться столица Золотой Орды.
(обратно)


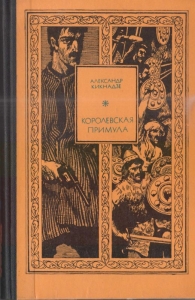

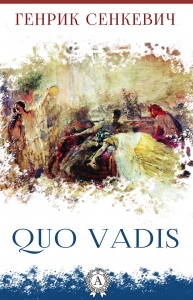

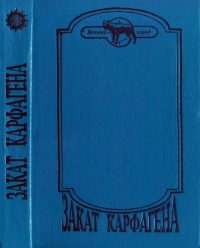
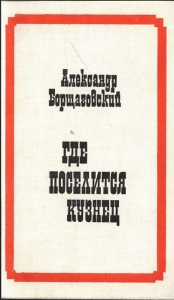
Комментарии к книге «Святая Русь - Полководец Дмитрий (Сын Александра Невского)», Валерий Александрович Замыслов
Всего 0 комментариев