Геннадий Ананьев Орлий клёкот Роман (книга первая)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Вечер не складывался. Всех томила скука, но никто не намеревался покинуть гостиную. Письма с Алая, которые одновременно пришли и от Андрея Левонтьева, и от Иннокентия Богусловского и которые послужили поводом для сбора, давно уже были прочитаны и, как говорится, обсуждены с пристрастием. Шампанское со льда и сытный обед сгладили противоречия, и вот теперь наступила пауза, словно лишь случай свел совершенно разных людей вместе, и они все никак не приспособятся друг к другу, каждый занят своими мыслями, своим делом.
Хозяин дома, Павлантий Давыдович Левонтьев, сухопарый генерал, сидел в мягком кресле и читал «Живое слово», то и дело откидывая спадающие на глаза волосы, поразительно густые и черные, без единой сединки, и сопровождая прочитанное громкими репликами, никому не понятными.
Удивительное дело: сидит человек в кресле, читает газету, возмущаясь тем, что кажется ему нелепостью, и одобряя подходящие его складу мышления оценки и выводы — а надо же! — всем мешает. Бывают такие люди — неудобные. Идет человек по тротуару, совершенно один, а попробуй его обгони — не протиснешься ни справа, ни слева. Стоит у витрины такой человек — не сможешь рядом с ним пристроиться: места не достанется. Пришел неудобный человек на службу, принимается, как все, снимать калоши и шинель, но всем вдруг становится тесно в просторном вестибюле. И стол у этого человека стоит, как у всех, — обычный. И не где-нибудь на видном месте, а сбоку вовсе, но — поди ж ты! — мешает. Неловко как-то всем, хотя за ним сидит обычный на вид сослуживец. И облегченно вздыхают его соседи, если узнают, что приболел коллега и на службе не будет. Не кашлянет многозначительно, когда все смеются, не сморкнется внушительно, когда все вокруг сосредоточенно скрипят перьями. За званым столом такой человек тоже лишний. И сидящих рядом теснит непомерно, а их настроение вовсе не учитывает, говорит и поступает невпопад, не заботясь вовсе о том, что кого-либо его слова и поступки могут шокировать. И что самое удивительное: выскажи такому человеку все его «грехи» — искренне оскорбится. Таким вот и был генерал Левонтьев, ведавший делами разведки Отдельного корпуса пограничной стражи. Сослуживцы, особенно молодые офицеры, за глаза звали Левонтьева «неудобой», но в открытую упрекнуть его либо одернуть никто не решался: чином высок и родом знатен.
Вот и сейчас он, даже не замечая того, мешал своему коллеге генералу Семеону Иннокентьевичу Богусловскому, который, развалившись в кресле рядом с Левонтьевым, просматривал суворинское «Вечернее время»; мешал молодежи, толпившейся у рояля в надежде уговорить Анну Павлантьевну, юную дочь хозяина дома, спеть хотя бы парочку романсов, чтобы на какое-то время избавиться от необходимости поддерживать надоевший до противности разговор о войне, о революции, о дороговизне и еще о том, как солдаты-егеря и казаки, унтеры и даже офицеры пограничных гарнизонов распадаются на два лагеря: одни продолжают охранять границы России, несмотря ни на что, другие мародерничают и наживаются на сделках с контрабандистами, о чем с горечью писал Иннокентий Богусловский с Алая; и только Анна Павлантьевна готова была уступить просьбам молодых офицеров, даже бралась за крышку рояля, как вновь на всю гостиную звучал гневный голос Левонтьева-старшего:
— Вот умники! Ишь ты, технократию им подавай! Больше ничего не желаете?!
Все замолкали, пытаясь понять, кто ратует за так возмутившую генерала технократию: кадеты, большевики или эсеры? Но генерал Левонтьев затихал на несколько минут, чтобы снова в самый неподходящий момент воскликнуть:
— Что?! Мадам де Теб туда же?! Ну и ну — предсказатели. А уши-то видны! Ой, видны! Палестина им нужна. Палестина. А Гогенцоллернов — под корень. Оттого нации и скрестили штыки!
И опять торопливо отдернула руку от крышки рояля, словно обожглась или укололась током, Анна Павлантьевна и виновато потупила взор. До романсов ли, когда по всей Европе льется людская кровь лишь потому, что кому-то очень нужна Палестина. Она бы усмехнулась, если бы знала, что отец гневается по поводу предсказания газеты об исходе войны, которое, как уверялось в заметке, основано на библейских сказаниях и выводах из апокалипсиса. Какой-то заморский предсказатель безапелляционно утверждал, подкрепляя свой вывод еще и авторитетом знаменитой вещей старушки де Теб, что не пройдет и года, как война непременно окончится. И итог ее совершенно ясен: будет разрушена Оттоманская империя, потеряют былое могущество Гогенцоллерны, расчленится Австро-Венгрия, и получит независимость Палестина. Откуда знать молодой девушке, что идеологи Союза русского народа в наивной на вид заметке пытаются навязать обывателю свою оценку того, кому и зачем нужна вся эта ужасная мировая война.
Анна Павлантьевна любила, ее любимый стоял рядом, она хотела петь для него и лишь немного кокетничала, испытывая счастливое волнение от настойчивых просьб молодых мужчин спеть для них; но всякий раз, когда она делала вид, что уступает этим просьбам, отец мешал ей открыть крышку рояля и принуждал своими репликами думать о страдающих на фронте солдатах, о стрельбе на улицах, о шумливых толпах мужиков и баб, требующих хлеба и мира, о казачьих разъездах, о сборах средств для семей казаков, погибших при усмирении бунтовщиков… Мысли эти, однако, так же быстро улетучивались, как и возникали. Анна Павлантьевна жила сейчас своим счастьем. Она наслаждалась близостью Петра Богусловского, совсем недавно получившего чин прапорщика и оттого гордого своим мундиром, своей выправкой. Но вместе с тем и досадовала, что отец вбивает в ее безмятежную радость жесткие клинья суровой реальности взбесившегося мира.
Неловко чувствовали себя и жених Анны Павлантьевны, и его брат поручик Михаил Богусловский, и молодой юрист, только что получивший диплом, Владимир Иосифович Ткач.
— Полно-те, Анна Павлантьевна, пустячное — папашу своего слушать. Пусть их газету читает, мы же споем, — потрогав пальцами свои черные усы, упрашивал Владимир Ткач, влюбленно глядя на девушку. — И позвольте мне аккомпанировать.
— Нет-нет, я сама! — поспешно ответила Анна Павлантьевна и виновато посмотрела на Петра, словно извиняясь перед ним за назойливость Владимира Иосифовича. — Или — Петенька…
И тут громкий, полный искренней тоски голос прервал этот диалог:
— О, Россия! Удила ли ты закусила и пластаешься по ухабам да колдобинам?! Или ты зверь обезумевший, сжирающий собственное тело?! Воистину во гневе господь! Он карает Русь, как и Иерусалим.
— Эка, куда, батенька мой, махнул, — с добродушной ухмылкой произнес генерал Богусловский, который долго крепился, не отвечая на реплики, делал вид, что совершенно увлечен чтением газеты, но наконец не стерпел. — Эка, сравнил.
— Вполне справедливо, Семеон Иннокентьевич, сравнение. Весьма справедливо! — ответил Левонтьев, сердито глядя на Богусловского, словно пытаясь понять, отчего тот мешает ему читать и мыслить в свое удовольствие. — Римляне легионы свои к стенам Иерусалима подводят, а там иудеи сокровища храма и власть поделить не могут. Соплеменники друг друга уничтожают. А у нас разве иначе? Германцы — те же римляне — наглеют, а мы как в марте этого года закричали: «Да здравствует свободная Россия!», так и не закрываем рта. А видим же, видим, что властвует сегодня одно — жестокость. Не далее как на днях «Слово» воспело славу селянскому министру Чернову. И я вслед за газетой крикну: «Слава!» И поделом. Заслужил. Распустили мужика донельзя — управы на него нет. Сабурову я знавал в молодости, милая женщина, благотворительница, каких поискать по всей Руси, так над нею мужики измывались, на веревках ее таскали по деревне. Имение разграбили. Все порушили. И разве только в Самарской губернии такое?! Вся Россия сегодня — сплошной погром.
— Безусловно, это — жестоко. Весьма даже жестоко, — возразил поручик Богусловский, услышавший начало спора и покинувший молодежь; вот уже несколько месяцев всякий раз, когда старики генералы начинали словесную баталию либо когда и его отец и особенно Левонтьев брюзжали и гневались, поручик ершился и лез буквально в драку; он и сейчас не упустил момента, — но вы, Павлантий Давыдович, однако же, не учитываете…
— О, наш социал-демократ подает голос, — иронически прервал Михаила генерал Левонтьев. — Я учитываю одно — всякому должное: кому по́дать — по́дать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь. Так еще святой Павел проповедовал. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от бога…
— Давно ли вы с упоением читали обращение Временного правительства к гражданам Российского государства: «Свершилось великое. Могучим порывом русского народа низвергнут старый порядок…» Что, император не от бога? А Учредительное собрание, которое так навязывают народу, а он всеми силами противится, это — от бога?
— Но должен же быть порядок в стране?! — воскликнул Левонтьев. — Прав много надавали, а вот — обязанностей? Представьте, Деникина… пытали! Деникина! Мало того, что в Бердичевский застенок бросили, так еще солдаты перед окнами тюрьмы вырыли яму и кричали без умолку: «Здесь тебя живьем зароем!» И зарыли бы, не вмешайся тюремная стража. Тогда стекла в камере повыбивали каменьями и — давай кидать в камеру нечистоты да вшей в газетных кульках…
— А газета ваша любимая не сообщала, где солдаты вшей в кульки собирали? — иронически спросил поручик Богусловский. — Возможно, с себя горстями сгребали? Эка, озорники, эка, нахалы. Если бы генерала блоха любимой собаки куснула, тут ничего, тут даже приятно…
— В трибунал бы за такое варварство! В трибунал! — словно не слыша Михаила Богусловского, возмутился еще более генерал Левонтьев. Смотрел он по-бычьи грозно и гневно повторял: — В трибунал!
— И сквозь строй! — подражая его тону и голосу, подхватил поручик Богусловский. — И репете! И репете!
Вновь генерал Левонтьев не удостоил молодого поручика ответом. Продолжал все так же гневно и решительно:
— Я бы принял декларацию обязанностей солдата! — воскликнул он, потом помолчал немного, успокаиваясь, и продолжил, уже не серчая, а как бы раздумывая: — Декларация прав солдата. Эка, как внушительно. И впрямь, нынче ни один солдат в мире не имеет столько прав, сколько наш. И что же: удивительно быстро узнал русский солдат о своих правах и привык к ним. А сочувствуют все: безграмотен, дескать. Вот тебе и безграмотен. Он безграмотным прикидывается, когда о долге начинается разговор. Не хочет он знать долга своего. Долга защитника Отечества! Мать, жену, наконец, дитя кто оборонит от кайзеровцев, если все оборотятся спиной к долгу? Пагубен яд пацифизма. Разрушает он стену армии, которая всегда надежно ограждала Россию от врага…
— Отчего же? — снова подстраиваясь под тон генерала Левонтьева, возразил поручик Богусловский. — Отчего же рушится? Как же вы можете не брать в расчет «армии чести», «батальоны стойкости», «ударные батальоны»? И наконец, можно ли забывать о женских полках?..
Левонтьев недовольно глянул на Богусловского, откинул нервной рукой смоляные волосы, спадавшие на лоб, и молвил назидательно:
— Пусть нет у меня седин, но позорно, Михаил Семеонович, забывать о возрасте моем. Не грех ли насмешничать? Или социалисты себе позволяют все?
— Они говорят правду…
— Правду?! — раздувая ноздри, отчего сухой, до прозрачности, горбатый нос генерала стал еще прозрачней, Левонтьев свирепо переспросил: — Правду?! Петроград заполнили дезертиры! Папиросами торгуют! Заплевали семечками все на свете! Да, обязанности без прав — это было горько, но одни права без обязанностей — это же гибельно!
— Отчего же нет обязанностей? Есть они. Народ их знает. Мы не знаем — это другой вопрос…
— Народ?! Шлея ему под хвост попала, вот и начал взбрыкивать, а его еще и подхлестывают. Нет, вот где место истинно русского человека, вот в этих рядах, — ткнув худым длинным пальцем в газету, где была помещена заметка о готовящемся в Одессе еврейском погроме, воскликнул Левонтьев. — Всех смутьянов под корень! Пусть им кровь русская отольется. Продают Россию за марки, гульдены и кроны!
— Мы не ломовые извозчики, не приказчики и не швейцары из трактиров, — спокойно, даже, казалось, весело возразил генерал Богусловский, застегивая мундир на своем массивном животе. — Нас ведром водки не приманишь. Куда как лихо — рожа пьяная, руки в крови… Души́, дави, ибо ты — черная сотня святого Союза русского народа. И это восхваляете вы, Павлантий Давыдович? Невероятно!
— Да, я утверждаю, — еще злее воскликнул Левонтьев, сердито сопя своим прозрачным носом, — и буду утверждать: под корень смутьянов! Они хотят, чтобы мы вцепились друг другу в глотки и пили кровь. Нет, вы подумайте только, куда нас толкают?! Вот он — крик души Шрейдера, — ткнул пальцем Левонтьев в газету. — Положение в столице такое, что если запоздает почему-то товарный поезд, или замедлится выгрузка, или остановится на несколько часов мельница, то продовольствие города станет в чрезвычайно критическое положение. И вот, — Левонтьев пробежал глазами по строкам, — вот: «Граждане, это состояние станет ужасным, если будет нарушен порядок в городе… Тягчайшее из преступлений совершил бы тот, кто пошел на такое злое дело». Обратите внимание: «злое дело». Нет, я — за Союз русского народа. За боевой союз. Под корень всех смутьянов!..
— Метаморфозы, Павлантий Давыдович, метаморфозы, — с ухмылкой перебил горячую речь Левонтьева Богусловский-старший. — Помнится, говаривали вы, что к подписям Тургенева, Шевченко, Чернышевского, протестовавших против антисемитских публикаций, и свою готовы поставить. По делу Бейлиса кто возмущался, кто ставил себя в один ряд с протестующими Горьким, Куприным, Блоком, Андреевым? Кто собирался вступить в комитет борьбы с антисемитизмом? А не далее как месяц назад вы ратовали за общество «Самодеятельная Россия». Как, дай бог памяти, там: борьба с германским засильем путем развития самодеятельности русского народа. Эка, батеньки мои, программа. Вот уж поистине донкихотство. Куда ни ткни пальцем — везде австрияк да немец. Шрейдер, наш городской голова, не из них ли? Добрая часть министров — не из них ли? Самодеятельность, — вновь усмехнулся Богусловский. — Эка, выход! Иль, кроме самодеятельности, ни на что иное русский не способен? Неужто у нас своего ума нет? Неужто своего пути не найдем? Особенно теперь, когда царь отрекся?!
— Об этом и я, дорогой Семеон Иннокентьевич, говорю, — вполне одобрительно произнес Левонтьев. — И я за Союз русского народа.
— Какого русского?! — начиная сердиться, переспросил генерал Богусловский. — По мне, пусть так и будет: кесарю — кесарево, богу — богово. Пусть они сами между собой разбираются. А нам не плохо бы, руки умывши, за свои дела приняться…
— Кто разбирается? Бог и кесарь?
— Нет, Павлантий Давыдович, — ответил за отца поручик Богусловский. — Германцы и палестинцы. Пошевелите историю… Гетто и кровь. Кровь и гетто. Просветы только в частностях. И мировая война — продукт этой вековой вражды. Вы же только что прочли предсказание и разве не уловили его смысла? Я одного лишь не пойму: что нам в этой борьбе делать? Скифы не враждовали с Палестиной никогда. Славянам на пятки германцы, а не палестинцы наступали. Их цель — безраздельное господство не только в Европе, но и в России, вот и лезут из кожи, чтобы столкнуть лбами русских и евреев. Чтобы русскими руками врагов своих бить. А ставка — на общественное дно. На подлецов, если хотите. На пьяниц.
— В союзе — почтенные люди, а не дно, как вы изволили определить… — начал было возражать Левонтьев, но Михаил Богусловский резко оборвал его:
— Не уподобляйтесь страусу! Верно, звучит громко: Союз русского народа, палата Михаила Архангела; куда как созвучно духу россиянина! А лидеры кто? Нейдгард, Буксгевен, фон дер Лауниц, генерал фон Раух, барон фон Тизенгаузен… Только Марков, пожалуй, из русских. Так скажите на милость: пристало ли нам служить у германцев заплечных дел мастерами? Пусть ломовой извозчик, влив в себя стакан дармовой водки, горланит: «Русь державная, святая и могуча, и сильна…» Но вы-то, Павлантий Давыдович, хорошо осведомлены, кто написал: барон Шлиппенбах. И насчет гульденов и марок, насчет шпионов немецких тут тоже прикинуть не грех. Помните у Гюго: змеи извиваются самым неожиданным образом. От Петра Великого, почитайте, иноземец каблуком русского мужика придавил. Порол, насильничал. Да что там министры?! Самодержцы каких кровей да пород? Не подданническим взглядом, а взглядом человека, способного думать самостоятельно, вглядитесь в родословную императоров наших! Корень русский, Романовский, только ветки какие? Много в них кровей разных. А от Павла начиная, вовсе кровинки романовской не сыскать в них. Чем они татаро-монголов лучше? Те хоть передышки давали. Налетят, порубят, в полон позаберут — и восвояси. А эти день ото дня арапниками стегали да борзыми травили. Из нужды не выпускали вовсе. Не давали русскому человеку человеком стать. И сами же твердили на все голоса: ленив, дескать, русский мужик, пьяница, нечистоплотен. В общем, свинья свиньей, только не хрюкает, а матерится.
Поручик Богусловский говорил резко и так уверенно, что Левонтьев никак не решался прервать его, хотя вовсе не был с ним согласен. Левонтьев только сердито раздувал свои прозрачные ноздри и, не скрывая неприязни, смотрел в упор на Михаила. А молодежь поначалу примолкла, затем Владимир Иосифович и следом за ним Петр с Анной Павлантьевной подошли к спорившим и остановились подле Михаила, словно намереваясь поддержать его. И получилось так, будто образовались две противоположные стороны: одна — сидевшие в креслах старики генералы; другая — молодежь. Но это было далеко не так. Каждый из них имел свое мнение на происходящие в мире события, каждый искал в них свое место, сообразуясь со своим понятием добра и зла, чести и бесчестья.
Михаил же Богусловский продолжал, словно проповедник:
— Сколько раз мужику русскому становилось невтерпеж, сколько раз он брался за топор?! Вот и теперь взбеленился. Верно, рушит почем зря. Бьет виноватого и правого. Без всякого разбору. Тут бы ему помочь разобраться, кто враг его, кто друг…
— Каким образом, с твоего позволения, Михаил Семеонович, сделать это? Рта не успеешь раскрыть, а уж штык в животе либо пуля во лбу, — потрогав пальцами усы и услужливо полупоклонившись, вкрадчиво, как бы подчеркивая, что возражает вынужденно, сам не желая того, втиснулся в спор Ткач. — Каким образом, с твоего позволения?
— Кто хочет делать, тот ищет способ, а кто не хочет, ищет, естественно, причину. Так вот немцы, Владимир Иосифович, ваши сородичи…
— Михаил, ты грубеешь день ото дня, — упрекнул сына Богусловский-старший. — Казарма дурно на тебя влияет.
— Нет. Она приучает говорить правду, так не привычную для нашего просвещенного общества, — ответил Михаил отцу и, сделав небольшую паузу, продолжил: — Так вот немцы ищут способ. И позвольте вас уверить, не без пользы. Пошленький стишок в газете: пороть большевиков, пока из их пыльных спин не полезут марки, гульдены и кроны, а из какого-то Нахмекса-Стеклова вылезет австрияк… Представьте, и завтра подобный пасквильчик, и послезавтра — так день ото дня, нечистоплотно, нахально. Невольно сомнения возьмут даже образованного человека. Крестьянин же, глядишь, все за чистую монету примет. Да если ему еще немец-управляющий, надевший теперь маску благодетеля-демократа и не менее мужика ругающий своего бывшего хозяина, все это прочтет со своими комментариями.
— Если позволишь, Михаил Семеонович, в твоих утверждениях не видно логики, — возразил Ткач, на этот раз не так робко. — Отчего немец на немца хулу возводит? Бей свой своего, чтобы чужой и духу боялся? Так ты утверждаешь? Но поверь мне, в России нет немцев. Они ассимилировались совершенно. Кроме разве колонистов немногих. Лишним мне представляется называть имена тех, кто создавал славу России. Славу ратную, славу просвещенности, славу мореплавателей и первопроходцев. Разве мы можем их назвать немцами либо голландцами? Кощунственно это бы прозвучало. Они — сыны России!
— Многие и фамилии сменили, — подхватил, стараясь даже копировать тон Ткача, Михаил Богусловский, но его резко одернул отец:
— Не забывайся, Михаил!
— Отец, как можно обидеть человека, если он, меняя фамилию Бубера на Ткача, исходил лишь из чувства патриотического, — ответил отцу Михаил Богусловский, затем вновь обратился к Владимиру Иосифовичу: — Вы не станете отрицать истинность моих утверждений?
— Видимо, ты в какой-то мере прав.
— Вот и отлично. Отдадим должное патриотам России, однако не станем умалчивать: крепостников было предостаточно. Разве они не видели, что мужик ненавидит их, готов втоптать в грязь, в ту самую грязь, в которой держит крепостник мужика? А сегодня час возмездия — реальность. Но кому хочется терять власть? Вот и начали извиваться крепостники. На ненависти к себе спекулировать. Всех, кто борется сегодня против их власти, они именуют немецкими шпионами. Отменная, просто незаменимая аргументация этих утверждений — война с Германией. Пока разберется мужик, германцы уже вновь крепко вожжи русской тройки-птицы держат и осаживают ее, едва она ход начинает набирать. Попутно и своих вековечных врагов — к ногтю. Нашими руками создать на Руси гетто. А разгорится вражда — трудно представить, какие беды принесет она русским людям. Россиянин — доверчив и простодушен, его обвести вокруг пальца ничего не стоит! В одиночку выживать он не научен. Он силен, когда скопом сгневится. Тогда за дубину схватится. Но долго прежде станет муку мучить, пока поймет, откуда все невзгоды. Время ему понадобится, чтобы раскусить, что крест он несет не за свои грехи, а лишь за то, что германца, врага иудейского, многие годы кормил-поил. Мало того, по его же наущению еще и евреев притеснял. Тогда поднимет дубину русский народ, когда уяснит себе четко, что несет крест за сотню-другую пропойцев-ломовиков да трактирных вышибал, кои через зеленую бутылку себя готовы продать, не то что Россию, и за тех, кто ни за понюх табаку проливал кровь таких же, как и он сам, бедняков-лавочников, портных да сапожников…
— Весьма любопытна нить рассуждений, — уже не серчая вовсе, раздумчиво констатировал генерал Левонтьев. — Вполне можно понять. Увы, однако, только понять, но не воспринять. Мои убеждения я оставляю при себе.
— Человек мыслящий сопоставляет факты двух измерений: прошлого и настоящего. Только это может дать ему верный вывод о будущем. Убеждения мыслящего человека не в силах поколебать никакая злоба дня…
— Михаил! — умоляюще воскликнул Петр Богусловский. — Я прошу тебя, не заостряй.
— Хорошо согласился Михаил сразу же. — Прекращаю.
Он прекрасно понимал состояние своего младшего брата, для которого мир семей Левонтьевых и Богусловских был сейчас желаннее всего на свете. Пусть на малый срок мир. Пусть хоть до свадьбы. Уступая просьбе брата, Михаил извинился перед генералом Левонтьевым за возможное, в пылу полемики, какое-либо оскорбление, потом добавил:
— С вашего разрешения, господин генерал, я покидаю наш гостеприимный дом. Меня ждут мои солдаты. Младшие чины.
— Ваши? — с иронией спросил генерал Левонтьев и, словно опомнившись, воскликнул: — Ах, да! Вы же в комитете. Уж простите старика, что запамятовал… Впрочем, они — не ваши, вы — не их. Им нужен ваш мозг. Они высосут, как пауки из мухи, его из вас и потеряют к вам вовсе интерес. Несите свой крест на голгофу, и бог вам судья!
Михаил Богусловский едва сдержался, ради брата, чтобы не ответить резко. Он, молча со всеми раскланявшись, направился было к выходу, но его догнал Петр.
— Наверное, мы не увидимся скоро, поутру я уезжаю на границу. Прощай.
— До свидания, Петя. Честно служи, как наш Иннокентий. И пусть не вскружит тебе голову новый чин.
Братья обнялись, постояли, прижавшись щекой к щеке, а потом крепко пожали друг другу руки. Понимали: не скоро это сложное время дозволит вновь оказаться вместе. А вдруг и вовсе не суждено им больше свидеться? Михаил уже пожалел, что уходит, что попрощался со всеми и теперь возвращаться считал неприличным, но и оставлять Петра, не побыв с ним хотя бы еще немного времени, ему не хотелось. И он попросил:
— Проводи меня, Петя.
— Пожалуй, — нерешительно согласился Петр. — Вот только Анна Павлантьевна…
— Ты воротишься непременно. Она вполне поймет тебя, — успокоил брата Михаил, а сам подумал: «Бедный, наивный мальчик. Не склеится у них. Иные мы, чем Левонтьевы. И с Ткачами иные. Особенно теперь, в смутное время», но не стал это говорить брату, уверенный в том, что Петр, влюбленный и, следовательно, слепой вовсе, может обидеться. Михаил взял брата под руку и повел к выходу.
Михаил Богусловский был совершенно прав: все три семьи — Левонтьевы, Ткачи и Богусловские — совершенно не схожи, хотя времени для сближения и взаимного влияния одна на другую имели предостаточно. Судьба свела их на одну пограничную тропку еще в крепостях и сторожах Белгородской порубежной черты. Там и начались их трудные и путаные отношения, там началось их соперничество за высокие чины на служебной лестнице порубежной стражи, и никто не хотел уступать в этом соперничестве.
…Два брата Левонтьевых признавали право быть верховодами только за собой. Много лиха они здесь хлебнули. Их отец, потомственный стрелец, поклялся государю, поцеловав крест у киевского воеводы, служить без всякой хитрости в лазутчиках, подучил языки иноземные и поехал за кордон. Двадцать пять лет лазутил Левонтьев, а в эти годы сыновья его, Ромашка и Филька, словно беглые черкасы, удостоверили своей поручной записью, что будут служить летом и зимой, в дальних городах и ближних, годовую и полугодовую службу, где какую службу государь укажет, а бывшим на караулах над государевой казною никакой хитрости не учинять и у своей братии-стрельцов свинцу и пороху не красть…
Служили верно. От дозоров на сторожах не увиливали, а ведь не единожды видели порезанных ногайцами стрельцов, не раз сами едва живы оставались, но ни разу не показывали спины ворогам, заступали крымским и ногайским сакмам — войскам пути. А чтобы числом малым удержать их до подмоги, на облюбованных степняками-грабителями дорогах рыли ямы в два и три ряда в полусажени одна от другой, а в ямах крепили по дубовому колу, устраивали засеки, сами же крепостцы-сторожи окружали тыном, перед которым насыпали еще и земляной вал — спам. И часто их имена вписывал воевода Белгородский в челобитных царю, и тот пожаловал в конце концов Ромашку и Фильку, словно детей боярских, пашней паханой, перелогом, да и жалование положил знатное — по пяти рублей в год.
Когда же отец вернулся в Киев и привез с собою несколько сот газет европейских — авизов да донесений достаточное число о всяких немецких, цесарских, турецких, крымских и польских поведениях, за что государевым указом был пожалован землей, — Ромашка и Филька уверились в том, что не дело теперь им дозорить в сторожах с босяками-черкасами, а подошло время воеводить в крепостях. Так бы оно и случилось — воевода белгородский послал царю челобитную, чтобы Романа Левонтьева поставить воеводой в крепость Корочу, а Фильку при себе оставить, — только перешел Роману дорогу Глеб Богусловский, молодой стрелец. Доставил тот по цареву указу на Корочу две пушки медные на колесах, ядер полугривенных по сто штук, пищали, десяток пудов зелья пушечного, пуд железа немецкого да другого нужного ратному люду скарба, а тут сакма ногайская из-за реки Сосны у Павловского леса прошла. Левонтьев Роман в погоню навострился было, только Глеб Богусловский иное предложил: поставить на след сакмы казаков пяток, пусть гонят да знать дают, каким путем вороги уходить станут. Там тогда засаду и сделать, пищали опробовать. Левонтьев — ни в какую. Можно ли, серчает, вольно пустить по русским деревням ногайцев, чтобы насильничали и разбой чинили без помехи?! Но и Богусловский упрямится:
— Побегаешь за сакмой без проку, она же и добро, и полонянок в ногаи уведет!
Казаки да стрельцы корочанские Глебу в поддержку зашумели. Верное, дескать, стрелец московский слово сказал, так и следует поступить…
Отрядили пяток казаков, и те, благословись, вскочили в седла. День томятся корочанские порубежники, другой, а вестей все нет и нет от казаков-лазутчиков. Роман Левонтьев, словно туча грозовая, ходит, но спора не затевает. Хоть и разрывается сердце от боли, когда подумает о разбое ногайском, так бы и кинулся по следу сакмы, но злость на стрельца приезжего боль пересиливает. Представляется ему, как на дыбе корчится самодовольный стрелец, и дух от злобной радости заходится.
«Пусть уходят ногаи! Пусть! Не миновать тогда самолюбцу дыбы! Не миновать!»
Только не так все вышло. На третий день, когда уже и тех ратников, что Глеба поддерживали, начало брать сомнение, прискакал казак-лазутчик Федька Богодух и выпалил, что идут ногайцы со скотом и пленными прямо на Ломовитую яружку. Тут уж дали волю коням корочанцы, выскочили наперехват.
И снова Глеб Богусловский верховодит. Засаду подковой расположил. Пищали — по бокам. Чтобы, значит, пленников русских не побить, а ногайцам ядрами урон нанести великий да строй разметать. Казакам повелел тоже с боков атаковать, отбить сперва пленников, а уж тогда сакму — в клинки.
Роман Левонтьев тоже хорохорится. Впустую, однако же. Потеряло его слово силу. Злись не злись, а делать нечего. Все Глебу Богусловскому в рот заглядывают, каждое его приказание исполняют мигом. И надо же, человек-то совсем новый, а ратники сразу признали за ним право воеводы.
Сакма двигалась хитро. Впереди — до полусотни всадников, следом — пленные, связанные по четверо в ряд, затем — скот, а уж потом — основные силы ногайцев. Тактика такова: наткнется сакма на стрелецкую засаду — передовые конники рассыплются веером, оставив пленников впереди, и погонят их вместе с овцами, коровами и лошадьми на русских ратников, расстроят их ряды, тогда уж пустят в ход сабли. И не ждала сакма фланговых ударов, не готова была их встретить.
Пушкари верно навели пищали, ядра врезались в ногайцев, сбивая всадников, калеча лошадей, и тут же налетели на сакму ястребами казаки и стрельцы, отсекая клиньями авангард и основные силы от пленников и скота.
Несколько часов длилась сеча, многих ногайцев побили воины корочанские, а у самих только и потерь — десяток раненых…
За тот бой одарил Глеба Богусловского царь сотней десятин земли, жалованьем из казны и повелел на Короче воеводить. Хотел или не хотел такой чести Богусловский, одному богу ведомо, да не поперечишь государеву указу. Обиду же Левонтьева в счет не взял. Подумаешь, воин великий, Богусловскому ли чета. Слава Богусловских — еще от Данилы, прадеда Глеба. Был он приближенным боярина Захария Тютчева, посла Дмитрия Донского в Золотой Орде. Много нужных Москве сведений добывал в Орде Данила Богусловский, а Тютчев направлял их великому князю Дмитрию Михайловичу. Дал знать Москве Тютчев о том, что Мамай готовит великое нашествие, собирая под свое знамя не только ордынцев, но и воинов из улуса хулагидов и из Хорезма; и о том, что нанял Мамай генуэзскую пехоту из византийских колоний в Крыму; давал знать Тютчев и о других Мамаевых приготовлениях. Когда же Данила Богусловский сумел дознаться, что Мамай тайно сговорился с литовским князем Ягайло и рязанским князем Олегом, чтобы они вместе с Ордой пошли на Москву, Захарий Тютчев сообщить об этом великому князю направил самого Богусловского.
Тогда-то Дмитрий Михайлович и взял в княжий двор верного и храброго ратника. А в скорый срок вместе с полусотней удалых людей двора великого князя послан был он в сторожи степные, чтобы кострами давать знать, когда рать Мамаева поход начнет, да и дальше весь ее путь огнями дымными указывать. Так и стал род Богусловских воями. И с Едыгеем бились Богусловские, Улу-Мухаммеду заступали пути; и на реке на Угре многие дни держали перевоз от Ахмет-ханских ордынцев, а потом по указу Ивана III, государя всея Руси, вместе с судовой ратью, ходила вниз по Волге под самые улусы ордынские-варварские, огню и мечу их придавали, чем великую пользу для русской рати сотворили… Да и сам Глеб в войске стрельцовом отменно служил, множа ратную славу Руси. Вот и считал, что вправе верховодить в Корочи-крепости, и никто обиды на то держать не должен, а наоборот — принять за благо быть под началом воеводы столь храброго рода. Ему бы отправить в другую крепость Романа Левонтьева, а он при себе оставил и года через три жестоко за это поплатился.
Поехал Глеб Богусловский в Белгород по вызову воеводы с малым числом казаков, а день спустя с Калмиюсской сторожи в Корочу прискакал гонец и сообщил:
— Казаки с ногайцами сшиблись. Сало те закапывали!
Известие то встревожило стрельцов и казаков. Они хорошо знали, что степняки, готовясь к набегу изгоном, стремительному, рассчитанному на скорость, не только выстаивали боевых, вьючных и заводных лошадей, но и закапывали в ямы, подстелив на дно полынь и накрыв сверху полынью, бараньи курдюки и верблюжьи горбы там, где предполагали возвращаться из набега. Несколько часов проскачут, часто пересаживаясь прямо на скаку на заводных лошадей, подлетят к загодя приготовленному салу, отгребут с одного края землю до полыни, а затем, словно рулет, скатают с ямы верхний слой полыни вместе с землей, посекут сало саблями на куски и — лошадям те куски в рот. Лошади уже привычные к этому, хватают сало с жадностью. И воду оно заменяет, и овес с сеном. Себя всадники тоже не обижают, глотают живоглотом посеченное сало. Минуты на все это уходят, и вновь лошади, словно былинные тулпары-птицы, летят по степи — не догнать. И раз у Калмиюсской сторожи сготовили яму с салом, значит, там и будут уходить после грабежа. А где прорываться намерены? Тут встревожишься.
Собрал стрельцов-бородачей да казаков Роман Левонтьев совет держать. Так и эдак гадали, только толку чуть. Всем понятно: пойдет сакма, а где и когда — одному богу известно. Подлазутить бы, только не поздно ли? Порешили: послать гонцов по всем сторожам и ждать, где задымит костер.
Сакма прорвалась сквозь засечные линии в тот день, когда Глеб Богусловский возвращался в Корочу. Задымил костер на стороже у деревни Реут. Сущий пустяк на той сторожи было стрельцов и казаков, но на какой-то час сакму они придержали. Бились, ожидая помощи, но она не успела. Прискакал Роман Левонтьев в сторожу к шапочному разбору. Порушено все, ратники перебиты, а сакмы и след простыл. Кручинятся стрельцы и советуют Роману Левонтьеву:
— Послал бы, боярин, воеводе встречу, казаков на добрых конях. А то, не ровен час, беда приключиться может.
А Левонтьев в ответ:
— Воевода наш Богусловский не одобрит такого. Он ли не учил врастопырку не биться с сакмой. Вот так, дружиной всей, и бить ее следует, иначе все мы, — Роман указал перстом на ратников порубленных, — вот так и погибнем. — Помолчал чуток, с мыслями собираясь, и повелел: — Засаду сделаем. Лазутчиков и тех наряжать не стану. Ясно, что у Калмиюсской сторожи ворочаться будут. Там сало заямили.
— Особый случай, — ворчат стрельцы-бородачи. — Посылать, боярин, встречу нужда есть…
— Бог милостив, — отвечает Левонтьев. — Авось еще у воеводы в Белгороде бражничает Глебушко наш уважаемый.
— Бог-то бог, да сам не будь плох, — возражают стрельцы. — Послать бы, Ромашка, встречу…
Резануло это мужицкое — Ромашка. Был Ромашка, да весь вышел. Прикрикнул гневно Левонтьев:
— Довольно лясы точить! Сказал: засаду готовить станем, так тому и быть!
Поворчали порубежники себе в усы: «Ногаец, он что — вовсе дурак?! Сало-то перехоронили, должно, после казачьего догляду», но перечить боярину более не смели. Все делали, что велел он: и пищали поставили, и себе удобные норы соорудили, и ям волчьих нарыли, понатыкав острых кольев на дно достаточно, и притаились так, что даже сороки, летая рядом, не верещали вовсе. Только понапрасну тратили силы и время — казак из охраны Глеба Богусловского прибег пеши, на губах кровяная пена, как у загнанной лошади, и прохрипел, себя насилуя:
— Воевода бьется с сакмой. Уходит она на Ямную сторожу.
Верстах в пяти от засады та сторожа, пустить бы казакам своих коней наметом, глядишь — перехватили бы ногайцев-разбойников, но Романа Левонтьева будто сонная муха укусила. И прежде не очень расторопничал, а тут вовсе будто квелый. И смелости чуть. Стрельцов на совет собрал, чтобы не ошибиться, не дай бог. Спрашивает бородачей:
— Пищали, думаю, брать придется, иначе не осилим сакму. Не иначе большой она силы. Как ваше слово, стрельцы?
Молчат все, насупились. Не сразу сообразят, что и ответить. Вроде у человека вовсе ума нету. А Левонтьеву того и нужно. Говорит уверенно:
— Так, значит, и порешили.
Уж так торопились стрельцы и казаки, да с пищалями неуклюжими сильно не разбежишься. Пока дотащились до Ямной сторожи, сакмы и в помине уже не было. Роман Левонтьев расстроился, даже смотреть на него жалко. Себя поносит на чем свет стоит. И, только покручинившись изрядное время, встрепенулся будто, пустил казаков в погоню, а сам, взяв стрельцов с дюжину, направился к тому месту, где Глеб Богусловский бился с сакмой.
Знатная сеча была. Ногайцев изрядное число постреляно и порублено, но и казаки все полегли. Только Глеба Богусловского среди них не оказалось.
— Выходит, тонка кишка у воеводы, — заключил Левонтьев. — В полон угодил.
Смолчали стрельцы. Зарыли ногайцев в яму неглубокую, аки падаль, лишь бы не воняли, а казаков повезли в Корочу. Там и похоронили по-христиански. А Левонтьев, склонив голову у могил свежих, перекрестился размашисто и молвил скорбно:
— Порубежники российские, молодцы удалые, верные холопы царевы, пусть земля пухом вам станет. За недогляд иль предательство воеводино сложили вы буйные головы…
Будто ветерком холодным и шумливым протянуло по рядам стрельцов, а казак-гонец, что пеший в Корочу прибег, гневно подступил к Роману — и за грудки его.
— Не хули, боярин, воеводу нашего! Не неволь грех на душу брать! Не отпишешь царю, сам к нему подамся. Но прежде!..
— Ладно, уймись, — согласился вдруг Левонтьев. — Тебе и поручу челобитную доставить государю.
Роман Левонтьев сдержал слово. Продиктовал писарю челобитную, чтобы знали корочанские ратные люди все, что в ней сказано. И воеводу, и всех погибших казаков да стрельцов богатырями назвал, не пожалел слов добрых и челом бил государю: оделил бы он вдов и сирот хоть малой землей. Довольны остались той челобитной корочанские порубежники, а казак-гонец, гордый содеянным, лихо вскочил на коня и сразу пустил его в намет.
Однако зря спешил. Не судьба, видать, царю в ноги поклониться. Приключилось что-то в дороге дальней да нелегкой. Сгинул казак — буйна головушка. Будто сквозь землю провалился. Ни сам не вернулся, ни от царя вестей нет никаких.
Послал Роман Левонтьев второго гонца с грамотой, самолично написанной. Сказал гонцу, что, мол, все в ней так, как и в первой. Только кто прочитать ее мог? Писаря на тот случай в Корочи не оказалось. В Белгород по нужде дел ратных был направлен тот Левонтьевым. Покрутил гонец пакет, перстнем опечатанный и, перекрестясь, вспрыгнул на коня. Левонтьев тоже осенил себя крестным знамением и, склонив голову долу, молвил покорно:
— Дай ему путь, господи!
Видно, услыхал всевышний молитву эту, оберег гонца от лиха. Только не все то, о чем думку думал Левонтьев, сбылось. Не его воеводою вместо Глеба Богусловского государь поставил, а прислал Якушко Ткача.
Чудной какой-то, что мышь вострозубая и востроносая. А говорит гладко, как по писаному. Не из боярского, видать, терема. Так и просится на язык слово — не русских кровей. Только как же, если — Ткач?
Не снял с седла ни метлы, ни собачьей морды воевода: пусть не забывают корочанцы, что из опричников он.
Для него смысл порубежного бережения вовсе не имел святости. Засечную стражу не обременял он слишком своими распоряжениями, стрельцы и казаки поступали на каждой стороже всяк по-своему.
Если ускользнет сакма, посокрушается Ткач часок-другой и повелит подать кубок пенный. А после первого — пошло-поехало. Без удержу, без меры. А коль сакма посечена бывала, Якушко Ткач самолично все добро отбитое осмотрит, оружие, которое познатнее, в сторонку повелит отложить; на седла и уздечки, богатые узорами серебряными и золотыми, тоже глаз положит. Иной раз даже скажет стрельцам:
— Для стольного града. Одаривать.
Чудно стрельцам. Ну для казны государевой — тут что скажешь, тут сам бог велел. А чтобы подарки богатые делать тому, кто с сакмой не бился, кто отродясь в глаза ее не видел, — такое стрельцов вводило в оторопь. Впервой с таким встречались. Прежде все по-божески делили: царю — царево, воеводе — воеводино, стрельцу — стрельцово. И все мирно да тихо. Теперь же все не по-людски. Слов не находили стрельцы, чтобы новым возмутиться. А может, побаивались нового воеводу-опричника. Мало ли греховых дел за опричниной. И этот может вполне вот так, за здорово живешь, извести и ответа ни перед кем держать не будет. А Ткач, похоже, понимал, что не станут противиться стрельцы и казаки, подгребал все хорошее под себя, как курица. Если, особенно, попадалось золото какое, не выпускал из своих рук.
Один Роман Левонтьев попытался поначалу выговорить воеводе за нечестный дележ добычи, но Ткач отослал его на самую дальнюю сторожу на долгий срок. Не перечь, не табунься со стрельцами и казаками. Эта мера еще больше внушила робость порубежникам. Но больше всех подействовала на ратный люд расправа Ткача с писарем корочанским. Пустил по миру, выгнав из крепости. Да еще велел бога благодарить, что на дыбу не попал. Не подбивай ратный люд на бунт.
А писарь такой думки и вовсе не держал. По наущению Романа Левонтьева делал он списки с челобитных, которые посылал Ткач государю. Всякое в них было, но все больше писано о том, сколько лошадей поранило и побило в стычках с крымскими и ногайскими сакмами, сколько государевых карабинов изронено либо попорчено, а под конец — просьба: повели, государь, из казны твоей убытки возместить. Копил такие списки писарь, но помалкивал, ждал, когда воевода белгородский пожалует, чтобы ему передать либо Левонтьеву, когда Ткач тому позволит вернуться в Корочу, но однажды не хватило сил смолчать. Уж слишком наглую челобитную царю продиктовал Ткач.
Было так: встретили порубежники сакму, числом невеликую; у села Городенки завязался бой, а тут подмога подоспела, ударила со спины ногайцев, те ноги в руки и — восвояси несолоно хлебавши. Стычка-то всего ничего, степняков пятерых постреляли, а порубежники все живы. О ней бы и вовсе умолчать, а Ткач диктует: «Бился я, холоп твой, с крымскими и ногайскими людьми в Рыльском уезде, в селе Городенки, да в Курском уезде, в деревне Реут, и на тех боях много татар побили, а иных переранили и «языки» поимели… И многие наши братья с лошадьми посбиты, и те лошади пропали, а у иных лошади побиты. На тех боях Омельян Смольников изронил государев карабин, Мишка Сапожник изронил десятикошный котел медный, Власко Кириллов изронил государеву казенную пищаль, а у Ромашки Левонтьева убит конь…»
Скрепя сердце чернилил пером писарь, хорошо зная, что котел медный никто не увозил из Корочи, да и бессмысленно брать его в бой (что с ним делать?); а Левонтьев Роман, Мишка Сапожник и другие порубежники, поименованные в челобитной, вовсе в той стычке с ногайцами не участвовали, но перечить воеводе не стал. Вечером же рассказал дружкам из стрельцов, что, дескать, ногайцы котел Мишки Сапожника медный к себе в степь увезли; Мишку, вполне понятно, сразу подняли на смех, а он к воеводе — челом бить. А кончилось все тем, что изгнал воевода писаря и не велел больше близко даже к Короче приближаться.
После того случая стрельцы, что ни решал воевода, помалкивали. Даже казаки, народ повольней да похрабрей, и те словно шорами глаза прикрыли. А перед собой оправдывались привычно: не трогай дерьма — оно не завоняет.
Верно все, вонять не будет, но ведь, если не вынести его, оно так и останется. Смелого, однако, в Короче не нашлось, чтобы взяться за грабарку.
Процветал Ткач. Кому бои, кому кровь и слезы, а у него новая забота: хоромы строить. Добрый и без того дом Глеба Богусловского Ткач разобрал на дрова, а на его месте затеял новый, на московский манер: с парадной залой, с десятком вовсе не нужных комнат. Временщик, казалось бы, а делал все добротно. Бревна лиственные, и мох для прокладки меж бревен выдерживал немалое время в конской моче, чтобы гниль не заводилась. Сотни лет такому дому стоять. Не думал, стало быть, упускать из рук землю корочанскую Ткач, хотя и целил вернуться в Москву поскорее.
И вот, когда уж отстроился Ткач да прикупил к бывшей земле Богусловского еще с сотню десятин, случилось вовсе неожиданное — прибег из полону воевода бывший, Глеб Богусловский. Его уж поминали в церкви среди убиенных, а он — ишь ты, вернулся! Из турской земли, из самого Царьграда. Не умолчишь об этом, в сторожу не загонишь на веки вечные: Богусловский не Левонтьев. Но и хоромы с землей возвращать Ткач вовсе не намеревался. Сел за челобитную царю. Не поскупился на похвалу Глебу. Бился-де он, что твой тигр, посек изрядное число ногайцев, но те все же заарканили его. И о том Ткач написал, как привели-де Глеба в Бахчисарай и там пытали, будут ли де государевы люди идти под Азов, он же им ничего не сказал. А бежал-де, он из Царьграда от Гныбея, у которого в рабах находился четыре года. Подробно все мытарства Глеба описал Ткач: как бичом стегали, как на галерах цепями к веслам приковывали, а когда все про него написал, челом царю ударил, чтобы пожаловал тот Глебу Богусловскому новый надел, а прежний оставил бы ему, Ткачу, ибо новые хоромы построены, мельница и маслобойка сделаны. Левонтьева же Романа, просил Ткач, за ложный донос, что-де убит был в бою Богусловский, наказать примерно.
Богусловский, положившись на волю божью, ждал приговора государева, Левонтьев же и Ткач не дремали. Роман гонца с письмом направил спешно брату, что при белгородском воеводе состоял и был у него в чести, а Якушко чуть не каждый день слал гонцов в стольный град.
Соломоново решение принял царь: Ткача оставить в Короче, Богусловского посадить воеводою в соседнюю крепость, а Левонтьева не лишать живота, ибо не имел он злого умысла, писавши челобитную. Вздохнули все облегченно, собрались в парадной гостиной Ткача (воевода белгородский по тому случаю соизволил пожаловать) за уставленным яствами столом и сомкнули кубки пенные, аки друзья неразлучные и верные…
Малое время спустя Роман Левонтьев тоже на воеводство сел. Тут вроде бы и вовсе дружба установилась. Как-никак все они порубежники, верные царевы холопы, защитники святой земли русской, отеческой.
Так и стали порубежниками три этих клана, то сохраняя мир и покой, когда мирно и покойно жилось России, то чураясь друг друга, когда наступало смутное время. И только при Петре Великом, когда хлынули на Русь голландцы да немцы, Ткачи вновь, с помощью друзей и родственников, попали в милость, получили землю в Прибалтике, стали зваться Буберами и ударились в юридические науки. Правда, далеко от пограничной стражи Ткачи-Буберы не оторвались, служили в ней по юридической части на постах заметных…
Когда началась первая мировая война, Буберы вновь стали Ткачами и обижались весьма, когда кто-либо вспоминал их старую фамилию. Из-за этого они разругались с Левонтьевыми в пух и прах, перестали даже бывать друг у друга. Только Владимир Иосифович, преодолев фамильную обиду, продолжал частенько наведываться к Левонтьевым. Причина тому — Анна Павлантьевна. На ней Владимир Ткач собирался жениться и, даже поняв, что Петр Богусловский и Анна Павлантьевна увлечены друг другом, не отступался. Жизнь, вполне справедливо считал он, преподносит много неожиданного, идти к своей цели поэтому следует до самого конца. Даже тогда, когда, кажется, делать это бессмысленно.
Что касается Богусловских и Левонтьевых, то они от пограничной стражи так и не отошли. Охрану рубежей Российской империи они считали своим долгом. Отцов сменяли дети, продолжая их дело. Что бы ни происходило вокруг. В этом они были, как говорится, полные единомышленники. До самой Февральской революции. Встретили они ее по-разному. Генерал Богусловский глубокомысленно изрек:
— От жира бесятся. Хватят лиха — одумаются. — И добавил уже строго: — А империю оберечь, чтобы не растащили, — наш долг. Перед потомками мы в ответе за землю российскую, горемычную.
И детей своих строго, как никогда прежде, предупредил, что проклянет их, если они свое дело без рвения станут исполнять.
— Власть властью, тут — как богу угодно, а у порубежников одна власть, один долг: землю свою оберегать.
Левонтьевы иначе мыслили. Генерал Левонтьев гневался на весь белый свет, восклицал, что все летит в тартарары и не останется на Руси ничего святого. Он даже не признавал модного тогда Учредительного собрания, ему виделся лишь один выход из хаоса: вернуть на трон императора.
— Россия без самодержца — какая это Россия! — горестно восклицал он. — Все равно они будут! Только временщики-самодержцы! Во сто крат хуже царей. Поверьте мне, — пророчески вещал он. — Поверьте старику!
Верили ему дети или нет, сказать трудно, но Дмитрий Левонтьев, старший сын, служивший при штабе пограничного корпуса, был в самых тесных связях с теми, кто готовил побег царской семьи. Он даже имел задание — подготовить безопасный переезд через границу.
Младший сын, Андрей Левонтьев, служивший на Алае, тоже готов был бросить все и приехать в Петроград на помощь Дмитрию. В последнем письме он прямо спросил: когда его приезд станет нужным? Вот этот-то вопрос и вызвал особенно шумливый спор между Левонтьевыми и Богусловскими и до ужина, и во время ужина. Утих он на немного в гостиной, но вдруг вновь возник, только уже не носил конкретный характер — речь уже шла вообще об отношении к революции.
Владимир Ткач почти не принимал участия в споре, а если и говорил, то так ловко, что никто не мог определить, какова же его позиция. Ткач делал это просто мастерски. Как, собственно, все в своей жизни. Владимир Ткач оказался прекрасным продолжателем семейной традиции: поступать так, чтобы никто не мог понять — ни в малом, ни в большом — ни его планов, ни его мыслей, но вместе с тем не считаться человеком скрытным. Все должно делаться неожиданно для окружающих, для коллег и даже для очень близких знакомых.
И сейчас Владимир Ткач удивил всех. Только что он перечил Михаилу Богусловскому, а едва Михаил и Петр вышли из гостиной, Ткач, словно раздумывая вслух, проговорил:
— Пожалуй, догоню я Михаила, — и добавил многозначительно: — Похоже, нам по пути.
Коснувшись осторожно пальцами своих черных кавказских усов, словно проверяя, не колкие ли они, Владимир Ткач поцеловал нежно руку Анны Павлантьевны и энергично и горделиво зашагал к выходу. Это было так неестественно и комично для его коротконогой фигуры, что все, кто остался в гостиной, невольно улыбнулись, понимая, что поступают бестактно. Но что поделаешь? Все привыкли к тому, что Ткач всегда в полупоклоне и всем своим видом показывает внимательность к собеседнику, готовность сию же секунду кинуться исполнять любую просьбу. А если Владимир Ткач собирался возразить, непременно притрагивался пальцами к усам. Все привыкли к его позе, которую кто-то из молодых офицеров окрестил «слушаюсь», — и вдруг такая необычная горделивость.
— Ишь прорвалось! Видать, заматереет со временем, станет, как и отец, — не подступишься, — буркнул генерал Левонтьев, когда дверь гостиной закрылась за Ткачом. — Яблоко от яблони далеко не катится. Пока молод, играет в услужливость…
— Что верно, то верно, — согласился Богусловский.
Оба генерала вновь уткнули носы в газеты. Богусловский читал молча, а Левонтьев бросал то одобрительные реплики, то возмущался, то осуждал, мешая и Богусловскому, и своей дочери, которая все еще намеревалась открыть крышку рояля, чтобы сыграть, теперь уже только для брата и для себя, но всякий раз, как только рука ее прикасалась к холодному черному лаку, громкое восклицание отца словно хлестало ее по нежным пальцам, и Анна Павлантьевна отдергивала от рояля руку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Ткач догнал братьев уже на улице. Шли они медленно и так же неспешно перебрасывались пустячными фразами. Они удивленно и неприязненно глянули на Ткача, а тот, словно не заметив недружелюбных взглядов, потрогал пальцами усы и бодро сообщил:
— Дай, думаю, нагоню. Все одно нам по пути…
Братья Богусловские промолчали. Пошли поживее, а вскоре Петр предложил:
— Давай, Михаил, попрощаемся?
— Проводи, как договорились, до штаба, — ответил Михаил. — Зачем поспешно менять решение.
По-деловому выстукивая каблуками по каменному тротуару, сосредоточенно пошагали они к штабу, но чем ближе подходили к Неве, тем чаще попадались им костры, которые горели прямо на мостовых и вокруг которых толпились солдаты, матросы, рабочие, конторские служащие и даже женщины с детьми. Иногда от такого костра отделялась группа во главе с матросом в черном бушлате, непременно с расстегнутыми верхними пуговицами; Богусловских и Ткача останавливали, с нескрываемой подозрительностью поглядывали на зеленые фуражки братьев, на их офицерские погоны; с не меньшим подозрением, но более бесцеремонно рассматривали и Ткача — знакомство это проходило неторопливо, словно матрос и солдаты взвешивали свое решение, наслаждаясь вместе с тем возможностью покуражиться над офицерами и штатским господчиком, а то и вовсе арестовать их и сопроводить куда следует, наслаждаясь полной свободой своих поступков и полной безнаказанностью за все, что бы они ни предприняли. Наконец матрос с ухмылкой требовал: «Документики, вашесблагородь. Документики сюда» — и протягивал ладонь, словно просил милостыню, не замечая этого. Тогда Михаил доставал мандат председателя солдатского комитета команды нижних чинов штаба Отдельного корпуса пограничной стражи и аккуратно клал его на ладонь матроса, а тот, бросив солдатам: «Гляди мне в оба, не убегли бы!», шел в развалку — знай наших! — к костру, долго рассматривал документ, затем возвращался и уже с уважением провозглашал:
— Пусть идут. Свой брат…
Иногда слышали Богусловские и Ткач брошенные им во след реплики: «К стенке б таких братьев», иногда восторженное: «Пограничники, оттого ить с мужиками заодно…»
Через несколько кварталов все повторялось с завидным однообразием; и Петр в конце концов не выдержал:
— Взял бы, Миша, сопровождающего, что ли?
— Милый Петя, ты никак не усвоишь: равенство и братство…
— Что, стоять у костров и хватать за полы каждого, кто идет мимо?! Куда как ни братство! — с усмешкой ответил Петр и добавил, уже серьезно, даже грустно: — Отца и тебя послушаешь, вроде все на своем месте: стереги границу России — и все тут. А глянешь на эти вот костры — сомнение берет. Хлеб бы молотить мужикам на гумнах, а они руки от безделья греют…
Михаил Богусловский резко остановился и, отрубая слова, сказал гневно:
— Иди, Петр, домой! Фуражку зеленую и мундир порубежника брось в камин. Только тогда, не пятная чести, ты можешь думать так. Ты же присягал Отечеству. Долг твой, — значит, верой и правдой служить ему. Повторяю: Отечеству! Впрочем, — примирительно, будто понимая, что ничего уже не сможет изменить, закончил: — Говорено уже много. Думай сам, если голова у тебя не только для того, чтобы носить фуражку. Иди домой, будь здоров!
— Ты говоришь так, словно мы кшатрии и только примерное исполнение канонов брахмани́зма позволит нам в потустороннем мире без угрызения совести сменить мундир на сюртук. Не кажется ли тебе все это каким-то бредом?
— Приглядись к жизни, дорогой Петя, хоть чуточку повнимательней, и ты поймешь: кланы и касты — суть каждого общества. Царский сын не станет подрядчиком. Во все времена и у всех народов были и есть касты и кланы, только афиш по этому поводу стараются не вывешивать. Один лишь Брахма сказал об этом громко и открыто. Сказал — и из прислужника богам стал сам великим богом.
— Извини, Михаил. Я просто так…
— Просто так ничего не бывает, — все еще серчая, ответил Михаил. — Совершенно ничего…
— Верно! Весьма верно! — вмешался в разговор Ткач, который хотя и шел вместе с Богусловскими, но те, казалось, вовсе не замечали его, а теперь даже удивились столь неожиданному восклицанию. — Почему я с вами? Отвечу. Я юрист, и я говорю: власть не у тех, кто сидит в Зимнем. Власть у тех, кто держит в руке ружье. У большевиков власть. Вот почему наше место среди солдат…
— Весьма лихо, Владимир Иосифович, — усмехнулся поручик Богусловский. — Весьма. Учись, Петр, прозревать. До февраля главным его требованием было: в кандалы. В феврале Владимир Ткач из кожи вон лез, требуя закрыть ворота штаба корпуса наглухо и отгородить от мира нижние чины. Тогда же Владимир Ткач предложил не водить их в манежи на конные занятия, а учить тактике уличного боя…
— И это им, позволю заметить, весьма сгодилось, — многозначительно проговорил, прерывая Богусловского, Ткач. — Ловко они полицейскую засаду обезоружили.
— Похоже, ты утверждаешь, что пекся о революции? Задним числом — можно, — с издевкой сказал Михаил Богусловский, — но мне думается, что следует повременить. Пусть время сделает свое дело, пусть позабудется все. А пока, пока вот в чем правда: по какую сторону баррикад оказались бы пограничники, трудно сказать. Вполне возможно ротмистр Чагодаев, выполняя волю Ткача и иже с ним, вдолбил бы нижним чинам, кто есть их «истинный» враг, но, к счастью, подоспела помощь. Школа моторных специалистов силой распахнула ворота, солдаты захватили оружие и, захватив штаб, вывесили приказ: «Все старшие чины штаба до особого распоряжения освобождаются от своих обязанностей и пусть сидят дома». Так вот, Петя, наш Ткач возмущался по поводу этого приказа громче всех и настойчивее всех требовал радикальных мер… И понимаешь, Петя, этот рьяный монархист говорит сегодня, что ему по пути с солдатней. Это, Петр, говорит о многом. Подумай и взвесь.
Михаил Богусловский разговаривал с братом так, словно Ткача вовсе не было рядом с ними. Делал он это вполне расчетливо, предполагая, что Ткач, оскорбившись, раскланяется и оставит их, но Владимир Иосифович продолжал идти рядом и будто не слышал слов Михаила Богусловского. Лишь один раз вмешался в разговор братьев и только для того, чтобы приниженно и покаянно признаться:
— Да, все так и было, — потом, вроде сбросил со спины пятерик с мукой, бодро заверил: — И все же я еще раз повторяю: нам по пути.
— Дороги наши проложит жизнь, — ответил Михаил и вновь заговорил с братом, внушая ему, для чего им, пограничникам, не следует составлять винтовки в козлы.
— Я помню, Михаил: «Не мир пришел я принести, но меч». Да, люди никогда не проживут без войн. Но разве тысячи обывателей, даже не державших в руках пистолета или винтовки, прокляты богом?
— Нет, Петр, не бог, а люди, народ Российской империи проклянет нас, если мы сегодня изменим своему долгу! Пойми это, Петр. Ты должен это понять, просто обязан, если не хочешь потерять любовь отца, уважение Иннокентия, мое уважение. Не позорь чести нашей фамилии, нашего клана!
— Не отбирай у меня права мыслить самостоятельно! — возразил запальчиво Петр Богусловский брату. — Мыслить и сомневаться. Не лишай права быть человеком!
— Напрасно, Петр, ты обижаешься на своего брата, — вмешался Ткач, трогая кончиками пальцев усы. — Он говорит все верно.
Реплика Ткача удивила братьев и своей неожиданностью, ибо Богусловские о нем вовсе забыли, хотя он не отставал ни на шаг, и своей определенностью, но она показалась им совершенно неуместной; Михаил и Петр почувствовали себя неловко и виновато друг перед другом за размолвку при постороннем человеке и прекратили спор.
Вышли к Неве. Дворцовая площадь тиха и темна. Зимний с трудом угадывался на окутанной теменью набережной, и лишь несколько окон светилось тусклыми квадратами, будто специально, чтобы подчеркнуть мрачность безмолвного царства. А по левому берегу Невы, насколько было видно, лизали темноту, прорываясь сквозь плотные людские кольца, костры. Но тишина царила и здесь. Безраздельно царила. Казалось, что затаилось тысячезевное чудище, готовится прыгнуть на добычу, но никак не решается, сдерживает страх перед смертельной опасностью, однако голодная жадность и предвкушение обильной добычи глушат этот страх, распаляют злобную решимость — дышит чудище огненно, страшно, но на излете выдохов дрожат трусливо языки пламенные…
— Поистине исполняется Христово пророчество: «Огонь пришел низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Вот он — возгорается! — взволнованно воскликнул Петр Богусловский и, вздохнув, ухмыльнулся: — Красиво. Волнует. А как звучит сладко: перевернуть мир! Только зачем? Зачем море крови? По мне, так долг каждого — совершенствовать мир. Для этого не стоит хвататься за винтовки, для этого достаточно каждому прожить честную жизнь. Каждому! И кто у власти, и кто добывает в поте лица благо народу своему…
— Каша добрая в голове твоей, Петр. Как ты не поймешь — за землю борьба! — возразил Михаил. — За землю! А вот насчет честности — тут ты вполне прав. Что бы ни происходило вокруг, поступай по чести и совести своей.
Братья помолчали. Затем Петр вновь со вздохом, с явным сожалением сказал:
— Словно осадой обложили Зимний. Невероятно! Зимний в осаде! Невероятно и нелепо!
Нет, он так и не мог понять, что происходило вокруг. Он был еще слишком молод. Михаил вполне чувствовал состояние брата, поэтому не стал ему больше возражать, а даже поддержал его:
— Да, грядет неведомое, — потом добавил повелительно: — Возвращайся, Петя! Тебе завтра рано — в Выборг. Побудь с Анной Павлантьевной. Заждалась, должно, она.
Братья обнялись, и Петр Богусловский, пообещав взволнованно: «Все, Миша, будет как надо!» — звонко зашагал по тротуару к дому Левонтьевых. Михаил проводил Петра взглядом, пока тот не скрылся за поворотом, затем обернулся к Ткачу, который стоял неприкаянно в сторонке, обиженный тем, что Петр Богусловский не то чтобы проститься, даже не взглянул в его сторону. Михаил спросил:
— Ты куда? Я — к нижним чинам.
— Нам по пути.
— Что ж, тогда пошли. Только имей в виду, без пулеметных очередей, похоже, не обойдется.
У штаба, почти рядом с парадным входом, догорал костер. Поодаль от него стояли грузовики, возле которых толпились пограничники. Судя по тому, что винтовки они не составляли в козлы, а держали в руках, — ждали какой-то скорой команды. Богусловский и Ткач направились к грузовикам и едва только приблизились, как кто-то из пограничников крикнул громко и, как показалось Михаилу, торжественно, словно церемониймейстер на избранном приеме: «Поручик Богусловский прибыл!»
Тут же, будто он с нетерпением ждал этого сообщения, оказался перед поручиком Богусловским старший унтер-офицер Ромуальд Муклин, рослый, уверенный в себе, энергичный, нагловатый.
— Добро, что пришел. Тут сомнение у некоторых возникло, придешь ли, когда жарко станет…
Прежде Муклин служил в школе моторных специалистов, командовал группой пограничников, там учившихся, потому довольно часто бывал в штабе Отдельного корпуса и в казарме нижних чинов штаба. И всякий раз после ухода Муклина ротмистр Чагодаев, командовавший нижними чинами штаба, находил у подчиненных крамольные листовки. И хотя ему ни разу не удавалось допытаться, откуда появлялись листовки, Чагодаев требовал арестовать старшего унтер-офицера Муклина. Поддерживал Чагодаева и Ткач. Он даже сказал однажды Муклину: «Не избежать тебе кандалов».
После Февральской революции именно старший унтер-офицер Муклин привел к штабу школу моторных специалистов, чтобы вызволить оказавшихся запертыми в казармах нижних чинов. Муклин же и предложил поручику Богусловскому стать председателем солдатского комитета. Сказал без обиняков:
— Я — большевик. Давно состою в партии. Я говорю: революция не окончена, она только начинается. Как честному русскому офицеру предлагаю: пойдемте с нами в одном строю.
— Я — пограничник, — ответил Михаил Богусловский тогда. — И свой долг намерен выполнять честно.
— Вот и прекрасно! — воскликнул радостно Муклин и, переходя на «ты», заверил: — Считай меня своим верным другом.
Дружбы у них не сложилось, но каждый из них делал свое дело исправно: Богусловский решал, говоря армейским языком, служебно-хозяйственные вопросы, Муклин — все остальные. На улицы Петрограда пограничники выходили только по его совету, которые он давал, ссылаясь на директивы большевистского ЦК.
— Языки я тут иным поукоротил, чтобы не балаболили зря, и, видишь, не ошибся. Не мог я в тебе ошибиться, — пожимая руку Богусловскому, говорил Муклин. — Только вот что: погоны пора снимать. Велено нам Большой проспект под свой глаз взять. И двойку мостов еще. Так что — началось. Революция грядет. Наша, рабоче-крестьянская! — И крикнул в сторону костра: — Оружие командиру!
— Распорядитесь и мне выдать винтовку, — попросил Муклина Ткач, щупая пальцами усы.
— Я бы, господин Ткач, на вашем месте убрался бы подобру-поздорову, пока не поздно.
— Я твердо решил идти с вами. Мои заблуждения канули в лету, конец им пришел, — возразил Ткач, продолжая робко трогать пальцами усы и услужливо кланяться. — Очень прошу вас, давайте забудем горькое прошлое. Поверьте, я искренне…
— Возьмем его, не помешает, — поддержал просьбу Ткача Михаил. — Во всяком случае, вреда не сделает. На глазах же.
— Не пришлось бы раскаиваться, Михаил Семеонович. Не пригреем ли на свою беду…
Ткач молча слушал враждебные слова Муклина, продолжая стоять в услужливом полупоклоне. Он терпеливо ждал, пока Богусловский и Муклин решали его судьбу. Пересилил Богусловский, убедил Муклина не отталкивать человека, возможно искренне определившего свое место в революции.
— Хорошо, — недобро согласился Муклин и сердито крикнул в сторону костра: — Винтовку и патроны юристу Ткачу!
Через несколько минут они уже втиснулись в набитый пограничниками кузов автомашины, мотор закашлял надрывно, но все же осилил непомерный груз и потянул его в темноту.
Остаток ночи и большую часть следующего дня мотались машины с пограничниками по улицам; то спешили на выстрелы, то вновь бесцельно колесили от моста к мосту, от перекрестка к перекрестку. Пограничникам попадались такие же переполненные солдатами грузовики, которые тоже, казалось, мотались без толку, и все же Богусловский чувствовал, что вся эта, на первый взгляд бестолковая, суета имеет определенную цель, что бесшабашная и возбужденная народная стихия — только внешняя видимость. Твердая рука ведет солдатские и рабочие толпы, и скорее, не силой приказа, а верным психологическим расчетом.
К вечеру пограничники узнали, что почти весь Петроград в руках восставших, предстоит только штурмом взять Зимний. Позиции им велено было занять в Александровском саду.
Ткач все время словно был привязан к Богусловскому, вслед за ним взобрался в кузов передовой машины, хотя в других солдаты стояли не так спрессованно. И всякий раз, когда приходилось им вступать в перестрелку — то с казаками, то с полицейскими, то с отрядом кадетов, — Ткач старательно делал все, что и Богусловский: падал на мостовую, перебегал к домам и, прижимаясь к холодному камню стен, семенил за Богусловским, стараясь не отставать от него ни на шаг. Ткач так старался казаться смелым, что забывал даже стрелять. Магазин его винтовки так и остался полным. Когда же в Александровском саду кто-то из пограничников спросил участливо Ткача: «Ну как? Надежное место за командирской спиной?» — и все, кто стоял рядом, рассмеялись, Ткач опешил и не сразу сообразил, как вести себя: обидеться ли на наглеца, либо вместе со всеми рассмеяться, приняв грубость за шутку. Так и поступил. Но это еще больше развеселило пограничников. Посыпались советы, за какой, более широкой спиной пристроиться, когда начнется наступление на Зимний, а трехлинейку, чтобы не мешала, отдать кому-нибудь на время, но Муклин одернул острословов:
— Человек, почитай, впервые в руки винтовку взял. Пособить бы нужно, а вы зубы скалить… — Потом посоветовал Ткачу: — Труса в себе задушить нужно, если и впрямь с революцией решил…
Ткач согласно закивал и воскликнул искренне:
— Это верно! Ой как верно: задушить труса в себе! Это очень верно!
Однако, когда отряд пограничников в тугой массе штурмующих рванулся на Зимний, Ткач не изменил своей тактике — бежал за спиной Богусловского его тенью. И только когда ворвались в Зимний, где-то отстал и затерялся в толкучке. Но этого, похоже было, никто, кроме самого Богусловского, не заметил: бежал, кричал «ура» — и весь вышел. Но и Богусловскому было не до Ткача, ибо получил он приказ взять под охрану дворец со всеми его несчетными комнатами, со всеми входами и выходами. Отряд же пограничников — всего восемьдесят два человека. Тут даже Муклин, которого, казалось, никакое дело не пугало, не выводило из равновесия, почесал затылок. Но спросил бодро:
— Что будем делать, командир?
— Выполнять приказ, сколь труден и нелеп он ни был бы. Впрочем, выход есть.
Помолчал Богусловский, окончательно обдумывая решение, и сказал уже тоном приказа:
— Все подразделения вывести из Зимнего! Двери все запереть, оставить открытым только парадный подъезд. Парные патрули — наружные, парные патрули — внутри. Со сменой через шесть-семь часов. Караульное помещение — здесь, в Зимнем.
— Годится. Вполне годится, — одобрил Муклин и добавил: — Пойду согласую.
Богусловский, однако, не стал ожидать возвращения Муклина. Построив весь отряд, прошелся он медленно перед строем, вглядываясь в лица пограничников и решая, на кого из них можно более всего положиться. Остановил выбор на курьере Сухове, невысоком крепыше с доверчивым чистым взглядом, и на рядовом Иванове, статном молодце из семьи питерских рабочих.
— Ваш пост — парадный подъезд. Впускать только по моему и Муклина разрешению. Присматриваться ко всем, кто выходит. При малейшем подозрении — задерживать.
— Иль жулье мы какое! — недовольно забубнили в строю. — Царя не для того сметали, чтоб на обноски его зариться. Петуха пустить — и делу конец. Эвон, страматища какая! Всю страмоту на вид выставили. А ить образованными считались.
Богусловский обернулся и глянул еще раз на «Туалет Венеры», которая вызвала столь решительное осуждение нижних пограничных чинов, и безмерно тоскливо стало у него на душе. Эту прекрасную картину он прежде видел только в репродукции, а здесь она будто опалила его огнем. И когда Богусловский говорил с Муклиным, и когда думал об организации охраны дворца, и когда ждал, пока построится отряд, картина властно притягивала к себе его взгляд, но не было времени блаженно рассматривать бессмертное творение Буше, да и теперь, после столь откровенных солдатских реплик, он позволил себе только глянуть на картину — ему казалось, что солдаты осуждают его, Богусловского, ибо заметили его неравнодушие к «Туалету Венеры», но ему было стыдно и больно не за себя, а за грубость солдатскую, за их примитивизм, за непонимание прекрасного.
«И это солдатская интеллигенция, — подавленно думал Богусловский. — Штабные нижние чины. Каков же интеллект остальных солдат? Пожгут и порушат все!»
Он хотел и в то же время не решался сказать, сколь ценно для истории вообще, и особенно для истории России, все, что здесь собрано. Он хотел сказать, что богатство России, и не только духовное, но и материальное, — во дворцах и храмах, в помещичьих усадьбах и церквах. Туда стекались плоды труда народного, там оседали они, и порушить все, пожечь — значит безжалостно обворовать самих же себя, подрубить корень могучего дерева. Нет, дерево от этого не погибнет, но захиреет надолго, на многие десятилетия. Он никак не мог решиться, сказать это или не сказать, но реплика Муклина, который уже вернулся и слышал, как ворчали в строю, сразу поставила все на свои места:
— Что за базар?! Вы — революционные бойцы, а не торговки на толкучке! Поговорите мне еще… Велено взять дворец под охрану, значит — бди. Кто не согласный — марш отсюда. Иди в услужение помещику! Оголяй зад для арапника, гни на лихоимца спину! А он, душегубец, пусть чаи гоняет да страмотой этой любуется в безделье. Враг он — гидра. И шаляй-валяй его не осилишь! Хочу не хочу — быть не может. Ухватил винтовку — крепко ее держи. Все поняли?! То-то мне!
Много лет Богусловский с солдатами, он уже привык, что они молча, с безразличным видом, а то и с напускной придурью выслушивали ругань и офицеров, и унтер-офицеров, чем буквально бесили иных, не в меру вспыльчивых и обидчивых командиров, но особенно тех, кто с детства привык к подобострастию дворни. После февральского переворота солдат вроде бы подменили. Безразличие и тупое упрямство совершенно исчезли, им на смену пришли недоверие и эдакая ершистость. Все, что бы ни приказывал Богусловский — а его они избрали председателем комитета единогласно и так же единогласно решили, что лучшего командира им не сыскать, — все бралось под сомнение. Когда же Богусловский начинал требовать настоятельно выполнения приказа, который, по мнению солдат, не был необходимым, то он чувствовал, что солдаты едва сдерживаются, чтобы не нагрубить в ответ. Позы во всяком случае они принимали воинственные, как петухи перед дракой. Это казалось Богусловскому объяснимым, потому не обижало его вовсе. Он, однако, всегда удивлялся тому, что солдаты принимали как должное и любое приказание Муклина, даже вовсе не нужное, не обдуманное, и любую беспардонную грубость. Вот и сейчас на окрик Муклина отряд пограничников нисколько не обиделся, наоборот, солдаты оживились и, словно по команде, поплотнее пододвинули к ноге приклады винтовок, чтобы ловчее и увереннее стояли они. Загудели одобрительно:
— А мы что? Мы ничего. Раз велено, — значит, велено.
Оставив в своем распоряжении небольшой резерв, разослал Богусловский всех остальных на посты, а сам, решив проверку постов провести через полчаса, подошел, поборов неловкость от того, что его могут осудить нижние чины, поближе к картине, чтобы сполна оценить, сколь велик талант художника, так умело создавшего образ богини любви, образ женщины. Художник будто врасплох застал Венеру, словно подсмотрел тот миг, когда она еще расслаблена сном и оттого такая домашняя, умиротворенная, но в этой умиротворенности чувствуется уверенность в себе, понимание того, что все в жизни подчинено ей, она властна не только над всеми людьми, но и над всеми богами.
К Богусловскому подошел и встал рядом Муклин. Ухмыльнулся, покачав головой, и изрек с явным упреком:
— Стыда совсем нету. Нагишом вся. Страм один.
— Богиня Венера, — ответил Богусловский. — Ее оружие — любовь, но не меч. Однако власть ее над людьми не менее сильна, чем власть меча. Даже много сильней…
— Ты брось, Михаил Семеонович, эти штучки. Штык! Только штык, который взял в мозолистые руки трудовой класс, будет повелевать миру. Дрожать от страха будут вот эти голые крали. Снопы вязать да за коровой ходить — нагишом не находишься. Вмиг сарафан натянет.
— Вы считаете… — Богусловский не хотел называть Муклина по имени, а официальное обращение не подходило к такому вот разговору, — вы считаете, что крестьянка не способна любить искренне и пылко?
— Налюбишь, если в одной избе — семеро по лавкам да еще телок с ягнятами! — сердито отрубил Муклин. — В хоромах барских, думаю, смогла бы похлеще вот этой. — Муклин вновь усмехнулся: — Да если еще вдоволь на эту кралю нагляделась бы. Или вон на того, — Муклин кивнул на античную статую, — голого бугая…
— Возможно. Вполне возможно, — покорно согласился Богусловский.
Знал он крестьянскую жизнь, крестьянскую психологию книжно и потому не считал вправе спорить с Муклиным, который частенько с гордостью заявлял, особенно если была нужда оправдать очередную грубость или безалаберность, что родился на гумне, пеленали его на овине, а рос вместе с телком. Да Муклин и не примет, как считал Богусловский, возражений, взорвется и начнет наседать упрямо, волей-неволей отступишься. А время вовсе неподходящее для выяснения точек зрения на проблемы любви. Что станет с ними через час, через день, через месяц? Кто может ответить сегодня на этот вопрос? У революции свои законы, она меняет не только эпохи, не только судьбы целых наций, но и судьбы отдельных людей, она губит отживший строй ценой гибели многих и многих. У революции свои приговоры, и, как правило, кровавые.
По-иному был настроен Муклин. Его вовсе не устраивала неопределенность ответа Богусловского, он совершенно не пытался понять причину такого ответа, даже не думал о душевном состоянии собеседника, о возможных противоречиях в его мыслях. Муклину все представлялось совершенно ясным: Зимний пал, буржуазное правительство низложено, но гидра контрреволюции непременно станет сопротивляться, с ней придется воевать, и, скорее всего, основательно, потому у всех, кто начал борьбу с капиталистами и помещиками, просто обязана быть одинаковая оценка политического момента.
И только так! Муклин хотел верить без огляда тем, кто находился с ним в одном строю, а неопределенность в самой малости вызывала у него подозрение. Он напористо спросил:
— Возможно?! — И, сделав паузу, чтобы подчеркнуть важность тех слов, которые собирается сказать, продолжил так же напористо: — Ты эту, Михаил Семеонович, оппортунистическую уклончивость бросай! С народом пошел, значит, иди с ним, а не рядом. Тебе нужно понять… — Муклин поднял вверх указательный палец, готовясь сказать какую-то важную и совершенно непререкаемую истину, но в это время с лестницы донеслось грозное, приправленное смачным матерком:
— Я те поупираюсь! Я те поговорю! А ну шагай! — Богусловский и Муклин обернулись одновременно и увидели буквально поразившую их картину: двое пограничников вели Ткача, грубо ухватив его за руки, а третий подталкивал прикладом в спину. Любая попытка Ткача либо что-то сказать, либо остановиться пресекалась решительным толчком приклада, категорическим приказом: — Шагай, вашеблагородь!..
И — вольная, от души, ругань.
— Что произошло? — с недоумением спросил Богусловский Ткача и патрульных, когда они спустились с лестницы.
— Чистейшее недоразумение, — ответил с напускной небрежностью Ткач. — Я затрудняюсь даже объяснить…
Патрульных словно прорвало. Заговорили они враз все трое, перебивая друг друга и торопясь, как бы оберегая себя от возможного обвинения в самоуправстве. Из всего этого сбивчивого многословия Богусловский понял, что Ткач пытался вырезать из рамы какую-то картину, а в карманах уже были камеи. Богусловский глянул на них — старинные, не иначе как времен Александра Македонского. Спросил Ткача, сдерживая гнев:
— Что толкнуло вас на столь мерзкий поступок? — И сам же ответил: — Впрочем, ваш род всегда был алчным. Всегда!
— Избавься от шор, Михаил, оглянись, пойми, наконец, — горячо, убежденно, как никогда прежде, заговорил Ткач. — Вся эта красота, все это несметное богатство будет затоптано, заплевано, растащено… Все погибнет! Все! Дворцы и храмы, гордость и устои России, превратятся в руины, а на их развалинах вырастет жгучая крапива! Да-да! Крапива! И святой долг каждого просвещенного человека спасти хоть малую толику всего этого прекрасного, накопленного веками!..
Ткач говорил то, о чем только что думал сам Богусловский, только он искал выход, как сберечь все это для России, а Ткач предлагал разворовать все, попрятать все по домам, обогатив тем самым только себя. Богусловский перебил Ткача:
— Я никогда не предполагал, что вы так низко падете. Вы — омерзительны! — Затем приказал патрульным: — Отпустите его! Он недостоин того, чтобы марать о него руки.
— Ты брось, командир, офицерские штучки! — решительно возразил Муклин. — Эка, руки марать! Революцию в беленьких перчатках совершать прикажешь! В Неву этого мерзавца! Рыбам на корм.
— Отпустите! — твердо повторил Богусловский. — Подлость и алчность, увы, неподсудны. Отпустите.
— С огнем играешь, — сердито буркнул Муклин. Потом так же сердито приказал патрульным: — За дверь его и — под зад коленом. Пусть катится на все четыре стороны! — Затем вновь Богусловскому, уже назидательно: — Как бы не пришлось, Михаил Семеонович, локти кусать. Вспомнишь тогда меня. Ой, вспомнишь.
Не мог тогда предполагать Богусловский, что слова эти пророческие.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Долго и с явным недоверием рассматривали пограничники в проходной полка предписание Петра Богусловского, недоуменно поглядывая и на его представительную фигуру — что тебе генерал, — и на погоны прапорщика. А Богусловский тоже с удивлением смотрел на пограничников, вот уже вторично передававших друг другу его предписание. Все без погон, и только по обмундированию да по трехлинейкам, которыми был вооружен наряд, Петр Богусловский определил, что перед ним нижние чины, и потому с явным недовольством спросил:
— Что за спектакль?!
— Взыграла офицерская кровушка, — ухмыльнувшись, добродушно проговорил пограничник Кукоба, высокий, с толстощеким улыбчивым лицом и веселыми серыми глазами. — Бумага-то у тебя, вашеблагородь, того — липовая…
— Проводи меня к командиру полка! — нетерпеливо и гневно потребовал Богусловский. Лицо его побагровело от обидного унижения. — Я не прошу. Я приказываю!
— Нет уж, господин прапорщик, я тебя к председателю комитета проведу, он с тобой разберется, — все с тем же добродушием, нисколько, казалось, не осерчав на грубость Богусловского, ответил Кукоба и снял винтовку с плеча. — Пошли, вашеблагородь.
Понимая нелепость положения и свою полную беспомощность против такой вот наглости, гордо и непринужденно шагал Петр Богусловский в сопровождении конвойного по чистым, словно вылизанным, дорожкам городка, невольно примечая опрятность и порядок во всем и возмущаясь неуважительностью нижних чинов по отношению к нему, офицеру. Дело в том, что кто бы ни встречался им, каждый, вместо приветствия, непременно спрашивал Кукобу:
— Где это ты благородие ваше изловил?
— Временные прислали, — отвечал Кукоба.
— Тогда верно, тогда веди, — одобряли Кукобу, и это всякий раз хлестало по самолюбию прапорщика, словно его обвиняли в каком-то непристойном поступке, а гнев мешал ему осмыслить неторопливо и логично все то, что произошло с ним. Он, когда добирался из Петрограда в полк, рисовал в своем воображении встречу с командиром полка, с офицерами, с нижними чинами, с которыми давал себе слово быть добрым и по-отечески строгим, и вдруг такая нелепость: его ведут под конвоем. Ни за что ни про что.
Не знал еще прапорщик Богусловский о штурме Зимнего, о свержении Временного правительства.
Кукоба постучал почтительно в обитую коричневой кожей дверь; не ожидая ответа, открыл ее и, пропуская Богусловского, добродушно и весело, словно совершал что-то очень приятное человеку, пригласил:
— Входи, вашеблагородь. Покажь свои мандаты председателю.
Петр вошел в кабинет, очень просторный и очень безвкусно обставленный. На одной стене висела большая крупномасштабная карта Ботнического залива с нанесенными условными обозначениями постов полка и других военных городков и укрепленных районов, у противоположной стены стояли, словно выстроенные для парадного расчета, плотной ровной шеренгой мягкие стулья, а почти на середине комнаты будто врос в паркетный пол кряжистый стол красного дерева, за которым спиной к окну сидел председатель комитета полка Шинкарев, такой же кряжистый. И стол, и Шинкарев казались единым целым, вековым монументом, источавшим надежное спокойствие, уверенность и силу. И весьма нелепым представилось Петру Богусловскому то, что Шинкарев, кому бы важно изрекать истины бесспорные, вещать с высоты своего монументального величия, вместо этого сосредоточенно, очень осторожно, с заметной неумелой робостью накалывал на скоросшиватель какие-то листки и даже не поднял головы, вроде бы совсем не слышал ни стука в дверь, ни добродушно-веселого голоса Кукобы, так бесцеремонно приглашавшего Богусловского переступить порог столь значительного для него кабинета. Взяв очередную бумажку, основательно помятую, Шинкарев принялся разглаживать ее ладонью старательно и аккуратно.
Кукоба остановился в нерешительности рядом с порогом, потом, подтолкнув вперед Богусловского, робко переступил с ноги на ногу, кашлянул негромко, прикрыв рот рукой, подождал немного и кашлянул еще раз, на этот раз нетерпеливей и громче.
— Ну что тебе? — с явным недовольством спросил Шинкарев, продолжая разглаживать листок, прежде чем наколоть его на скоросшиватель, и, лишь поместив на предназначенное место бумажку, поднял голову и начал рассматривать Богусловского. Так же, как солдаты у костров на Невском, как пограничники в проходной полка: липко, недоверчиво и долго. Затем спросил Кукобу: — Кого привел?
— Я считаю вопрос этот в моем присутствии совершенно бестактным, более того, оскорбительным! — возмущенно заговорил Богусловский. — Как оскорбительно поведение состава наряда и его старшего! — Богусловский кивнул на Кукобу, все так же продолжавшего стоять с винтовкой наперевес. — Он осмелился конвоировать через весь город офицера, прибывшего для прохождения службы в полк! Прямой подрыв авторитета моего. Я просил бы принять надлежащие меры к составу наряда, если я прибыл в воинскую часть, а не в анархический бедлам! Я бы просил…
— Сбавь прыть, ваше благородие, — не повышая голоса, перебил Богусловского Шинкарев. — Мы не на плацу и не в царских казармах. Прошло то времечко, когда солдат сквозь строй прогоняли. Революционный боец — полноправный гражданин и требует к себе уважения как личность.
Шинкарев встал, неторопливо вышел навстречу Богусловскому и остановился в шаге от него. До удивления они оказались похожими друг на друга. Оба высокие, начинающие полнеть молодые мужчины, уверенные в себе. Лица открытые, привлекательные, а глаза умные, волевые. Даже залысины у обоих одинаковые, только волосы разные: у Богусловского черные, густые и волнистые; у Шинкарева же светлые, мягкие, что тебе шелкова трава-ковыль. Оба в форме прапорщиков, только у одного погоны и сукно подобротней да сшита умелым портным, у другого же мундир мешковат и непривычен, без погон.
— Богусловский, говоришь? — прочитав предписание, переспросил Шинкарев. — Не генерала ли Богусловского сынок?
— Да.
— Что ж, проходи, садись за мой стол и читай телеграммы. Потом потолкуем. — И Кукобе: — Свободен. Продолжай службу нести так же исправно.
Богусловский подошел к столу, но садиться не стал. Взял телеграмму, еще не подшитую, пробежал по тексту глазами и ничего не понял: «Общее собрание пограничного поста постановило Советы приветствовать, а если нужно для защиты власти трудового народа, готовы направить двух человек в Петроград». Взял следующую телеграмму, в ней почти те же слова: собрание революционных бойцов-пограничников, единодушная поддержка Советов, готовность защищать народную власть штыками. Взял еще одну — то же самое…
Богусловский какое-то время перелистывал телеграммы, взял теперь уже скоросшиватель, а сам мысленно, шаг за шагом, возвращался из этого нелепого кабинета к проходной полка, где его встретили оскорбительным недоверием, воспринимая с еще большей остротой беспардонность нижних чинов, и далее — на Невский, к обложенному кострами Зимнему.
«Значит, захвачен», — с сожалением констатировал Петр Богусловский. На Временное правительство ему лично не было причин обижаться. Звание ему присвоили в срок, дома привычный уклад жизни почти не изменился, только вечерами чаще возникали политические споры, но они даже вносили оживление в скучные званые посиделки, будоражили мысли, и этому Петр даже радовался. И всегда на этих вечерах рядом с ним находилась Анна Павлантьевна. Все уважали их любовь, все прощали ему, как самому молодому, если даже он говорил какую-либо политическую нелепицу. Да, он знал, что ему делать дальше. Его никто не оскорблял, не унижал. А вот теперь?..
— Как видишь, все наши погранпосты поддержали Советскую власть. Более того, мы имеем сведения, что первый, второй, пятый и тринадцатый Заамурские казачьи пограничные полки, гарнизон Кушки — все за Советскую власть. Военно-революционные комитеты полков взяли, как и у нас, охрану границы в свои руки. С нами остаются истинные сыны России. Спесивым интеллигенткам с нами не по пути. Мы отпускаем их с миром.
Какой пощечиной прозвучали для Богусловского последние фразы. Правда, все это он уже слышал (не с такой, конечно, категоричной обнаженностью) и от отца и, особенно, от Михаила, читал в письмах Иннокентия, но тогда от него не требовалось никакого решения, он мог сомневаться, мог возражать — его просто переубеждали, ему пытались доказать; все это, однако, мало его волновало, почти всегда вечерами рядом с ним была Анна Павлантьевна, его невеста, и она-то являлась главным объектом его внимания, и назидания старших просто скользили мимо него; сейчас же молодостью и влюбленностью не прикроешься, сейчас его спрашивали, в какой строй он намерен встать, сейчас его ответа ждали сразу же, без промедления, сейчас нужно было решать. А Петр Богусловский не знал, что ответить.
— Генералу Богусловскому я многим обязан. Может быть, даже жизнью. Человек он. Человек! А яблоко от яблони далеко не катится. Так что предлагаю: принимай, Петр Семеонович, роту. Патрулировать станцию будешь, проверять документы в поездах. По рукам?
— Что ж, пусть будет так, — нерешительно согласился Богусловский.
— Ну вот и прекрасно. Да, вот еще что… Боец, который тебя привел сюда ко мне, — заместитель председателя ревкома. Мой заместитель. Тебе он, стало быть, главный помощник. Правая твоя рука. Ты уж обиду не держи на него. Революционное время. Глаз да глаз нужен. Лучше уж перегнуть, чем прошляпить.
— Границе, как я представляю, всегда глаз необходим. А вот грубость и, простите, распоясанность полная, думаю, пограничника не красят. И даже, как вы сказали, революционного бойца. Я решительно встану против оскорбительной грубости. Решительно!
— Надеюсь, до зуботычин не дойдет? — с улыбкой спросил Шинкарев. — А линия, в общем, верная. Одобряю. И поддержу. По-большевистски решительно поддержу.
Замелькали однообразно напряженные дни: инструктаж нарядов, дежурство по полку, патрулирование на станции и в поездах, проверка службы нарядов — и каждый день все больше задержанных, которые тоже доставляли немало хлопот. На допросах они твердили подозрительно одно и то же: «Только коммерческие интересы подняли в дорогу». Когда же приглядишься к ним, то многие из арестованных походили больше на переодетых офицеров, чем на купцов, либо коммивояжеров.
В первое время все задержанные изворачивались, словно ужи, пытаясь выскользнуть из рук. И их поведение было вполне объяснимо. Политическая обстановка в Финляндии пока оставалась непонятной, и борьба за власть шла не в открытую, а тайно. Вот никто и не стремился афишировать истинные цели своих поездок в Германию, Польшу и другие страны.
События, однако, развивались бурно. В середине ноября Финляндию потрясла всеобщая забастовка. Увы, выстрел народного недовольства оказался холостым. Руководители финских социал-демократов не смогли или не захотели воспользоваться революционной ситуацией. Советская власть не была создана.
— Сползание в оппортунизм, — сделал этому событию категорическую оценку председатель ревкома пограничного полка Шинкарев. — Теперь порохом запахнет. Капиталист своего не упустит, уж я-то знаю.
Дальше все шло по обычной житейской схеме: где потерял один, там нашел другой. Парламент утвердил буржуазный сенат во главе со Свинхувудом, представителем правого крыла младофиннов. Шинкарев констатировал:
— Гидра контрреволюции поднимает голову. Польется кровушка, поверьте мне.
Поверить в это было трудно. В России Советская власть торжествует почти повсюду, а Финляндия, как ни крути, тоже Россия. Но граница — барометр. Она сразу показывает политический климат. «Коммерсантов» намного поубавилось, но те, кого патрульные задерживали, извивались теперь по-гадючьи, стремясь не выскользнуть, а укусить. Они полностью отрицали право русских пограничников вмешиваться в их дела, а иные требовали убираться подобру-поздорову. Все чаще стали поступать доклады с постов о вооруженных нападениях на них.
Шинкарев собрал ревком, пригласив на совещание работников штаба полка, командиров подразделений и начальников близлежащих пограничных постов. В кабинет принесли еще десяток разномастных стульев и поставили их у стены с картой. Члены революционного комитета и приглашенные начали входить в кабинет, рассаживаясь вдоль стен, как на деревенских смотринах, а Шинкарев, восседая за своим столом, даже не поднимал головы, озабоченно, какой уже раз, перечитывал короткое донесение с дальнего поста. Когда все расселись (Шинкарев уловил этот момент, хотя, казалось, вовсе не замечал, что происходит в его кабинете), он поднялся и заговорил хмуро:
— Вот еще одно донесение. Вооруженное столкновение. Среди пограничников есть убитые и раненые. — Сделал паузу, чтобы собравшиеся осмыслили сказанное, и продолжил: — Ревком хочет выслушать доклады по обстановке и мнения о необходимых контрмерах. После этого ревком примет окончательное решение, выполнение которого будет безоговорочным. Первым прошу доложить Трибчевского. Только смотри мне, чтобы все как на духу!
Кабинет притих напряженно. Все собравшиеся, особенно бывшие офицеры, с еще большей остротой почувствовали неуютность кабинета, нелепое сидение друг против друга, игру в великую озабоченность предревкома. Все ждали, что ответит начальник штаба полка. И спокойный голос Трибчевского зазвучал в этой тишине тоже нелепо. Слова, правда, соответствовали моменту.
— Мне бы хотелось знать, — не вставая и не убирая с коленей объемистую папку, спрашивал Трибчевский Шинкарева, — кто здесь собрался? Люди, имеющие одну святую цель, либо те, кому вы, товарищ Шинкарев, — на слове «товарищ» Трибчевский все же сделал ударение, — не вполне доверяете? Если меня либо кого из штабных, подчиненных мне работников ревком в чем-то подозревает, прошу предъявить конкретные факты, обоснованные обвинения. Упреков вообще я не приемлю.
— Не время препираться, — буркнул в ответ Шинкарев недовольно и приподнял донесение с поста, словно прикрыл им свою грубость. — На постах кровь льется, а ты — в амбицию.
Трибчевский помолчал немного, решая, как вести себя дальше, затем, вздохнув, поднялся.
— И хотя ничто не может оправдать вашей оскорбительной беспардонности, в принципе вы правы: кровь льется. Более того, думаю, это всего лишь зловещая увертюра. И вот почему… — Трибчевский подошел к столу и принялся развязывать тесемки своей пухлой папки.
Петр Богусловский с интересом наблюдал за Юрием Викторовичем Трибчевским. Прежде, до прибытия в полк, он не встречался с этим сравнительно еще молодым, но известным в пограничном корпусе офицером. О Трибчевском с уважением говорили и Богусловский-старший, и Михаил, и генерал Левонтьев, другие генералы и офицеры штаба погранкорпуса, когда бывали в гостях у Богусловских, как об офицере большого аналитического ума, смелых и верных суждений, как о человеке высокой чести, как о патриоте. Сейчас Петр Богусловский мог в какой-то мере оценить верность тех характеристик. Первое впечатление — хорошее.
Юрий Викторович раскрыл тем временем папку, но ни одного документа не вынул, а, положив на них руку, сказал:
— Вот здесь — правовые документы, регламентирующие режим границы. Ревком не просто может, он должен, он обязан доскональнейшим образом изучить их. Принимаю и на себя вину, что не потребовал этого прежде…
— Не казнись, — с ухмылкой прервал начальника штаба Шинкарев. — Учить старорежимные договора и приказы мы не будем, руководствоваться ими тем более не станем. Режима этого уже нет. Нет — и все. Новый мир мы начали строить. Наш, новый. И оглядываться на свергнутую власть царя и буржуазии нас, большевиков, никто не заставит. Ревком просит обстоятельный доклад о сегодняшней обстановке. И только!
— Увы, сделать это я бессилен. Историю перечеркнуть не в моих компетенциях.
— Уже перечеркнули! — с подчеркнутой раздраженностью возразил Шинкарев. — Одним махом перечеркнули!
— Иллюзия. История не начальник штаба полка, с которым можно не считаться. Жернова истории тяжелы, с ними шутки плохи, — все так же спокойно, совершенно не повышая голоса, парировал Трибчевский и замолчал, ожидая нового возражения предревкома. Но тот, хотя и насупился еще демонстративней, все же смолчал, тогда Юрий Викторович продолжал: — Сегодняшние события в Финляндии — эхо содеянного императором Александром Первым и его самым близким советником небезызвестным графом Михаилом Михайловичем Сперанским…
— Можно бы и без титулов обойтись.
— Можно, — согласился Трибчевский и продолжил: — Считаю своим долгом напомнить собравшимся о том законодательном акте.
Последняя фраза буквально покорила Петра Богусловского своей тактичностью. Он вполне одобрял и твердость Трибчевского, отстаивающего свои позиции, и его обезоруживающее спокойствие в споре с Шинкаревым, но теперь, когда он перешел к деловой части доклада, то вполне мог, как считал Богусловский, отомстить Шинкареву за грубость, сказав открыто, что вынужден сделать экскурс в историю отношений России с Финляндией потому, что члены ревкома, и даже председатель, не знают их, но Трибчевский не унизился до этого.
— Так вот, семнадцатого апреля 1808 года Александру угодно было возложить на Сперанского, при всех его многочисленных и многообразных занятиях, еще и звание канцлера Абовского университета. И Сперанский вскоре написал: «Финляндия есть государство, а не губерния». И вот, безусловно, отчасти под влиянием Сперанского одиннадцатого декабря тысяча восемьсот одиннадцатого года Александр преобразовал новоприобретенный край в великое княжество Финляндское. К нему Александр соизволил присоединить не только земли, отошедшие к России по Абовскому миру тысяча семьсот сорок третьего года, но и Выборгскую губернию, которая принадлежала империи со времен Петра.
— Вольно земли, кровью русской омытые, раздаривать?! Ишь манеры! По рукам бы его, дарителя несчастного! — искренне возмутился Шинкарев. — По рукам! Не кради народное!
— Событие это, как ни прискорбно, осталось совершенно незамеченным для российской прогрессивной общественности. Недаром же говорили: Россия — великая хоромина. В одном углу обсуждают, в другом не ведают. Но история сейчас напомнила о себе со всей очевидностью. По моему твердому убеждению Финляндия выйдет из состава России полностью, и в самое ближайшее время. Произойдет это, если внимательно вдуматься в данные по обстановке, не бескровно. Более того, не исключено участие Германии в предстоящих событиях. Я предлагаю: испросить позволение в СНК о выводе полка из Финляндии. Пока вопрос будет дебатироваться в инстанциях, сосредоточить наличный состав постов здесь, при штабе. Чтобы иметь силы, при необходимости, обороняться.
— Ты упустил одну деталь, — язвительно заметил Шинкарев. — Здесь тоже идут классовые бои, и мы, русские пролетарии, не имеем права оставлять в одиночестве братьев по классу. Мы не интеллигентики-предатели. История, как ты говорил только что, не простит нас. Я капитулянтства не допущу.
— Звучит весьма убедительно, но вряд ли разумно, — пожав плечами, ответил Трибчевский и сел на свой стул у стены с картой.
Один за другим докладывали командиры о враждебности железнодорожников, которые не помогали, а мешали пограничникам проверять у пассажиров документы. Причем, саботировали демонстративно. Сообщали командиры и о том, что даже «мирные» контрабандисты оказывают вооруженное сопротивление, и службу нарядам нести становится все более опасно. Докладывали командиры обо всем этом, но никто из них ничего не предлагал. Шинкарев уже несколько раз требовал сердито: «Ревком ждет толковых предложений. Все, что вы тут рассказываете, нам известно. Советы ваши ревкому нужны. Или ревком один должен решать?!» Но призывы эти никто не воспринимал, и только один из начальников постов, доложив о недавнем вооруженном нападении на пост, заключил:
— А совет мой ревкому таков: принять предложение Юрия Викторовича. Не забывайте, парламент уже принял декларацию, коей Финляндия объявляется независимым государством. А у большевиков, вам, товарищ Шинкарев, это известно лучше нас, есть кредо: каждая нация имеет право на самоопределение. Возможно, процесс этот пройдет сравнительно мирно, но ручаться за подобный исход, думаю, никто не вправе. Считаю, сегодня самые разумные меры — сосредоточить все силы в едином месте. Сегодня нам лучше иметь увесистый кулак, чем растопыренную пятерню.
— Ревком никогда не предаст интересы финского рабочего класса. Мнение буржуазного парламента не есть мнение народа. Трудящиеся Финляндии еще не сказали своего окончательного слова! — жестко проговорил Шинкарев. Он даже встал. Внушительный, уверенный в себе. Припечатав ладонью папку с донесениями, отрубил категорически: — Все! Обмен мнениями ревком считает законченным. Ревком принимает решение: охрану границы не прекращать. Посты усилить за счет объединения двух в один. Охрану постов и штаба организовать круглосуточно и усиленно. Патрулировать и дозорить крупными силами. Наиболее ответственные наряды возглавляют командиры и члены ревкома. Себя я тоже не исключаю. Все, кроме начальника штаба, свободны. Мы будем готовить приказ.
Приказ есть приказ. Петр Богусловский, как и большинство бывших офицеров, считал верным предложение Трибчевского, но успокаивал себя тем, что, возможно, чего-то недопонимает, чего-то не знает, но эта неуверенная попытка оправдать свою беспринципность на совещании совершенно не уравновешивала душевного состояния. Он чувствовал себя гадко, как обкраденный. Неприкаянный вид был и у многих других командиров. И сколько ни вдумывался Петр Богусловский в то, что произошло в кабинете председателя революционного комитета полка, так и не смог найти ответа, отчего дозволено одному человеку наплевать на мнение большинства. Многие ведь имели гораздо солидней и опыт и знания, чтобы решать. Но нет, они промолчали. Верх брала наглость. Знание и умение оставались в тени. Что-то зловещее виделось Петру Богусловскому за этим не понятным ему положением дел.
А жизнь после совещания пошла своим чередом. Почти ничего в ней не изменилось. Все так же она захлестывала в своем бурном водовороте, все меньше оставляла времени для раздумий и сомнений. На роту Богусловского ревком возложил охрану городка, не отменив и патрулирование на вокзале и проверку документов в поездах. Спал Богусловский урывками, то возглавлял патруль, то проверял караулы, то сидел на заседаниях ревкома, безразличный к страстным речам, едва пересиливающий сладкую дремоту.
После одного из подобных заседаний, неимоверно затянувшегося, Шинкарев сказал торжественно, словно преподносил дорогой подарок:
— Я намерен сегодня проверить службу патрулей. Через пять минут выходим. Возьми с собой еще пяток бойцов.
Богусловский возразил было, что все, кто еще способен держаться на ногах, находятся в нарядах и только несколько человек, не спавших двое, а то и трое суток, отдыхают. Однако Шинкарев даже не дослушал Богусловского. Приказал:
— Поднимай! Революционный боец — не кисейная барышня.
— Люди не железные, — более настойчиво возразил Богусловский. — Да, кроме того, мы вполне можем проверить службу вдвоем. Днем нападение маловероятно.
— Ишь как повернул! — воскликнул Шинкарев весело. — Молодец. Хвалю. Будь по-твоему, хотя я нарушаю решение ревкома.
Через несколько минут, миновав проходную, они размеренно пошагали по пустынным улицам провинциального городка. Какая революция? Какая война? До накала ли страстей в этих зябко съежившихся под пушистым снегом молчаливых домах?! Все вокруг тихо и мирно, и только снег повизгивает под сапогами Шинкарева и Богусловского…
— И отчего людям не живется спокойно, — наслаждаясь морозной тишиной, проговорил Богусловский. — Чего-то рвут друг у друга, жесточатся до изуверства.
— Ты мне брось контру тянуть, — сразу же отреагировал Шинкарев. — Ты командир роты революционного пограничного полка и должен понимать политический момент. На ревком захотел?
— Что — ревком? Человек сам должен понять и убедиться. Навязать ему чужие мысли, видимо, при определенной настойчивости можно, но чужие мысли так и останутся чужими. Сутью человека они никогда не станут.
— А много ли ума нужно, чтобы понять, что за правое дело борьба началась. Мир как был устроен? Один отродясь косы в руки не брал, а пироги на его столе пышные. Другой в поте лица хлеб свой насущный добывает, только хлебец-то у него того, ржаной, с мякиной пополам.
— Изменится ли что, вот вопрос? Любая война уносит лучшую часть нации, а революция — тем более. Емельян Пугачев и его сподвижники — самородки. Они собрали под свои знамена самых храбрых и самых честных, самых, можно сказать, умных. Все погибли. Но прежде погубили несчетно честных дворян. Именно честных да храбрых. Трусы и подлецы еще загодя бежали в Москву и Петербург… Болотников, Костюш Калиновский, коммунары Парижа — все гибли, а нации от этого много теряли. Нет, кровопролитие — непозволительная роскошь…
— Ну и фрукт ты, как я погляжу! Благодари отца за содеянное мне добро. А то показал бы я тебе, где раки зимуют. За такие речи одна дорога — к стенке. Нация от этого нисколько бы не пострадала!
Сказал Шинкарев гневно, причем, как видел Петр Богусловский, осердился он неподдельно, и Петр счел лучшим замолчать. До самой станции они больше не разговаривали.
На перрон они вошли, когда станционный колокол пробил второй звонок, и это вызвало нервную сутолоку, правда, недолгую. Кому нужно было сесть в вагон — сели, торговки и торговцы успокоенно потянулись со своими лотками в теплый вокзал, перрон опустел и только проводники вкопанными верстовыми столбами торчали у подножек, выставив вперед красные флажки, а в конце состава важно переминался с ноги на ногу пухлый, как матрешка, кондуктор, а от головных вагонов размеренно, удовлетворенные закончившейся службой, шагали пограничники во главе с Кукобой. Увидев командиров, патрульные приободрились, подправили надетые на плечи винтовки, чтобы поровнее и построже торчали вверх заиндевевшие штыки. Прибавили шаг.
Прошла минута, вторая, и только тогда кондуктор, приосанившись, словно демонстрируя важность момента, засвистел пронзительно и длинно; проводники, как хорошо выдрессированные цирковые медведи, шагнули на подножки и вытащили из кожаных чехлов желтые флажки; паровоз гукнул испуганно, выдохнул шумно струю пара, лязгнул буксонувшими колесами, и прокатилось по составу судорожное клацание сцепок. Паровоз вновь змеино прошипел струей пара и, поднатужившись, поскребся колесами по рельсам, радостно известив об этом протяжным гудком не только станцию, но и весь озябший городок — зеленые, синие и желтые вагоны, убогие и респектабельные, поплыли мимо Шинкарева и Богусловского, мимо патрульных, шагавших бодро к ним, мимо одиноко стоявшего в красной фуражке дежурного по станции и мерно помахивающего форменным желтым флажком.
— Видишь, опоздали, — сердито, будто повинен в этом был Богусловский, сказал Шинкарев. — Самим бы проверить вагон-другой. Особенно вот эти, синие и желтые.
Петр Богусловский не поперечил, хотя незаслуженный упрек воспринял с обидой. Он смотрел на уходящие вагоны, а сам — в какой уже раз! — пытался осмыслить неприкрыто-грубое поведение предревкома.
«Дурно воспитан? Да, но отчего нет никаких сдерживающих начал? Совершенно безоглядное своеволие», — думал Богусловский, провожая взглядом вагон за вагоном.
И вдруг все его вызванные очередной обидой мысли как ветром сдуло: в окне желтого вагона он увидел очень знакомое лицо. Богусловскому показалось, что пассажир тоже увидел его, Богусловского, узнал и оттого даже испугался. Вспомнил Петр. Вспомнил быстро. Барон Карл Густав Эмиль Маннергейм, генерал-лейтенант. Несколько раз видел Маннергейма Богусловский. Он, юноша, только еще мечтавший о карьере офицера, был представлен боевому генералу. Ту церемонию и особенно подготовку к ней хорошо запомнил Петр. Ему все уши прожужжали о том, что финн-барон — это личность, заслуживающая особого почтения, и потому вести с ним при знакомстве следует весьма уважительно. Петр робел заранее от таких наставлений, но само представление прошло до обидного просто. Барон выдавил что-то вроде улыбки, спросил, не мечтает ли он стать защитником Отечества, и, получив удовлетворительный ответ, промолвил: «Похвально!» — и больше не обращал внимания на раскрасневшегося от волнения юношу. Богусловский вспомнил все это и кинулся к Кукобе, хотя резону в этой поспешности уже никакого не было — поезд уходил и увозил в вагоне первого класса барона. Но, понимая это, Богусловский все же напористо спросил Кукобу, строго на него глядя:
— Отчего не задержали генерал-лейтенанта Маннергейма?!
— Такой не попадался, — ответил Кукоба с добродушной улыбкой. — Разве б упустили?
— Упустили, Кукоба, упустили, — сдержав себя и перейдя на свой обычный мягкий тон, упрекнул Богусловский. — Думаю, совершена большая ошибка.
— Негоциант Момверг в том желтом вагоне ехал. На вид вроде военный. По-русски шпарит любо-дорого. Мы его брать было, только проводники говорят: негоциант, дескать, он известный им. Головой поручились, что документы в порядке.
— Он — генерал-лейтенант русской армии, по национальности финн.
— Верно, финн. Потому и не генерал. Ты же сам сказывал, что финны в русской армии не служат. Царский, сказывал, указ специально был…
— Вот и доучил! — насмешливо бросил Шинкарев, который подошел вслед за Богусловским к патрулю и слышал почти весь разговор. — Я тебя предупреждал: время революционное. А ты свое: знать надо, разбираться надо, оскорблять нельзя! Брать и брать, просеивать и просеивать. Пусть лучше честный попадет один-другой, чем контру упустим.
Шинкарев выговаривал по привычке. Он не понимал и не представлял себе роковое последствие той ошибки пограничного патруля, которую, если рассудить здраво, можно и за ошибку не принимать. Так, рядовой эпизод службы. Богусловский предвидел большее. Он считал, что не случайно генерал покинул Россию, что, скорее всего, сделано это по просьбе Свинхувуда, что тот непременно станет использовать авторитет Маннергейма в своей борьбе. С Маннергеймом согласятся вести дело и германские генералы как с человеком, на которого можно делать ставки. Но даже знавший многое Богусловский, хотя и был весьма озабочен, не мог даже подумать, какие события в жизни Финляндии, в жизни России будут связаны с именем Маннергейма. И начнутся они совсем скоро, через каких-нибудь десяток дней, в конце января 1918 года, когда в Финляндии вспыхнет рабочая революция и разразится гражданская война.
Главнокомандующим верных буржуазии войск сенат назначит Маннергейма. И он, получив поддержку Германии, которая высадила крупный десант на Аландских островах, затем двенадцатитысячную Балтийскую дивизию под командованием фон дер Гольца в тылу финских красногвардейцев, а следом — трехтысячный отряд около Ловисы, зальет Финляндию рабочей и крестьянской кровью, чем стяжает себе славу государственного и военного деятеля крупного масштаба.
Масштаб для начинающего государственную деятельность генерала действительно крупный: полтораста тысяч расстрелянных, более того погибших с голоду и от болезней в концлагерях, почти семьдесят тысяч сосланных на каторгу с суммарным сроком триста тысяч лет. А сколько безвестно замученных и истерзанных?!
Прелюдией к той безжалостной бойне явилось нападение верных Свинхувуду и Маннергейму частей на русские войска в Николайштадте, на мелкие гарнизоны в других городах и поселках. Окружили белофинны и штабной городок пограничного полка. Окружили ночью, рассчитывая снять бесшумно часовых и неожиданно ворваться в казармы. Но налетчикам не удалось реализовать тот план. Подвел стылый снег.
Несколько ночей начальник штаба полка, получая все более тревожные сведения, почти не спал, проверял караулы, секреты и боевые охранения сам через каждый час да, кроме того, отправлял на проверку то Богусловского, то дежурного по полку, а то и самого Шинкарева. Требовал от них детального доклада обо всем замеченном. И вот в половине первого ночи, закончив обход постов, Богусловский доложил начальнику штаба, что все тихо, пограничники настороже, секреты замаскированы хорошо. Но, как докладывают бойцы, в городке то и дело слышен скрип снега. Слишком много скрипа. Будто не спят обыватели, а чем-то встревожены. Трибчевский подумал минутку, оценивая услышанное, потом предложил:
— Давайте, Петр Семеонович, пройдем еще разок. Сразу, не пережидая. Верите, предчувствую беду. Не суеверен, но… скребут сердце кошки. А тут еще снег. Сколько годов спал ночами городок — и вдруг бодрствует. Не то что-то.
Только они миновали проходную, чтобы проверить выставленные на подступах к городку секреты и боевые охранения в окопах, как Трибчевский остановился.
— Слышите? — шепнул он. — Слышите?
Богусловский замер и тоже уловил робкое похрустывание морозного снега сначала впереди, затем справа и слева. Да, скрип доносился отовсюду. Потом надолго утих, затем снова послышался. Он приближался. Медленно, осторожно, но неумолимо.
— Возвращаемся, — шепнул Трибчевский. — Приготовимся к встрече…
За считанные минуты подразделения штаба полка заняли окопы, а боевое охранение начало отход по ходам сообщения, закладывая в них мины. И хотя пограничники старались не демаскировать свои приготовления, белофинны заметили их и, поняв, что внезапность утрачена, атаковать не стали. Так и лежали, не видя друг друга, враги. Свинхувудовцы — за окраинными домами; революционные бойцы — в окопах и блиндажах, окружающих кольцом штабной городок. И те и другие лежали тихо, как сурки в норах. Белофинны надеялись, что пограничники, посчитав тревогу ложной, возвратятся в казармы или во всяком случае успокоятся и потеряют бдительность, когда можно будет и ударить. Но Трибчевский решил использовать медлительность белофиннов в свою пользу. Он велел собрать членов ревкома, командиров и тех штабных работников, которые, как и сам начштаба, отправили свои семьи в Россию и жили в городе, в свой кабинет.
Шинкарев, которому приказ начштаба передали первому, влетел в кабинет Трибчевского и набыченно спросил:
— По какому праву ты обходишь ревком? Я не допущу анархии в такой ответственный момент. Ревком избрали революционные бойцы, и он единственный орган, имеющий право решать и приказывать единолично. Ревком могу собрать только я!
— Вы знаете, отчего погибла Парижская коммуна? Нет? Вот видите. А надо бы знать. Много заседали и мешали талантливым офицерам и генералам — да-да, не удивляйтесь, их на стороне коммунаров было много! — грамотно воевать. Один Домбровский, дай ему свободу действий, еще не так проявил бы себя! — Трибчевский встал и подошел вплотную к Шинкареву: — Вы плохой командир. По вашей милости может погибнуть полк. Да-да! Не смотрите так грозно. После вашего трагикомического совещания я не покинул полк только потому, что понимал: моя отставка усугубит дело. Я нужен полку. Я не ревкому служу, я Отечеству давал присягу охранять его рубежи. Я — гражданин России. И если вы не прекратите ваше чванство, прикрываемое революционными лозунгами, я объявляю вам сегодня решительный бой! — Дав осознать сказанное, Трибчевский попросил уже совершенно успокоенно: — Давайте, Владимир Шинкарев, не будем сейчас, в миг смертельной опасности, куражиться. Решение о прорыве я выскажу от имени ревкома.
Ответить Шинкарев не успел — в кабинет начали входить командиры и штабисты. Морозные, взволнованные, решительные. Они не садились, понимая, что длинного совещания не будет.
— Идем на прорыв, — оглядев всех собравшихся, заговорил начальник штаба. — Направление: северо-запад. Вокзал обходим слева, у первого переезда оставляем заслон конный. Неясности есть? Нет. Хорошо. Теперь — совета хочу испросить. После прорыва сразу идем на Николайштадт, под крыло крупного армейского гарнизона, либо будем ждать, пока присоединятся к нам посты? Вы понимаете, что форсированный марш к Николайштадту нам более благоприятен, но имеем ли мы право оставить на произвол судьбы тех, кто по нашей же нераспорядительности остался до сих пор на постах? Мое мнение, если изволите, такое: мы не сняли их своевременно, мы и должны исправить свой просчет.
— Верно, чего там рассуждать. Скопимся кучно и пойдем, куда прикажут.
— Спасибо, друзья. Секретные документы уничтожить. Боезапас взять максимальный. Готовность к прорыву через час. Команду передам по цепи. Все, больше задерживать не смею.
Белофинны, решившие переждать, пока ослабнет настороженность у пограничников либо пока наступит рассвет и подойдет их артиллерия, начали забираться в сараи, в теплые дворы, а кому повезло — то и в дома. Выставили лишь наблюдателей. Но и те, поддавшись общему настроению, больше заботились о том, как бы не замерзнуть, выбирали затишки, хотя и неудобные для наблюдения. Рассуждали, в общем-то, верно: куда пограничники денутся? Окружены со всех сторон. Не удалось напасть внезапно — к утру артиллерия подтянется на прямую наводку. А много ли русских? Не более двух рот со всеми писарями, хозяйственниками, коноводами да поварами. Орешки для полнокровного полка.
Самоуверенность, таким образом, породила беспечность. На этом Трибчевский построил свой расчет. И не ошибся.
Молча выпрыгивали пограничники из окопов и вслед за конным взводом рванулись по улицам городка к переезду. Запоздалый выстрел, другой, оборванный штыком, крик незадачливого наблюдателя, торопливое хлопанье дверей и калиток, треск заборов. Но — поздно. Пограничники скрылись в темноте, а скрип снега стремительно удалялся за переезд. Наиболее отчаянные из белофиннов кинулись вдогонку, но длинная пулеметная очередь от переезда успокоила и их.
Едва штаб полка втянулся в лес, Трибчевский приказал сделать остановку, чтобы дождаться заслон с переезда.
— Ни единой потери! — довольно потирая руки, воскликнул Шинкарев. — Преклоняюсь, Юрий Викторович! Я бы так не смог…
— Будет вам! Время ли лавры делить? На посты связных рассылать нужно, пока темно. Репетовать для верности с получасовой дистанцией.
У Трибчевского и здесь был готов точный план сбора полка. Посты как левого, так и правого фланга выдвигаются к стыковым, как бы удаляясь от главных сил белофиннов, затем по лесным дорогам, образующим прямоугольный треугольник, выходят в пункт сбора, к вершине треугольника — к глухой лесной деревушке, где штаб будет их ожидать. На все это отводилось четыре дня.
— Успеют ли? — слушая приказ начштаба связным, усомнился Шинкарев. — Нам-то что, мы по прямой, а постам по сорока верст в день махать. Накладно.
— Революционный боец — не кисейная барышня, — без тени иронии повторил любимые слова Шинкарева Трибчевский. — На карту поставлена жизнь людей. Чем скорее мы соединимся с гарнизоном в Николайштадте, тем больше шансов сохранить полк. Сохранить для революции. Тем более что пеших там не будет. Небольшой санный обоз, думаю, не очень задержит движение.
— Что ж, будь по-твоему, — согласился Шинкарев и предупредил связных: — Смотри мне, чтобы все в ажуре. В лапы белофиннов не попадать.
Нет, он просто не мог стоять в стороне, не мог не распоряжаться, ибо считал себя командиром полка. Только себя.
Первые две пары связных ускакали, и пограничники вытянулись по лесному проселку походной колонной, выслав вперед крупный конный разведывательный дозор и оставив еще больший, тоже конный, арьергард. Трибчевский поторапливал пограничников, хотя, по его же плану объединения, им вовсе не нужно было спешить. Но начальник штаба привалы объявлял редко и короткие.
Уже занялся непогожий зимний день, а Трибчевский все торопил и торопил. Наступил вечер, колонна, однако, продолжала форсированный марш. И только к концу второго дня, когда до пункта сбора полка осталось каких-нибудь десяток километров, штаб полка остановился на ночевку в крупном селе.
Выбор свой Трибчевский мотивировал тем, что не было смысла слишком рано выходить к определенному для встречи с постами месту, а это село оказалось как находка. Лучшего места, если придется обороняться, не сыщешь. С той стороны, откуда пришли пограничники, село охватывала подковой не очень широкая, но глубокая речка с единственным мостом. Берег под селом обрывистый, с густыми оспинами стрижиных гнезд, а противоположный — пологий, заливной, расчищенный для сенокосов от деревьев и даже кустарника. Но самое важное — зима не сковала речку полностью, парили частые полыньи, и переправа по льду почти исключалась. За околицей противоположной от речки окраины села, где на взгорке стояла старенькая деревянная церковь, стелились укрытые пухлым снегом поля, и только за ними начинался густой лес. В общем, неожиданно напасть неприятель не мог, и Шинкарев даже предложил Трибчевскому:
— Здесь и дождемся прибытия постов. Для оповещения вышлем посыльных.
— Приемлемо, — согласился начальник штаба. — Вполне приемлемо. Усиленная охрана. И еще… Из села никого не выпускать.
Сутки прошли спокойно. Крестьяне не очень радушно привечали пограничников, но и не вражились. Миновала еще одна ночь, и Шинкарев с Трибчевским вызвали Богусловского.
— Бери пяток конников и — к месту сбора полка. Приведешь посты сюда.
— Хорошо, — ответил ротный и поспешил к дому, где разместились Кукоба и еще несколько бойцов, чтобы отдать необходимые распоряжения. Но, успев сделать всего десяток шагов, увидел быстро бегущего навстречу бойца из боевого охранения.
— Белофинны! — доложил, загнанно дыша, боец. — Похоже, много!
В недрах маннергеймовского штаба рождалась крупная операция по захвату Таммерфорса, который находился в руках финских рабочих. В единый кулак стягивали белофинны свои полки и дивизии из северных районов страны. Стягивали тайно, лесными проселками. И надо же такому случиться, что маршрут одной из дивизий был определен как раз по той дороге, которую облюбовал себе штаб пограничного полка.
Дивизия и… две неполные роты, одна из которых сборная, не ахти какая боеспособная. Но ни Шинкарев, ни Трибчевский поначалу не поняли всей опасности (лес скрывал истинные силы белофиннов) и решили принять бой.
— Расколошматим беляков — своим братьям по классу поможем, — заключил Шинкарев.
Через полчаса, однако, они пожалели, что не ушли спешно из села. Лес выплескивал все новые и новые волны белофиннов; четыре «максима» пограничников и винтовочные залпы с трудом загоняли их обратно. Но всякий раз после того как наступление захлебывалось, вступала в свои права белофинская артиллерия, круша дворы и дома, сея смерть. Особенно много бед приносила шрапнель.
Загорелось несколько домов, и крестьяне с проклятиями хватали все, что попадалось впопыхах под руку, выгоняли коров, овец и лошадей из теплых чистых дворов и гнали их к мосту. Шум поднялся в селе великий и скорбный.
Артобстрел прекратился, но белофинны не пошли в атаку. Это насторожило всех — и бойцов, и командиров. Трибчевский высказал предположение:
— Будут обходить. Один, а то и два пулемета нужно перекинуть к мосту.
— Дело. И ротного Богусловского туда, чтобы возглавил, — согласился Шинкарев. — И вот еще что, я думаю… Ревкому и тебе уходить нужно. Выбери на свое усмотрение из штабных кого. На конях выскочите…
— Уходить?! — воскликнул гневно Трибчевский. — Бежать, бросив подчиненных на верную гибель?!
— Ревком — те же бойцы. А ты… Ты нужен полку. Я скажу Кукобе, тебя предревкома изберут. Я же здесь, пока есть патроны, пока живой, контру колошматить буду. Успеешь — выручишь. Не возражай. Это приказ ревкома, и ты его выполнишь!
— Если ошибается командир — гибнут солдаты. Честный командир гибнет вместе с ними, искупая свою вину. Негоже и мне бежать… Я тоже повинен… Прошу вас, отмените приказ.
— Нет! Немедленно на коней!
Дольше часа длилась передышка. Более часа томились пограничники, не понимая врага. И вот наконец все стало на свои места: до полка белофиннов на лыжах спустилось где-то в лесу на лед речки и подошло, укрываясь крутым извилистым берегом, к мосту. И получилось так, что в результате умелого маневра белофиннов препятствие стало защитой. Неуязвимые от пуль за береговой крутизной, белофинны накапливались для атаки. Но с атакой не спешили, готовили ее. По всему берегу слышались глухие удары саперных лопат.
Пограничники понимали, что белофинны продалбливают ступени по всему берегу, но помешать этому были бессильны. Расчет пулемета попытался было перебежать мост, чтобы ударить с тыла, но был моментально изрешечен пулями. Пропал и пулемет. Теперь бойцы лишь отогревали дыханием руки, чтобы не подвели они, когда настанет момент для стрельбы.
Атаковали белофинны одновременно и от речки, и от леса. Но если на снежном поле «максимы» ловко, с русской удалью косили врагов, то у речки оставшемуся одному пулемету просто не было условий расправить плечи. Белофинны выскакивали по ступеням сразу же, как говорится, на удар штыка. Много их падало вниз, под лед студеной речки, но не меньше вцепилось в берег, укрывшись за деревьями садов, за изгородями, в канавах между грядками. Плацдарм расширялся поначалу медленно, но затем перевес сил стал настолько ощутим, что пограничники попятились, сдавая дом за домом, сад за садом.
— Пулемет на колокольню церкви! — приказал Богусловский и ругнул себя за то, что прежде отчего-то не додумался до этого.
Пулемет на колокольне сразу же изменил ход боя. Как только белофинны начинали атаку, пулемет загонял их обратно за дома. Но особенную пользу пограничникам он приносил тем, что взял под прицельный огонь мост и берег, лишив тем самым наступающих со стороны реки постоянного подкрепления. Вскоре пограничники даже начали успешно контратаковать, отбивая дом за домом, тесня белофиннов к реке. Тогда по церкви ударила со стороны леса артиллерия. Били шрапнелью, и вскоре купол церкви кокошником охватило пороховое облако. Но стоило только белофиннам атаковать, пулемет заработал.
«Молодец! — с восхищением подумал Богусловский. — Хорошо укрылся».
Белофинны изменили тактику. Не прекращая обстрела, начали атаку, и пулемет вскоре замолчал. Богусловский бросился к церкви, по скрипучей лестнице влетел на колокольню и, с трудом разжав пальцы убитого пулеметчика, мертвой хваткой вцепившегося в рукоятки «максима», оттолкнул его, затем, не обращая внимания на беспрерывные разрывы снарядов и дробный, как град, стук осколков, впивавшихся в замшелые доски и бревна, улегся поудобней за пулемет, успокоил дыхание, пока оглядывал открывшуюся панораму боя и выбирал, куда направить первую очередь.
Белофинны наседали отовсюду, и в огневой поддержке нуждались везде, но Богусловский первой длинной очередью накрыл мост, на который вбегали плотной толпой враги. Очередь пришлась точно по цели. Толпа стала редеть, опадать, словно крутая волна на пологом песчаном берегу, затем поспешно побежала назад, оставляя на мосту, и без того густо усеянному трупами, новых убитых. Отбив попытку белофиннов перебросить по мосту подкрепление, Богусловский перенес огонь на село, где пограничники снова отступали. Он стрелял и стрелял, забыв о времени, забыв о том, что могут кончиться патроны, и вовсе забыв, что он командир роты, а не пулеметчик. Но кто-то руководил боем за него, кто-то прислал на колокольню двух бойцов, которые принесли несколько коробок с заряженными лентами и ящик россыпи. Один из бойцов занял место второго номера, другой принялся ловко набивать патронами пустые ленты.
— Спустись вниз! — приказал Богусловский. — Не рискуй!
И в самом деле, снаряжать ленты можно, укрывшись от шрапнели за бревенчатым перекрытием колокольни.
Бой не утихал. Белофинны не прекращали атак, шрапнель беспрестанно дробила купол колокольни, вскоре убило одного, затем другого бойца, зацепило осколками плечо и ногу Богусловскому, но он продолжал стрелять, сам себе поправляя ленту. Боли не чувствовал. Одна мысль, одно желание господствовали в его сознании: «Отбить атаки! Отбить! Продержаться до подхода постов».
Вражеское кольцо неумолимо сжималось. И вот уже перестали рваться снаряды над церковью. Обстрел белофинны прекратили из-за опасения побить своих солдат. Богусловский продолжал стрелять. Можно сказать, в упор. Он даже не слышал, что на колокольню поднимают еще один пулемет. Голос Шинкарева прозвучал для него совершенно неожиданно.
— Это ты здесь, Петр Семеонович?! — воскликнул предревкома. — А я-то думаю, кто такой молодец гвоздит контру?
Богусловский оглянулся и был поражен видом Шинкарева. Стоял тот во весь рост, могучий, решительный, словно не были перетянуты винтовочными ремнями его обе руки выше локтей, а рукава мундира не набухли от крови.
— Пулемет сюда! — распоряжался Шинкарев. — Коробку сюда. А сами — вниз. Один справлюсь. Не возражать! Вы там нужней. Помогите только лечь.
Шинкарев встал на колени, и бойцы, подставив руки под грудь, опустили его у пулемета.
— Живо вниз! — скомандовал еще раз Шинкарев, и почти сразу же застрочил его пулемет.
Теперь никто не видел его лица, искаженного гримасой боли, а стон Шинкарев сдерживал, крепко стиснув зубы.
Еще оставались патроны в лентах; еще не вся кровь вытекла из ран у Шинкарева и Богусловского, а они оказались не у дел. Белофинны сбили остатки пограничников на подступах к церкви и оказались в мертвом пространстве. Богусловский развернул пулемет так, чтобы бить в упор тех, кто осмелится сунуться на колокольню, но смелых среди белофиннов не нашлось. Более того, никто из врагов не пытался даже войти в церковь. Они негромко и совершенно мирно переговаривались между собой, и казалось, ничего не собирались больше делать.
— Что? В покое нас оставят? — глухо спросил Шинкарев и сам же ответил: — Такого не будет. Мы же их вон сколько покосили. Неужто кровь у них рыбья, мести не жаждет? — Повернулся на спину, уложил раненые, все в запекшейся крови руки на груди и, вздохнув облегченно, определил: — Так полегче будет. — Затем ухмыльнулся: — Странное дело — жизнь. Где найдешь? Где потеряешь? Мать моя попа уговорила, чтобы меня грамоте учил. И в солдаты отправила, хотя не должны были меня брать. Уж очень хотела, чтобы я унтер-офицером стал. Приезжал как-то к нам в слободку унтер. Видный из себя, усы, как у кота, через губу не плюнет. Перед ним все заискивали. Вот родительница моя, должно, и взяла в голову: унтера из меня сделать, в люди вывести. Уважал я свою родительницу. «Георгия» получил, прапорщиком стал. Успокоиться бы, ан нет! И то верно, рыба где глубже ищет, а человек — где лучше. Только едва под трибунал не попал. Все, думал, виселица либо расстрел. Листовки большевистские в казарму нес, меня и прихватили. В Бессарабии это было, в казачьем пограничном полку. Ведут в кабинет к полковнику, а я заладил одно: «Нашел у проходной. Хотел по всей форме доложить дежурному офицеру». И полковнику талдычу это же. Только тот не поверил. Говорит: «Следователи разберутся, а трибунал определит меру пресечения». И совестить начал. «Кто ты, — говорит, — такой? Шантрапа вонючая. Тебя в офицеры произвели, в казачий полк определили, рубеж отечества охранять доверили, а ты — рыло в сторону. Полк инспектируют, и на тебе — позор! Хоть пулю в лоб». Тут как раз генерал Богусловский, родитель твой, заходит. Выслушал меня и спрашивает полковника: «Отчего же не верите офицеру? Поднадзорный он? Нет. Кавалер «Георгия». Командир полка смутился, но на своем стоит. «Верно, — говорит, — крамольных речей не произносил. Не замечалось. Служит исправно, примерно служит, только ведь из простых он. И стало быть…» Генерал махнул сердито рукой и упрекает: «Офицер есть офицер. Ему верить следует. — Потом мне говорит: — Свободны. А чтобы впредь эксцессов не наблюдалось, переведу вас в другой полк». Так я и оказался в Финляндии. С большевиками не порвал. — Он вновь вздохнул умиротворенно и замолчал. Через минуту-другую усмехнулся снова: — Чудно. Теперь вот с сыном генерала бью беляков. Чудно. — Снова вздохнул. Спросил недоуменно: — Ну что беляки, так и не потревожат нас?
И словно в ответ на это, внизу застучали о бревна церкви саперные лопаты.
— Ну вот, теперь все понятно. Щепок нащиплют и подпалят, — удовлетворенно проговорил Шинкарев, вроде бы давно ждал он этого момента и вот наконец дождался. — Ну ничего, мы еще не одного беляка на тот свет спровадим.
И верно, когда церковь охватило пламенем, белофинны вынуждены были отступить от стен, и Шинкарев с Богусловским тут же начали их расстреливать. Поднялась невообразимая паника, кто бросился к ближним деревенским домам, чтобы укрыться за их стенами, но большинство, несмотря на жаркий огонь, вновь притиснулись к церкви. Одежда на них дымила, горячий воздух обжигал легкие, но они терпели, трусливо прижимаясь друг к другу. Несколько человек, правда, не выдержали, кинулись было к деревне, но все были скошены.
На колокольне с каждой минутой становилось все жарче. Огонь уже лизнул дранку купола, зацепился за нее, а вскоре, словно многозевое чудище, заглотнул всю колокольню в свое огненное чрево.
— Ко мне! — прохрипел Шинкарев. — Быстрей!
Богусловский кинулся к нему по еще не загоревшемуся, но уже кипевшему смолой перекрытию, готовый выполнить все, что Шинкарев прикажет.
— Поднимай станину. И — к самому краю пулемет.
Шинкарев привстал на колени, и его ковыльные волосы, без того разлохмаченные беснующимися в огне вихрами, взъерошились копной и тут же опали, спекаясь в роговые сосульки. Богусловский, увидевший это, словно очнулся, словно окунулся в реальность происходящего. Страх парализовал его волю, он бросил станину и хотел кинуться с колокольни вниз, но Шинкарев крикнул истерично:
— Поднимай! Убью!
Ненавистный взгляд, жгуты на скулах. Богусловский, обжигая руки о накалившееся железо, поднял на грудь станину и замер. Шинкарев нажал на гашетку.
— Получайте, контры!
Вместе с пулеметной очередью он послал белофиннам смачную русскую ругань.
Рванул ящик россыпи под перекрытием колокольни, рванули коробки с еще не расстрелянными лентами, купол рухнул и придавил стреляющий пулемет.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
В семье Богусловских обсуждали новость: генерал Левонтьев с сыном Дмитрием эмигрировали. Не то во Францию, не то в Англию. Не посоветовались, ничего даже не сказали. Анна Павлантьевна, наотрез отказавшаяся уезжать куда-либо из Петрограда без своего жениха, брошена на произвол судьбы. Однако и она — хороша штучка! Вот уже более недели живет одна, но ничего не сказала об этом, хотя навещала Богусловских, справляясь, нет ли писем от Пети.
— Непостижимо! — возмущался генерал Богусловский всех более, взволнованно расстегивая и застегивая мундир. — Что делать там, за границей, русскому человеку?! Невероятно!
— Нужно взять к себе Анну, — предложил Михаил. — Петр будет благодарен.
— Непременно! — горячо согласился Семеон Иннокентьевич. — И теперь же.
Богусловский-старший решительно, с несоразмерной для своей тучной комплекции проворностью вышел в прихожую. Шинель он застегивал уже на улице. Он спешил, опасаясь того, что вдруг Анна Павлантьевна изменила свое решение и собирается уехать из дому вслед за отцом и братом. Но если бы он знал, что Анна тверда в своем слове, а Дмитрий Левонтьев тоже именно сейчас торопится к себе домой, чтобы проститься с сестрой перед отъездом из Петрограда, Семеон Иннокентьевич наверняка бы повременил. Он, несказанно удивившись, постарался бы застать Дмитрия и спросить его: что все это значит?
Увы, генерал Богусловский в полной уверенности в том, что Левонтьевы за границей, подходил к их дому, обдумывая предстоящий нелегкий разговор с невестой своего сына, и не увидел молодого мужчину в деревенском дубленом полушубке и ушанке из собачьего меха, шагавшего навстречу и вдруг метнувшегося за угол соседнего дома.
Дмитрий Левонтьев, а это был он, на какое-то мгновение растерялся, не зная, что предпринять, чтобы избежать встречи с генералом Богусловским: дом стоял гладкостенной коробкой, а ограда высока, не перемахнешь легко, в общем, укрыться вот так, сразу, негде, а старик генерал быстро приближается. Но, к радости и удивлению Дмитрия Левонтьева, Семеон Иннокентьевич остановился у крыльца их дома, постоял в раздумье минуту-другую и, поднявшись, теперь уже неспешно и грузно, по ступеням, позвонил.
— Что ему, прихвостню большевистскому, нужно в нашем доме?! — расстроенно буркнул Дмитрий, все еще продолжая стоять, прижавшись к холодной стене и не зная, как же поступить дальше — ждать, пока старик покинет дом, или сейчас же, не простившись с Анной, отправиться на вокзал?
Сюда он вовсе не должен был идти, не имел права, но не смог пересилить себя, не смог уехать, не повидав еще раз любимой сестренки, обманутой и брошенной. Хотя и ради большой цели, но они все же обошлись с ней жестоко, благо она не знает этого и дай бог оставаться ей в неведении всю жизнь. Сказав, что собираются покинуть непринятую ими революционную Россию до лучших времен, ни Левонтьев-старший, ни сын его Дмитрий вовсе не предполагали делать этого. Они не слишком настаивали, когда она воспротивилась. На это и рассчитывали. Она уговаривала их взять побольше денег и золота, чтобы не бедствовать, но они отказались, отговариваясь тем, что на границе у них все равно все отнимут. На самом же деле совершенно не нуждались в деньгах, ибо становились членами нелегального «Национального центра».
Поначалу отец и сын жили вместе на небольшой загородной даче, которая выполняла роль конспиративной квартиры. Вечерами съезжались сюда их друзья, с которыми готовили коридор для вывоза из России царской семьи, а то и вовсе незнакомые люди, уверенные в том, что делают большое и важное дело, и оттого гордые собой. На самом же деле, как сказал однажды отцу Дмитрий Левонтьев, все здесь толкли воду в ступе. Причем даже не меняли ее. Ругали, совершенно не сдерживаясь, забывая приличие, большевиков. Доказывали друг другу, что спасение России — лишь в восстановлении самодержавия, подкрепляя свои утверждения авторитетом царицы, которая совершенно-де верно считала: русскому народу нужен кнут и кулак. И только два раза в эти тягучие, несмотря на кажущуюся бурность, вечера ворвался истинный накал страстей.
Как понял Дмитрий Левонтьев (карты перед ним раскрывали далеко не все, даже отец скрытничал), предстояла встреча с посланцами Берлина, на которой предполагалось выработать единый план спасения России, то бишь царя, царицы и их сына. И вот «Союз возрождения» и «Национальный центр» решили определить свои позиции и даже, если бог даст, выступить с единым мнением.
Бог не дал единства. Наццентровцы твердили упрямо: престол Михаилу Александровичу! Возрожденцы доказывали, что следует согласиться с предложением немцев: восстановить на престол Николая II, затем пусть он отречется — теперь уже не под нажимом, а добровольно — в пользу Алексея. Регентство возьмет на себя Александра Федоровна.
Возрожденцы утверждали, что принятие этого плана даст «освободителям» России и деньги, и оружие. Более того, великий герцог Гессенский Эрнст Людвиг, брат царицы, предложит тогда большевикам выгодную сделку. Они освободят его сестру и всю царскую фамилию, он откажется от контрибуции и даст гарантию, что германская армия не станет наступать на Россию с Украины. Триста миллионов золотых рублей и отсутствие угрозы на западных границах, доказывали возрожденцы, кусок для большевиков лакомый, и они согласятся, ибо это поможет им преодолеть в стране хаос политический и хаос экономический. Но даже и этот аргумент не подействовал на наццентровцев. Нет, упрямились они, регентша станет императрицей, но принцесса Алиса Виктория Елена Бригитта Луиза Беатриса Гессен-Дармштадская далеко не принцесса Софья Августа Доротея Фредерика Ангальт-Цербская. Александра Федоровна — не Екатерина Вторая. Совсем Россию разорит. И кровушки русской поболее той прольет. Михаила Алексеевича на престол — и все тут.
Недовольные уходили и с первой, и со второй встречи возрожденцы, а после их ухода наццентровцы вновь принимались доказывать друг другу, что они правы и что освободят царскую семью без помощи немцев и возведут на престол Михаила Романова. Говорили об архиепископе тобольском Гермогене, которому самим богом предзнаменовано спасти Русь. Патриарх Гермоген благословил первого из Романовых, Михаила Федоровича, на царствие, архиепископ Гермоген спасет династию Романовых, благословив на престол Михаила Александровича. А за Гермогеном, горячо убеждали они себя, сила огромнейшая. Не только десница божья, но и Абалакский мужской монастырь, Знаменский монастырь, Иоанно-Введенский женский монастырь — целые государства на Тобольщине со своей казной и угодьями. И конечно же, все церкви и в самом Тобольске, и во всей округе. Если помочь Гермогену надежными офицерами, то кто с ним совладает?
Дмитрий Левонтьев по всем статьям подходил для такой миссии. И настал день, когда ему пришлось облачиться в деревенский дубленый полушубок и нахлобучить собачий треух. Выезжать было приказано без промедления.
Нет, не к Гермогену он должен был явиться. И даже не к штабс-капитану Лепилину (Дмитрий был о нем изрядно наслышан), мирскому лидеру монархистов на Тоболе, который не только возглавлял «Союз фронтовиков», но и полностью его финансировал, расходуя на это более десяти тысяч рублей ежемесячно. Дмитрию дали адрес какого-то тобольского мещанина и велели послушно выполнять все его приказы. Дмитрий пытался представить себе, чем станет заниматься в Тобольске, но не мог этого сделать, не зная конкретной своей роли; он обижался на то, что ему, опытному пограничнику, дали какую-то заштатную роль, а он имеет все права быть рядом с Гермогеном, возглавлять мирской фронт монархистов — он не мог без огляда принять приказ руководителей «Национального центра» и сразу же нарушил их строжайшее требование, отправившись не на вокзал, а домой. И вот — досада. Старик генерал заступил ему дорогу.
Дмитрий, возможно, долго бы досадовал на Богусловского и раздумывал, как дальше поступать, но увидел нескольких мужчин, идущих по тротуару на противоположной стороне улицы, оторвался от стены и, круто развернувшись, пошагал размеренно, чтобы не вызвать никакого подозрения (кто знает, что за люди идут), в сторону Невского проспекта, чтобы по нему уже направиться к Московскому вокзалу.
До Москвы он ехал в тесноте, но когда в Москве с великим трудом втиснулся в вагон и едва примостился на самом краешке нижней полки, выслушав при этом отборнейшую ругань, то прежняя теснота показалась ему райской. И только одно утешало его — поезд бежал по рельсам ходко, а добрый романовский полушубок хорошо грел. Голод же можно перетерпеть, а вынужденное бодрствование скоротать мечтами о том, какой будет его жизнь, если удастся вызволить царя и если царь узнает о его, Дмитрия Левонтьева, старании. Он все же надеялся, что его примет Гермоген и поручит возглавить мирской фронт монархистов Тобольска… Будущее рисовалось ему во всем своем великолепии, и он стоически терпел храп с жалобным стоном и присвистом, который будто беспрестанным потоком выливался из обессиленно разинутого рта толстой бабы, укутанной в плотный домашней вязки пуховый платок, терпел липкую ругань картежников, самозабвенно игравших в «очко»; с безнадежной отрешенностью вдыхал вонючий воздух вагона, забитого грязными телами донельзя, терпел все это ради своего завтрашнего триумфа.
Тем и прекрасна молодость, что ей по силам строить великолепные воздушные замки.
Но молодости свойственны и быстрое разочарование, моментальная смена мыслей. Дмитрий испытал и это.
Когда, вдоволь намытарившись, оказался он у торговых рядов, таких же, как и в российских городах (купец-то одного корня), только по-сибирски кряжистей и размашистей, на вольной площади вокруг которых у частых коновязей мусолили торбы с овсом низкорослые, но крепкие в кости верховые лошади да теснились поближе к рядам розвальни, или уже разгруженные, лишь с брошенными поверх помятого сена тулупами, или с еще не снятыми пятериками муки, картофеля, лука, Левонтьев не сразу решился спросить, как пройти на нужную ему улицу. Приглядываясь внимательно, выбирал, к кому подойти.
Увидел наконец бойкую кухарку, которая, не в пример деревенским хлебопашцам, говорившим с оглядкой, не вдруг, а подумавши основательно, выторговывала безо всякого стеснения, во весь голос, в овощной лавке копейку, и подошел к ней. Подождал, пока приказчик не отступил под лихим нажимом кухарки и та, довольная выгодной покупкой, не заулыбалась радостно, тогда только задал ей свой вопрос. Кухарка окинула подозрительным взглядом Дмитрия, лицо ее посерьезнело вдруг. Недовольно буркнув себе под нос: «Эка, повадились. На всех готовь», пригласила не очень доброжелательно:
— Пойдемте. Укажу, раз нужда есть.
Она привела Дмитрия к раскоряченному пятистеннику с резным крыльцом и только тут, спохватившись, спросила тревожно:
— А Гурьян Федорович ждет ли? И пароль есть?
Эти вопросы немало развеселили Дмитрия Левонтьева. Он ответил с улыбкой:
— Ждет или нет — не ведаю. А пароль есть.
— От уж дуреха дурехой — и сказ весь! — погневалась кухарка на себя, затем сказала решительно: — Пошли, коль пришли. Не торчать же у крыльца торчком.
Пропустила его в теплые сенцы, велела раздеться, сменить сапоги на шлепанцы и только тогда открыла дверь в комнату.
— Гурьян Федорович придут к обеду, — снимая белый, причудливо промереженный чехол с кресла и жестом предлагая садиться, сообщила кухарка. — Тут и ждать будете.
Дмитрий Левонтьев с явным наслаждением плюхнулся в кресло, вытянул свои по-женски мясистые ноги и, поглаживая их, принялся разглядывать комнатку, конечный пункт его трудной дороги.
Это был иной, совершенно непривычный для него мир. Все зачехлено белым промереженным ситцем, даже на аляповатого позолоченного сатира, в живот которого были вделаны часы, наброшена салфетка, только без мережи, а с вышитыми по углам яркими цветами. И лишь эти вышитые цветы да кровавые соцветия герани на крохотном подоконнике подслеповатого оконца, завешенного тюлью, казались чем-то реальным, живым в этой укутанной в саван комнате. Не о такой комнате мечтал бессонными вагонными ночами Дмитрий Левонтьев, не о такой встрече. Реальность не совпала с мечтой, реальность разочаровала.
Усталость, однако, взяла свое, и Дмитрий заснул.
Разбудил его разговор в сенцах. Кухарка, всхлипывая, твердила одно и то же: «Бес попутал. Бес, истинный бог, бес», а мужской баритон внушал: «Эдак и до тюрьмы недалеко. Время, сударыня, какое, сами знаете», потом отворилась дверь, откинулась белая дверная занавеска, и в комнатку энергично вошел высокий мужчина с чеховской бородкой и в позолоченном пенсне.
— Здравствуйте. Вы откуда и по какому делу?
— Из Петрограда, — нехотя поднимаясь, ответил Дмитрий и назвал пароль.
— Что ж, рад помочь в столь благородном деле. Весьма рад, — с учительской снисходительностью заверил хозяин дома и отрекомендовался: — Криушин Гурьян Федорович, — затем, не меняя тона и почти без паузы, заметил: — Странное, однако, у вас лицо. Вы словно вынюхиваете…
Нервное лицо с острым носом и прозрачными ноздрями, которые редко когда оставались спокойными, отчего казалось, что либо он собирается чихнуть, либо принюхивается, Дмитрий получил от матери. Отец, когда был в добром настроении, подшучивал над ней: «Ну чихни ты наконец», а когда серчал, грубо требовал от нее: «Перестань принюхиваться!» Дмитрию, однако, никто пока ничего подобного не говорил, и это впервые сделанное замечание он вызывающе парировал:
— А ваш лик — лик святоши. Точнее, проповедника от эсеров.
— Вы наблюдательны. Я действительно принадлежу к партии эсеров и состою в партии далеко не рядовым членом, — согласился Криушин. — А что касается святости… Служу святому делу. Спасаю помазанника божьего.
Он поспешно снял чехол с кресла, аккуратно свернул его, положил на краешек стола и лишь после этого предложил Левонтьеву:
— Давайте сядем, и, пока еще не готов обед, расскажу я вам обо всем, что здесь происходит. Тобольск, как сюда привезли царскую семью, милостьсударь, стал сборищем всех заговорщиков. Сюда шлют своих мессий петроградские, московские «союзы» и «центры». Распутинцы здесь стараются неимоверно, церковники. И что поразительно, не помогают друг другу, а мешают. Идет скорее борьба за лидерство в деле спасения императорской семьи, а само спасение — на задворках. Увы, это так. И вот еще один мотылек на свет славы прилетел. Что ж, помогу я и вам опалить крылья. Запомните и еще одно: из Омска прибыл к нам большой красногвардейский отряд. И сами понимаете, выходить вам из дому не безопасно. Не только для вас, но и для меня.
— И как долго? — спросил Дмитрий, чтобы что-то спросить, ибо не понял, осуждает мещанин или радуется тому, что бесцельно толкутся, мешая друг другу, монархисты, а действуют разумно пока что большевики. Ввели отряд — и этим все сказано.
— Бог его знает, — ответил Гурьян Федорович. — После обеда пойду получу инструкции.
— Возможно, вместе?
— Нет-нет! — с испуганной поспешностью возразил Гурьян Федорович. — Я обязан получить инструкции самолично. И только тогда, исходя из них, станете действовать вы. Конспирация — штука забавная, милостьсударь.
После обеда и в самом деле без задержки ушел Криушин из дому, предложив Дмитрию, пока суд да дело, соснуть с дороги часок-другой. И как ни волновал Дмитрия вопрос, какие получит Криушин инструкции, все же заснул довольно быстро. Да так крепко, что не слышал возвращения хозяина дома, хотя тот намеренно громко разговаривал с кухаркой и даже запел, правда вполголоса, ставшую популярной с началом войны не только среди офицеров, но и обывателей песенку: «Мы смело в бой пойдем за Русь святую…»
Стемнело. Кухарка принесла лампу и спросила недовольно:
— Долго ли субчик гостить будет?! Продукты не дай господи как вздорожали!
— Деньги — не твоя забота. А за перетруд я плачу тебе аккуратно. Грех жаловаться.
— Так-то так. Только чую, и меня ответ держать заставят, если, не дай господи, проведают большевики.
— А ты не води кого не знаешь, прямо с базара, — упрекнул, чтобы приструнить, кухарку Криушин, но его упрек не достиг цели.
— Оплошала разок, так и выговаривать! — нисколько не смутившись, возразила кухарка. — Дом-то пустой не бывает, вот я о чем. Я ведь о вас, бедненьком, пекусь. Исхудали вовсе. А были такой видный да справный мужчина…
— Ладно, ладно, — отмахнулся Гурьян Федорович, — перестанем об этом. Поскорее ужин готовь. И на дорогу припаси. В полночь розвальни подкатят.
Сообщение о том, что в полночь приедут за ним, совершенно обескуражило Дмитрия Левонтьева. С ним, представителем уважаемой даже царем ратной фамилии, обходятся, как с выскочкой, прискакавшим сюда ради карьеры. Ни Гермоген, ни Лепилин даже не пожелали его видеть. Разве его опыт кадрового офицера-пограничника не пригодился бы здесь? А ему что поручили? Сбить десяток-другой мужиков в боевой отряд! Эка невидаль. Офицеры из Петрограда, куда поопытней да посмекалистей местных мужиков, и только поручи ему, Левонтьеву, он не десяток, а сотни офицеров доставит сюда немедленно. Но не станешь же все это вдалбливать худому, как кощей, мещанину с бородкой молоденького козлика.
Разочарованный вконец, Левонтьев подчинился воле судьбы. Ему оставалось одно — уповать на божью милость. Привычный уже тулуп с ядреным запахом овчарни, сгорбленная спина молчаливого возницы, накатанный тракт, словно проглаженная раскаленным утюгом полоска средь утопавших в снегу лесов, пахотных полей, — все знакомо, все уже надоевшее. По той же дороге, по какой он приехал в Тобольск, ехал он обратно в сторону Тюмени.
Дважды останавливались — не на станциях, а минуя их — кормить лошадей. Подкреплялись и сами, но Левонтьев так и не узнал, куда его везут. Возница выпивал стакан водки, крякал, звонко хрустел соленым огурчиком, выпивал второй стакан, но язык его, вопреки мудрой русской пословице, не развязывался. Чего он боялся, Левонтьев понять не мог.
Под вечер они свернули с тракта на лесной проселок, кони побежали резвее, вскоре розвальни выкатили на опушку, и Левонтьев увидел впереди, в низине, раскинувшееся привольно село с разнокалиберными домами и довольно большой церковью.
— Усть-Лиманка, — ткнув в сторону села кнутовищем, буркнул возница.
Правее села, в излучине реки, стояла заимка, внушительная, похожая на усадьбу мелкопоместного дворянина. К заимке стелился накатанный отвилок. На него и повернули розвальни.
Возница не остановил лошадей у парадного крыльца, а подъехал с тыла, к глухим воротам, за которыми, гремя цепью, захлебывалась злостью собака.
— Приехали, — резюмировал возница, хотя Дмитрий прекрасно видел это и сам. — Сейчас впустят.
Действительно, вскоре заклацали засовы, ворота мягко распахнулись, и розвальни въехали во двор, очень просторный, с рублеными гумном, конюшней, коровником, овчарней и большущим крытым сеновалом — чувствовалось, что здесь хорошо поразмыслили, прежде чем все это построить, а строили не тяп-ляп, а для себя.
— Коль приехали, так и ладно, — без малейшего доброжелательства встретил их бородатый мужчина в домотканой рубахе и домотканых портках, заправленных в белые мягкие чесанки. — Скидавай тулуп, мил человек. Иль благородием называть велишь?
— Я — офицер. Но… как здесь принято, так и обращайтесь.
— Не привычны мы благородиям поклоны бить. Казаки мы, от Ермака корень наш. Не обессудь. Меня зови Ерофей. Иль Ермачом, как казаки и усть-лиманские кличут.
Первый раз Дмитрий Левонтьев входил в крестьянский дом, и, хотя настроение его было испорчено столь своеобразной встречей и он понимал, что с этим бородатым мужиком не так-то легко будет найти общий язык, он все же с интересом разглядывал все: и сени, и комнаты, по которым вел Ерофей Дмитрия в его светелку. Ни хомутов и уздечек, густо смазанных дегтем и оттого духовитых, ни кур, ни телят, о чем много раз читал он в рассказах о крестьянском быте, ни затхлости и зловония, — все грубовато-простое, самодельное, но чистое. Лавки с бадейками на них, деревянные кровати, тоже самодельные, столы, табуретки — все сверкало чистотой, не крашеной, а скобленой. Воздуха в комнатах было много, он был тепл и свеж.
— Проходи, мил человек, сюда. Не хоромы, но… Чем богаты, тем и рады.
Комната, поболе той, которая несколько часов служила ему пристанищем в Тобольске, казалась почти пустой. У глухой стены — деревянная кровать с горой подушек в цветных наволочках; напротив кровати — широкая лавка; а у каждого окна (их было два) — непонятно совершенно, для какой цели, — по табуретке. Вот и вся обстановка. Если не считать герани на подоконниках. Здесь, в непривычных условиях, и предстояло жить Дмитрию Левонтьеву неизвестно сколько времени.
— Клади свой саквояж, не бойся, детей малых нет, никто не созорничает, и — к столу. Самовар уже готов.
Дмитрий недоумевал. Похоже, его здесь ждали. И комната приготовлена, и ужин ко времени.
«Верхового, должно быть, послали прежде, — с удовольствием думал он, и это возвышало его самого в своих глазах, — предупредили…»
Возможно, так оно и было, но выяснять это Левонтьев считал лишним, а хозяин сам ничего не объяснял. Стоял и ждал, пока гость вспушит свои жиденькие волосенки, и давал советы:
— Мы веры старой, потому не хватай за столом ничего сам, осквернишь. Что подаст хозяйка, Анастасьей ее звать, то и принимай. Отделила она посуду для тебя.
«Лихо! — безо всякой обиды думал Дмитрий, слушая Ерофея. — Судьба играет человеком… Бросает в бездну без стыда… Ну да ладно. Весьма все это становится любопытным».
За самоваром собралась вся семья Кузьминых. Хозяйка, оглядев гостя, пригласила:
— Милости прошу.
И по тому, что ударение было сделано на слове «прошу», и по властности тона Левонтьев понял: без ее согласия его в этот дом просто бы не впустили, а хозяйкой свою жену Ерофей называет не ради мужского снисходительного уважения.
— Сына Никитой кличат, — начал, на манер светских, знакомить Левонтьева с домочадцами Ерофей. — Силу бог дал ему, а умом обидел.
— Не греши! Не богохульствуй без нужды! — урезонила мужа Анастасья, но получила непривычную для нее отповедь:
— Замолкни, не смыслишь если.
— Пару с рота больше не выпущу, — вскинув гордо голову, с подчеркнутой обидой в голосе молвила Анастасья и принялась пододвигать поближе к весело посвистывающему самовару чашки.
Никита, глядя на мать лукаво, улыбался беззаботно, словно речь шла вовсе не о нем. Нет, за дурачка принять его было нельзя. Лицо открытое, привлекательное, глаза веселые, умные. Домотканая рубаха, совершенно нелепо сшитая, не безобразила его, а подчеркивала его ладность и неутомимую, не растраченную еще силушку.
— Приехал тут говорун в кожанке и бумажку сует. Вот, дескать. Америка на солдат тратит, дай бог памяти, пятьсот с малым миллионов каких-то фунтов, запамятовал, прости господи душу грешную, каких. Англия чуток поменьше, но тоже меры не знает. Франция, говорит, тоже не хочет лицом в грязь ударить. А в России, говорит, не густо. Трудно, стало быть, власть мужицкую защищать, потому, дескать, сын твой, Никита, значит, добровольцем должен идти, а всю справу солдатскую обязан, видишь ли, справить. Считал он мне тут, считал: шинелку, сапоги, исподнее, одеяльце, шаровары — без малого полста рубликов золотых насчитал. Карман чужой, не свой — чего ж не щедриться. Я ему супротив было намерился, а он цыкать давай на меня. Казак, говорит, извечно справлял сына на цареву службу, а ты для себя жадишься. Дак казак казаком и оставался. А тут ишь как ловко: сына справь — раз, мало того — хлебушко грузи. Лишек, вишь ли, имею. Ну и что?! Не грабил!
— Будущее ваше, как и будущее России, в ваших руках. Славное сибирское казачество всегда верой и правдой служило царю и отечеству, — немного красуясь, заговорил Дмитрий Левонтьев, а взгляд его уже приворожила хозяйская дочка, скромно ожидавшая на краю стола, пока дойдет до нее очередь и мать подаст ей чашку с чаем. — И сегодня вы не станете взирать равнодушно на то, как гибнет Россия. Вы спасете ее! Вы спасете императора, ибо…
— Погодь, погодь! Старой веры казаки царю не служили. Мял царь веру православную да давил, аж косточки наши трещали. — Осенил себя крестным знамением двуперстным и рек, как по писанию: — Царь, он — новолюбец, дияволом омраченный. Потерял он существо божие испадением от истинного господа, святого и животворящего духа. — Погладил довольно бороду окладистую и спросил с лукавинкой: — Очертя голову сподручно ли в омут кидаться? Сын мой, вот он — шаньги уписывает. Золотишком я не раскошелился, не на того говорун напал. Хлебушек, если с умом, тоже попридержать можно. Казаки, кто веры праведной, так размыслили: сломя голову не решать. Подождем, приглядимся.
«Закавыка! — подумал Левонтьев. Он никак не предполагал, что идея освобождения царя на хуторах и заимках воспримется прохладно. — Закавыка. Отчего же принял меня?»
Дмитрий мрачнел, все более и более осознавая свою ненужность не только в этой просторной заимке, но и вообще в этом глухом углу, где люди, живущие в суровой изобильности, представлялись Левонтьеву бурундуками: натаскали в гнездовья изрядно зерна и довольны донельзя. В общем, своя рубаха ближе к телу. Теперь Дмитрий уже не замечал ядреной статности дочери Ерофея. А когда тот, кивнув на нее, сообщил: «Акулиной звать. На выданье», машинально, даже не разобрав имени, склонил в поклоне голову, отчего жиденький чуб его вздрогнул, будто испугался чего-то, и девица прыснула сдержанно, принял поданную пухлой рукой хозяйки чашку, взял из тарелки, подставленной к нему поближе и специально для него, огромную румяную шаньгу и вовсе не заметил ни сибирской ее величины, ни ее румяной аппетитности — он как бы раздвоился: поступки его вовсе не соответствовали мыслям. Внешне уверенный, уважающий себя человек, на самом же деле он был обескуражен нелепостью своего положения и мысль свою подчинил поиску доводов, убедительных, весомых, в предстоящем разговоре с хозяином после чая.
«Непременно сегодня же следует выяснить, есть ли смысл оставаться здесь и далее», — подумал Левонтьев, но даже не представлял пока что себе, как сможет воздействовать на ум этого уверовавшего в правоту своего жизненного кредо старовера-беспоповца.
Спасательный круг бросил сам хозяин. Макая осторожно кусочком колотого сахара в чай, сказал неспешно, словно пробуя на вкус каждое слово, прежде чем выпустить его:
— Обежит завтра поутру заимки Никита. В Усть-Лиманку к мужикам пока повременит. Как мы порешим, они противиться не станут. Поперву гуртиться не след. Поменьше когда, понадежней будет. — Куснул побуревший краешек сахара, хлебнул смачно, с привздохом, из блюдца и продолжил: — Казаки, однако, могут поинтересоваться, чего это ради Ермач потемну народ колготит?
— Цель моего приезда… — начал было Левонтьев, но Ерофей одернул его:
— Повечерим чем бог благословил, а уж тогда и поведаешь мне в точности про свои дела.
И замолчал. Больше ни слова. Так, в подневольном, как казалось Левонтьеву, молчании и закончился ужин. А может, здесь принято за столом молчать. Привычно им так.
Женщины тоже молча убрали со стола, и мужчины остались одни.
— Начнем, благословясь, — погладив бороду, снисходительно разрешил Ерофей. — Давай, как ты сказываешь, цель твою.
— «Национальный центр» принимает меры для спасения царя силами русских людей, отказываясь от помощи германцев. И я прибыл сюда с уполномочиями создать боевой отряд поддержки…
— Погодь… В толк не возьму. Немец нам не сподручен, то верно. А что за такой центр национальный, ты вразуми? Кто коноводит?
— Основа нашего союза — верное монархии дворянство, цвет России…
— Закавыка, стало быть, — вновь прервал Ерофей Левонтьева. Ухмыльнулся недобро. — Эка, цвет. Пустоцвет да и тот ноне вовсе пообсыпался. Видел, мил человек, как пчелы роятся? Нет. То-то. Того не бывало, чтобы рой трутни вели. Не было и не будет. Хлебопашец — вот корень земли российской.
— Император Николай многое сделал, чтобы укрепить этот корень, — нашелся Левонтьев. — Наделы, кредиты на приобретение сельскохозяйственного инвентаря…
— Он-то, император твой, сбоку припека. Столыпин — вот за кого бога молить вечно будем, царство ему небесное, великомученику. Тракторишко мы тут артельное справили, механика выписали. Дело-то куда как споро пошло. Казаки, слышь, толкуют: царь, мол, и спровадил на тот свет горемыку.
— Такого не могло быть! — возразил горячо Левонтьев, но Ерофей вновь усмехнулся:
— Где звон, там и праздник. Платок на роток не накинешь.
Дмитрий Левонтьев был недоволен собой, что не мог повести разговор. Он лишь пытался сопротивляться и то не очень умело и ловко. Ни до чего они в тот вечер не договорились.
Не получилось благоприятного разговора для Левонтьева и на следующий вечер. Поначалу четверо бородачей, таких же, как и Ерофей, кряжистых, неспешных ни в словах, ни в решениях, основательно, до пота, посамоварничали. Пили молча и только отвечали односложно: «Благодарствуем» — хозяйке стола, назойливо требующей, чтобы гости пили и ели досыта, не стесняясь, и чувствовали себя, как дома. И лишь под конец застолья один из бородачей бросил:
— Слышь, Ермач, коммунию безбожную голодранцы гуртят.
— Ведомо мне, — ответил Ерофей добродушно. — Пусть их себе. Беда ль от того нам? Худо ль, если люди от безделья бегут да к земле поворачиваются.
— На нашу, слышь, землю они зарятся. Горланят на сходках, отнять, слышь, надо.
— После опохмелки горлы дерут. Зальют зенки, — серчая уже, возражал Ерофей. — А земли-то не мерено, — он щедро округлил рукой предполагаемые просторы, — корчуй леса да паши добрую землицу. По-соседски и трактором помочь можно.
Бородачи согласно закивали, но Ерофей досказал:
— Одно понять, казаки, надо: пьянь да лодырька не враз за ум возьмется. Ему где бы урвать кусок пожирней, он и доволен, прости его господи. Хлебнем с ними лиха.
И вновь закивали бороды согласно. Вздыхая праведно, причитали казаки-старообрядцы:
— Прости, господи, душу грешную.
Левонтьев томился за столом. Так много чаю пить он не привык, а молчаливая сосредоточенность его просто угнетала. Но он крепился и — в какой уже раз! — повторял в мыслях первую фразу беседы с заимщиками, шлифуя ее, отрабатывая интонацию. С нее он и начал, когда женщины убрали со стола и ушли в свои комнаты.
— Все мы, подданные России, — царевы слуги. Императору нашему богом дана самодержавная власть, и повиноваться этой власти не только за страх, но и за совесть сам бог повелевал!
Бороды закивали согласно.
— Сегодня император в руках большевиков. Сегодня империя, могучая и великая, рушится. Так можем ли мы, верные подданные империи, стоять в стороне?
Бороды закивали согласно, как бы подтверждая, что нет, не можем.
Левонтьев говорил, казаки кивали бородами, и это совершенное неучастие в разговоре заимщиков бесило Дмитрия. Он наливался гневом, ему уже было невтерпеж видеть эти в лад кивающие бороды, он хотел, чтобы казаки заговорили, и тогда он поймет их намерения, но они помалкивали, и он, сдерживая гнев, взывал к их гражданской совести… Когда же он исчерпал все свои доводы, Ерофей ответил за всех, словно они уже посоветовались и определили общую точку зрения.
— Повременим слово свое сказать. Ты у меня поживи пока, а там что бог даст. В селе делать тебе нечего. Если какая нужда станет, мы сами с божьей помощью управимся.
Вот и все. Оказался Дмитрий под домашним арестом. Да, рухнули вековые устои великой державы: мужик принуждает офицера, мужик поступает не по его указу, а по своему разумению. Видно ли было такое прежде? В великие бунты только. Но что мог поделать Дмитрий Левонтьев? Подчинился. И от скуки и озлобленности решил развратить Акулину. Причем в наступление пошел без предварительной разведки. Когда она вошла в комнату, чтобы помыть пол, и принялась по деревенской привычке подтыкать подол длинной юбки за пояс, он воскликнул картинно:
— Бог наградил вас, Лина, изумительными ножками!
Она вспыхнула, стрельнула сердитым взглядом, рука ее потянулась к поясу, чтобы опустить подол юбки, но не сделала этого. Женщины все одинаковы. Ни одна из них — ни ветреная модница, знающая цену любому комплименту, ни скованная предрассудками праведница — не устоит перед комплиментом, даже если поймет, что он любезности ради либо корыстен.
— Вы созданы, Лина, для любви. Ваши губы ярче весеннего мака (они действительно были у девушки необычайно сочной яркости), ваш поцелуй сведет с ума любого мужчину. Ваш стан, ваши изумительные груди… Ну-ну, не сердитесь! Вы действительно очаровательны. Вы даже не знаете, как вы прекрасны!
Левонтьев поклонился и вышел из комнаты, оставив Акулину скоблить табуретки, подоконники и пол, а заодно переваривать все, что он наговорил ей. Он понимал всю пошлость им сказанного, но даже радовался тому, что начало положено, и положено удачно. Не опустила же она юбку, не выбежала из комнаты в гневе.
«Она будет моей! — со злобной радостью думал он. — А то ишь ты: «В селе делать тебе нечего…» Что ж, найду здесь дело. Ты еще пожалеешь, старый дурак! Потомок Ермака! Эка невидаль…»
К финалу задуманной мести Дмитрий продвигался даже быстрее того, как предполагал сам. Весь следующий день он при всякой возможности ласкал взглядом Акулину, а то и шептал с наигранной страстью: «Люблю!» Акулина смущалась, отмахивалась, но глаза ее уже не метали молнии. Это придавало Дмитрию еще больше уверенности в успехе предприятия. А через несколько дней, когда мужчины уехали спешно куда-то с заимки и мать велела Акулине задать сено коровам и лошадям, Дмитрий вызвался помочь.
— Держал вилы ли в руках? — усмешливо спросила Анастасья и сама ответила: — Откудова, — но потом согласилась: — Силы-то что у бугая. Иди потаскай навильники.
Там, на сеновале, Акулина позволила себя поцеловать. И он попросил нежно:
— Приходи ко мне, когда все уснут.
Нет, Дмитрий не думал, что она придет в эту ночь, но на всякий случай старался не уснуть. Думал, вспоминал. И тоска, до невольного стона, навалилась на него. Так все поменялось! Быстро и неожиданно. Пока они спорили в своих салонах, пытаясь понять, отчего взбудоражилась Русь, волна, непонятая и непринятая, захлестнула их и понесла властно и безжалостно в преисподнюю.
И в тот самый момент, когда обида за упущенную, потерянную Россию достигла, казалось, кульминации, в тот самый момент осторожно приоткрылась дверь, в комнату вскользнула Акулина, торопливо, но тихо, на цыпочках, просеменила к кровати и юркнула под одеяло к Дмитрию. Жесткая, как взведенная пружина. Она решилась на отчаянный шаг, но сжималась от страха, от одной мысли о том, какой грех брала себе на душу.
— Умница ты, — прошептал Дмитрий, мягко прижимая к себе девушку. Он отходил сердцем и даже забыл, что к этой близости он стремился ради мести. — Ты прекрасна. Пойми это, Лина. Пойми своим женским сердцем и гордо неси свою красоту через всю жизнь…
— Ты мне сразу приглянулся, — шептала она робко. — Обходительный. Чубик на голове чудной такой.
Пришла Акулина к Дмитрию и на следующую ночь. Но уже не робкой девчонкой, а уверенной в себе женщиной, знающей себе цену и имеющей перед собой ясную цель. Уходить она в ту ночь совсем не спешила. Дмитрия такое ее поведение привело в смятение. Он вовсе не желал, чтобы Ерофей и Анастасья прознали о ночных свиданиях. Выгонят, чего доброго, из дома. И подводы доехать до Тобольска не дадут. А в Тобольске кому он нужен? Да и в Петрограде что скажут? Все — отрезанный ломоть.
Он, обольщая Акулину, предполагал, что связь их будет тайной, какие бывали у него прежде с горничными, ни о каких-либо возможных требованиях со стороны девицы вовсе не думал. Увы, планы Акулины оказались иными. Она, как бы набивая себе цену, играла в страсть. А потом заверила Дмитрия:
— Я такой всегда буду. Всю жизнь.
В пот бросило Дмитрия от такого признания. Он не находил слов для ответа, хотя все его существо жило в этот момент одним желанием — объяснить этой крестьянке, что нет такого узла, который мог бы связать их на всю жизнь. Дмитрий даже сел на кровати.
— Свататься только повремени, — не замечая волнений Дмитрия, продолжала Акулина. Говорила уверенно, словно давно все взвесила и выстрадала: — Прогонит тебя отец, а то и в тайгу свезет. И мне не жить. Запорет чересседельником.
Шумно, хотя и пытался сдержать, но не в состоянии был это сделать, вздохнул Дмитрий и расслабленно опустился на подушку. Акулина глянула на него понимающе, прижалась крепко-крепко и успокоила:
— Не бойся. Я придумала, что делать. Ты у отца возьми «Стоглав», «Кириллову книгу», «Житие Аввакума» — у него много святых книг, он коноводит в округе, — почитаешь их, старообрядство примешь душой, тогда и благословение получим.
Нисколько не волновали ее проблемы освобождения царской семьи. Она решила женить Дмитрия на себе, и, значит, все должно идти так, как ей видится. Ну а Дмитрия устраивала временная оттяжка развязки. Завтра будет день — будет и пища. Сегодня же можно чувствовать себя поспокойней.
Действительно, у Ерофея оказалось много весьма редких книг, о которых Левонтьев даже ничего не слышал. Что он знал о расколе? В гимназии, на уроках истории христианской православной церкви, им объясняли, что поводом к расколу послужило то, что в XV–XVI веках митрополиты русские, а с учреждением в Москве патриаршего престола — и патриархи пытались исправить погрешности в богослужебных книгах, какие произошли в период монгольского ига.
Но слышал Дмитрий как-то в своем доме то, что никакого бы раскола не произошло, если бы не повздорили меж собой Никон с Аввакумом. Дмитрий вспомнил о том салонном разговоре, когда, перебирая принесенные Ерофеем книги, увидел «Житие Аввакума». С этой книги и начал свое, как он определил, вынужденное познание непознанного прежде.
И удивительное дело, начав с явной неохотой, даже с отвращением, едва переборов себя, он совершенно незаметно увлекся и даже не заметил, как подошло время обеда. Когда же прочел «Житие», то совершенно согласился с тем, что только смертельная обида Аввакума, который вместе с Никоном участвовал в исправлении книг, но которого Никон, став патриархом, вероломно оттолкнул от себя, — только эта обида толкнула уважаемого не только в церковных кругах, но и в светских Аввакума на безрассудство. А за сильным человеком, каким виделся Дмитрию Аввакум, всегда пойдет стадо. Даже в пропасть.
Сделав для себя такой вывод, Дмитрий посчитал, что совершенно нет нужды читать все принесенные Ерофеем книги, покоившиеся аккуратными стопками на табуретках, взял одну из них лишь из-за скуки. Но больше уже остановиться не смог. Без названий, иные без начала и без конца книги эти, как соучастники всех бед и страданий старообрядцев, раскрывали глаза Левонтьеву на неведомый доселе мир. Дмитрий все более и более понимал истинную причину, ради которой не единицы, не десятки и даже не сотни, а тысячи русских людей с непостижимым мужеством переносили позор публичных по́рок, молчали или проклинали извергов на пытках, гордо принимали смерть и даже, демонстрируя ненависть к притеснителям и верность избранному пути, сжигали себя в своих добротных пятистенниках или теремах — то было упорство передовой части русского народа, вступившегося за привычный и соответствующий их духовному складу житейский мир.
Дмитрий Левонтьев настолько увлекся чтением старообрядческих подпольных книг, так был взволнован узнанным, столько мыслей навеяло ему чтение, что он выходил из своей комнаты лишь на завтрак, обед и ужин, а ночами, когда, прошлепав босыми ногами по комнате, юркала в его кровать Акулина, он даже досадовал.
— Иль не мила тебе? — с обидой шептала она, не понимая причины его холодности. И спрашивала: — Не сподобился приобщиться? — И предупреждала: — Не ровен час, прознают мать с отцом.
А Дмитрию было не до затеянной игры в любовь, не до отца с матерью этой по-деревенски хитрой и хваткой девицы — рушился его духовный мир, рушилось все, что прежде ему казалось святым и ради чего он, собственно говоря, приехал сюда. Теперь ему просто смешным казалось, что иногда в салонных вялых спорах обвиняли его отца в славянофильстве, и отец, похоже, гордился этим. Да, в их доме старались подражать русскому быту, но теперь Дмитрий понимал, как смешны были в спальне отца и в его кабинете половики, связанные из крученых разноцветных ситцевых лоскутов, специально для этой цели купленных; как неуклюже выглядела церемония начала обеда, когда никто не смел взять ложку либо вилку прежде, чем это сделает глава семьи, — все это нарочитое подражание тому, чего и сам-то генерал Левонтьев совершенно не знал, виделось теперь Дмитрию как насмешка над истинно русским началом, истинно русским корнем.
Любить Русь и быть монархистом — две вовсе несовместимые вещи. Ратовать за царя, в крови которого не осталось ни капли от романовского рода, и отказываться от помощи немцев для его освобождения — поступки не менее несовместимые. Теперь он вполне понимал и даже оправдывал осторожность казаков-староверов, которые и были тем самым корнем развесистого русского дерева, питали его и, быть может не совсем осознавая своей сути, поступали, однако, мудро, оберегая себя от любого лиха…
Так, неожиданно для него самого, менялись у Дмитрия взгляды и оценки, такой душевный перелом переживал Дмитрий Левонтьев и мучительно решал, как поступить ему дальше, какой избрать путь, чтобы он был честным в первую очередь для самого себя. Дмитрию сейчас было вовсе не до любви, порожденной чувством мести, не до возможных последствий этой любви.
А дни бежали. События, о которых Левонтьев до поры до времени ничего не знал, разворачивались стремительно. Земля, вековечный предмет кровавых битв, и в этой таежной медвежьей берлоге схлестнула людей. Да так перепутала, что уже не разложить по полкам. Все были по-своему правы. Заимщики не хотели поступиться даже малой толикой своих немереных пашен и угодий, коммунары же не собирались корчевать тайгу, а требовали перемерить землю, справедливо доказывали, что и их по́том окроплены пашни заимок. И конечно же, своего добились — не царское ведь время. Трактор тоже конфисковали. Тогда казаки-заимщики собрались у Ерофея. Такие же молчаливые, как и при первом знакомстве с Левонтьевым. Все больше кивали бородами, чем говорили. Лишь на одном стояли твердо, одно повторяли упрямо:
— Вези винтовки. Что повелишь, то и станем делать. Винтовки только вези.
Требование это нисколько не обрадовало Левонтьева, ибо понимал он случайность возмущения казаков. Завтра трактор им вернут, и они утихомирятся. К тому же монархическая преданность его расшаталась основательно. Отказать, однако, казакам он не мог, зная, что сразу же будет выставлен за ворота заимки. И это самое лучшее, что с ним произойдет. Узнай, каковы мысли этих бородачей-молчунов? Наверняка в головах их не одни молитвы.
«Повязать нужно их. По рукам и ногам повязать, — думал Дмитрий, делая вид, что осмысливает их просьбу, прежде чем дать ответ, — но каким образом повязать?»
Бородачи ждали терпеливо, но в конце концов Ерофей не выдержал:
— Не по нраву просьба?
— Нет, по нраву. Снаряжайте кошевки к Криушину Гурьяну Федоровичу. Я пошлю записку. Только вот о чем я думаю, — неспешно заговорил Дмитрий Левонтьев, все еще не находя нужного решения. — Как провезти, чтобы большевикам в руки не попасть, способ сами найдите. — И тут его осенило. Но он не изменил ни тона, ни темпа речи. — Оружие мы получим для спасения императорской семьи, его, однако же, можно использовать для того, чтобы отстаивать свои интересы, все это так. Стоит ли, однако, ждать винтовки? Коммунаров можно остепенить и без них…
Бороды не закивали в знак согласия. А Ерофей, словно определил мысли всех, усомнился:
— Их поболе нас. Не осилим.
— Стенка на стенку, что ли? — ухмыльнулся Левонтьев. — Шума много, а толку чуть. Я другое предлагаю. Поодиночке их. И в первую голову — заводил.
Бороды не шелохнулись. Молчал и Ерофей. Долго молчал. Утомительно долго. Наконец двухкратно перекрестившись и пробормотав: «Прости душу грешную», изрек:
— Дело, мил человек, говоришь. Надо, казаки, тракториста порешить. Из комсомолят Павла Пришлова обучать взялся. Нельзя этого допускать. Уберем, пока не поздно. Пусть ржа трактор жрет. Не нам, так и не им!
Бороды закивали согласно. Ободренный Ерофей продолжал:
— Голодранцы дотемна навоз в поле возят. И так удумали: грузят в селе одни, на поле рассыпают другие. Вот и перехватим трактор на елани.
— Верно. Сжечь, прости господи, и трактор, — предложил один из бородачей, и все согласились.
Дмитрий ликовал. Теперь всех этих уверенных в себе и независимых сибиряков он подомнет медвежьим обхватом. Станут замаливать тяжкий грех, взятый на душу. Усердно замаливать. И не одними молитвами. Только бы не отказались от задуманного предприятия.
Нет, всерьез принялись бородачи советоваться, кого отрядить в засаду и когда. Долго прикидывали, примерялись и порешили: каждый посылает своих сыновей (так сподручней и поспокойней), а верховодить определили Никиту. В долгий ящик дело не откладывать, разделаться с трактористом завтра же вечером.
Весьма довольный собой уходил Дмитрий в свою комнату, где ждала его приятная ночь в объятиях Акулины. Сегодня он может быть с нею более ласковым…
На следующее утро проводил Дмитрий посланцев на двух кошевах в Тобольск и вновь принялся за чтение, но теперь не столько раздумывал о судьбах раскола, о роли раскольников в сохранении русского духа на Руси, о их большом вкладе в расцвет экономики империи в екатерининский период, когда прекратились гонения на них, — он не мог отвязаться от липкого вопроса: «Не передумают ли? Не испугаются?»
Ему никто ничего не сообщал, и оттого он еще больше волновался.
Нехотя подползла ночь. Пришлепала Акулина. Но он отправил ее обратно. Объяснил:
— Вернется Никита, могут меня позвать. Попадемся.
— Когда же отца спросишь? Иль не по душе вера наша? Я — по душе, а вера — нет? Так не бывает. Сколько можно телиться? Прознают, ой прознают!
— Повремени еще самую малость. Все образуется.
— То-то! — с торжественной удовлетворенностью проговорила она. И добавила уверенно: — Объединил нас грех, куда теперь деваться?!
Ночью его никто не потревожил, а утром в комнату вошли Ерофей и Никита. Они, сердито посапывая, не глядели друг на друга.
— Проходите, садитесь, — указывая на стоявшие у окошек табуретки, пригласил Левонтьев, уже почувствовавший, что в задуманной операции случилась осечка.
— Нет нужды. Мы — за советом. Вот эти молокососы-несмышленыши испортили все дело. — Ерофей сердито оглядел сына, словно давно его не видел и теперь понять пытается, как велика перемена в нем. — Боров и боров, а в деле — ципляк.
— Так что же произошло?
— Павел, вишь, Пришлой на тракторе ехал. Обучился, гаденыш.
— Убрали его? Разве плохо? И тракториста уберете следом, пока нового не обучит…
— В том-то и дело, что жив. Павел-то в отца весь, горлопан из горлопанов. Тот мутил в селе воду вечно, пока не выжили его на прииски. Вернулся, как царя сбросили. Сам-то теперь мужиками верховодит, а сын парней гуртит. В Тобольск на сходки его посылали. В Тюмень — тоже его, сукина сына.
— Разве было плохо, если бы вожака выбили? Что помешало?
— И я то же твержу! — вновь сердито бросил взгляд на сына Ерофей. — Порешили бы, так и концы в воду. Теперь-то как? Жив он! — И к сыну повернулся: — Расскажи, как нашкодили!
Никита начал выдавливать слова:
— Слышим, затарахтел трактор. Потом и фонарь замаячил. Вышли, значит, на дорогу. Глядим: Павло восседает. Стащили его. Фонарь, что дорогу освещал, сняли с носа трактора — да керосином в морду Павлу. Остатки — на трактор. Подпалили факелы. Давай смолить гаденыша. Трактор тоже огнем занялся. Тут, глядим, с поля мужики бегут…
— «Бегут-бегут»! — передразнил Ерофей. — В штаны, скажи, наклали. — И пояснил Левонтьеву: — До села сам гаденыш приполз. — Вздохнул сокрушенно. — Трактор тоже целехонек, язви его…
— Постойте, гнев — плохой помощник в любом деле. Выход всегда можно найти из самого трудного положения.
Дмитрий уже понял, что задуманный им план удался не в полную меру и что нужен какой-то новый шаг, новый поворот, нужно во что бы то ни стало раздуть огонь, который лишь занялся. Тогда только казаки-заимщики хотят или не хотят, а объединятся, защищая себя. И будут в его руках послушны. Он нашел этот поворот. Блестящий, как ему показалось.
— Не та вера свята, которая мучит, а та, которую мучат, — степенно заговорил он, подражая сибирской манере взвешивать каждое слово. — После того, что произошло, молодой тракторист — мученик за веру. Но добро бы, если только в селе ему в рот станут заглядывать — что ни скажет, все правда, — а то ведь в гору пойдет. Раз в Тюмень съездил, стало быть, знают его там. А пробьется в верха, мстить станет непременно. Его поначалу нужно для верхов похоронить, а уж при случае и вовсе убрать.
— Закавыка какая-то. В толк не возьму. Живого, что ли, закопать? — недоуменно спросил Ерофей. — Растолкуй, мил человек.
— Писать, Никита, можешь? — вопросом на вопрос ответил Левонтьев. — Ну вот и прекрасно. Карандашом хорошо бы.
— Есть у меня, — оживился Ерофей, — фимический.
Левонтьев вырвал из ученической тетради листок, смял его в кулаке, затем расправил на подоконнике, пошаркал, чтобы загрязнить, и только тогда подал Никите:
— Садись пиши.
Никита, умостившись у подоконника, послюнявил карандаш и выжидающе поглядел на Левонтьева. Левонтьев прошелся по комнате, затем встал, скрестив руки на груди, рядом с Никитой.
— «Мироеды спалили нашего любимого вождя комсомольцев коммуны. Но нас не испугаешь. Мы за свое правое дело стеной встанем. Спалили Павла Пришлого за то, что на трактор он сел. По поручению комсомольцев Усть-Лиманки Кедров».
— Таких отродясь в нашем селе не бывало, — возразил Ерофей. Он явно был обескуражен, даже напуган происходящим, но не знал, как вмешаться, и вот нашел повод. — Нет Кедровых в Усть-Лиманке.
— Не Кузьминым же подписываться, — с ухмылкой ответил Дмитрий. И повелел Никите: — Сворачивай треугольник. Вот так. Пиши адрес: «Тюмень. В партийный комитет большевиков. От селькора Кедрова». — Подождал, когда Никита, слюнявя карандаш, выведет адрес, затем, уже тоном непререкаемого приказа, добавил: — Сегодня же письмо необходимо отправить.
Не вдруг, не сразу Ерофей сказал свое: «Ладно». Вначале прочитал, трудно, по слогам, написанный сыном адрес, покрутил треугольный конверт и так и эдак, будто в нем могла быть скрыта тайная опасность. Наконец согласился. И то с неохотой:
— Ладно уж, вези. Так и быть.
Разворошил тлевшие угли вековой вражды Дмитрий Левонтьев, закипели страсти и на заимках, и в Усть-Лиманке, и только природа продолжала жить по своим незыблемым устоям. Приближалась весна. Днем уже начинало пригревать солнце, снег тяжелел и оседал, а утренники сковывали его ледяным панцирем. Все повторялось с методичной последовательностью. Борьба шла равная: весеннее тепло наступало, но мороз упирался стойко. Такая же равная борьба шла и в душе Дмитрия. Понимая нелепость своей миссии, он не мог побороть в себе впитанное с молоком матери монархическое низкопоклонство. Ему хотелось бросить все и уехать отсюда куда глаза глядят, но он терпеливо ждал, когда доставят из Тобольска оружие, а вместе с ним и необходимые инструкции, которые определят его роль в общем заговоре.
Вносила смятение в его и так до предела запутавшиеся мысли и Акулина. Требования ее становились ночь от ночи настойчивее. И вот последний ее козырь:
— У нас будет ребенок.
Дмитрию оставалось одно: обещать. И он сделал это:
— Завтра же поговорю с твоим отцом.
А сам даже не представлял, что произойдет завтра, как он сможет оттянуть время еще бы хотя на чуть-чуть.
«Образуется как-нибудь. Образуется непременно, — убеждал он себя. — Нелепо хоронить себя на этой заимке, в медвежьем углу. Не может бог не смилостивиться…»
Утром, к радости Ерофея, и особенно к радости Левонтьева, прибыли кошевы с оружием. И что еще более обрадовало Дмитрия, сопровождал его подпоручик Хриппель Яков Тимофеевич, молодой мужчина благородной худобы. Даже тулуп не мог скрыть его интеллигентности. В народе о таких говорят: через губу не плюет. Левонтьев и Хриппель были несколько лет назад представлены друг другу в офицерском собрании, обменялись приличными к случаю фразами и раскланялись. Больше не встречались. И вот — неожиданность.
— Верен глас предков: гора с горой не сходится, а человек с человеком… — молвил Хриппель, позволяя стягивать с себя тулуп.
— Теплынь на улице, а ты по-зимнему.
Дмитрий настолько рад был гостю, что обратился к нему на «ты», не думая о том, как воспримет это едва знакомый ему подпоручик. Но Хриппель, тоже обрадовавшийся столь неожиданной встрече, поддержал Дмитрия:
— Никогда бы не предположил увидеть тебя здесь, в такой глуши. — И спросил: — Мы сможем уединиться?
— Да, конечно.
Дмитрий провел гостя в свою комнату и с картинным полупоклоном предложил:
— Располагайся. Мои апартаменты в твоем распоряжении.
Хриппель вздохнул грустно, брезгливо взял табуретку, переставил подальше от окна, но сесть не решился.
— Такие лишения! И ради кого? Рубит себе дрова зауряд-прапорщик. Сам бреется. Прост и доступен. Весьма доволен судьбою…
— Либо уверен, что будет вызволен из большевистских когтей и поднимет знамя борьбы за старую добрую Россию?
— Ты же не веришь этому. Никто не верит. Какой он знаменосец, этот штык-унтер?! Скажу более того, никто не решается сделать первого шага. Большевики готовятся увезти царскую семью из Тобольска, готовят кошевы, но на всякий случай, если снег сойдет, тарантасы тоже. А нам никто никакой команды не дает. Привез я тебе оружие, а для чего, собственно, не ведаю. Или у тебя есть уже инструкции?
— Да нет же. От тебя жду.
— Бежать нужно отсюда. Бежать, не теряя попусту времени. Наше место там, где мы, офицеры, нужны. Довольно кормить клопов и жить с теми, кто презирает нас, брезгует нами. Мыслимо ли терпеть такое, что эти сытые, самодовольные кроты признают поганою любую вещь, к коей я прикоснусь. Курить не смей! К женщинам не прикасайся! И повторяю, ради каких идеалов все эти унижения? В Тобольск я больше не ворочусь. Велю вознице в Тюмень править.
— И куда путь затем?
— Подумывал на Дон, к Краснову, но… Хочет тот «независимое донское государство» передать под протекторат Вильгельму Второму. Такое мне не по душе. Колчак — вот личность сегодня. Семенов атаман. Да и поближе к ним.
— Я — с тобой! — решительно заявил Дмитрий Левонтьев. — Только просьба есть. Скажем, что увозишь меня всего на несколько дней, Чтобы получить инструкции.
— Если это так необходимо.
— Да. Дочь хозяйская. Она ждет ребенка.
— Невообразимо! Староверка — и сближение?! — воскликнул Хриппель и даже рассмеялся. Затем, посерьезнев, посоветовал: — Оставь свою родословную. Вдруг — сын.
— Верный совет, — согласился Дмитрий и облегченно вздохнул. Он как-то искупал этим свою вину не только перед хозяйской дочерью, но и перед хозяином заимки, перед всеми бородачами-староверами, которых, как он считал, столкнул с коммунарами. Признание за будущим ребенком своей фамилии, думалось Дмитрию, искупит в какой-то мере все то жестокое, что сотворил он в этом мирном хлебопашеском уголке Сибири. Полного, однако, успокоения он не получил. Он понимал, что вражды между селом и заимками все равно не миновать было, но она могла лишь тлеть, теперь же о раздутое им пламя обожгутся многие, а многие и вовсе сгорят в нем. Не утешится и Акулина. Ей нужен муж, а не бумажка, хотя и бесценная.
Нет, не с чистой совестью уезжал Дмитрий Левонтьев с заимки, терзался этим, но даже не представлял, что все его теперешние терзания покажутся скоро, совсем скоро, смешными, а сделки с совестью станут привычными.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Телеграфные аппараты с безразличной монотонностью выбивали на серых бесконечных лентах Декрет о мире, Декрет о земле… И, словно подхваченная штормовым ветром, неслась новость от гарнизона к гарнизону, от поста к посту, будоража и без того уже переполненные сомнениями казачьи головы. Казармы — что твои ульи.
— Мир! Службе, стало быть, конец. По станицам и куреням, стало быть, время настало, — радовались одни.
— Погодь. Что командиры определят? — рекомендовали другие, но большинство казаков-пограничников твердо стояли на том, чтобы с постов не сниматься, а дозорить, как и прежде.
— Уйдем мы — все вмиг растащут! — горячо убеждали они сослуживцев. — Сарты много ли накараулят, а у соседушек наших глаз волчий, дай им волю, оскалят пасти. А сарты-богачи что натворят? В веки вечные не расхлебаешься. А уж могилы сотоварищей наших ратных посквернят перво-наперво. Тяжел грех на наши души падет. А командиры что? Нашу волю примут. Или — скатертью дорожка.
У офицеров тоже дым коромыслом. Только тех, кто призывает продолжать охрану границы, поменьше числом. Туговато им, но крепятся. Иннокентий Богусловский горячится:
— Господа! Как же можно бежать? А долг? А присяга?!
Карие глаза его возбужденно горят. Он то и дело откидывает пятерней, как гребенкой, падающие на лоб густые льняные пряди, а затем рубит ребром ладони воздух.
— Нельзя, господа, бежать! Перед Россией мы в ответе. Честь наша…
— Красиво все это, Иннокентий, — с ухмылкой перебил его Андрей Левонтьев, — только честь твоя давно… того, с изъянцем. Неужто, позволь тебя спросить, забыл ты, отчего здесь оказался?
Богусловский вспыхнул, но огромным усилием воли сдержался, чтобы не ответить резкостью Андрею, не отвлечься от главного. Проговорил, отсекая каждое слово:
— Я никогда и никому не прощал лицемерия, лжи и тем более подлости.
— Только ли? — вновь с ядовитой ухмылкой спросил Левонтьев.
Вопрос этот, а главное, тон отрезвили Богусловского совершенно. Левонтьев явно дергал нервы, зная его вспыльчивость. Ведь он, не в пример другим, хорошо знал, что только щепетильность в отношении и с коллегами, и с начальством сделала Иннокентия Богусловского нелюбимым в Петрограде, и тогда он написал рапорт, в котором просил направить на трудную границу. Просьбу уважили. Определили и должность — командир взвода. Большое понижение, но он согласился. Отец тоже благословил, сказав на прощание: «Я не упрекаю тебя ни в чем. Но в Туркестане ты, наверное, услышишь о мудром житейском правиле: среди колючек будь колючкой, розою благоухай среди цветов, — услышишь, поймешь, поверишь и, уверяю тебя, примешь это правило».
И об этом благословении знал Андрей. Не ему задавать вопросы-загадки! Конечно же, хочет он раздразнить его, Богусловского, спровоцировать грубость, отвлечь тем самым всех от принципиального спора, подменить его мелочной перебранкой.
«Шустер. Эко, шустер, негодник!» — с неприязнью думал Богусловский, все более успокаиваясь. Даже улыбнулся, прежде чем заговорить вновь. Оглядел все офицерское собрание и рубанул решительно:
— Я не дезертир! Я остаюсь! Теперь же иду к нижним чинам и сообщу им о своем решении. Я не желаю быть проклятым потомками.
Повернулся и твердо, уверенный в правоте своего решения, направился к выходу, вовсе не обращая внимания на вспыхнувший с новой силой спор. Когда он вошел в казарму, казаки притихли, Богусловского они уважали. Это — не Левонтьев. Тот никогда доброго слова не скажет. В морду не бил, но, казалось, даже брезговал разговаривать с ними, нижними чинами. Богусловский — это свойский офицер. Однако и он в казарму вот так, запросто, никогда не входил. Что привело его нынче?
Почувствовал Богусловский недоуменность и настороженность — и сразу быка за рога:
— Вы вправе недоумевать по поводу моего появления. Откроюсь: пришел агитировать. Теперь это слово в моде. Только как это делать — не знаю. Скажу одно: с границы я не уйду! Надеюсь, и вы не станете дезертирами.
Загалдела казарма, зашлась в перебранках. Всяк на своем стоит. Словно толкучка в базарный день, а не воинское подразделение.
Подождал немного Богусловский, пытаясь определить, чья берет, затем скомандовал зычно и властно:
— Выходи строиться!
Оказалось именно то, что надо. Привычна казаку команда. С детства привычна. Послушно потянулись на плац и выстроились согласно ранжиру. Тоже привычному за годы службы.
— Вы прекрасно знаете, какое ключевое направление мы охраняем, — заговорил, встав перед строем, Богусловский. — Так же прекрасно знаете вы, как алчны контрабандисты. И еще… Здесь нет никого, кроме пограничников, кто бы защитил этот край Российской империи от вторжения иноземцев…
— А теперь этого ни от кого не требуется, — с усмешкой прервал Богусловского Левонтьев, который, увидев построившихся пограничников и Богусловского перед строем, поспешил на плац. Для Богусловского же появление Левонтьева было неожиданностью, и он даже растерялся, услышав его голос за своей спиной. Левонтьев, понявший это, сразу же завладел инициативой.
— Слово «вторжение» — архаизм чистейшей воды. Всякая нация определяет свои границы сама. Сарты сами разберутся, нужна им эта земля либо нет. Сами установят, где им тянуть границу. Любое противодействие их воле незаконно. Согласно Декрету о мире, принят который на съезде Советов народных… Правда, я не припомню, чтобы мы кого делегировали на съезд. Не народ, видимо, мы… И все же закон принят, его следует уважать.
— Тебя-то не пустят на съезд, ты не казак и не солдат, — бросил кто-то из третьей шеренги, и по рядам прокатился приглушенный смешок, словно шаловливый ветерок прошелестел по зеленым фуражкам.
Левонтьев нисколько не смутился. Надменно оглядел строй, не выделяя, видимо, ни одного лица. Казаки для него были серой массой, глупой и послушной. В каждом жесте, в каждом слове Левонтьева чувствовалась уверенность, и это делало его, и без того отлично сложенного, холеного, в прекрасно подогнанной по фигуре полевой форме, красивым. Он буквально цитировал Декрет о мире, подминая под себя его главную мысль, извращая, в угоду себе, саму его суть. Но делал это весьма эффектно и потому убедительно.
А что Богусловский? Он прекрасно понимал, что сейчас важны не только слова, но и тон, каким они будут сказаны, важна демонстрация командирской уверенности и четкости, что всегда нравится казакам, — все это понимал Богусловский, но, к своему неудовольствию, чувствовал, что во многом проигрывает Левонтьеву, пытался перехватить у него инициативу — увы! — безрезультатно. Левонтьев играл, он был эффектен, он наступал, Богусловский же оборонялся. Актерничать он просто не мог…
Левонтьев, пружинно покачиваясь на носках, благословенно вскинул руки:
— Бог свидетель: не я говорю, говорят Советы! Отныне аннексия вне закона. Да-да, вне всякого закона! Если мы граждане России и не враги новой власти, то мы просто обязаны разъехаться по своим станицам, по своим городам. Ибо осуждено Декретом о мире всякое насильное присоединение или насильное удержание слабой нации силою…
— Воля народа здешнего выражена в добровольном присоединении к России, — возразил как можно спокойней и уверенней Богусловский, хотя все более и более раздражался и тем, что Левонтьев так нагло, но весьма умело скрывая наглость, переиначивал смысл декрета в свою пользу, и тем, что сам он лишь бегло прочитал принятые на съезде Советов декреты, не отвергая их, но и не принимая близко к сердцу. Он верил в силу народного разума, он рассуждал так: не может ошибиться такой большой и сильный народ. Пусть поначалу получится у него, не знавшего прежде власти, какая-либо неувязка и неурядица, но он осилит все это и определит себе верный путь. Свое место в этой взметнувшейся волне он видел ясно и определенно: охранять, как и прежде, границу России. Оттого так спокойно отнесся он к первым законам новой власти, восприняв их как первый пробный шаг. И как теперь оказалось, зря. К спору с Левонтьевым он не был готов. Но не признать же правоту левонтьевского принципа?!
— Мы — не насильники. Мы — защитники этого края…
— Отчего же никто, кроме баев и мулл, не жалует нас своей признательностью. Волками смотрят сарты, — с усмешкой перебил Левонтьев.
— Не более того, сколько ненависти выказывал русский мужик своему помещику, его стремянным да заезжачим. Теперь же все иначе станет…
Казаки молча слушали пустую, по их мнению, перебранку господ офицеров, не вдумываясь в суть спора, в его корень, его основу. Дело казаков — служить. Так заведено испокон веков. А землицы им за это отмеряли отменно. А где служить — не все ли равно. Куда пошлют, там и неси службу исправно. Казакам казалось, что когда говорит один, то он прав, когда другой, тоже прав. Только поручик Левонтьев, хотя и поганый он человечишко, уверенней держится, стало быть, у него правды поболее. Не хочется ему верить, а гляди ты — верится.
Левонтьев наседает:
— Если какая бы то ни было нация удерживается в границах данного государства насильно, как трактует Декрет о мире, вопреки выраженному с ее стороны желанию в любой форме — на собраниях, в печати ли, свободным ли голосованием, — это аннексия, это, стало быть, незаконно. Сарты не единодушны по отношению к новой власти, и не нам, а самой власти, которая заявляет о неприятии аннексии, произвести поголовный, если хотите, опрос. Не нам же, извините, делать это. Мы — солдаты, мы — не политики, мы — не власть, — он спружинил на носочках, закинул руки за спину, поглядел с ухмылкой на примолкшего Богусловского, словно призывая его выложить козырную карту и в то же время осознавая, что противник его просто не в состоянии это сделать. Спружинил еще раз на носочках и, устремив посерьезневший взгляд на насупившихся казаков, спросил строй: — Кто о земле декрет читал?
Встрепенулся строй. О ней, о земле, в казарме до хрипоты спорили. И так новый закон примеряли и эдак. Дружно ответили Левонтьеву:
— Как не читать? Читали все.
— А много ли корысти в том? — пренебрежительно ухмыляясь, бросил Левонтьев вопрос строю.
Забубнили казаки недовольно. Не дураки же они. А что земли касается, тут их вокруг пальца не обведешь. Обман да фальшь враз сообразят.
— Чем не довольны, служивые? — все так же надменно и пренебрежительно оглядывая строй, спросил Левонтьев. — Шевелить мозгами никогда не вредно. Давайте и пошевелим. Если вдуматься в корень вопроса, то что же, служивые, выходит? Вся земля: частновладельческая, общественная, крестьянская отчуждается безвозмездно, обращается во всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней…
— У рядовых казаков не конфискуется, — возразил кто-то из строя, и по строю прошелестел ветерок.
Левонтьев моментально парировал реплику:
— Уездные Советы определяют, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации. Слова-то эти не выбросишь из декрета никуда. Советы и определяют форму пользования землей: частновладельческую, либо общественную. Но только те получат землю, кто при ней будет. Нет тебя, и земли тебе нет, ибо… вдумайтесь: «…переходит в пользование всех трудящихся на ней». Вот и судите, казаки, да рядите. Мы здесь торчим, не ведая чего ради, а землица наша отобрана и поделена. Когда возвратимся к очагам своим, за нами, так в декрете сказано, не мною выдумано, как за пострадавшими от имущественного переворота, признают право на общественную поддержку, — усмехнулся недобро. — Дадут милостыню. А то и нет. Презирать еще станут да гонение чинить за то, что мы незаконно аннексировали малый народ — сартов. Дело ли, казаки, из-за них, вонючих, оставаться здесь?
— Это подло, Андрей! — в гневе воскликнул Богусловский. — Это — профанация. Где, когда, скажите мне, правительство забывало своих защитников?!
— Я покидаю гарнизон! — словно не слыша Богусловского, зычно крикнул Левонтьев. — И предлагаю: кто со мной — два шага вперед!
Тихо-тихо вдруг стало. Да и объяснимо, отчего перехватило дыхание у многих. Спорить да доказывать друг дружке, тут вольготно, тут — размахнись рука, раззудись плечо. А когда твоя судьба в твоих руках и вмиг определиться требуется, тут — боязно.
Но вот шагнул отчаянно один, за ним — другой, третий. И раскололся строй. Два шага между казаками, а что тебе пропасть. Вчера они вместе, стремя в стремя, дозорили, вместе валили коней и, смахнув карабины с плеч, отстреливались от джигитов заматерелого контрабандиста Абсеитбека, сегодня же они стали врагами, еще не вполне осознавая весь трагизм происшедшего.
Через полчаса конный строй выезжал из гарнизона. Впереди горячил тонконогого текинца Левонтьев. Замыкали строй офицеры.
— Вольготно так не зря ли пускаем? — усомнился усатый молодец из оставшихся в крепости казаков, которые все еще толпились на плацу. — Поотымать бы все?.. Или пулеметом прочесать?..
— Поди попробуй! — возразили ему. — Их-то поболе нас.
Богусловского больно хлестнули эти слова. Он считал себя виновным в том, что не ему, а Левонтьеву поверила большая часть казаков. Но стоило бы ему хоть немного задуматься о том, кто послушался Левонтьева, то не казнился бы так. Тот казак бросил границу, у кого земли не мерено. Однако Богусловского сейчас волновало иное, иные мысли роились в голове, иные тревоги бередили душу. Гарнизон ослаб, и, значит, Абсеитбек, если прознает, воспрянет духом. И из-за кордона кучно полезут, если там тоже узнают о случившемся. Все тут нужно предусмотреть, все продумать. Помощник же остался только один — подпоручик Леднев. Придется рядовых делать командирами. Выбирать, кто посмышленей, кто понастырней. Вон того, усатого казака. Костюков, кажется, Прохор Костюков.
Левонтьев же уводил казаков все дальше по дороге, изгибавшейся по берегу белокипенной реки. Горячил коня, но рысью не пускал. Он сейчас больше походил не на человека, взявшего на свою душу грех десятков людей, а на свободного от службы офицера, который выехал промять застоявшуюся в деннике чистокровку и делал это с превеликим удовольствием. Да, он казался беспечным, хотя мысли его были далеко не благодушными и покойными.
Велика ли корысть, что увел он из гарнизона казаков. Вот бы так, строем, через весь Туркестан, через Заволжье, да к своей родовой усадьбе. Шашки наголо и — «вжик! вжик! вжик!». Знай, сверчок, свой шесток! Голь перекатная, пьянь беспробудная, а туда же — в хоромы!..
Видел Левонтьев в девятьсот шестом усадьбу соседа, где порезвились мужики. Кошмар! Ну, виноват управляющий-немец. Порол на конюшне, словно крепостных. Поделом ему, что повесили. Но поместье при чем? Ценности родовые да реликвии в чем виноваты?! А у них, у Левонтьевых, даже управляющий из русских сам и душой добр к мужикам. Они, однако, все одно бычились. Едва за вилы не взялись. Отрезвились, когда в соседнюю усадьбу эскадрон гусар вошел. Сейчас Левонтьев будто вновь видел все это воочию, заслеженный грязными лаптями наборный паркет гостиной, сорванные со стен и переломанные портреты предков (раз генерал либо полковник, значит, вражина), побитые люстры, сработанные лучшими мастерами Гусь-Хрустального, и венские зеркала, — за строками Декрета о земле он видел свою поруганную честь, и им владело одно только желание: мстить! Вместе с тем он понимал прекрасно, что казаки семиреченские, в России им делать нечего, оставалось, поэтому одно: вот так, всем отрядом, — в Семиречье. Не близка дорожка, не один перевал на пути, не одна шумливая горная речка, быстрая и опасная, но это даже хорошо. Выбрать за это время можно будет, приглядевшись, верных помощников. Да и окрутить всех круговой порукой, рассорив вконец с Советской властью.
Первый такой шаг он намеревался предпринять теперь же. И как только отряд отъехал от крепости километра на два, Левонтьев вскинул руку вверх:
— Сто-о-о-ой!
Подождал, пока подтянутся звенья, и заговорил громко, чтобы слышали все:
— В Мулла-уля заночуем. Там и порешим на кругу, каков путь наш дальнейший.
— Ясно, по станицам… Иначе что бы трогаться?
— Верно. Только поодиночке либо отрядом, вот вопрос?
— Всяк себе голова, — завозражали казаки, но Левонтьев урезонил их:
— Не берите с места в карьер, служивые. На кругу обмозгуем, — и почти без паузы скомандовал властно: — За мной, рысью — ма-а-арш!
Мулла-уля — кишлак небольшой, приткнувшийся к скалам в самом начале круто сбегавшей вниз долины. Ехать туда близко, но придется слезать с коней на спусках не один раз. Крутизна головокружительная. Да и останавливаться там на ночлег где, если в кишлаке всего десяток домов, из которых только два красуются ровной кирпичной кладки стенами да карагачевыми колоннами просторных террас, все остальные домишки — в одну либо в две комнатки — слеплены из камней. Что, казалось бы, в этом селе не видал отряд, если в десяти верстах прямо по дороге, в долине, вольготно разбросавшей виноградники, урюковые и миндальные сады, кукурузные и люцерновые поля, стоит большое и богатое селение. Верно, по дороге этой путь до города длинней верст на сорок, но куда спешить теперь казакам! Ведь в большом кишлаке и коней можно хорошо подкормить, и самим поспать под крышей. Мороз — он не тетка. А если еще ветер начнется, тогда как?
Левонтьев, однако, вопреки здравому смыслу, вел отряд в Мулла-улю. И конечно же, не по недомыслию, а корысти ради. В том убогом кишлаке жил Абсеитбек, самый закоренелый враг пограничников.
У него было несколько вполне заслуженных прозвищ: «керосиновый король» (он держал керосиновую лавку, а для здешних краев это не только прибыльно, но и дает власть над людьми); «серебряный король» (он скупал только серебро, все остальное ставил ни в грош); «король контрабандистов» (его люди меняли за кордоном серебро на терьяк) и, наконец, «шакал ненасытный» — так зло, за глаза конечно, называли Абсеитбека отцы тех малолетних дочерей, которых сами же продавали ему в гарем. При встрече с ним все низко склоняли головы.
Гибли казаки от пуль наемных джигитов Абсеитбека, еще больше гибло самих контрабандистов, а «король», как и подобает королям, всегда оказывался вне подозрений. Гутарили меж собой нижние чины, что задарил он всех, кто мог бы предъявить ему счет за все преступления, но недовольство казаков к делу не пришьешь. Недавно несколько его джигитов счелночили с контрабандой, убив при перестрелке двух казаков. И сразу же после той кровавой ночи Абсеитбек отдал солидный куш за юную горянку из какого-то далекого кишлака.
Гарем Абсеитбека, охраняемый евнухами, размещался в одном кирпичном доме, сам же Абсеитбек — в другом. К дому «короля контрабандистов» и повел казаков-дезертиров Левонтьев.
Не ожидали казаки столь радушного приема. Абсеитбек моментально поднял на ноги весь кишлак: кто принялся свежевать баранов, кто резать морковь и лук, кто тащил огромные чугунные казаны для плова и дрова к очагам. А на лужайке, под огромной разлапистой арчой, уже стелились дастарханы[1] и раскладывались на них сладости: новат, халва, курага, кишмиш и лепешки. Сам хозяин, круглый, как старательно откормленная курдючная ярка, с такими же, как у овцы, тонкими ногами, обменивался с Левонтьевым традиционно-длинными приветствиями, то и дело прикладывая руку к сердцу. Левонтьев, однако, никак не мог встретиться взглядом с Абсеитбеком, чтобы хоть чуточку проникнуть в истинное настроение хозяина — карие, по-кошачьи узкие глаза Абсеитбека ни на миг не были бездвижными и, казалось, схватывали все, что происходило вокруг, сами же оставались накрепко замкнутыми в себе.
Левонтьев, приветливо отвечая на вопросы-приветствия, сам тоже с вежливой заинтересованностью вопрошал, когда подходила его очередь, как здоровье лошадей табунных, овец и коз, ишаков и коров, хорош ли был сбор урожая на полях и в садах и, наконец, много ли нарожали жены сыновей и здоровы ли все сыновья. Левонтьев знал, что не спросить о здоровье сыновей — значит кровно обидеть хозяина, оттого и задавал этот неизбежный вопрос. Он, уже привыкший к восточной учтивости и неспешности в беседах, поступал, с трудом пересиливая брезгливость, так, как того требовали традиции, хотя ему отвратительны казались и выпуклые щеки с красными сетками мелких прожилок, и смоляные волосы, жесткие, как конский хвост, и плоский, словно дно тарелки, лоб, — Левонтьев с превеликим удовольствием отвел бы душу, похлестав хомяковые щеки стеком либо заплевав эти бегающие глазки, но он улыбался, почтительно кланялся, прижимая на манер хозяина руку к сердцу и зная, что поспешность может испортить все дело, ждал подходящего момента для осуществления задуманного.
На террасу хозяина дома подали чай для офицеров. Первую пиалу, благоговейно нацедив в нее из чайника всего на хороший глоток терпкого зеленого чая, хозяин подал Левонтьеву левой рукой, прижимая правую к сердцу, выказывая этим величайшее почтение. Теперь все, что станет говорить Левонтьев, хозяин дома выслушает со вниманием, а просьбу любую выполнит, если она окажется посильной. И Левонтьев вполне оценил этот жест гостеприимства. Втянув, словно и впрямь он испытывал невообразимое наслаждение, ароматный парок от чая, как это делают неспешные во всех поступках аксакалы, Левонтьев заговорил:
— В крепости осталось мало людей. Дозоры ночью Богусловский разошлет, тогда и вовсе пусто станет.
— Ты не вернешься со своими аскерами? — спросил Абсеитбек.
Спросил бесстрастно, вроде бы его совершенно не тронули слова Левонтьева. Чуть-чуть, пожалуй, пошустрее забегали его глазки.
— Нет, уважаемый Абсеитбек. Мы больше не вернемся.
— И если я позову?
— Казаки сегодня не готовы еще стрелять в тех, кто остался в крепости. Для этого нужно время. А тебе терять его бессмысленно. Куй железо, пока горячо, говорят у русских. Действовать нужно, пока митингуют в крепости, пока не пришли в себя. — Еще раз втянув из пиалы чайный парок, Левонтьев проговорил философски: — Когда фортуна поворачивается к тебе лицом, спину показывать ей не следует. — Глотнул остатки остывшего чая и, подавая пиалу хозяину, спросил: — Не будешь ли, почтенный Абсеитбек, в обиде, если служивые заночуют в кишлаке?
— Бараны уже освежеваны, плов готовится, — ответил Абсеитбек, наливая в пиалу чай, на этот раз побольше, для менее почетного гостя.
Пиала шла по кругу неспешно, так же тягуче велась беседа, но о крепости больше никто не вспоминал. Для всех офицеров поступок Левонтьева оказался неожиданным, и не все одобрили предательство, хотя помалкивали, считая, что место и время для спора совершенно неподходящее. Они ограничивались лишь тем, что не смотрели на Левонтьева, демонстрируя этим свою неприязнь, он же совершенно не замечал изменившегося настроения у офицеров, наблюдая только за Абсеитбеком, пытаясь понять, клюнул ли тот на столь аппетитного живца или нет. Ведь нападение Абсеитбека на крепость станет той веревочкой, которая повяжет казакам руки. Не туго повяжет, слегка, но дорог почин. Дальше будет видно, как упрочить веревку. Поводов найдется немало. Клюнул бы для начала Абсеитбек.
Зря сомневался Левонтьев. «Король контрабандистов» не то чтобы клюнул, он со щучьей жадностью заглотил наживку и теперь с нетерпением ждал того момента, когда гости, насытившись пловом, удалятся в отведенные для них покои. Их станут сторожить — аллах благоволит мудрым, — если это хитрая игра пограничников. До утра даже змея не выползет из кишлака. Абсеитбек уже дал знак своим верным слугам, и джигиты уже седлают коней. Сегодня к рассвету, когда дозорные еще не вернутся в крепость, а часовые в самой крепости уже будут считать, что ночи конец, — в это время его джигиты начнут действовать. План нападения ему не нужно продумывать, Абсеитбек выносил его давным-давно. Сколько раз после очередной неудачи его посланцев он проклинал казаков и обдумывал в гневе план мести! Сколько раз его оскорбленное самолюбие находило отмщение в воображаемых картинах кровавой резни, учиненной его храбрыми джигитами в крепости! Но воплотить в жизнь свою злобную мечту Абсеитбек не осмеливался. Теперь же настал его звездный час. Утром он станет хозяином единственной караванной дороги, идущей за кордон. Он не будет тратить силы, как это делали глупые казаки, на охрану тех нескольких тропок, по которым можно, рискуя сломать себе башку, пробиться за границу только с небольшой заплечной поклажей. Пусть смельчаки ходят. Но по дороге без пошлины не пробежит даже заяц. Баню он снесет, пекарню тоже. Не умно казаки построили их внизу, на берегу реки. За стенами крепости выроет колодец. И никакая сила не сможет выбить его оттуда. Крепость станет неприступной и на крепкий замок, его замок, закроет караванную дорогу.
«Сегодня казаки поплатятся за все!» — злорадствовал Абсеитбек.
Не предполагал вовсе Абсеитбек, что пограничники готовятся к встрече с ним. Когда отряд дезертиров скрылся за скалой, куда вместе с рекой подныривала дорога, Богусловский приказал оставшимся казакам построиться, а затем объявил свое решение:
— Сегодня, завтра и еще несколько дней дозоры высылать не станем. Вполне возможно нападение на крепость. Отбиться будет несложно, но при одном условии: непременное подчинение всех одной воле — командиру. Командование гарнизоном принимаю на себя. Кто против? Нет? Вот и превосходно.
— Погоны только сымай.
— Сделаю это безусловно. Вас тоже попрошу сделать это непременно сегодня. — Переждал, пока утихнет возбужденный говорок, затем вновь заговорил, по-командирски чеканя фразы: — Начальником штаба назначаю подпоручика, простите, товарища Леднева. Командиров взводов и отделений предлагайте сами. Если окажутся несведущими — сменю. На обсуждение кандидатур десять минут. Разойдись.
К удивлению Богусловского, буквально через две-три минуты казаки объявили свое решение. Обошлось без спора. Взводными выбрали пожилых казаков, крепких служак Тимошина, Деева и Костюкова — самого, пожалуй, молодого из казаков и самого приметного. Усы, что тебе колосья спелые, остисто торчат, глаза ясные, будто у девицы-негулены, а язык словно дамасской стали клинок — не подворачивайся.
— Командиров прошу ко мне на совещание. Остальные — свободны.
Скомандовал и… стушевался: где совещаться? В офицерском собрании? Повел в свою квартиру и, пока рассаживались новоиспеченные командиры в маленькой уютной гостиной, присматривался к ним. Задумчиво-напряженные лица у пожилых казаков, наивно-удивленное у Леднева и совершенно беспечное у Прохора Костюкова. Не напрасно ли избрали его взводным? Какой из него командир? Не посчитались казаки с вековечной мудростью солдатской: молодой — на службу, старый — на совет. Молодайкам в станицах головы кружить — это Прохору в самый раз бы. Но дело сделано.
— Я собрал вас на совет командиров, — начал немного торжественно Богусловский и сам же смутился. Какой совет? Вздохнув, продолжил уже буднично: — Как обороняться станем, давайте прикинем…
— При нижних чинах счел перечить неуместным, теперь же позвольте, Иннокентий Семеонович, усомниться в целесообразности организации обороны. Возможно ли предательство? Я не могу помыслить, чтобы Андрей Павлантьевич так низко пал. Из одной тарелки хлеб брали… — сказал Леднев.
— Табачок, думаю, у вас с ним поврозь был! — весело, даже радостно улыбаясь, бросил реплику Костюков.
«Ишь ты, психолог», — одобрительно подумал Богусловский. Ледневу же ответил вопросом:
— Потерявший честь единожды, дорого ли ценит ее?
— Весьма сомнительно предательство, — упрямо стоял на своем Леднев. Но мнение мнением, а служба службой. Заявил твердо: — При всем при том готов прилежно исполнять все меня касающееся. Слово чести…
— У меня такая думка: хлебы и муку поднять сюда, — прервал Костюков пустые, как ему представлялось, разговоры бывших офицеров. — Коней к ночи вдосталь напоить, запас сделать воды, сколько по силам. У бани и пекарни засаду крепкую посадить. И не только дорогу дозорить, а и берег. Подплывут, чего доброго, на бурдюках…
— Эка, хватил! — удивленно воскликнул Леднев. — В столь холодной воде возможно ли?
— Вот невидаль! — хмыкнул Костюков. — Салом курдючьим с перцем натрутся, бузы[2] кису выдуют — и начхали они на стужу. Впервой им, что ли?
Хотел еще подначить: «Молодо, мол, зелено», даже погладил, предвкушая поощрительные улыбки казаков-взводных, свои усы-колосья, но сдержался. Продолжил свой план:
— У водопровода еще засаду. Самых храбрых и умелых. Без него мы недолгие вояки. Говаривал казакам еще прежде: давайте колодцы соорудим. Куда там! Где, мол, неприятель, чтобы осадил крепость? Нету его. Вот тебе и нету!
Слушая Костюкова, Богусловский все больше проникался к нему уважением. Вот тебе и беспечный вроде!
— Разумно все. Считаю, план можно принять. Прошу высказываться остальным.
Совет командиров длился недолго. План Костюкова одобрили все, и Богусловский подвел итог:
— В засаду у реки выделим взвод Костюкова полностью. Остальные два взвода — в крепости. От каждого взвода выделить по пяти человек в мой резерв. Прошу командиров взводов предупредить казаков, чтобы почем зря не палили патроны. Огнезапас у нас большой, но следует учитывать, что мы можем оказаться блокированными продолжительное время. Все у меня. Пошли во взвода.
Богусловский вышел на крыльцо вслед за командирами. Солнечно, морозно и тихо. Что тебе в России в добрый зимний день. Здесь таких дней досадно мало. Солнца, в общем-то, много, но и ветра не меньше. Холодного, пронизывающего. Не только люди, но и горы, казалось, зябли на таком ветру, становились жуткими, пугающими. А сейчас они были веселыми, лучистыми. Белизна их слепила.
«За горами тоже следует установить наблюдение. Горцы — что барсы, везде пройдут», — подумал Богусловский и пошагал к крепостным стенам, чтобы окончательно убедиться в верности принятого плана обороны.
Оборонять, собственно, пограничный городок было не трудно. Природа словно специально позаботилась о пограничниках, создав довольно просторную террасу под горами. О ней легенда есть: осерчали горы на реку за вечный ее надоедливый шум, решили проглотить. Язык высунули, но до воды дотянуться им не смогли. По краю этого языка и возвели фортификаторы крепкие кирпичные стены с бойницами для винтовок и пулеметов. Отвилок от дороги в крепость пробили неширокий, для одной брички, и с таким расчетом, чтобы от ворот он насквозь простреливался и по бокам имел валы-брустверы. Роль окопа мог играть отвилок. По обочине отвилка протянули пожарный шланг, серый, незаметный, а за воротами поставили ручной пожарный насос — вот тебе и водопровод. Прежде этот водопровод Богусловский считал воплощением весьма рациональной мысли, сейчас же думал иначе: водопровод — ахиллесова пята крепости. Без пекарни и бани можно, в конце концов, и обойтись, а без воды каково? Один выход — снег топить. Только много ли его натопишь на двух кухонных плитах, хотя и больших? Никак коней не напоишь.
«Костюкова нужно пулеметом усилить, — решил Богусловский. — Еще один пулемет — к воротам. На кожухи муфты из овчины сшить, чтобы вода не замерзала».
Неспешно он обошел по стене весь городок, впервые за годы службы здесь так внимательно его изучая. Не все оказалось так надежно, и ловкие горцы здесь могли вполне вскарабкаться к стенам крепости, а затем, втянув сюда лестницы, преодолеть и сами стены. Выход один — засады перед стеной.
Когда же он вернулся в казарму, чтобы сообщить взводным окончательное свое решение, Костюков опередил его:
— Забыл я, командир, сказать тебе прежде: засады нужны еще в трех местах…
— Спасибо, я по поводу этого и хочу распорядиться, — прервал Костюкова Богусловский, удивляясь вновь такой наблюдательности, такому умению от природы оценивать обстоятельства. Он был доволен Костюковым, хотя фамильярность молоденького взводного коробила его.
А Костюков продолжал:
— Колючей проволоки валики можно напутать…
— Весьма разумно! — не скрывая восхищения, воскликнул Богусловский. — Дельно, ничего не скажешь.
Дотемна казаки успели сделать все, что задумали, и изрядно утомленные, повалились на койки. Не спали только часовые, усиленные, парные, да Богусловский. Он писал письмо домой, с мельчайшими подробностями рассказывая обо всем, что произошло в захолустном пограничном гарнизоне, одновременно как бы со стороны осмысливая все пережитое им в эти дни, оценивая свои поступки, свои слова, еще раз определяя либо их верность, либо ошибочность. Когда он поставил точку в письме, точку своим раздумьям и сомнениям: «Нет, с границы не уйду!» — уже перевалило за полночь, и пора было поднимать казаков-пограничников.
Повремени бы немного Богусловский, опоздали бы казаки. Абсеитбек с двумя сотнями джигитов уже находился совсем недалеко, уже остановил отряд, чтобы обуть ноги лошадей в чулки из плотной кошмы. Распоряжения отдавал вполголоса, но тот, кому Абсеитбек приказывал, хорошо слышал его, моментально и точно все исполнял. Одни натирали курдюками, круто пропитанными красным перцем, пятерых самых отважных джигитов, другие надували бурдюки и стягивали их попарно сыромятными ремнями, третьи снимали с седел веревки с острыми кошками на концах, еще раз проверяя, надежно ли они привязаны, — через четверть часа три десятка джигитов бесшумно заскользили по дороге, держась поближе к скалам. Им предстояло вскарабкаться по давно облюбованным местам к стенам крепости и затаиться, пока джигиты-пловцы не подадут сигнала. Тогда перекинут они кошки через стену и взберутся по веревкам наверх. А там как аллах рассудит.
У пловцов задача сложней. Они, подплыв по реке до пекарни, оглоушивают часового (охранял пекарню всегда один казак), затем, когда тот приходит в себя, принуждают провести их к крепости и вызвать охраняющего ворота часового. Вот тогда можно обоим — нож в горло. Простонет тогда один из пловцов филином, и перемахнет тридцатка джигитов через стену. Абсеитбек же поспешит с остальным отрядом к крепости.
Никто не уйдет от расплаты. Из офицерских спин нарежет Абсеитбек собственноручно ремни, а мастера сплетут из них крепкую камчу[3]. Так будет! Так хочет аллах!
Уверенный в непогрешимости своего плана (сколько лет думано и передумано!), Абсеитбек вовсе не предполагал, что этого могут не хотеть казаки, что не спешат они расстаться с миром грешным и что станут драться они за свою жизнь.
Первая неприятность джигитов ждала у стен крепости: как раз на тех местах, где они намеревались тихо отсидеться до сигнала, бугрились густые кольца колючей проволоки с нанизанными консервными банками. Потяни, чтобы сбросить проволоку с обрыва, адский шум поднимется, весь гарнизон переполошит.
Не ведали того контрабандисты, что за стеной притаились казаки с досланными в патронники патронами. Не решился Богусловский выставить заслоны на воле, не так велик гарнизон, чтобы рисковать. Приказал по паре мотков проволоки раскидать в опасных местах. Ну а у казаков своя смекалка. Банок понанизали на проволоку. Отпадает нужда глаза пялить в темень, враз оповещение произойдет, стоит кому-либо дотронуться до проволоки.
Дремали казаки, уткнув носы в воротники полушубков романовских, коротая остаток ночи. Не опасались никакой внезапности налета. Джигиты же не знали, что предпринять для выполнения задуманного. Первые пятерки умостились с горем пополам перед препятствием, а что делать остальным? Тем, кто еще на дороге, проще. Ну а тем, кто уже полез вверх и теперь замер, вцепившись пальцами рук и ног в острые камни, как быть?! Долго так не проторчишь. Хоть бы сигнал поскорее от пловцов. Можно будет сбросить проволоку, тогда пусть шумит. Без стрельбы, верно, не обойдется, но иного выхода нет. Если спешно все сделать, казаки не успеют из казарм повыскочить.
А сигнал все не поступает. Тихо у бани и пекарни. Подозрительно долго длится эта непонятная тишина…
А кому подавать сигнал, если все пловцы, один за другим, прикончены шашками и сброшены обратно в реку. Далеко уж уплыли, за кордоном уж, должно быть.
Вот-вот рассветет. Абсеитбек нервничает, не зная, как поступить дальше. Он все определенней начинает понимать, что план его, мудрый, так долго вынашиваемый, рухнул, как ветхий, подъеденный солончаком глиняный дувал после затяжного дождя. Он ждал хотя бы выстрела либо крика, но только речка, не знавшая покоя, наполняла темноту тревожащим душу ворчанием.
Вот наконец раздался выстрел. За ним — другой, и вскипела перестрелка. Плохо это. Сонных ножами резать куда сподручней, но отступать Абсеитбек не намерен. Выхватил маузер:
— Велик аллах! Смерть неверным!
Почти бесшумно в войлочных чулках поскакали кони по дороге, словно большущая стая сов пластала в погоне за жертвой. Все ближе поворот, за которым то хирела, то вновь наливалась уверенной силой перестрелка. Абсеитбек стегал коня, не боясь, что тот может споткнуться и свернуть шею себе и ретивому хозяину. Одно желание владело сейчас «королем контрабандистов» — скорее к воротам крепости, скорее ворваться в нее! А что там происходило, он даже не задумывался.
А произошло то, чего защитники крепости вовсе не хотели. Один из горцев углядел лазейку в колючих витках и ловко пробрался к стене, не звякнув ни одной банкой. За ним пролезли еще двое. Кошки решили не перекидывать, а подсадить самого легкого. Так и поступили…
Подтянулся джигит на руках, осмотрел двор — ни души. А казаков, в дреме к стене притулившихся, не видно ему: толстая стена. Перевалился через нее — и вниз. Казакам на головы. Смахнуло с них дрему одним махом. Джигит успел всего один раз выстрелить, смяли его, бедолагу, и порешили, мстя за пораненного сотоварища. И тут же к амбразурам было, только вышло не так, как мыслили казаки. Те двое, что под стеной остались, быстро отпугнули казаков от амбразур. Сунет джигит маузер в амбразуру на миг, глядишь — в плече у казака дырка. Пока казаки смекали, как да что, горцы проволоку сбросили вниз — и к стене. Толку, правда, немного от этого, кошки не перебросишь через нее, но десяток амбразур заблокировано.
В других местах тоже бой идет. Там поначалу вражье племя не пробралось еще под стены. Прижали казаки налетчиков к камням, не дают головы поднять. Только и горцы не лыком шиты. Бросили кошки в гущу проволоки, концы веревок вниз — и: «Тяни!» А потом рывок — и под защитой стены. Богусловский уже жалел, что не выставил засады за стеной. Посчитал это своей ошибкой. Оставалось теперь одно: удержать во что бы то ни стало баню и пекарню, а как только рассветет, оттуда поснимать карабинами осадивших стену контрабандистов. Между двух огней они окажутся.
Абсеитбек тоже наконец понял, что рассвет станет союзником защитников крепости, если не отбить у них дома на берегу реки. А захватишь дома, все станет просто. Водопровод перерезать и спокойно ждать, пока не поднимется белый флаг над воротами крепости. Пусть на некоторое время хватит дров, чтобы топить снег, а дальше что? Помощи казакам не дождаться. Не то время. Дозоры, однако, придется на всякий случай выставить и на дороге, и на тропе. Есть удобные для этого места. Змея не проползет.
Вылетела из-за поворота лавина, похожая в темноте на многоголового призрачного дракона, появляющегося прямо из камня. Жуткая картина. Летит почти беззвучно чудище, летит быстро, сейчас навалится — и конец. А у страха, известное дело, глаза велики. Не выдержали у кого-то из казаков нервы, нажал на спусковой крючок, и враз подхватили трусливый почин остальные, забухали вразнобой карабины, зататакал басовито пулемет.
Рано. Очень рано. Всего-то и осталось на дороге десяток коней, а их всадники укрылись за камнями на берегу реки — целы и невредимы. Все остальные успели ускакать за скалу.
Ловкие в схватках с мелкими группами нарушителей границы, казаки допускали одну ошибку за другой. Подпустить бы лаву поближе, сбить бы скачущих впереди коней, чтобы осадить атаку, а уж потом по всадникам ударить поприцельней. Взводный Костюков передал по цепи, чтобы при новой атаке без команды не стрелять, поближе, дескать, подпускать. Но не ведал того Костюков, что Абсеитбек по-иному бой планирует. Ползут ящерицами десятка два джигитов меж прибрежных валунов — к тем, что затаились вблизи пограничников. Так тихо ползут, что себя не слышат. И еще десяток джигитов маузеры и патроны, как можно больше, в халаты закручивают и к головам привязывают. Им Абсеитбек приказал проплыть вниз по реке и ударить казакам в спину. Бурдюков, верно, не хватает на каждого, но можно и двоим за один держаться.
Абсеитбек так рассчитывал: казаки на дорогу глаза пялят, по реке можно проплыть незаметно, особенно если взять ближе к противоположному берегу.
По его и получилось. Казаки не заметили водного десанта, они ждали новой конной атаки по дороге и нервничали оттого, что долго ее нет.
«Подлость готовит Абсеитбек, не иначе, — думал Костюков. — Может, меж камнями по-пластунски подберутся?..»
Прислушался. Ничего, кроме речного шума. Но нет, стоп: клацнул камушек. Еще клацнул. Ну теперь ясно. И прошелестела по цепи команда:
— Левофланговым глаз с берега не спускать. Не прозевать пешей атаки.
Тем временем ночь сделала первую уступку. Чуть-чуть прорисовался в поднебесье ближний белогривый хребет. Скоро, совсем скоро (рассветы в горах быстрые) лизнет солнце лучами своими снежные вершины, и заискрятся они, разбрызгивая свет по ущельям и теснинам — вмиг наступит день, защитникам станет сподручней, и если Абсеитбек не дурак, то именно сейчас, опережая рассвет, бросит все свои силы в атаку. Напряжены казаки, ждут. Богусловский резерв подтянул к воротам, но пока ничего не предпринимает. И ему не ясен еще дальнейший ход боя.
Вот наконец началось. Выпластала бесшумно темная полоса из-за поворота и понеслась на взвод Костюкова. И тут враз открыли огонь по казакам не только от берега реки, но и от крепостной стены. А главное, с тыла начали стрелять. Совсем неожиданно и очень метко.
Всадники уже вскинули клинки и завопили во все глотки не столько для устрашения казаков, сколько для того, чтобы задавить свой страх в диком крике, а пулемет выплюнул коротко и осекся. Тут же вновь ожил, но снова будто подавился. Еще раз заговорил пулемет и снова умолк. Взяли бандиты под перекрестный огонь пулемет и со стены, и с тыла. Конная же лавина все ближе и ближе. Конец, кажется, костюковскому взводу, не удержаться ему, зажатому с трех сторон.
«Что смотрит, в бога мать, отец-командир! — кроет Богусловского Костюков. — Труса празднует интеллигентик?!»
Богусловский же вывел резерв из крепости. Пулемет сам установил рядом с дорогой и лег за него. Пальцы давно уже на гашетке, но ждет. Еще десятка два метров поближе, еще пяток…
— Пли!
Рявкнул залп, и, будто рожденный этим залпом, захлебисто затараторил пулемет. На дороге сумятица: кони ржут, бандиты орут и воют, а казаки передернули затворы карабинов и:
— Пли!
— Очистить тыл! — командует Богусловский, продолжая сыпать свинцовую смерть в конную толчею.
— Аллах всемогущ! — грозно кричит Абсеитбек своим растерявшимся джигитам, и вновь лавина рвется вперед.
Прорвались бы конники к бане, да повезло казакам. Угодил кто-то из них в Абсеитбека. Прохрипел тот из последних сил: «Смерть неверным!» — и повалился с седла.
Словно подменили атакующих. Они мгновенно развернулись и понеслись за поворот дороги: сверху, со стены, джигиты, торопливо позакрепив кошки, соскальзывали вниз и бежали во след конникам; в этот самый момент сыпануло солнце в небо мириады ярких нитей, вроде бы специально освещая позор бегущих в панике горцев.
Казаков не столько удивило, сколько озадачило столь единодушное бегство только что озверело рвавшихся к крепости горцев. Не хитрость ли какая? Но Богусловский, отпустив гашетку «максима», крикнул:
— Прекратить стрельбу!
Он верно оценил ситуацию: властелина, цепко державшего джигитов, больше нет, можно поступать соразмерно своим желаниям, а желание почти всего отряда горцев — жить спокойно, обрабатывать землю и растить детей.
К Богусловскому подбежал Костюков, возбужденный боем и оттого особенно привлекательный.
— Дозволь, командир, вдогон?!
— Не стоит, Прохор. Зачем врагов наживать.
— Не мы же первыми задрались…
— Верно. И мы не последними станем.
Поднялся Богусловский из-за пулемета и, указав на гладкий валун, пригласил:
— Присядь, потолкуем.
— Можно и потолковать, — без большого желания согласился взводный. — Что ж не потолковать.
— И где это, удивляюсь я, твоя смекалка порастерялась? — усмешливо спросил Богусловский, но, не получив ответа, заговорил приказно: — Взвод в крепость пока не уводи! Здесь останься. И резерв свой я не уведу. Подождем, чья возьмет там, за поворотом. Там у них сейчас вече хлеще Новгородского. Стратегия определяется.
— Думаешь, не полезут?
— Кто знает. Предположить, однако, можно вполне, что разум возьмет верх. Узурпатор мертв, а нового они постараются не рожать. Сейчас, во всяком случае. Вот так, Прохор Костюков. Совет тебе добрый: не рвись кровь проливать без нужды. Ты видал хоть раз, чтобы орел заклехтал без нужды? Только тогда его боевой клич понесется по горам, когда кинется защищать гнездовье свое от врага. Кровожаден только волк. Запомни: только в армии дано право командиру посылать людей на смерть, только в армии командир может отдать приказ убивать людей и получать за это даже награды и чины. И судья лишь один у него — совесть. Мой отец, генерал, учил нас, сыновей, а мы все — офицеры, блюсти эту совесть. Крепко блюсти. Я не отец тебе, Прохор Костюков, но все равно говорю: блюди, Прохор, командирскую совесть с первого дня и навечно. Не волком будь, а орлом. А путь твой, будешь жив если, по прямой вверх и вверх. Вот так, Прохор Костюков, командир новой армии…
Промолчал взводный. Не сказал ни да, ни нет. Но лихая бесшабашность словно слетела с его лица, и теперь походил он не на беспечного казака-рубаку, а скорее на пахаря, который мучительно раздумывает: начинать сев ржи либо перегодить, чтобы не просчитаться и не остаться с малым урожаем, а значит, голодным. И Богусловский с удовлетворением подумал: «Воспринял. Недурно это, недурно». Распорядился, помедлив чуточку:
— Иди во взвод. Умерь пыл казаков. Но ленты из пулемета пока не вынимать. Наблюдателей за рекой выставь. Чем окончится вече за поворотом, нам с тобой неведомо.
Время шло утомительно медленно. Ждать всегда не весело, а ждать боя, ждать возможной смерти — вдвойне неуютно. Да и морозец набирал силу, а солнце словно злорадно смеялось, обливая студеными лучами зябнущих казаков. Вскочить бы, промяться хоть самую малость, но где там! Может, там, за скалой, того и ждут, чтобы поднялись из-за своих укрытий казаки. Враз покосят. Исподтишка стрелять контрабандисты куда как мастаки. Но и иное у казаков на уме: вдруг разбежались по своим аулам налетчики! Чего ради тогда сопли морозить? Казаки, что помоложе, поругивают уже взводного: «На кой черт выбирали такого?! Испужался взять в шашки сартов!» Богусловскому тоже впору икать: костят за то, что не пошлет дозора разведать обстановку. Не ждать же, покуда рак на горе свистнет?
Похоже, казаки пеняли Богусловскому за дело. Он и впрямь не знал, что предпринять. Около двух часов прошло, а ни атаки, ни белого флага. Вот и гадай: то ли разъехались по домам, то ли за подмогой гонцов послали, то ли никак не договорятся ни до чего? Послать разведку? Риск велик, а толку — чуть. Скрытно не смогут казаки пройти за поворот, как куропаток, их могут пострелять. А то и захватят. Вот тогда осмелеют и станут свои условия диктовать: до тех пор заложники останутся живыми, пока будет беспрепятственный переход за кордон и обратно. Не согласишься — истерзают казаков, вверивших свою судьбу в твои руки, так, что врагу лютому такого не пожелаешь…
Не знал Богусловский, что предпринять, и огромным усилием воли заставлял себя ждать.
Награжденным оказалось терпение его великое. Когда уже пошел третий час бездельного лежания и когда никакими разумными аргументами невозможно становилось оправдывать, даже для самого себя, выжидательную тактику, из-за скалы высунулась вначале палка с грубо, узлом привязанной к ней белой чалмой, а затем нерешительно шагнул на дорогу и тот, кто держал ту палку. Богусловский, увидев испуганного горца, который так съежился, что казалось, пушистый ярко-рыжий лисий малахай лежал прямо на плечах безголового человека, нервно рассмеялся и, только с большим трудом взяв себя в руки, поднялся из-за пулемета. Крикнув громко: «Костюков, за мной!» — вышел на дорогу и пошагал навстречу парламентеру. Пройдя с полсотни шагов, остановился и стал ждать, когда к нему приблизится испуганный лисий малахай.
Переговоры длились не очень долго… С трудом понимая друг друга, воюющие стороны пришли к обоюдному согласию: пограничники, как и прежде, будут охранять границу, но при задержании контрабанды оружие не применять. Те, кого Абсеитбек привел сюда угрозой потребовать немедленного возврата долга, клялись больше никогда не связываться с контрабандистами, но сами контрабандисты, а их в отряде было все же немало, не обещали бросить свое ремесло (без контрабандной торговли они подохнут с голоду), но дали слово в пограничников больше не стрелять. В общем, принцип такой: удалось обмануть казаков, слава аллаху, не удалось — товар забирают пограничники.
Крепость же горцы обещают вовсе не трогать ни при каких обстоятельствах.
На том и разошлись. Горцы увезли с собой убитых, кроме Абсеитбека, труп которого бросили, раздев донага, в реку. Казаки похоронили своих, оглушив ближние скалы трехкратным салютом, и разошлись по конюшням, чтобы, прежде чем лечь спать, напоить и накормить коней.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Победу праздновал и Андрей Левонтьев. Он не знал, да и знать не хотел, финала совершенного предательства, главного он добился: казаки твердо меж собой порешили держаться вместе. Все они, и офицеры, и нижние чины, заметили, что взяты, как арестанты, под охрану. До ветру, по малой ли нужде, по большой ли, никому без пригляду сходить не удавалось. Офицеры возмущались буйно, казаки, привыкшие, как все бывалые солдаты, к жизни стадной, когда все на виду, стеснительности не испытывали, не оскорблялись доглядом, а лишь ворчали по поводу лицемерия людей Абсеитбека: «Сарт, он и есть сарт. Пловом накормили, а теперь нож к горлу приставили. Не порезали бы сонных, как баранов?» И подтягивали к себе поближе карабины с загнанными в патронник патронами, и не пытались бороться с тревожной бессонницей. А утром, когда Левонтьев собрал казаков, как он сказал: «На круг!» — никто уже не был тверд в мыслях, что он сам себе голова.
Последние сомнения из казачьих голов Левонтьев выбил быстро. Вышел он к отряду с умело наброшенной маской усталости и озабоченности. Заговорил, словно с трудом преодолевая усталость:
— Всю ночь думал: номерную ли ношу взял я на себя? Вправе ли я удерживать вас? Не выходит это у меня из головы. Добровольно все мы покинули гарнизон, вольны теперь поступать каждый по своему разумению… И не противно то будет нынешних законов: свобода! Она ведь безгранична…
Сбитые с толку казаки помалкивали. Чудно. Левонтьев не такой, как вчера, слова тоже не вчерашние. Не понятно. Переваливают тугие мысли и так и эдак, а что предпринять, не могут найти. Решился наконец осанистый, косая сажень в плечах, с кулачищами в полпуда каждый, с густой черной бородой казак, выкрикнул недовольно:
— Не сподручно поодиночке. Так звеньями бы по еланям и айда. До станиц до самых.
— Вчера я твердо в этом был убежден, — не враз, а сделав вид, что как бы взвешивает поначалу и саму реплику и ответ на нее, заговорил Левонтьев: — Сегодня сомневаюсь. Повторяю: мы вольны поступать всяк по своему разумению. И вот прикиньте: резонно ли двигаться вместе, а думать и поступать врозь? Толпу вести я не могу и не хочу! — потвердевшим голосом закончил Левонтьев.
Казаки начинали осмысливать, чего добивается поручик. Не желательна бы им прежняя дисциплина, не любо его высокомерие дворянчика, только в одиночку разбрестись тоже боязно. Вон они — соглядатаи с ножами на бельваках. Им что, раз ты не мусульманин — нож тебе в горло, и дело с концом.
Роли, как и рассчитывал Андрей Левонтьев, менялись. Теперь не он, а казаки станут требовать единения. Продиктовать же условие он готов. Но не сразу, а постепенно, как бы отступая под нажимом «круга».
— Вместе бы оно надежней, — поддержали бородача многие казаки, и эта поначалу робкая поддержка оказалась спичкой, поднесенной к стогу соломы: пробежал шустро огонек по стебелькам и вроде затерялся в непомерной спутанности стога, иссяк, улетучился легким дымком, но вдруг выбросил языки сразу во многих местах — и пошло без удержу пластать дикое, необузданное пламя:
— Негоже, поручик, спину казакам казать. Оно ведь худым может обернуться! Казакам что терять?! Порешим тебя, прежде чем самим гибнуть! Иль иного атамана поставим! А тебе все одно конец!
— Обстановка весьма сложная, — начал отступать Левонтьев. — Абсеитбек повел джигитов на крепость, хоть я просил его не поступать так. И он обещал мне. Но увел ночью тайно от меня. А утром меня предупредили, что, если мы попытаемся вернуться, нас ждет смерть. Абсеитбек оставил, выходит, на узких тропах засады…
Откуда казакам знать о предательстве Левонтьева? Сам он не обмолвился ни словом о разговоре за вечерним чаем, промолчали и участвовавшие в нем офицеры; откуда казакам знать, что слова о засаде — чистейшая выдумка, цель которой дожать, положить на лопатки сомневающихся.
И хитрость, как зачастую бывает, праздновала победу. Казаки еще жестче требуют от Левонтьева, чтобы атаманил он в отряде. И клянутся, что несдобровать тому, кто посмеет ослушаться атамана. Ликует Андрей Левонтьев (добился своего), но не спешит сгонять с лица хмурую усталость, не вдруг его голос обретает волевую надменность.
— Понимаю вас вполне, — с вялой ухмылкой говорит он. — Труса празднуете, вот и горячитесь. А с гор спустимся — меня же и пустите в расход; не командуй, дескать, коль свобода всем и каждому…
— Не виляй, вашебродь! — зло крикнул тот бородач, что первый прервал тягостное молчание круга. — Блазнял из крепости нас, чтобы кровушки попускать тем, кто до чужой землицы охоч, али не так? Блюди теперь то, о чем давеча клиросил! Не облетки[4] мы, средь нас пежухов[5] матерых вдосталь! Не гневи, вашебродь, бога!
«Из забайкальцев, должно, — определил Левонтьев, усилием воли сдерживая радость от этой угрозы. — Что ж, поработаешь, борода, на меня… Будет тебе и кровушка, все будет».
Вскинул руку и бросил гневно:
— Не стращай, служивый. На волка изголодавшегося добрый волкодав найдется. А насчет кровушки — напраслину не возводи на меня. Никакой задней мысли не имел я, уводя вас из крепости. Не смел я ослушаться Декрета о мире. Дойдем лишь до Семиречья, а там — по станицам. Пашите землю. Ваша она сегодня…
— Эко, наша! — со злобным упрямством возразил бородач. — Голь алкатошная, зюзи горболысые жировойничать станут!
— И то верно, — поддержали казаки, что постарше и посправней.
Даже те, кто прежде помалкивал, тоже меж собой заговорили возбужденно, и Левонтьев определил: пора. Не подала бы голос та, большая часть, что до сего часа помалкивала. Не совладать тогда.
— Что ж, станичники, — торжественно проговорил Левонтьев, — предложение ваше принимаю. Но не угрозе уступаю. Ее я во внимание не беру. Уступаю здравому смыслу. Ну а насчет борьбы за землю — подумать стоит. Согласно декрету мы тоже имеем право решать форму пользования ею. Мы тоже — народ. Все по чести и закону…
Он пока еще не мог не лицемерить, ибо «молчунов» в отряде было намного больше, чем «крикунов». Рано еще карты открывать. Еще оплести всех нужно круговой порукой. Вот тогда… Впрочем, стоит ли вообще откровенничать? С «бородачом» если только. Может, еще десяток приглядеть, вот и достаточно будет. Продолжил:
— И сразу порешим: мы — не анархия какая. Законы про нас писаны. И еще… За ослушание сурово карать буду. Это твердо запомните. Кто не согласен, не держу. На коня — и марш своей дорогой!
Люба иль не люба кому угроза эта, но промолчали казаки. В одиночку версты горные да степные огоревать непривычно, да и боязно в столь смутное время.
Прекрасно понимал состояние казаков Левонтьев, радуясь тому, что замысел удавался.
«Теперь, субчики-голубчики, никуда не денетесь. Мои вы! Мои! — торжествовал он. — Сейчас вот еще припугну».
И приказал:
— На сборы десять минут. Готовность головного дозора через пять минут.
Сам лично проверил, заряжены ли карабины у дозорных, сам предупредил, чтобы глядели в оба.
— Не все люди Абсеитбека, вполне возможно, ушли к крепости. Может, и на нашем пути — засада. Чтобы со всеми разом покончить и тогда уж верховодить здесь без всякого огляду.
И когда отряд втянулся в ущелье по узкой тропе, Левонтьев то и дело посылал для связи с дозорными казаков, а если случалась хотя бы маленькая задержка с донесением, останавливал отряд и на всякий случай вынимал из кобуры маузер. Что казакам оставалось делать? Смахивали с плеч карабины и тоже сторожко слушали, не начнется ли там, впереди, стрельба?
Когда подъезжали к самому опасному месту, где тропа лепилась у края обрыва, а над ней пухлыми до голубизны белыми языками свисал снег и где казаки вынуждены были спешиться и вести коней в поводу, никто уже не держал карабины за спиной. Прокарабкались один за другим по тропе казаки благополучно и выехали на простор. Почти круглая долина похожа была на огромный поднос, полный снега, под тяжестью которого прогнулись горы; торная тропа пересекала долину-поднос ровной стрелой и вновь уходила в ущелье. Нигде больше никаких следов. Белым все бело. Приободрились казаки, начали закидывать карабины за спины, но Левонтьев настороже. Он оставляет заслон у выхода из ущелья, приказывая побольше оставить им патронов. Вперед тоже выслал дозор и не повел дальше середины долины отряд, пока не получил сообщения, что путь безопасен.
Так, пугая себя, двигались казаки осторожно от ущелья к ущелью, а тропа с каждым часом становилась шире и удобней, а воздух теплей. Скоро — равнина, где пышные оазисы перемежаются с безводными пустынями, в которых властвуют злонравные вараны и еще более злонравные гюрзы… Там отряд, несмотря на заверения, начнет таять — в этом Левонтьев был больше чем уверен и напряженно думал, как избежать этого.
«Выход один — пустить кровушку, как бородач требовал».
Но на первый раз он своего замысла никому не доверил, рано. Очень рано.
Первый большой кишлак. Он уже не горный, но еще и не долинный. Виноградные решетки у приземистых глинобитных домов голые: лозы обрезаны и прикопаны землей, чтобы зимнее стужее дыхание гор не погубило их. Пригнуты и укрыты кукурузными стеблями гранатовые деревца и кусты инжира — все нежное, любящее тепло, бережно укутано до весны, и зимняя оголенность кишлака делала его неприветливо-убогим, даже жалким. Усугублял эту убогость грязный, до черноты, снег, лежавший под глухими стенами домов, у дувалов, вокруг крохотной мечети, стоявшей почти в центре такой же крохотной пыльной площади.
— Сто-о-ой! — скомандовал Левонтьев, когда отряд выехал на площадь. — Слеза-а-ай! — И, подождав, пока казаки спрыгнут с коней и примолкнут в привычном строю, объявил: — Здесь — ночевка!
С подчеркнутой тревожностью инструктировал сам не только дозоры и секреты, которым предстояло коротать ночь на дальних и ближних подступах к кишлаку, но и усиленные караулы в самом кишлаке, и оказалось так, что спокойно отдыхать полную ночь никому не выпадало. Казаки, особенно из «старичков», заволновались: «Не густо ли, дескать, караулов будет понатыкано!» — но Левонтьев обрезал гневно:
— Кто жизнь ни в грош не ставит, тот пусть спит. Только завтра пусть катится на все четыре стороны!
Не ожидая возможных возражений, резко повернулся и уверенно зашагал к дому муллы, который стоял как раз напротив мечети и от которого, казалось, начиналась площадь.
Дом выделялся и своими внушительными размерами, и тем, что не глухой глинобитной стеной, как все остальные дома, выходил на площадь, а просторной террасой, крышу которой поддерживали искусной резьбы колонны орехового дерева. Справа и слева от террасы росли два начинающих уже ветшать, но еще могучих карагача — стражников-великанов. Летом они оберегали террасу от знойных лучей солнца, зимой — от холодных ветров, дующих с гор.
Терраса убрана была по-восточному пышно. Пол устлан толстой кошмой, поверх которой лежали дорогие ковры, яркие, словно сотканные из сочных цветов джайляу. И на стенах ковры, такие же пухлые и яркие. Вдоль стен высились стопки пышных подушек в атласных наволочках, стояли кованые сундуки самых разных размеров. На сундуках — горы одеял: атласных, шелковых, сатиновых. Почти рядом с резной дверью, уводившей во внутренние комнаты дома, стоял сандал[6]. Летом на него набрасывали легкое белое покрывало, выполнявшее и роль дастархана, зимой же дастархан этот стелили поверх большого четырехугольного ватного одеяла, а в ступенчатое углубление под сандалом ставили еще и жаровню с углями. И мулла, засунув под одеяло ноги, восседал чинно на подушках, неторопливо беседуя с правоверными.
Беседы те он проводил ежедневно перед молитвой на закате солнца — салят аль-магриб — и никогда не затягивал их настолько, чтобы мусульманин, да и сам он, не успели совершить омовение. Мулла прекрасно знал арабский, но лишь в праздничные намазы читал проповеди с мимбара[7] священным языком, которым диктовал аллах Мухаммеду коран. В будние же дни и в мечети и особенно в беседах вечерних на террасе он даже аяты[8] читал на родном языке. За это, да и за то, что мулла хорошо знал русский и не брезговал разговаривать с чиновниками, пограничными офицерами и казаками на их поганом языке, его не жаловали ни имам-хатыб[9] соборной мечети, ни муфтий[10] и его окружение. Но мулла Абдул-Рашид не был этим особенно обеспокоен, он сам плел себе авторитет среди правоверных неспешно, с завидной, однако, настойчивостью, и во многом преуспел. К нему шли и дехкане, и мелкие торговцы либо за советом, либо с просьбой рассудить их спор, и слово его давно уже никто не оспаривал.
Если он угощал чаем правоверного за то, что тот щедр в закяте[11] и с благоговением, по велению сердца вносил садака[12] в пользу мечети, то во многих кишлаках после этого с восхищением пересказывали все, о чем говорил мулла, а сам обласканный сиял лицом так, будто его одарили несметным богатством, будто путь в рай по острому мосту-лезвию ему уже доступен и не станет он мучиться в аду до судного дня.
Тот же, кого стыдил мулла за скаредность, за задержку с выплатой закята, назидательно читал ему из корана: «Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете расходовать то, что любите!» — походил на побитого палками осла, а правоверные избегали встреч с нарушителем шариата, пока тот не исполнял доброго совета муллы.
Мулла Абдул-Рашид точно знал, когда и какой девочке пора надевать паранджу, а в какой семье, где растет мальчик, запоздали с суннатом. Если же дехканин оправдывался тем, что нет денег, чтобы справить паранджу или купить барана и риса для плова по случаю обрезания, мулла сам одалживал деньги под малый процент, и никто никогда не отказывался от этого благодеяния.
Ни разу за многие годы не менял он время вечерней беседы или не провел ее вовсе. Ничто не мешало ему. Вот и сегодня он, казалось, совсем не обратил внимания на въехавший на площадь большой отряд казаков, хотя поднятая копытами коней пыль густым облаком заплыла на террасу, и продолжал свою обычную вечернюю беседу с верующими.
Началась, верно, она необычно. Не он пригласил к себе, а они пришли сами с заявлением, что комбед решил выделить наделы безземельным дехканам, отрезав от его, муллы, угодьев. Это уже было вовсе невероятно. Мулла вознегодовал. И вот теперь пятеро крепких мужчин средних лет в изрядно поношенных шинелях сидели на незастеленном коврами краешке террасы и с угрюмым безразличием слушали муллу, который, грозно вздернув перст указующий туда, к трону аллаха, пророчествовал: «Коран гласит: будь покорен воле единственного. Твое только то, что милосердный дал тебе. И это — вечно! Священно то, чем владеет человек. Это — от аллаха всемилостивого и всемогущего…»
Мулла вдохнул чайный парок из пиалы, вдохнул еще раз, явно подыскивая соответствующий моменту аят для полного устрашения нарушителей вековых устоев, но увидел, что к дому подошел уже совсем близко поручик-пограничник, и махнул покровительственно дехканам:
— Идите с миром. И пусть аллах вразумит вас.
Слегка приподнявшись с подушек, но не вынимая ног из-под одеяла, под которым приятно теплились в жаровне угли, мулла приложил руки к сердцу и пригласил по-русски, лишь с едва заметным акцентом:
— Мой дом — твой дом, почтенный гость. Дастархан ждет тебя.
— Спасибо, — склонив голову, поблагодарил Левонтьев. — Но я бы хотел просить вашего, хаджия[13], позволения оставить в кишлаке на ночлег весь отряд?
Левонтьев знал, что не ходил в Мекку и Медину мулла Абдул-Рашид, но считал, что столь почетное звание не обидит старого служителя культа. Лесть сработала безотказно и на сей раз. Мулла с достоинством святого молитвенно сложил руки, как бы охватывая ладонями бороду и разглаживая ее, но на самом деле едва прикасаясь к ней, опустил ладони к груди и, задержав их у сердца, изрек:
— Каждый правоверный с радостью поделится лепешкой с усталыми путниками…
Он хлопнул в ладоши и что-то непонятное буркнул высунувшемуся на террасу безбородому толстячку. Тот ответил почтительно: «Будет исполнено» — и исчез, бесшумно прикрыв за собой дверь. А мулла вновь пригласил Левонтьева:
— Сандал и дастархан ждут тебя, почтенный страж границы…
— Мы идем по домам, — снимая сапоги, пояснил Левонтьев. — Идем, чтобы защищать свою землю. Мы не намерены служить большевикам-нехристям.
— Да будет благословен ваш путь, — вновь погладил молитвенно бороду мулла, взбил подушки рядом с собой и, когда Левонтьев подсунул ноги под одеяло, подал ему пиалу с чаем, сообщив грустно: — У нас тоже появились алчные.
— Те, которые только что ушли?
— Да. Царь Николай просил нас, правоверных, помочь ему бить германцев. Никто не хотел идти добровольно. Но аллах всемогущ… Теперь оставшиеся в живых аскеры возвращаются. Они требуют землю. Те пятеро — особенные ретивцы. Они себя зовут комбедовцами. Они уже отмеряли участки на моей земле… Пришел, думаю, демон Даджжаль! Разорит страны и станет царствовать этот трусливый шакал, вонючий, как гиена, злой, как гюрза. И забудут подвластные многоликому о судном дне. Но он будет! Придет Иса, и страшной будет борьба, а еще страшней ответ заблудших. О! Страшным будет тот великий день!
— А есть ли смысл ждать тот день? Суд праведный можно вершить и нынче. Великий и справедливый суд! Логика такова: не останови сегодня, завтра и впрямь останется только ждать второго пришествия.
Мулла враз уловил мысль поручика, он сам уже не раз и не два думал над тем, как остепенить ретивцев, но пролить кровь единоверцев не решался, а проповеди с мимбара отлетали от них, как шала[14] от риса.
«Прав русский поручик. Сегодня они захватили часть моей земли, завтра потребуют право на воду, а потом откажутся платить мне долги!»
Но тоскливо сжалось сердце. Не халву к вечернему чаю предлагает поручик. Ведь, когда бьешь осла палкой, не забывай о его копытах…
— Долгий разговор ждет нас, почтенный поручик, а муэдзин[15] уже поднимается на минарет, дабы призвать правоверных к вечерней молитве, я же не совершил омовения. А если придет желание испросить благословения аллаха? Фатиха[16] без омовения не будет принята всемилостивым.
«Что ж, посоветуйся с аллахом, набожный мулла. И мне полезно осмыслить, как не выпустить тебя из рук!»
Мулла вернулся, когда Левонтьев допивал уже третью пиалу чаю, прикусывая халвой и нетерпеливо предвкушая сытный ужин. Он уже наметил себе, что разговор серьезный начнет после трапезы, как и принято здесь, на этом неспешном Востоке, но когда увидел муллу, на лице которого, хотя тот и пытался казаться невозмутимым, по-восточному величественным, отражалось душевное сомнение, решил не откладывать.
— Благословил ли аллах на дело праведное?
— Человек создан слабым. Он по своей воле может творить только зло. Добро же он творит лишь по велению единого и всемогущего…
— За воровство рубят руку, — понимая нерешительность муллы, начал наседать Левонтьев. — Так велит аллах. И это добро. Али был зарублен у стен Куфе[17]. И вы не считаете это злом, ибо Али присвоил то, что не было ему дано аллахом. А что стало с теми, кто проповедовал равенство для всех?! Мыслителя Абу-Марвани распяли на воротах Дамаска! Словно барана, освежевали великого поэта Насими! Я могу назвать тысячи имен…
— Ты говоришь так потому, что ты не мусульманин. Единый наш, всемилостивый завещает: «Зови к пути господа с мудростью и хорошим увещеванием…» Мудро ли проливать кровь за то, что еще не совершено. Они еще не кетменили землю. Я увещевал их сегодня. Я просил аллаха в молитве вернуть их на путь благочестия и послушания.
— Вас не зря называют улема[18]. Не может не знать богослов, столь почтенный, как близки Соломон и Сулейман, Давид и Дауд, Илья и Ильяс, Исаак и Исхак. Мне ли напоминать коран от строчки до строчки о словах Исы: «О сыны Исраила! Я посланник аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что ниспослано до меня в Торе[19], и благовествующий о посланнике, который придет после меня, имя которому Ахмад». Я не гарантирую пословную точность, но суть воспроизведена точно. Мы, почтенный улема, молимся одному богу.
— Да покарает тебя всемогущий, когда ты покинешь мой дом! — с напускным возмущением воскликнул мулла Абдул-Рашид.
— Мы одни! — оборвал его Левонтьев. — Нет ни ваших, почтенный хаджия, фанатиков-мусульман, которые не знают ни корана, ни шариата и свято верят тому, что говорят им муллы; нет и моих казаков, которые тоже не знают ни Ветхого, ни Нового завета, но не верят ни попам, ни отцам-командирам — нам нет нужды лицемерить друг перед другом, особенно сейчас, когда рушится мир! Нам ли враждовать, когда новая религия, да-да, именно религия, страшная своей привлекательностью, ибо сулит рай на земле, — когда новая религия выметает и христиан и мусульман одной метлой?! И в борьбе с ней проповедь — пустая трата времени, милейший служитель культа. Я не священник-краснослов, я — солдат. Я говорю обидно, но говорю откровенно. Есть два выхода: ждать второго пришествия Иисуса, или, как вы его зовете, Исы; ждать, когда наведет он на земле порядок, либо вот сейчас, подняв секущий меч, самим не допустить беспорядка. Я не за увещевание и ожидание. Я — за меч! За секущий меч!
Левонтьев немного помолчал, успокаивая себя, затем добавил:
— И главное, сегодня в кишлаке мои казаки. Никто не помешает верующим свершить суд праведный над отступниками. А завтра будет поздно. Они отберут землю, отберут дом, отберут жен, пустят по миру.
— Шариат не дает ответа…
— Но есть право собственной совести, — бросил спасательный круг Левонтьев.
— Велик аллах. Воистину намерения мои самые благородные, я безгрешен перед богом, совесть моя перед ним чиста.
Мулла хлопнул в ладоши, дверь на террасу мгновенно отворилась, и показался вначале большой серебряный поднос с кусками горячей отварной баранины, за ним — вытянутые руки, а уж потом только и их хозяин, безбородый толстячок, главный евнух маленького гарема муллы. За евнухом выпорхнул улыбчивый мальчонка, розовощекий, с насурмленными бровями, в руках которого был длинноносый, похожий на цаплю медный кувшин и медный тазик, а через плечо перекинуто полотенце.
Мулла привычно подтянул повыше рукава халата, сложил лодочкой ладошки над тазиком, который услужливо подставлял мальчонка, и принялся мыть руки в струйке теплой воды — делал он все это будто машинально, не выказывая никакого удовольствия ни от самого процесса мытья рук, ни от предвкушения сытной вечерней трапезы. Его все мучили сомнения.
Помыл руки и Левонтьев. Мальчонка, взяв у него полотенце, скользнул в дверь, а безбородый принес большие пиалы с горячей сурпой[20], очень жирной и красной от обилия перца. Мулла отхлебнул глоток сурпы и, словно обретя решимость, заговорил с безбородым на арабском. Безбородый слушал внимательно, но лицо его оставалось непроницаемым. И вдруг евнух воскликнул по-бабьи жалостно:
— О, аллах!
Мулла, вскинув перст в потолок, повысил голос, и в нем зазвучали ноты властно-приказные. Куда только делась его нерешительная задумчивость! Перед толстяком сидел надменный хозяин, привыкший повелевать и не терпящий возражений. Левонтьев торжествовал победу, хотя и не понимал, о чем говорит мулла, но был уже твердо уверен: казнь комбедовцев состоится.
Но даже Левонтьев, жаждавший казни, добивавшийся ее, не мог представить, сколь жестока она окажется.
Они еще не закончили ужинать, а на площади стала собираться толпа. Она молчала, и в этой молчаливости виделась ее фанатическая злоба. Левонтьеву стало как-то зябко, хотя и чай был горяч, и угли сандала грели хорошо.
Она была совершенно разная — эта толпа. Круглые, как откормленные курдючные бараны, облаченные в шелковые халаты богачи, изможденные, испитые, в ветхих халатах дехкане, крупные, сытые дервиши[21] в чапанах[22] из овечьей шерсти, нарочито грязных и помятых, но добротной работы. И в центре этой толпы, словно властвуя над ней, притягивая ее к себе невидимыми нитями, стоял, как изваяние, как истукан, высокий тощий дервиш. Войлочный чапан его был поистине грязен и ветх, а из такой же грязной чалмы торчали сосульки волос, белесых и от пыли, и от множества гнид. Дервиш отрешенно смотрел поверх мечети куда-то вдаль, но это не мешало ему все видеть и все чувствовать.
Левонтьев сразу приметил этого оборванца и с тайной завистью к его умению молча властвовать над толпой наблюдал за ним, ожидая, что дальше предпримет дервиш-суфия[23]. А в том, что именно он станет главным распорядителем дальнейших событий, Левонтьев не сомневался.
И не ошибся. Когда на площади собрались все, кто, видимо, по мнению дервиша, должен был откликнуться на зов муллы, дервиш, молитвенно сложив руки, взвыл:
— Да благословит нас великий и всемилостивый аллах! — И провел ладонями по тощей гнидистой бороденке.
— Пусть будет так! — гулко выдохнула толпа. — Благослови нас, милосердный и милостивый!
Дервиш повременил, ожидая, пока слова правоверных достигнут трона аллаха, а уж вслед за этим не загремит ли гром, не заворчат ли камнепадами горы… Нет, тиха сумеречная природа, с благосклонностью, значит, воспринял просьбу правоверных всевышний. Можно, значит, приступать к богоугодному делу. Дервиш заговорил трескуче-сухо, словно отламывал от дерева отжившие свой век ветки, а толпа повиновалась мгновенно. Вот кинулись за кетменями те, кого назвал дервиш, вот затрусили запрягать арбы получившие приказ везти камни, остальные же плотной спешной кучей устремились за дервишем, худоногим аистом пошагавшим с площади к окраинным приземистым мазанкам.
Мулла с полным безразличием относился к тому, что происходит на площади. Аппетитно чавкал он и даже, как казалось Левонтьеву, мурлыкал, оглядывая очередной кусок баранины. И такая во всем была благодатная сосредоточенность, будто ничего, кроме баранины, не существовало вокруг: ни террасы, ни гостя, ни площади со злобной толпой — мулла глотал кусок за куском до икоты. Переждал чуточку, надеясь, видимо, что икота пройдет, но не дождался и хлопнул в ладоши. Но пока насурмленный мальчонка подносил кувшин и тазик, мулла успел взять еще один внушительный кусок и, давясь икотой, проглотить его.
Левонтьев же давно насытился и наблюдал то за муллой, то за площадью. Она опустела всего на несколько минут. Первыми вернулись кетменщики и, очертив носками драных галош границы довольно длинной траншеи, принялись копать.
— Для чего это? — спросил муллу Левонтьев, но тот, омыв руки, молитвенно сложил их и торжественно, нараспев провозгласил хвалу аллаху за изобильный дастархан, а затем потребовал чаю.
— Для чего эта траншея? — вновь спросил Левонтьев, но мулла, буркнув: «Воля аллаха ведома лишь исполнителям ее» — услужливо подал ему пиалу с глотком терпкого чая на донышке.
Смеркалось быстро. Уже растворились в сумеречной дымке дальние дома, уже теряли четкость минареты мечети, а на площади лишь кетменщики азартно махали кетменями, все глубже и глубже врубаясь в сухую землю.
Не зря ли они роют?..
Призрачно вращая огромными колесами, выкатила на площадь арба. Остановилась в десятке метров от траншеи. Возница, не слезая с седла, освободил оглобли. Они колодезными журавлями вскинулись вверх, камень ссыпался, и возница-аравакаш, подтянув оглобли и закрепив их, хлестнул лошадь камчой.
Вторая арба, на смену первой, въехала на площадь. Второй холмик камней вырос рядом с траншеей, а на площади все еще никого.
Не бесполезно ли привезены камни?..
Но вот вздохнул облегченно Левонтьев. Темная толпа, зловеще-молчаливая, вползла на площадь, и Левонтьев рассмотрел, удивившись немало увиденному: пятеро крепких дехкан в серых шинелишках шагают спокойно в центре довольно просторного круга, образованного толпой. Никаких следов насилия. Все чинно и спокойно.
«Обманом взяли? Какие аргументы?» — пытался понять Левонтьев, но вскоре догадался: дервиш, торжественно вышагивающий впереди толпы, вел ее прямо к террасе муллы. Якобы для беседы с ним. А разве нужны верившим в свою правоту дехканам нотации муллы и его устрашения карой божьей? Они знают, что ответить этому пауку-кровососу, который оплел все окрестные кишлаки мягкой, но крепче волосяного аркана паутиной. И многие из вот этих, кто пока ослеплен белой чалмой и оглушен речами, обретут разум.
Спокойно и уверенно шли комбедовцы, окруженные молчаливой толпой таких же обездоленных, не имевших ни своей земли, ни порядочного дома, — шли в полной надежде, что после сегодняшнего вечера они обретут себе новых сторонников…
Дервиш остановился, толпа надвинулась на него, замерла ожидающе, и он, вскинув сжатые кулаки, провопил душераздирающе:
— Смерть отступникам! Смерть им! Смерть!
Взвыв, толпа сдавила кольцо, и не успели опомниться комбедовцы, как уже были крепко связаны по рукам и ногам поясными платками-бельвоками. Такими же грязными платками позатыкали и рты обреченным.
Их не били. Их понесли к траншее и положили рядом с камнями: еще не до нужной глубины была вырыта траншея.
И вдруг в эту сумрачную тишь ворвался грозный рык. На площадь вбегали, размахивая серпами, дехкане. Всего десяток таких же, как и вся толпа, оборванных и жилистых, но они так воинственно и неудержимо неслись к толпе, что та, как по команде, попятилась.
Мулла, беспечно пивший чай и убеждавший Левонтьева неторопко и веско, что бог един — аллах, и пророк един — Мухаммед, все же остальное — блуд, мгновенно оборвал певучую речь и хлопнул в ладоши, а лишь только евнух высунулся из двери, крикнул ему:
— Ружья дервишам. Быстро!
Левонтьев тоже выдернул ноги из-под одеяла и принялся торопливо натягивать сапоги, но в это время на площадь вырысил казачий разъезд во главе с «бородачом» и придержал поводья перед несущимися на толпу дехканами. Сорваны с плеч карабины, клацнули затворы, кони начали теснить к домам дехкан. Теперь Левонтьеву на площади делать было нечего, он скинул сапоги и вновь блаженно вытянул ноги под теплым одеялом над жаровней с углями.
Все больше и больше казаков на площади. Стоят кучками чуть поодаль от толпы, курят, помалкивают, как и сама толпа. Жуткая тишина висит над темнеющей площадью, над террасой, где сидят, теперь тоже молча, мулла с Левонтьевым, тишина над утонувшим в вечернем полумраке кишлаком.
— Довольно! — распорядился высокий дервиш, и толпа даже вздрогнула от этого звучного неожиданного слова. Вздрогнула и как будто сжалась пружинно. Когда же кетменщики, коим было дано распоряжение, повылазили из ямы, дервиш приказал уже толпе: — Неси!
Связанных комбедовцев поставили в траншею и принялись ее засыпать, кто кетменями, кто руками и ногами, и вскоре на месте траншеи торчали лишь плечи и головы обреченных. Толпа отступила, вмиг разобрала камни и замерла в ожидании благословения аллаха на казнь праведную.
Процокал разъезд «бородача» и скрылся в темени. Вновь стало так тихо, что явственно Левонтьев услышал молитву, которую дервиш захлебисто шептал в ладони.
Вся площадь — словно горы перед селем. Копится злоба, готова выплеснуться мутным громовым потоком, но ждет своего мига…
Вот дервиш наконец взметнул руки и распевно взмолился:
— Благослови, всевышний, всемогущий и всемилостивейший! — Затем сделал паузу и взвыл: — Омин!
И прозвучало это долгожданным «Пли!», вырвался залп воя, просвистел залп камней, и, перекрывая вой толпы, прокричал душераздирающе один из закопанных:
— Опомнитесь, братья! — И враз захлебнулся. Напрасно, бедняга, выталкивал кляп изо рта, чтобы воззвать к разуму, ничто уже не могло остановить озверевшую толпу.
Камни дробили черепа, толпа выла в экстазе, но Левонтьев все же услышал еще один крик, который донесся от дальних домов, откуда привели на казнь комбедовцев. Крик тот так же захлебнулся, как и здесь, на площади.
«Доброе начало! — со злой радостью подумал Левонтьев. — Доброе. Вот ты, «бородач», у меня где! — Левонтьев даже сжал ладонь в кулак. — Вот где!»
А толпа уже начала расходиться. Она сделала свое дело: на месте торчавших из земли голов остались кровавые пятна; и теперь кетменщики присыпали их землей, а дервиш пел елейно хвалу аллаху…
На рассвете отряд, вновь с огромными предосторожностями, выехал из кишлака, и, как только миновали последние домики, Левонтьев подозвал к себе «бородача».
— Звать тебя как, служивый?
— Богданова куреня, Газимурова завода. Елтышами[24] прозывали. Толсты мы, топить нами не с руки, а расколоть — сила да сноровка требуется. Не находилось еще таких.
— Не по кличке же призван?
— Ведомо. Гозякиным записан. Афонькой.
— Афанасий, значит, Гозякин. Вот и ладно. А что ты не в Бессарабии? Ваши полки там.
— Не подфартило.
— Фарт — слово праздное. Тебе и сейчас может не подфартить, если не выбросишь из головы елтыш. Ты вчера сам свой чурбан разрубил. Мне остается поленья в печь бросить.
— Не шуткуй, вашебродь. Огонь, паря, ожечь может.
— Ну вот что, Афанасий Гозякин, либо мы говорим одним языком, делаем одно дело, либо ты продолжаешь крыситься, но, предупреждаю, возможность такую ты будешь иметь только до первого большого привала. Я шутить не намерен. Анархии не потерплю! Заруби это себе на носу! Поведаешь казакам, как разъезд твой жен да дочек казненных попридушил, натешившись вволю! Как только руки у вас поднялись?!
— Не лелейные у нас руки, правда то, ваше благородие. А насчет языка, то я так положу: вы молвите, я вослед за вами.
«Трус ты, однако», — с неприязнью подумал Андрей Левонтьев. Он не предполагал так скоро совладать с чрезмерно уважающим себя забайкальцем, готовился к более долгой словесной дуэли, даже считал, что сломается казак лишь на привале, когда он, Левонтьев, потребует от «круга» сурового наказания за самовольство. «Круг» клялся и сдержит слово. Пока, во всяком случае. Левонтьев даже считал, что забайкалец не повинится и на «кругу». Тогда господь ему судья. К серьезной борьбе готовился Левонтьев, а ее не оказалось.
«Возможно, это даже и лучше. Трусливый покорней узде, трензелям послушней».
— Казакам, с которыми баловал, передай, что простил, дескать, поручик не лелейные руки ваши, а заодно и головы. В следующем кишлаке, если мулла окажется там несговорчивым, погуляешь сам. Подбери надежных. Тех, кто не дрогнет. — Помолчал немного и выдохнул злобно: — Душить большевиков будем! И — в клинки брать! Только повремени откровенничать со всеми. Поиграй, — успокоенно закончил Левонтьев.
— Сподручно, — согласился довольный Гозякин и, придержав коня, дождался строя.
В следующем кишлаке, к которому подъехали к обеду и где Левонтьев объявил привал, тоже мученически полилась кровь. И в третьем тоже. И в четвертом. Понеслась молва страшная впереди отряда от кишлака к кишлаку (а они попадались все чаще и чаще: начиналась богатейшая в Средней Азии долина — Ферганская), и бежали из них почти все. Зато муллы и богатеи встречали казаков заранее приготовленным пловом. Услужливо они сообщали Левонтьеву место, где укрывались потерявшие покорность дехкане, осмелившиеся требовать не только землю, но и воду, и туда скакал «дозор» Гозякина, который с каждым разом становился все более внушительным. И то подумать, кому из казаков не любо взмахнуть разок-другой шашкой, тем более что начальство того желает, кому помешает золото да серебро, сорванное с женщин, либо взятое в домах порубанных; кому из казаков, засидевшихся в крепости, без надобности женщина, а тут бери и тешься вволю. Вот и грудились вокруг Афанасия все новые и новые казаки… Вскоре лишь очень немногие оставались обойденными доверием Гозякина, доверием Левонтьева.
Поручик ликовал. Свершилось задуманное. Казаки в его руках. Десяток чистоплюев не в счет. Их можно убрать поодиночке.
И началось. То из ночного дозора выбьют выстрелом с крыши казака либо офицера, то двоих-троих порежут ножами в доме, где казаки остановились на ночлег, — лилась в ответ кровь невинных дехкан, обвиняемых в злонамеренных убийствах (особенно усердствовал сам Афанасий), усиливались караулы и патрули во время дневок и ночевок, но отряд хоронил почти после каждой ночи двух-трех казаков, пока не схоронил всех, кого наметили Левонтьев и Гозякин. И что особенно важно, ни одного офицера, кроме Левонтьева, в отряде не осталось. И когда отряд подъезжал к первому большому городу в начавшейся Ферганской долине, он уже был накрепко связан и безоговорочно послушен.
— Гозякина ко мне! — бросил через плечо Левонтьев, и команда покатилась от звена к звену. Вот уже рысит «бородач» в голову строя.
— Слушаю, господин поручик.
— Вот что, Афанасий. Если кто из казаков без моего повеления шагнет куда, сам лично расстреляю. — И пояснил удивленному Гозякину: — Похитрим. Остановка на три-четыре дня нужна. Не сделаем этого — обезножеют кони. А город этот — святой город. К нему и подход особый нужен. Клинками его не запугаешь. От него волны пойдут и нас могут дорогой захлестнуть. Все ясно?
— Ясней уж куда.
Левонтьев несколько раз бывал уже здесь. В первый свой приезд удивился неразумной, как он определил, застройке. Дома, упрятанные за высокими, словно крепостные стены, дувалами, лавки, чайханы, мечети, базарчики вблизи от них на свободных пыльных пятачках и пестрый от изобилия снеди, арб, ишаков, торговцев и покупателей главный городской базар — все это словно прилепилось к высокой горе, окружало ее тесным пыльным кольцом, а широкая бурливая речка несла прохладу гор в стороне, купая лишь в своей благодати буйный тальник. Только небольшой арык ответвляла она от себя, который тянулся к горе, огибал ее, словно ограждая от наседавших домов, и вновь возвращался в реку. Но недоумение его рассеялось в первый же вечер, который провел он в гостях у владельца хлопкоочистительных заводов. За партией в покер и услышал он этот рассказ, который хорошо ему запомнился.
«— Как вы нашли наш город?» — спросил Левонтьева хозяин дома.
«— Много пыли, много людей. Мне показалось, что живется у вас стеснительней даже Петербурга», — ответил Левонтьев, понимая, что тем самым, возможно, обижает хозяина. Но в те годы он еще не в полной мере понимал ценность дипломатической лести.
«— Людно у нас — это бесспорно. А когда курбан-байрам[25], яблоку бывает упасть негде. Отовсюду сюда съезжаются», — оживленно, чрезмерно оживленно подхватили все, кто сидел за столом.
Но Левонтьев не обратил на это внимания. Он не знал, что хозяин — мусульманин до мозга костей и гордится своим городом. Но если бы даже знал, свое мнение о городе высказал бы так же откровенно.
«— Толчея, полагаю, не от изобильности гостей, а от неразумности устройства самого города. Петербург…»
«— Петербург создал человек, — не особо скрывая недовольство, заговорил хозяин. — Наш город от аллаха. Всемогущий сказал: «Будь!» — и он стал. Святой город наш. Мазар[26]».
Неловкая пауза длилась всего минуту-другую. Хозяин сам и нашел лучшее продолжение разговору:
«— Пусть меня извинят те, кто слышал о том, как Сулейман-пророк выполнил волю аллаха, но мой долг просветить молодого пограничника».
Неспешно шла игра, и, не мешая ей, а как бы вплетаясь в нее, звучал неспешный рассказ.
Почти в центре Ферганской долины, где Кара-Дарья и Нарын-Дарья, сливаясь, дают начало Сырдарье, — там много-много веков назад стоял город, прекраснее, чем теперешние Самарканд и Бухара. Теперь там пустыня, там заметает знойный ветер сухим песком мелкие черепки не потускневшей от времени мозаики, жалкие холмики битого кирпича да серые, изъеденные временем кости и черепа. Там нет ни одной могилы. Так повелел аллах: город сровнять с землей, а отступников оставить на съедение шакалам, ибо земля все равно не приняла бы грешников.
А грех жителей города был велик. Они не спешили по зову муэдзинов в мечети: в месяц рамадан[27] они не постились и даже играли свадьбы, они забывали о милостыни, закят и садака тяготили их — они отвернулись от аллаха, и он воздал им должное.
Случилось это в ляйлят аль-кадр — ночь предопределений. Вместо того чтобы воздавать заслуженную хвалу аллаху в мечетях, дабы смилостивился всемогущий и определил как всему городу, так и каждому жителю мир и благоденствие, все горожане спешили во дворец правителя, который затеял свадьбу. Нечестивец совсем потерял разум от гордыни, он не позвал даже священника совершить никах — освятить кораном бракосочетание. А когда к воротам дворца подошел усталый путник, старый, в оборванных одеждах, стража не впустила его и даже посмеялась над стариком-паломником.
В мечети в ту ночь молился только один юноша, живший в убогой мазанке на окраине города со своей старенькой матерью. К ней и зашел передохнуть путник. Старушка вскипятила чайник, посорив в него последнюю щепотку чая, разломала последние лепешки и постелила перед гостем дастархан, хотя и из грубой маты[28], но лучший в доме — празднично-чистый.
Гость лишь в благодарность за радушный дастархан выпил пиалу чаю и отломил маленький кусочек лепешки. А затем молвил: «Вернется сын, покормишь его. На рассвете навьючьте все, что ниспослал аллах в ваш дом, на вашу корову и поспешите за стены города. Идите следом за коровой, сколько дней она бы ни шла. А где остановится напиться и не пойдет дальше, хотя вы будете ее погонять — там оставайтесь. Там будет город. Святой город-мазар. А этот город, погрязший в блуде, заедят вши».
Путник исчез. До перепуганной насмерть старушки донеслось раскатисто: «Исполните волю единственного и всемогущего. Я — Сулейман».
Жителей проклятого города заели вши, а довершили волю всемилостивого муминуны — верные и твердые сторонники аллаха. Прах остался от несчастного города. Пепел и прах.
А корова остановилась на водопой здесь, у арыка Худай-хана. Здесь и вырос новый город. Верный аллаху, святой.
«— Тимуриды жаловали сюда, — с нескрываемой гордостью закончил рассказчик, — чтобы совершить тахарат[29] в священных водах Худай-ханы и воздать хвалу направляющему на праведный путь. На Сулейман-горе склонялся в молитвенных поклонах гордый Захиретдин Мухаммед Бабур. Дом бесстрашного витязя, мудрого правителя, властелина Кабула и Бенгалии, основателя династии Великих Моголов в Индии и по сей день красуется на вершине Сулейман-горы. Он тоже — мазар. Город диктует ближним и дальним долинам, малым и большим городам свою волю. Волю аллаха!»
Тогда услышанная легенда вовсе не удивила его. Когда определилось место службы Андрея Левонтьева, он по совету отца начал знакомиться с историей края, где предстояло служить, и прежде вовсе незнакомое так захватило его, что он, бывало, встречал в библиотеке рассвет. За несколько месяцев перечитал не только все, что было по Туркестану в семейной библиотеке, но и в служебной. Его признали, особенно молодые офицеры, знатоком Востока, случалось даже, что у него консультировались высокие чины погранстражи. Не преминул блеснуть своей эрудицией Левонтьев и на том вечере:
«— Не Кутайба ли обрушил огонь и меч на несчастных?»
«— Нечестивцев покарал аллах!» — возразил хозяин, явно серчая.
«— Только ли по велению вашего бога арабы захватили в свое время Бухару? Четыре раза Кутайба, их предводитель, приводил к мусульманству бухарцев, но не сломил их дух жестокостью. Все же он сделал бухарцев своими подданными, смешав их с арабами. Нынче Бухара считается у верующих чуть ли не колыбелью ислама. А он насажден был насильно. Хитростью. Так, возможно, и ваш город стал очагом исламской религии? Я уверен, что живут здесь люди еще с допотопных времен. Поуничтожили исламцы тех, кто построптивей, а кто покорился — живи в святом городе».
Левонтьев говорил вдохновенно. Ему казалось, что все слушают его со вниманием, ибо открывает он им неизвестное. Он совершенно не почувствовал отчужденности, не понял, отчего так скоро закончилась игра, и только, когда все партнеры по покеру вышли на узкую улицу, сдавленную высокими глухими дувалами, пристав Небгольц, положив руку на плечо Левонтьеву, сказал с отеческой заботливостью:
«— Здесь, как и в России, дорогой Андрей Павлантьевич, плевать в колодец не рекомендуется. Здесь, я бы сказал, особенно».
Затрещина что надо. Впору на дуэль вызывать. Левонтьев, однако, сдержал гнев.
«— Грубо, но — в глаз».
Да и не со скандала же начинать службу. Ведь тогда на карьере можно поставить крест.
Он не раз и не два со стыдом вспоминал грубые слова пристава, хотя месяц от месяца все больше осознавал их верность. Влияние ислама (Левонтьев все яснее это усваивал) на все, чем жил Туркестан, огромное. Даже казахи и киргизы, с полным безразличием относившиеся и к корану, и к шариату, ибо одни привыкли к просторам бескрайних степей и вековым моральным устоям, выработанным вековым степным укладом жизни, а другие также накрепко связанные бескрайними просторами гор и не менее древними моральными кодексами, — даже эти народы, вольные, рабство души для которых было вовсе не свойственно, все же смирились с мусульманством, как с чем-то совершенно необходимым, хотя и вовсе лишним. Бывает же так: нахлебничает в доме бедный родственник, надоел, явно мешает, но не выгонишь — родная кровь.
Убеждался Левонтьев и в том, насколько безгранична власть служителей культа, и постепенно начал заводить с ними дружбу. И шел, как ему казалось, необычным путем. Он часто просил растолковать тот или иной аят корана, хотя знал хорошо их, но видел, что льстит этими вопросами проповедникам ислама. За время службы в пограничном гарнизоне Левонтьев совершенно изменился. Он соединил воедино свои прекрасные знания с практикой жизни и в колодец плевать больше не осмеливался. Вот и теперь Левонтьев хорошо понимал, что в этом городе-мазаре казачья вольность может обернуться худом. Оттого и предупредил строго:
— Предупреждаю еще раз: попусту шашек из ножен не вытаскивать! Всем ясно?!
Не определился еще поручик, как поступить, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, чтобы отряд отдохнул и чтобы большевиков не оставить в покое.
«Мог же я получить приказ новой власти о передислокации?» — нашел наконец зацепку Левонтьев и направил коня к бывшей городской управе, полагая, что именно там разместилась и новая власть.
Отряду предстояло обогнуть по берегу Худай-ханы Сулейман-гору, и, когда казаки приближались к ней, Левонтьев, как и прежде, когда бывал здесь, с непониманием думал, чем привлекла эта в общем-то обычная гора, с крутыми каменистыми склонами, на которых густо лепился боярышник да красовалось своим могуществом несколько ореховых деревьев. Не тем ли, что гора оканчивалась не привычной вершиной, а просторной площадкой, будто кто-то отпилил верхушку горы чуть повыше середины и унес куда-то, оставив здесь лишь комель. На этой высокой ровности, где тоже росли деревья, можно было строить дома, можно надежно обороняться, если нападут враги. И Бабура на гору загнало, вполне вероятно, не желание поблагодарить аллаха за триумфальную победу над врагами, а страх перед ними. Ведь начал он свои захваты почти с ничего.
И словно специально для того, чтобы укрыть от зноя жен и детей, имела гора две уютные пещеры.
Сейчас в них обитают дервиши-суфии. О гладкий же валун, который наверняка был общественным мукомольным камнем, но о котором теперь говорят, что на нем восседали и Сулейман-пророк и Бабур, трутся животами женщины, чтобы ниспослал им великий аллах благо материнства. Ямки-кладовые, выдолбленные в граните для хранения зерна и воды, служат «главными судьями» при определении, истинно или ложно заподозрил муж свою жену в измене. И очень просто это делается: сунет муж голову жены в горловину, облюбованную им же самим, если пролезла голова — виновата. Тут же следует расплата. Подводит жену к самому крутому склону и толкает вниз. Скатывается обезображенный труп в Худай-хану на корм сомам.
А горловину при желании всегда можно выбрать по вкусу, ям-кладовых много на горе.
«Неисповедимы пути людские, как и господние…»
Когда стоявший на часах у входа в городской Совет узбек в полосатом халате, в васнецовском шлеме, который назовут потом буденовкой, со старенькой ржавой берданкой проводил Левонтьева к председателю, то весь обдуманный до каждой фразы, до каждой реплики разговор оказался совершенно не нужным. За председательским столом сидел тот самый пристав Небгольц, который дал Левонтьеву после неудачного званого вечера у местного заводчика мудрый совет: никогда не плевать в колодец.
Левонтьев даже опешил. Возможно ли такое: пристав во главе большевистской власти города?!
— Добрый день, любезный Андрей Павлантьевич. Какими судьбами? Да не пяльте глаза на мой наряд: халат как халат… Национальный. А на голове — шлем революционного народа, — весело скоморошничал бывший пристав. — Чалму бы надеть, цветную, сальную, да поостерегся, Андрей Павлантьевич, поостерегся. Чувства народа, коему повелевать намерился, следует щадить. И иное забывать не следует — революцию. Да ты проходи, проходи, — перейдя на «ты», с нарочитой мужицкой простоватостью пригласил Левонтьева Небгольц. — Вот он стул для посетителей. Только что грел его своим грязным задом представитель рабочего класса… — И только тут понял, не переигрывает ли, глянул тревожно и вопросительно на Левонтьева и спросил: — С кем имею честь? Командир червонного казачества?
— Господь с вами, Терентий Викентьевич!
— Отчего, позвольте, в Совет без шашки наголо? Меня же в расход следует…
— Придерживаюсь вашего житейского правила: не плевать в колодец.
Небгольц засмеялся заразительно. Затем взял Левонтьева под руку и усадил на скрипучий венский стул.
— Чем могу служить?
— Вы помните вечер у заводчика? — ответил вопросом на вопрос Левонтьев.
— Боже, сколько их было!
— Кстати, где тот великий почитатель своего пыльного городка?
— Живет. Пока живет. Я предлагал ему создать на хлопкозаводах какие-нибудь рабочие Советы. Милицию крепкую создать. Самому создать и самому же вооружить. Но куда там! Вожжа под хвост. Чуть ли не в большевизме обвинил меня. Что погубит нас, так это дуболомство! — возмущенно воскликнул он и тут же спросил: — А тебя что сюда занесло с таким крупным отрядом? Я тут с тобой откровенничаю, а ты, возможно, того, с народом? Тогда не теряй зря времени, занимай вот этот стул. Венский. Скрипучий.
— В Семиречье решили казаки податься. Меня просили поатаманить в пути.
— Так вел бы через Исык. Перевал и теперь проходим, а в долинах — сама благодать. Да и путь куда короче.
— Оттого и повел здесь, что длиннее. Пока дойдем до Семиречья, они от меня и шагу ступить не посмеют.
— Не юнца прежнего вижу перед собою, но мужа. Со славою идти — это прекрасно!
Левонтьева передернуло от такой фамильярности, от похлопывания по плечу, но он смолчал. Как и тогда, после вечера. А Небгольц продолжал назидательно:
— Карай каждого, кто посягает на святая святых — на собственность, великим потом и великой кровью приобретенной потомками нашими! — Пристукнул кулаком по столу: — Карай жесточайше! Только не здесь. Здесь, любезнейший, поостерегись кровь лить.
— Я уже распорядился. Табу наложено. Но есть одна мыслишка: потревожить улей святой. Сулейман-гору прихлопнуть.
— Эка невидаль. У них мазаров не счесть. Пошумят чуток и смирятся. Религия всегда власть уважает. Любую власть. Так стоит ли овчинка выделки?
— Что верно, то верно. Укрепятся большевики, станут управлять Россией — все склонят перед ними головы. Сектантство, возможно, подольше покуролесит, а христианские попы и мусульманские муллы хором славословить Советы станут. Маркса да Ленина к лику святых мучеников, святых проповедников причислят. Но сегодня и муллы и попы не приемлют большевизма с его приманкой земного рая. Сегодня они коммунистам — враги лютые. Вот и подливать нужно масло в лампадку, раздувать огонь очистительный. Так что, Терентий Викентьевич, стоит овчинка выделки. Еще как стоит!
— Муж! Истинный муж! Склоняю седую голову перед разумом твоим, Андрей Павлантьевич!
— Сегодня мусульмане особенно чутки к обидам, — не обращая внимания на восторженную похвалу, продолжал Левонтьев. — Фанатики они. Русский мужик осенил перед иконой себя крестным знамением, тут же подзатыльником сына наградит, если под руку подвернется, либо жену ругнет. А когда мусульманин молится, его оплюй, дом его подожги, он ухом даже не поведет. Фанатизм — великая сила. Ее только подтолкнуть следует, и пойдет она крушить все без разбору. Пух только полетит от всех большевистских намерений и дел. Невинные, истинные русские патриоты тоже погибнут, но да это не столь уж важно.
— Совершенно, Андрей Павлантьевич, справедливы ваши слова. Но, позвольте заметить, идеи двигают, когда обретают реальное воплощение.
— Разумеется. Вам нужно созвать всех своих подручных и утвердить декрет новой власти, коим бы отменялась святость Сулейман-горы.
— Отменялась? Декретом?!
— Да-да. Именно декретом. В нем указать, что способ проверки верности жен — варварство и преступление перед трудовым народом и что назначена, дескать, специальная комиссия, коей поручено выявить всех, свершивших подобное преступление. Виновных ждет пролетарский суд, который вынесет приговор, руководствуясь своим пролетарским самосознанием. Для солидности можно сослаться на теорию Петражицкого. Фамилия для черни совершенно неизвестная, а вы, должно быть, наслышаны о ней.
— Да, интуитивное право пролетария…
— Вот-вот. А защищать женщину, которую мусульманин не ставит ни в грош, стало быть, в святая святых запустить руку. Второй параграф декрета: отмена культа камня. Мотив? Дервиши, дескать, обитающие в пещерах, помогают женщинам в успехе их предприятия. Ложь, дескать, и обман. Обвинить, короче говоря, дервишей в прелюбодеянии…
— Господи, кощунство какое!
— Через пару дней дервишей арестовать. Думаю, они сознаются, если с ними поговорить по душам. Вдруг и впрямь не безгрешны. Можно, во всяком случае, вывесить листки с их признанием.
— Но это для них означает смерть. Самосуда не миновать. Никакой охраной не отстоять. Мученическая смерть невиновных! Грех на душу, Андрей Павлантьевич, берем. Ужасный грех!
— Игра стоит свеч. Ну побьют каменьями пяток шарлатанов, понесет ли человечество от этого хоть какой убыток? А последствия? Подумайте о них. Зашевелятся муллы. И уж найдут пути, поверьте мне, озлобить мусульман, науськать их на большевиков.
— Это уж как пить дать, зашевелятся. Озлобятся непременно.
Левонтьев вновь будто пропустил мимо ушей реплику Небгольца, хотя и определил с радостью: «Гнется». Продолжал почти без паузы, еще более категорично:
— Третьим параграфом повелеть снести дом Бабура, как возможное место преклонения жестокому завоевателю, притеснителю трудового народа и грабителю, да поспиливать все святые деревья на плато, дабы трудовой народ не рвал бы своей и без того убогой одежды в угоду мракобесию.
— Ну, батенька мой, это уж чушь. Смех один.
— Чем смешнее и глупее будет декрет, тем лучше. Я берусь подготовить его за завтрашний день. Короче говоря, заварим кашу и — в путь. Вас прошу в мой отряд.
— Да нет, любезнейший Андрей Павлантьевич, я уж здесь. Той палкой, что мы по улью стукнем, пошевелю еще в самом улье. Поглубже ее, поглубже!
— Вам видней, — ответил неопределенно Левонтьев, а выходя к своим казакам, подумал с какой-то внутренней успокоенностью, словно снял с души невидимые, но чувствительные вериги: «Что ж, достойный конец самовлюбленного глупца. Грядет расплата за неотмщенное оскорбление. Почище дуэли!»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Залязгали буфера, вагон тряхнуло, состав, ползший и до этого по-черепашьи, вовсе остановился. За окном — телеграфный столб с подпоркой, заброшенное поле с густыми ярко-розовыми стрелами иван-чая, с буйной крапивой. Безлюдно за окном и тоскливо.
— За смертью бы ездить на таком поезде! — в сердцах выпалил Михаил Богусловский. — Никакого порядка. Полная неразбериха.
— Не лайся, — оборвал Михаила Богусловского сидевший напротив полный, осанистый мужчина то ли из мастеровых, то ли из приказчиков. Круглые оплывшие глаза его пылали гневом: — Думаешь, погоны золотые снял, так не видно твою беляцкую душу? Ишь ты, ловкач, в бога душу мать. Я те покажу неразбериху. Спроважу в чека за милую душу. Ты мне гляди! Ругнись еще, контра!
Богусловский не боялся чекистов, совесть его перед революцией была чиста, и он мог бы сейчас сказать об этом, но поймут ли его здесь и поддержат ли. И впрямь, он для них — бывший офицер. Подумал лишь с горечью: «Эти наглецы и станут формировать взгляды общества. Для них хаос — родная стихия. Половят в мутной воде рыбку. И не слишком ли поздно общество поймет это?»
— Скажи спасибо, что не отлынивал, когда уголь таскали. А то в окно бы сейчас загремел, — продолжал наседать мастеровой-приказчик. — Или так: уважение получил, свой, дескать, и теперь смутьянить сподручней. Союзовец какой-нибудь? У-у, контра!
Ухмыльнулся Богусловский. Нелепость обвинения даже развеселила его. Самим собой оставался Богусловский, не играл под мужика, грузил в тендер уголь, носил ведрами воду в паровозный котел старательно оттого, что осознавал: этим ускорит свое возвращение в Москву, к Анне. Он, искренне возмущенный, поспешил к начальнику станции, когда узнал о том, что паровоз велено перецепить к другому составу. Сумел постоять за свое, как ни размахивал перед ним и начальником станции наглый горлан мандатом и револьвером. Все делал Богусловский, видя необходимость в этом, но в душе его креп протест, в голове был полный сумбур, как и в те первые дни на границе. Он вновь все больше и больше запутывался в своих мыслях, хотя впервые за эти послереволюционные месяцы представилась ему возможность (поезд плелся от Курска уже третьи сутки и едва осилил половину пути) осмыслить стремительность происходящего. Получался полный парадокс: есть возможность пофилософствовать, разобраться в себе и окружающем, найти для себя четкий ответ, но ответа-то и не выходило. Никак не выходило.
А ведь для него лично, казалось, все складывалось благополучно. Он делал то, что хотел делать, к чему стремился, идя на штурм Зимнего. Только какое-то время неопределенность положения тяготила его, когда так непривычно названные оргпятеркой уехали штабные работники Отдельного корпуса пограничной стражи вместе с правительственным поездом в Москву, ничего определенного не сказав оставшимся. Но вскоре Богусловский получил предписание прибыть в Главное управление пограничной охраны, которое находилось в Нижне-Николо-Болвановском переулке.
«Ничего себе адресок!» — радостно думал он, поспешая домой сообщить отцу о полученном предписании. Вопрос — что делать? — отпадал. Жизнь определялась.
Огорчало его лишь одно: Анна Павлантьевна оставалась совсем одна. Отец ее все не появлялся. Дмитрий тоже исчез бесследно, а от Андрея она давно не получала никаких вестей. И Михаил решился, вовсе не надеясь на успех, сделать предложение Анне. И сразу же разволновался, переживал загодя стыд отказа, готовил убедительное оправдание своему поступку, если девушка станет обвинять его в том, что он, Михаил, осквернил память погибшего брата Петра…
Но все произошло буднично. Анна Павлантьевна вышла к нему в халате, с неубранной головой. Грустная и безразличная ко всему. Тоскливо сжалось у Михаила сердце, он подошел к ней, поцеловал руку и, трудно осиливая волнение, сказал:
«— Меня вызывают в Москву. Я пришел позвать тебя с собой. Совсем. Навсегда с собой…»
И замолчал, ожидая ответа.
Не вспыхнуло стыдливым румянцем лицо девушки. Не потупила она очи долу. Нет, Анна грустно посмотрела на Михаила и ответила со спокойным безразличием:
«— Наверное, так будет лучше нам обоим. Я знаю, что не безразлична вам, тебе, — поправилась она. — Ты просто не становился на пути брата. Петю я не смогу забыть, но тебе постараюсь быть верной и надежной спутницей».
Пред очи отца-генерала предстали они вдвоем. Не очень-то обрадовался скоропалительному, без его на то согласия, решению, но икону снял со стены и благословил. Ехать же вместе с ними отказался наотрез.
«— Бросить свой дом и мытариться по чужим углам? Нет, увольте старика».
Свадебный ужин без гостей, сборы короткие и — тряский вагон…
Их поселили недалеко от Таганской площади, в богатом особняке, стыдливо укрывшемся за небольшим, но густым садом. Дали две комнаты. Непривычно, правда, иметь за стеной соседей, которыми твоя жизнь словно в подзорную трубу проглядывается, но что делать? Иным и таких квартир пока не дали. Только оргпятерка в Купеческом подворье, напротив Василия Блаженного, в хороших номерах разместилась. Остальные — как кому повезло.
Беспокойной и опасной жизнью зажил Богусловский. В Петрограде хватало разных «спасителей России», но в Москве ими хоть пруд пруди. Было похоже, что Москва стала центром общероссийской контрреволюции. Монархисты здесь создали несколько явных и тайных организаций: «Союз георгиевских кавалеров», «Совещание общественных деятелей», «Всероссийский союз казачества», «Совет офицерских делегатов», — да мало ли их, обряженных в домотканые портки и грубого сукна армяки, ратовали за возвращение русского престола тем, кто сотни лет обманывал доверчивый русский народ, присвоив себе уважаемую на Руси фамилию Романовых, душил и мял мужика русского, с остервенением затаптывал все светлое и доброе, чем богата душа славянина. И Михаилу Богусловскому не раз и не два приходилось, особенно в первое время, пока раздумывали, кому подчинить пограничные войска и как охранять границу, помогать чекистам громить, как тогда было модно говорить, контру.
Чекистам оказался весьма кстати его пограничный опыт, они многое ему доверяли и даже предложили перейти к ним. Он боялся, себе он в этом признавался, категорически отказаться, но и согласия не давал. Он, потомственный пограничник, не хотел изменять семейной традиции.
И как раз в то время, когда уже нельзя было тянуть с ответом, Богусловского откомандировали налаживать охрану границы с Германией по линии, определенной Брестским договором.
Какая то была граница? Уперлись лбами полки и дивизии на станциях, под стенами городов на околицах крупных деревень стояли упрямо, а по лесным проселкам везли, кто хотел и все, что хотел. Через болотистые трущобы проходили бесконтрольно все кому нужно и не нужно. А пограничные ЧК, которые спешно создавались на наиболее беспокойных участках, так были малосильны и так неопытны, что от них, как от комаров, отмахивались контрабандисты и переправщики агентуры.
Увидевший все это Богусловский упал духом. Там, в Москве, власть держится, кажется, чудом, здесь — какой-то сумбур, в котором ему, опытному пограничнику, привыкшему к стройности и основательности в охране рубежей, разобраться оказалось не под силу. А Михаил Богусловский был тверд во мнении, что не умеющее охранять свои границы государство не может быть сильным. Все чаще и назойливей, словно осенняя муха перед заморозками, липла тоскливая мысль: «Чего ради Зимний брали?»
Особенно липла эта навязчивая мысль, когда узнавал Богусловский об очередном каком-нибудь бунте или саботаже в Москве, об очередной наглости анархистов, которые захватывали удобные особняки. Тот особняк, где осталась Анна, могут они тоже захватить, и что станет тогда с ней?! А база у анархистов оказалась превосходной — почти сто тысяч безработных в Москве, иные на любое пойдут, лишь бы жить безбедно.
К чему бы привели душевные муки Богусловского, предсказать трудно, если бы не случись ему убедиться в самоотверженности чрезвычайного пограничного комиссара и красноармейцев-пограничников. Произошло это севернее Белгорода. На небольшой станции, половину которой захватили немцы, а половину удалось отстоять, шла обычная для тех месяцев пограничная работа — реэвакуация беженцев. Управление Всероссийского Союза городов и организаций помощи пленным, раненым и беженцам, которое для удобства называли тогда Пленбежем, выдавало документы на переход границы не всегда обоснованно. Вот и приходилось проверять и перепроверять, чтобы под крылышком Пленбежа не пересек границу контрреволюционер-связник, шпион либо диверсант.
Внушительно на первый взгляд была здесь поставлена служба. Да и сил достаточно. Более сотни бойцов-чекистов, бронеавтомобиль с пулеметом и скорострельной пушкой Гочкиса, несколько пулеметных мотоциклов Кишно. И когда приходил очередной эшелон, вся эта техника выводилась к станции. Знай наших! Но уже через день-другой Богусловский понял, что, пока чекисты в первых вагонах проверяли документы, а таможенники багаж, задние вагоны заметно пустели.
«— Для чего весь этот форс, эта демонстрация силы?» — спросил он пограничного комиссара.
«— Как для чего? — удивился тот. — Не прятать же то, что мы имеем?»
«— Именно прятать. В этом вся суть охраны границы».
Вместе, как ни хмурился недовольный комиссар, разработали они очень подробно, с учетом всех возможных осложнений, план охраны эшелонов и станции, а затем Богусловский попросил рассказать, как охраняются фланги участка, где наиболее беспокойное направление.
«— Вот здесь, — ткнул пальцем в зеленый квадрат карты погранкомиссар. — Верстах в пяти от границы, в лесу, формируется полк из повстанцев-беженцев. Когда вооружится, пойдет через границу с немчурой и петлюровцами биться. Вот сюда и прут петлюровцы и гайдамаки, пачками и поодиночке. Оружия у повстанцев — кот наплакал, вот я и держу на этом направлении до взвода».
«— Откуда известно на той стороне о формировании? Не задумывались? Источник информации не пытались выявить?»
«— Да вроде бы все там порядочные…»
«— Хорошо. Вернемся к этому вопросу позже. Я сам в полк съезжу. А как остальные направления охраняются?»
«— Мотоциклетные дозоры высылаю. Через день, через два…»
«— Все ясно, — заключил Богусловский и распорядился: — Завтра утром выезжаем на границу. Лучше небольшой группой. И прошу вас — никаких мотоциклов, никаких бронеавтомобилей. Граница тишину любит. И еще… разумность поступков».
Всего на мгновение мелькнула у комиссара во взгляде ненависть злобная, и вновь глаза стали спокойными и внимательными.
«Умеет себя держать, — отметил Богусловский и продолжил: — Я бы мог принять во внимание вашу на меня обиду, но увольте. Мы не дипломаты. Мы — солдаты. Нам не елейные речи плести предначертано, а границу в крепкие руки взять. Потому не приношу извинения, а говорю еще раз: думать и думать! Пулеметы неизвестно ради чего на перрон выкатывать — дело не хитрое. Повторяю: утром, без шума и на тот фланг, который вы считаете благополучным. Честь имею».
Едва забрезжил рассвет, пограничники были уже на конях. По улице, по совету Богусловского, ехали тихим шагом, чтобы не дразнить дворняг, за поселком же пустили коней крупной рысью, дабы побыстрее миновать пахотные поля и укрыться в лесу до того, как вовсе развиднеется. Но когда въехали в лес и стоило бы уже определить порядок движения группы, способы связи и управления, комиссар все продолжал рысить по лесному проселку впереди бойцов. Богусловский удивился тому, что пограничники рысят кучей, и все ждал, что вот-вот придержит коня комиссар, вышлет вперед разведывательный дозор, да и тылы прикроет. Увы, комиссар рысил и рысил, словно одна цель была перед ним — промять застоявшегося жеребца. Только маузер, болтавшийся сбоку, положил на луку седла.
«Так и будет скакать? — все более недоумевал Богусловский. — Ну стража!»
Он пришпорил своего коня, догнал комиссара и спросил:
«— Вы любитель конных прогулок?»
«— У меня конюшней не было, — сделав ударение на слове «не было», ответил комиссар. Между его бровей, густых и черных, как вороньи перья, прилипшие над глазами, появилась сердитая складка. — Мы из трудового люда!»
«— Тогда остановитесь и определите порядок движения группы…»
«— Что? Игрушки играть будем или местность все же изучите? Ради чего ехали? Я ее знаю, как свои пять пальцев. А на станцию эшелон скоро проследует», — недовольно ответил комиссар, продолжая рысить.
«— Остановитесь! Я приказываю! — с несвойственной ему резкостью потребовал Богусловский и сам столь же резко осадил коня. И уже не опасаясь, что красноармейцы услышат и осудят командира, продолжал громко и резко: — Здесь граница, и потрудитесь разумно ее охранять. Повторяю: разумно. Распоряжения мои попрошу выполнять неукоснительно. Ротозейству вашему я не потатчик!»
Определил погранкомиссар двух бойцов в головной дозор, и Богусловский предупредил их:
«— Только шагом. Если поляна впереди, не торопитесь выезжать. Спешиться прежде нужно и осмотреться. Если заметите что подозрительное, немедленно докладывайте».
Тронулись, оставив и тыловой дозор. Молчали насупленно. Комиссар серчал за пустопорожний, как он полагал, разнос, а Богусловский, осуждая свою вспышку, изучал в то же время следы на дороге (а их было много, и колесных, и конных, и пеших, свежих совсем и засохших, затоптанных, заезженных) и думал огорченно о безалаберности комиссара, который так халатен в исполнении своего долга и, самое страшное, вовсе не понимает этого.
«Пагубность именно в непонимании, в нежелании понять, — рассуждал мысленно Михаил. — Запрограммировал себя и не хочет больше ничего знать и видеть. Что это — ограниченность мышления или упоение властью? От сохи или от станка и вдруг — вот тебе! — комиссар».
Решил проверить свой вывод. Спросил:
«— До революции кем работали?»
«— Матрос я. Балтиец. Зимний брал».
«— А до флота? Кстати, Зимний я тоже брал. И охранял его. Командовал пограничным отрядом…»
Взгляд комиссара потеплел. Заулыбался он радостно, словно неожиданно встретил самого дорогого друга. Ответил, теперь уже охотно:
«— Из крестьян я. На флот редко из деревень брали, все городских, чтобы мастеровой, значит, а я вот попал».
«— Деревенскому человеку, — не реагируя на разительную перемену в настроении комиссара, деловито продолжал Богусловский, — следы на дороге могут поведать о многом. Неужели служба на море так оторвала вас от земли?»
Что ответил бы Богусловскому комиссар, неведомо, ибо их разговор прервал скакавший к ним навстречу дозорный. Доложил с торопливой радостью:
«— Неприглядное поле впереди. Иван-чай уж силу набрал, — вздохнул невольно, жалея добрую землю, истосковавшуюся по сохе, и продолжил, даже не заметив невольного вздоха: — Большое поле. Придержали мы коней, спешились, как велено было, я — вперед. Гляжу, а за полем в лесу есть кто-то…»
«— Кто? — резко спросил комиссар. — Пешие? Конные? Сколько их?»
«— На конях вроде. А сколько — не могу ответить. Сразу попятился».
«— Попятился, попятился…» — сердито перебил дозорного комиссар.
Но Богусловский остановил пустую перебранку:
«— Вас, как думаете, не заметили?»
«— Не должны бы. Я тихо. Пеши я».
«— Поступим так: вперед рысью, перед полем спешимся. Посидим в засаде, подождем».
Так и сделали. Лежат пограничники, ловко в кустах упрятанные, и ждут терпеливо. А поле все так же беспечно нежится под солнцем. Время идет, а все вокруг спокойно.
«— Померещилось дозорным, — ворчит комиссар. — Никогда здесь петлюровцы не появлялись».
Да, тверд в том, на что запрограммировал себя. Видит же, что заслежена дорога, все время, значит, в работе. А кто по ней ездит — разберись пойди. Контрабандисты либо гайдамаки?
Молчит Богусловский. Не время для бесед наставнических. Хочется Михаилу, очень хочется, чтобы урок преподнесен был предметный, который перевернул бы душу этому упрямцу.
Из леса на брошенное поле выехала подвода. Беспечно развалился на холстине, брошенной поверх сена, возница. Подергивает вожжой, покрикивает:
«— Ну пошла!»
А лошадь даже хвостом не махнет в ответ. Шагом сонным и шагает.
«Ишь ты, ловок, — отметил Богусловский. — Словно за дровами направился».
Богусловский вполне уверился, что послана по дороге разведка. Шепнул комиссару:
«— Обратите внимание, сколь разумно выслана разведка. — И распорядился: — Подводу пропустить. Взять возницу километра за два отсюда».
Подвода лениво миновала затаившуюся засаду, прошло после этого уже минут десять, а все спокойно.
«— Сколько еще лежать? — недовольно спросил Богусловского комиссар. — Эшелон уже проследовал на станцию. Напутают там все без меня, как пить дать, напутают».
Промолчал Богусловский. У самого тоже сомнение зародилось. Хотя и считал, что не могли дозорные все выдумать. Да и возница явно переигрывал. Не зря это. Не зря.
«Еще минут пятнадцать, тогда уж вперед».
Но прошло всего несколько минут, и на поляну выехала звеньями сотня гайдамаков. Правда, не все в строгой казачьей форме, иные одеты по-крестьянски разнобойно, только папахи у всех серые, рассеченные желтыми лентами от верха до лба, да клинки и короткие австрийские винтовки новые, прямо из арсеналов. Подсумки тоже не обмятые.
Пограничный комиссар отсунул на затылок кожаную фуражку, вытащил маузер, ругнулся смачно, а затем уже:
«— Как на параде гарцуют, холуи немецкие, контра паршивая! Сейчас схлопочете кузькину мать!»
«— Разумней отойти. Вызвать подмогу, тогда и ударить. Броневик вот тут не помешает», — возразил Богусловский.
Но погранкомиссар метнул гневный взгляд на Богусловского и пополз подальше от опушки и, как только в густом ельнике в полусотне метров от поля собрались пограничники, спросил вызывающе:
«— Отойдем за подмогой или встретим?!»
«— Вестимо, встретим», — ответил один из бойцов буднично, и все согласно закивали.
«— Тогда так: возьмем в кольцо. В лес впустим и ударим по голове и по хвосту. Уловили?»
Богусловский поражен был тем, с какой уверенностью, с какой смелостью и, наконец, тактической грамотностью командовал комиссар. Он был, что называется, в своей тарелке, не нуждался ни в помощи, ни в поддержке. Даже он, Богусловский, считавший предстоящий бой никчемным ухарством, ибо он окончится в лучшем случае тем, что гайдамаки, не осмыслив, какая сила засады, ускачут обратно за кордон, но не будут разбиты и, значит, останутся и впредь потенциальными нарушителями границы, — даже Богусловский был покорен дерзкой решимостью и самого комиссара, и всех пограничников, охотно и сноровисто выполнявших его приказы.
В лес гайдамаки въехали, перестроившись в колонну по два, и Богусловский понял, что на это не рассчитывал комиссар. Если ждать, пока вся сотня втянется в лес, головные уже минуют засаду.
«— Лучше головных пропустить, — думал Михаил. — От границы отсечь сотню».
Передать бы свои мысли комиссару, только далеко тот, там, куда удаляется голова колонны. Вот и лежит Богусловский тише мертвого и не замечает, что впились пальцы в рукоятку маузера.
Еще не втянулся хвост колонны в лес, а полоснул по лесу неожиданно и резко выстрел, а через миг смешались, слились частые выстрелы, крики команд, матюги и ржание коней. Несколько гайдамаков из тех, кто оставался еще на поле, пришпорив коней, влетели в лес, лихорадочно стреляя по густому подлеску, остальные же развернулись и, бросив дебелые телеса на луки и шеи своих добрых коней, понеслись наметом через поле. Но вот одна лошадь рухнула подкошенно, выбросив катапультой всадника из седла, вторая, третья: от опушки по скачущим стреляло несколько красноармейцев.
«Все предусмотрел, — похвально думал Богусловский о комиссаре, выцеливая очередного гайдамака. — Молодец!»
Потянули более благоразумные руки вверх, послезав с коней и побросав оружие, но многие еще продолжали отстреливаться, посылая пули наугад в густой ельник, и в это время на дорогу выскочили на конях комиссар и пяток красноармейцев. У комиссара в правой руке шашка, в левой — маузер, поводья же от трензелей и мундштука на луке, узлом перехваченные, а конь, словно разделяя мысли хозяина, подчиняясь лишь шенкелям, прет в самую гущу гайдамацкой сотни. Бешеная отчаянность, совершенно нелогичная дерзость, но она-то и решает исход боя. Кто еще колебался, кто еще, понукая коней, пробивался к ельнику, чтобы смять засаду, порубить ее, покорились судьбе. Сопротивление сломлено. Комиссар, однако, будто не ради этого вылетел смерти навстречу, он вроде бы не замечает гайдамаков с поднятыми руками, он продолжает пришпоривать коня и без того пластающего наметом.
Комиссар кинулся в погоню за теми, кто уходил за границу. И догнал их. Догнал и приконвоировал обратно.
Богусловского, воспитанного на добрых традициях пограничной семьи, где мужество считалось делом обычным, ратным долгом, и видевшего своими глазами мужество казаков-пограничников, покорила стойкость красноармейцев. Без раздумья навязали они бой, веря, без всякого веря в победный исход, хотя не могли не видеть многократного превосходства врага. Но они, вполне допускал это Богусловский, готовы были и к худшему исходу. Но рук, как вот эти вояки, не подняли бы. До последнего дрались бы, это уж точно.
«Верой сильны. Праведной верой. И не осилить их никому», — сделал тогда для себя вывод Богусловский.
Окончательно же покорило Михаила то, что красноармейцы не стали чинить никакого насилия пленным, хотя, он видел это, ненавистно смотрели на гайдамаков.
Богусловский и сам неприязненно поглядывал на эти как на подбор пухлощекие лица, наглые даже под маской смиренной покорности, и пытался осмыслить, какие устремления руководят ими, что заставляет их стать, по существу, подручными кайзеровских захватчиков. Здесь, на месте древних засечных линий, где казаки и стрельцы обороняли Русь от набегов ордынцев, сейчас истинные патриоты Руси, как думал Богусловский, обороняют революционную державу не только от захватчиков, но и от своих братьев по крови, поправших святая святых — Родину. Поднимался мужик с топором и дрекольем на притеснителей, бился за землю-кормилицу жестоко, но едва нависала угроза извне, тот же мужик, поротый-перепоротый на конюшнях, загнанный непосильной работой, — тот же самый мужик вставал стеной и гнал взашей отборные легионы супостатов-разбойников. А теперь тот же мужик, науськанный супостатами, прет на мужика. Этого Богусловский не мог ни понять, ни оправдать.
Тогда он еще не осознавал, что такое классовые интересы и что деревня давно уже не единая община-мир, давно она точит ножи не только на помещика, а и на кулака-мироеда, но и кулак не дремлет в сытой неге. Понимание этого придет позже, когда всколыхнет всю Русь, от границ до границ, гражданская война, и он сам закружится в этой кровавой круговерти.
Но это будет потом, через несколько лет, а сейчас он, воспринимая происходящее по-своему, всматривался в лица пленных, определяя, с кого начать допрос.
Отводили глаза, опускали долу, не определить, труслив ли, мужествен ли. Но вот столкнулись два взгляда: изучающий Богусловского и ненавистный жилистого низкорослого запорожца.
«— Продався, — змеино прошипел казак в лицо Михаилу. — На кил всих! На кил! Кровью, христопродавцы, умиетесь!»
И столько страсти, столько злобы было в этом шипении, что Богусловского оторопь взяла. Но, поборов ее, решил, что в горячности этот желчный казак-запорожец все и выболтает. Спросил спокойно:
«— А колы впереди себя пустили?»
Заходили желваки на костистых скулах, тонкие губы сомкнулись в посиневшую полоску, не разжимает их, не выпускает ни одного слова. Богусловский же задорит. Бросает насмешливо:
«— Аники-воины! Что тебе пустобрехи-дворняги. Гавкать лишь горазды. А чуть что — лапы кверху…»
«— Зараз не выйшло, завтра наш верх буде. Життя не дамо иудам!»
«— Кто из нас Иуда, разобраться еще следует. У вас австрийские винтовки, а не у нас, — одернул Богусловский. — Вы, как тати, лесом крались, чтобы напасть на своих братьев по крови…»
«— Яки воны браты?! — взорвался казак. — Христопродавцы! — И как бы оправдываясь, пояснил сердито: — Або мы их, поки им не дали гвинтивки, або вони нас».
Доволен остался собой Михаил Богусловский — вызнал все, что нужно. К повстанческому полку путь держали. Надеялись обойти с тыла, откуда никто не ждет опасности, и устроить резню. Есть над чем поразмыслить. Все известно гайдамакам: и где полк стоит, и что оружия пока еще мало. По каким каналам идут эти сведения? Немецкая агентура в полку либо самих гайдамаков? Сейчас самое время выявить предателей. Кто-то из них должен же встретить гайдамаков.
Прямо в лесу начал допрос Богусловский, но результатов никаких. Пароль, место встречи и человека, который должен был встретить, как понял Богусловский, знал лишь один человек — сотник. А он убит. Михаил высказал свое решение комиссару:
«— Поступим так: пошлите надежного человека в полк немедленно. Пусть он организует наблюдение за гарнизоном».
«— Какой гарнизон. Землянки да шалаши в лесу».
«— Тем лучше. Совершенно скрытно можно организовать секреты. И предупредите командира, привлечь в полку к этой операции можно только тех, кому он вполне верит. Как самому себе».
«— Ну это ясно».
«— Пленных держать пока здесь. До ночи».
Оставив всех красноармейцев для охраны пленных, Богусловский с комиссаром вернулись на станцию. Там их ожидала новость: германский комендант приглашает их на переговоры. Время назначено вечернее.
«— Мотивы выдвинуты какие?» — поинтересовался Богусловский и услышал странный ответ.
«— Пустое. Говорит, нужно соблюдать договор о непереходе границы вооруженными группами… Глотку ему в два счета можно заткнуть. Сами же первыми нарушают…»
«— Понятно, — с неуверенностью проговорил Богусловский и предложил комиссару: — Пойдемте в канцелярию, поразмыслим, поприкинем, что к чему».
Отчего в столь поздний час и почему именно сегодня, когда гайдамаки побиты и пленены? Не станет же немец требовать по этому поводу объяснений? Да и знает ли он о бое в лесу? От границы километра три было, выстрелы не слышны, а обратно ни одному не удалось уйти. Комиссар совершенно правильно поступил, хотя наверняка не думал о последствиях, а по мужицкой привычке все начатое доводить до конца.
«— К встрече нужно хорошо подготовиться, — словно размышляя вслух, заговорил Богусловский. — Привезем трупы убитых гайдамаков сюда. Броневик и мотоциклы выведем загодя. Укроются пусть только за постройками, но моторы не глушат».
«— Ни к чему это. Вроде трусы мы…»
«— Думаю, пригодится. Еще как пригодится! Я так считаю: встреча делается специально, чтобы отвлечь внимание. Поверьте мне, сегодня нас пригласят на ужин. И стол, если мы согласимся, накроют отменный. Изобильный стол. Думаю, не ведают немцы о разгроме гайдамаков. И вот еще что… Повстанцев следует оцепить секретами. И пусть в полку о них никто не знает. Никто! Чрезмерно это, скажете? Но лучше, считаю, перестараться».
После небольших дебатов предложение Богусловского было все же принято.
До начала встречи пограничники все, что задумали, успели сделать, и на перрон, к колючей проволоке (в три кола), разделявшей станцию на советскую и германскую, комиссар и Богусловский вышли уверенно. Пошагали неспешно, плечо к плечу, по щербатому бетону. Следом, в шаге от них, шел переводчик, за ним, держа новые трехлинейки «На плечо!», печатали строевой шаг новыми сапогами четверо красноармейцев.
К воротам, тоже тройным, густо обвитым колючей проволокой, подошли одновременно и кайзеровцы, и советские пограничники. Часовые отперли внешние ворота и поспешили к серединным, на которых висело два замка: немецкий и русский.
Проскрежетав петлями, распахнулись створки, и, не доходя шага до границы, остановились с деланными улыбками на лицах представители двух враждебных держав: немцы в парадной форме с неизменными касками на головах, наш комиссар в кожанке, Богусловский в своем поношенном кителе со следами погон, и только красноармейцы были обмундированы по всей форме. Немец даже не смог сдержать презрительной усмешки, вскидывая руку для приветствия. Но тут же на лице его, явно вопреки желанию хозяина, вновь появилась улыбка, и кайзеровский офицер заговорил, насилуя себя, мягко и приветливо, а переводчик шустро подхватил:
«— Он имеет два заявления. Приглашает к себе в гости, чтобы за дружеским столом найти справедливое разрешение этих заявлений…»
«— Русский обычай не позволяет водить гостя в гости», — ответил погранкомиссар и развел руки. Мол, ничего не поделаешь, обычай — вещь серьезная.
Да, германский офицер знает, что гость из Москвы здесь уже не первый день, вот он и хотел бы высказать свои претензии. А деловой разговор удобнее вести не у колючей проволоки.
«— Не мы вбили колья, и проволока не наша», — хотел отпарировать Богусловский, но сдержался. Ответил официально:
«— Я слушаю ваши заявления».
Переговоры, таким образом, он взял на себя и теперь уже не опасался, что комиссар, несмотря на подготовку, может все же дать промашку.
Немец заговорил резко, рубя фразы, делая между ними паузы, чтобы переводчик успевал перевести каждое слово:
«— Мы имеем сведения о формировании целого полка для заброски на нашу территорию. Договор о мире исключает подобные акции. Если советское командование не примет надлежащие меры, это вынудит нас на крайние меры».
«— У вас точные сведения, но устаревшие. Действительно, какой-то вооруженный отряд укрывался в лесу. Вчера я узнал об этом. И потребовал разоружения отряда. Сегодня утром распоряжение мое выполнено. Те, кто сопротивлялся, уничтожены. Трупы убитых привезены сюда. Если господин немецкий офицер желает, мы можем показать их, — спокойно, с достоинством ответил Богусловский и кивнул комиссару. — Распорядитесь, пожалуйста! — И вновь продолжал, уже с улыбкой: — Русские не зря говорят: уговор дороже денег».
Немец не ожидал подобного ответа. Не великий дипломат, он проработал в своем уме наступательные варианты, а они оказались совершенно не нужными. Богусловский же не давал ему возможности прийти в себя.
«— Пока доставят вещественное доказательство, вы, господин офицер, можете сделать второе заявление…»
«— Оно вытекает из первого, — ответил сердито германец. — Подождем ваши доказательства».
Ждали недолго. У пограничников все было подготовлено загодя, и вскоре уже появились две повозки, на которых лежали трупы гайдамаков и их винтовки. Когда повозки подъехали к колючей проволоке, лицо кайзеровца побагровело, и Богусловский, с удовольствием наблюдая за немцем, заговорил с официальной сухостью:
«— Хочу обратить внимание господина коменданта на оружие убитых. Советская страна таких винтовок не имеет…»
Кайзеровец, ставший похожим на свирепеющего боксера, которого с трудом сдерживают на поводке, взмахнул рукой, и из ближних вагонов на перрон горохом посыпались германские солдаты и с винтовками наперевес кинулись к воротам. Тогда комиссар, сорвав фуражку, крутнул ею над головой, лихо свистнул, словно скоморох перед выходом на круг для огненного перепляса, и выхватил маузер.
Но маузер был уже лишним. Из-за пакгауза, отфыркиваясь дымком, выползал броневик, а по перрону неслись, захлебываясь треском, мотоциклы с заряженными пулеметами, и это, словно ушатом холодной воды, охладило коменданта и всех германских солдат. Они попятились, а часовой поспешно принялся закрывать ворота.
Отступила и советская делегация. Неспешно и чинно.
«— Прямо скажу: под девятое ребро ты индюка германского… Никогда бы не подумал…»
«— Я — пограничник. Здесь пращур мой стерег Русь от ордынцев. Не только бился боем смертным, но и дипломатил. Граница, она испокон веков — граница. Кстати говоря, здесь от набегов степняков засеки сооружали, думаю, не помешали бы они и теперь. На наиболее опасных участках. Как считаете?»
«— Считать-то тут чего? Толковая вещь — засеки. Сделаем. Сейчас же, пока будем ждать доклада из полка, можем наметить, где их работать».
Комиссар да и Богусловский считали, что нападение на полк готовилось вероятнее всего во второй половине ночи, стало быть, те, кто должен встречать гайдамаков, тоже не пойдут из полка слишком рано, вот и готовились они к долгому ожиданию донесения. Но случилось неожиданное: они еще не дошли до пограничного ЧК, а им навстречу уже спешил связной от командира повстанцев. Передал комиссару четвертушку тетрадного листа, на котором химическим карандашом было выведено: «Контрик схвачен. Сознался. О сообщниках не признается».
«— Неужели все, — вздохнув грустно, недовольно буркнул Богусловский. — Раскрыты наши карты до времени. Выскользнуть могут остальные».
«— А наши секреты для чего? Своевременная мера!»
«— Нужно ехать в полк, — не отреагировав на замечание комиссара, продолжал, будто мыслил вслух, Богусловский: — Шум поднят — таиться бессмысленно».
Пока доскакали они до полка, там уже секреты пограничного ЧК задержали еще четырех беглецов. Долго те не запирались, признались в сговоре с гайдамаками, которым должны были помочь нынешней ночью, но когда узнали об аресте одного из группы, то дай бог ноги.
«— Вполне вероятно, что кто-то еще остался в полку, не выявил себя. У кого нервы покрепче. Я в этом больше чем уверен, — высказал свое мнение Богусловский. — Вполне возможно, что у предателей оружие припасено, и в любой момент можно ожидать чего-либо неожиданного. Не исключено, что немцы могли направить несколько отрядов гайдамаков по разным маршрутам. Меры поэтому следует принимать экстренные».
«— Обыск. Поголовный! — предложил комиссар. — И все землянки перетряхнуть, все шалаши».
«— Обыск без санкции — деяние противозаконное…»
«— Все, что в интересах революции, — все законно! — настаивал комиссар. — Я требую немедленного обыска!»
«— У меня есть иное соображение. Полку следует теперь же сменить дислокацию. Да-да, не удивляйтесь и не возражайте! Построить всех до одного, объявить это и, уже не распуская строй, повести полк на новое место, а для отправки вещей личных и полкового имущества оставить по два человека от отделения. Они помогут нам изучить все, что здесь останется. Движение полка обеспечивать нужно пограничными нарядами. Скрытыми. Чтобы пресечь возможность ухода связников. Новое место давайте определим по карте. Далеко не следует уходить. Километра на два, на три. Немцев мы этим маневром тоже введем в заблуждение».
«— Ну и хитер! — не сдержал восторга комиссар. — Ну, хитер!»
«— Никогда не следует считать врага глупым и недальновидным, трусливым и прямолинейным», — ответил Богусловский, склонившись над картой, которую развернул на грубо сколоченном столе командир повстанческого полка.
Через несколько минут полк стоял в строю, отделенные проверяли наличие людей и докладывали взводным. Все налицо. Говорит Богусловский:
«— Кайзеровцы руками гайдамаков готовились этой ночью уничтожить вас всех. Мы полностью еще не знаем замыслы врага, поэтому считаем необходимым передислоцировать вас».
«— Не ховатыся по лисах, а быты германцев та гайдамак-вражын треба! Гвинтивкы да кулеметы дайте нам!» — выкрикнул кто-то из строя, и ропот пошел по рядам: пора бы, дескать, вооружить полк и пустить его на Украину родную, кровью залитую.
Ответил комиссар:
«— Завтра утром сотню австрийских винтовок, из которых вас хотели убивать, получите. Дня через три — наши трехлинейки. Сполна. Даже пяток «максимов» обещали. И гуляйте. Мстите за жен поруганных, за детей сирых…»
Довольны повстанцы. Вдохновлены. Бодро уходят в сонный ночной лес взвод за взводом, рота за ротой.
Когда рассвело, комиссар с оставшимися повстанцами и своими пограничниками пошуровал в лагере и был обескуражен найденным: два десятка австрийских винтовок, три цинка патронов.
«— Ого! Запасец! — возмутился он. — Выходит, то, что мы поймали, — слезы одни. Осталось еще порядком».
«— Когда я уезжал из Москвы, видел плакат. Огромный, через всю улицу: «Пролетарий! Враг коварен — смотри в оба!» Умный плакат. — Сделал паузу, прикидывая что-то в уме, и сказал решительно: — Осталось еще два дня. Помогу наладить и в полку службу контроля».
«— Шпионить за своими?! — воскликнул комиссар и даже выскочил из-за стола. — Туда ли гребем?!»
«— Если хотите — шпионить, — спокойно ответил Богусловский. — Только не за своими, а за агентурой контрреволюции. Не сделаете этого, потеряете все».
То была последняя вспышка прямолинейного упрямца. Оставшиеся дни комиссар выполнял все рекомендации без всякого пререкания, и Михаил уезжал дальше по маршруту командировки успокоенный. А вскоре узнал, что в повстанческом полку арестованы все изменники, а сам полк благополучно перешел границу, чтобы громить кайзеровские малые гарнизоны, их штабы и обозы.
Другим комиссарам пограничных ЧК Богусловский помогал наладить охрану границы так же старательно и видел, что его добрые советы не уходят, как говорится, в песок. У него учились охотно. Ну а если желание есть, считал Михаил, цель будет достигнута.
В общем, когда Богусловский уезжал от пограничников, те первоначальные сомнения, терзавшие его, казались ему совершенно беспочвенными. Но когда увидел хаос на железной дороге, когда увидел заводские трубы без дыма, вот этих прущих неизвестно куда и зачем с тощими заплечными мешками, с вечно испуганными глазами мужиков, когда понял, как маячит впереди всего этого хаоса нахал-демагог, размахивая не только кулаками, но и ревнаганами, — когда все это навалилось на него вот так, сразу и непосильно, сомнения вновь овладели им. И вспомнившееся ему восклицание комиссара: «Туда ли гребем?!» — хотя и было брошено совсем по иному поводу, занозой впилось в мозг.
Как жить? Куда грести?
И даже встреча, столь желанная и столь долгожданная встреча с Анной не могла отвлечь его от главной мысли: «Туда ли гребем?!» К тому же Анна, почувствовав, что не так искренни ласки Михаила и что он чем-то обеспокоен, рассудила это по-своему: она не смогла собрать для него даже мало-мальски приличный ужин; а на соседей их коммунального особняка вдруг напала любознательность, и они с непостижимым нахальством лезли с вопросом: «Ну как там германец?» — в самые неподходящие моменты, — вся эта, по ее мнению, неустроенность быта заставляет страдать Михаила, ибо задета его мужская гордость, и чтобы хоть как-то успокоить мужа, Анна начала пересказывать то, что слышала во время его командировки и от соседей, и в очереди у булочной:
— Эсеры Кремль было уже захватили. Говорят, вся ЧК была с ними. И милиция тоже. Не подоспей латышские стрелки, только бог ведает, чем бы все закончилось… Пушки стреляли, пулеметы строчили. Ужас!
Он уже слышал на одной из долгих остановок о левоэсеровском мятеже от дежурного по станции, который на вопрос: «Когда отправите?» — ответил сочувственным вопросом: «Торопитесь в гости к богу?» — И добавил с ухмылкой: «Левые эсеры в Москве бузят…»
Газет в пути Михаил достать нигде не мог, вагонный люд помалкивал, ибо не знал ничего, вот и не представлял себе размеры мятежа. Он и сейчас не мог оценить все, что произошло в Москве несколько дней назад. Лишь через день он узнает правду о мятеже, о его громадном размахе, узнает о том, что на его подавление поднялись не только советские войска, но и рабочие дружины, коммунистические отряды. А сейчас спросил жену:
— Откуда известно, что измена в ЧК?
— У булочной только и разговору об этом, — отмахнулась от зряшнего, по ее мнению, вопроса Анна и продолжила: — А за неделю до мятежа арестовали много офицеров-заговорщиков. «Союза защиты родины и свободы». Свергнуть собирались правительство и установить, как говорят, твердую власть, чтобы стояла она на страже национальных интересов России.
Слова «твердую власть» хлестнули Михаила, ибо сам он, не заговорщик и не предатель, так много думал о ней. Еще пасмурней стал взгляд Михаила, но Анна не заметила этого. Она переходила к главному, ради чего затеяла разговор:
— Ужасно много прячут сахар, муку, крупы. Мануфактуру крадут. А муку и пшеницу, рассказывают, находили даже в церквах и монастырях. В Николо-Угрешском, кажется, точно не запомнила, огромный хлебный склад нашли. Вход в него был под гробом господним. Святотатство!..
Она говорила о воровстве и спекуляции, говорила об очередях у булочных, о пустых магазинах и шумных толкучках, чтобы Михаил понял, что не он повинен в скудности их семейного быта (у других и того нет) и чтобы не казнился, не хмурился, но, вовсе не желая, добивалась совершенно иного: растравляла ему душу, и без того мятущуюся. Порой Михаил просто слышал звук голоса Анны, не воспринимая смысла слов. Михаила поглотил, обескуражил, смял его собственный вывод: если власть не в силах навести порядок в стране и даже в столице — она недолговечна. Его угнетала греховность такой мысли, он заставлял себя думать иначе, вспоминал и московских чекистов, и пограничников, самоотверженных, не знавших страха, верующих без тени, как ему казалось, сомнения в победу Советской власти, но все факты и события, насильно вызванные в памяти люди, поступками которых он восхищался и кому даже завидовал, — все недавнее доброе упорно не хотело бороться с только что родившейся тяжелой мыслью о недолговечности большевистской власти.
Вздохнув трудно, как вздыхают, когда теряют очень близкого человека, Михаил выдавил из себя:
— Не знаю, туда ли гребем? Я, куда грести, тоже не знаю.
Анна опешила. Она так старалась, так старалась, а все впустую. Поняла она, что не о хлебе мысли мужа, не о хлебе едином. Ответила с такой искренней наивностью, в которую можно было вполне поверить:
— Главное сейчас — спать, — и, тоже вздохнув, добавила: — Утро вечера мудренее.
Утро, однако, не принесло Михаилу облегчения. Он даже сомневался, есть ли смысл идти в управление. Но все же пересилил себя, решив твердо, что будет проситься на границу. Свой долг патриота он видел теперь лишь в том, чтобы охранять рубежи России, а какая партия, какой союз встанет у кормила власти — это, как ему думалось в то утро, не столь уж и важно. Лишь бы осталась Россия столь же неохватной.
Совсем скоро он будет со стыдом вспоминать эти мысли, когда поймет и оценит устремления народа, пока еще новорожденно тыкающегося в грудь истории, и сопоставит их с теми замыслами, которые рождались не только в умах именитых в прошлом чиновников и генералов, но и в умах американских бизнесменов, политических и промышленных воротил Европы, Японии, а затем, сдобренные без всякой меры долларами, франками и фунтами. Он с ужасом поймет, что любая власть, кроме Советской, сделает, чтобы удержаться, границы России объектом купли и продажи. Но пока это «совсем скоро» еще не наступило, и Михаил Богусловский подневольно шагал в управление, обдумывая и свой доклад, и свою просьбу о переводе. Устраивала его любая граница — южная, западная, северная, восточная. Все равно куда, лишь бы к настоящему делу.
Но человек предполагает, а судьба располагает. Едва лишь он переступил порог управления, как его окружили толпившиеся в вестибюле сослуживцы и, пожимая руку, говорили с явным удовольствием:
— В самый раз подоспел. В самый раз. С корабля, что говорится, и на бал.
А что за «бал» предстоял, толком управленцы не знали. Известно им было одно: их придают чекистам для организации засад. Чекистов ждут с минуты на минуту.
Богусловскому было все равно, пошлют его на операцию либо нет. Он не раз и не два сиживал в засадах, рисковал жизнью, радовался успеху, а что толку! Заговорщиков все больше и больше, а твердого порядка как не было, так и нет. Ему, Богусловскому, первым делом следует доложить о прибытии. И высказать сразу же свою просьбу о переводе.
Увы, и этому не суждено было сбыться. Его не стали слушать. Отмахнулись: «После, после!» — и спросили:
— Оружие при себе?
— Да. Иначе как же?
— Вот и хорошо. Включаем тебя в засаду в церковь Всех Святых. Офицеры белогвардейские готовят мятеж. Инструкции получают от генерала Алексеева. Крупный заговор. Очень крупный.
Богусловскому хотелось узнать больше о предстоящей операции, но он по выработанной годами пограничной привычке не стал задавать вопросов. Начальники знают, что можно и нужно сказать. Не заговорил он и о переводе. Не мог он, получив приказ, отказываться от его выполнения. Потом, если все окончится благополучно, он скажет о своем решении.
— Разрешите выполнять?
— Да. Инструктаж подробный проведет старший группы.
Богусловский вышел в вестибюль и присоединился к тем, кто ожидал чекистов. Естественно, посыпались вопросы: как да что? Богусловский рассказывал о пограничных ЧК, но как-то выходило у него, что героизм и смекалка выпячивались, а неопытность, верхоглядство — все недоброе, неприемлемое, с чем он боролся в дни командировки, — оказывались на втором плане. Михаил видел, с каким удовлетворением воспринимается его рассказ (значит, он не один в сомнении), да и он сам начинал понимать, когда взглянул на все, что видел и знал, как бы обобщенно, что лишь в мелочах много изъяна, в принципе же, в генеральном, стратегическом плане, — все верно, все нормально. Более тридцати пограничных чрезвычайных комиссий, Петроградский пограничный округ, затем округа в Минске и Орле — и это создано за считанные месяцы усилиями и старых пограничников, и новых, совершенно прежде не знавших пограничной службы комиссаров. И чем больше он рассказывал, тем лучше становилось его настроение.
Но это было лишь началом того духовного самоутверждения, той безоговорочной уверенности в справедливости совершающейся ломки, внешне хаотической, а в глубинной сути своей целеустремленной, направляемой уверенной и твердой рукой…
На колокольне Всех Святых полностью рассеялись его сомнения…
Получилось так, что Михаил Богусловский оказался на колокольне с руководителем засады Самсониным — молодым чекистом, его годком, с широкими плечами молотобойца, стиснутыми красной, прекрасного хрома кожанкой. Поначалу поодиночке вся засада собралась в крохотной комнатке большого дома, окна которой выходили на Варваринскую площадь. Дотемна наблюдали Самсонин и пограничники за площадью и входом в церковь, а когда околоток обезлюдел, утонув в темени, прошмыгнули они к церкви, где их ждал церковный сторож (чекисты уговорили его помочь им), зябко кутавшийся в армяк, хотя ночь была душной. Торопливо отомкнул он дверь и впустил их в церковь, сунул в руки по свечке, проворчав: «Согрешил я, грешный, прости меня, господи!» — Затем выскользнул вновь на улицу и накинул на дверь замок.
Вот оно — место рождения страшных сказок. Густая чернота словно облепила остановившихся в оторопи людей, а стены, колонны, своды куполов, поначалу вовсе невидимые, но чувствовавшиеся подсознательно, гнетущей тяжестью спрессовывали черноту, резонировали, усиливая многократно взволнованное дыхание людей, и это дыхание, словно невидимое живое существо, пронизывало черноту. Кто-то сделал первый шаг — он гулко отозвался в церковной пустоте. Чиркнула наконец спичка, и яркий свечной язычок вырвал из темноты золото окладов, плоские лица, аскетические фигуры святых.
— Двое здесь — у входа, — приглушенно распорядился Самсонин, и слова его заметались меж стен и куполов. — Двое — к царским вратам. Мы, — Самсонин кивнул Богусловскому, — к лестнице на колокольню. Никаких признаков жизни…
Коротка летняя ночь, но и она, если тебе нельзя даже громко дышать, покажется вечностью. Но конец приходит всегда и всему. Забрезжил рассвет, а значит, кому-то нужно покидать церковь, кому-то перебираться на колокольню и коротать время неизвестно как долго.
Прежде Михаил не бывал на колокольнях и теперь с интересом разглядывал и внушительные колокола, разные по величине, начищенные, с прекрасным орнаментом, что оставил на них искусный мастер; и крестовины-циркули, на которых крепились эти колокола; и маковку-покров над колоколами, с окнами, явно рассчитанными на то, чтобы усиливать колокольный звон, — все это на какое-то время полностью привлекло его внимание, и он даже не сразу увидел две прекрасно оборудованные площадки для пулеметов.
— Эка, чистоплюи! — презрительно бросил Самсонин. — Ковры под животики барские!
И верно, сделано все руками холопов, благоговеющих перед своими повелителями: для пулеметных колес уложен толстый дерн, мешки с песком новые, льняные, ровные, как на подбор, уложены справа и слева от дерна, а места для пулеметчиков устланы войлоком, поверх которого положены дорогие ковры.
— Тут вот и поблаженствуем, — успокоительно молвил Самсонин, развалившись на ковре. — Тепло, мягко. — И спросил Богусловского: — Как звать тебя?
— Михаилом.
— А я — Петр.
— Брат у меня был Петя…
— Отчего был?
— Погиб в Финляндии.
— Да, — вздохнув, грустно молвил Петр Самсонин, — время такое. Жизнь нынче гроша ломаного не стоит. О нашей, рядовых революции, я уж и не говорю. Беляки вон что удумали: пулеметы и пушки поставить здесь вот, в Устинском проезде на церкви святого Николая, на чердаках Воспитательного дома, на Москворецкой который, и фабрики Носенкова. И все это — на Кремль и подходы к нему. Отрезать от народа его вождей и уничтожить их. А прежде захватить ВЧК и арсенал.
— Как же так? — невольно вырвалось у Богусловского, хотя он не хотел прерывать Петра, надеясь узнать подробности, чем вызвана засада. — Как же так? Духовенство особенно неистовствовало, обвиняя во всех смертных грехах красноармейцев, стрелявших по Кремлю во время революции…
— Вот это все, думаю, руками самих попов сделано. Не иначе. Наверное мы не все знаем. Мы, — он подчеркнул это слово, как бы причисляя себя к кругу весьма осведомленных людей, — не исключаем, что колокольни многих церквей уже подготовлены под пулеметные точки. Шерстить начали мы. А сколько их в Москве — таких вот колоколен?! На одних Кулижках их целых пять. Да, в самый раз мы перехватили руку, занесенную над Советской властью. — Петр явно повторил чьи-то слова, услышанные, возможно, на совещании. — И помог нам ухватиться за ниточку, кто бы ты, Михаил, думал? Интеллигент. Пастыря этой церкви пасомый, — лихо ввернул Петр необиходное словечко, более свойственное жаргону священнослужителей, от них же, наверное, услышанное. — Сам пасомый пожаловал к нам. Добровольно. Попы, говорит, предлагают в заговоре участвовать. И выложил все, что знал. Малость, конечно, самую, но кончик ниточки дал нам в руки. Размотать-то уж мы размотали. Главари арестованы. Из бывших. Штабс-капитан и корнет. Весь город они поделили на квадраты, дома да церкви, где пулеметы ставить, крестиками пометили. Многих контриков взяли уже, только много еще осталось. Кто здесь готовился ставить пулеметы — не знаем. У них конспирация — позавидуешь. Один человек больше своего десятка не знает. А деньги бешеные от союзников идут. По пятисот рубликов рядовому члену в месяц! Другой не хотел бы, но алчность берет верх…
Михаила Богусловского, как профессионального военного, восхитил столь смелый и умный план. Несколько пулеметов на колокольне, с хорошим достатком огнезапасов, окажутся неуязвимыми. Пехота не подступится, орудийная прислуга, если выкатят пушку на прямую наводку, расстреляна будет вмиг. Только броневик может подойти. Но броневик сможет десантировать мизерное количество людей, да и разве наберешься броневиков на все церкви Москвы?! Смело и гениально задумано. Но восхищение тактическим талантом заговорщиков длилось лишь малое время. Властно Богусловского захватила только одна мысль: на колокольне церкви, построенной в честь победы русского народа на поле Куликовом, подготовлены площадки для пулеметов, которым предназначено одно: стрелять в народ.
— Не укладывается в голове: колокольня церкви — и пулеметы, амвон — и упрятанный от голодающих прихожан хлеб под ним, гроб господен — и тайный вход. Не верится.
— Да и мы не враз поверили. А как вникли — что ни заговор, святые отцы тут как тут. Только что игумен Николо-Угрешского монастыря арестован.
— Хлеб, ходят слухи, изъяли там?
— Ишь как молва лжива. Хлеб — что?! Там — похлеще. Гостиницей стал монастырь для белогвардейских офицеров, а покои митрополита Макария — истинно штабом черносотенцев. Каких только воззваний и проектов свержения нашей власти там нет. Тут тебе и устав крестьянской социалистической партии, которая хочет подбить массы несознательные на восстание против Советской власти. Тут тебе и воззвание московского общества военной агитации по укреплению православной веры в России. Тут тебе и устав какого-то серафимовского общества. Одно скажу: чтобы вступить в него, нужно внести самое малое пять тысяч. Бедняку такое не по карману. Типографию они хотели создать, антибольшевистские листовки печатать…
— Выходит, — с сомнением спросил Богусловский, — церковь православная в самой гуще борьбы? Но это же противно самой первооснове христианства? Сегодня, насколько я понимаю, свершается вековечная мечта апостолов. И они, и все, кто разделял их учение, жили меж собой равноправно. Как это в истории… У всего общества было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все было у них общее…
— Любопытно, — с явной подозрительностью, не скрывая, а подчеркивая свою подозрительность, перебил Богусловского Самсонин. — Любопытно! Если мил духовенству коммунизм, отчего же тогда митрополит Макарий призывает православных восстать в память патриарха Гермогена «на защиту святой церкви от насилия большевиков»?
— Гермогена?!
— Да. А что удивительного?
Для Михаила Богусловского удивительного в этом факте было очень много. Трехсотлетие мученической смерти Гермогена славно почтила русская церковь в 1912 году. С какой стати повторение в неюбилейную дату? Стало быть, предвзятость? Но в чем тогда ее смысл? Либо церковники хотят внушить верующим, что революция не есть явление внутреннее, но привнесенное извне, явление антирусское? Извели же Гермогена поляки за то, что стоял на том, чтобы после низвержения Шуйского царем был избран Михаил Романов. Когда же интригами Мстиславского и Салтыкова Москва присягнула королевичу Владиславу, Гермоген стал настаивать, чтобы католик Владислав принял христианство, прекратил связь с папой римским, поставил бы законом казнь каждому, кто отступится от православия, женился бы на русской, выслал бы всех поляков из России и стал вовсе независим от польского короля. Но не ради этого рвался к власти польский и папский ставленник, не принял Владислав условия патриарха, и тогда Гермоген отрешил русских от присяги Владиславу и благословил их ополчаться за родину.
И принялся вооружаться народ под предводительством Ляпунова. Из двадцати пяти городов русских подступили ополченцы к Москве. Поляки и Салтыков с Мстиславским требовали от Гермогена запретить Ляпунову идти на Москву, но патриарх был тверд.
Еще в гимназии Михаила Богусловского потрясли гневные слова Гермогена, которые он бросил в лицо Салтыкову: «Все смирится, когда ты, изменник, исчезнешь со своею Литвою, я же, в царственном граде видя ваше злое господство, в святых храмах кремлевских слыша латинское пение, благословляю всех умереть за православную веру».
Голодом заморили ляхи Гермогена. Несломленным умер он, став флагом освободительной борьбы русских против интервенции.
Значит, вновь хочет церковь поднять этот флаг?
А может, за самодержавную власть ратует церковь? Гермоген был приверженцем сильной власти. Оттого и Шуйского поддерживал, оттого и за Михаила Романова ратовал.
Да, не вдруг определишь, чего добивается церковь…
Но сосредоточиться, разложить все по полочкам и прийти к максимально точному выводу не давал Петр. Он неспешно продолжал вести рассказ — времени было в достатке — о раскрытых заговорах в Москве, в Ярославле, в Орле, в Воронеже, почти не говоря о том, как это удалось чекистам (да это не очень-то и интересовало Богусловского), он просто называл, кого взяли, кого отправили в тюрьму.
Под долгую речь думается хорошо. Михаил меньше говорил, а больше слушал, коротая день, все больше и больше осознавая размеры борьбы пролетарской власти с ее врагами и ее жестокую суть. Порой внимание его раздваивалось — он слушал Самсонина, детально все воспринимая, но сам смотрел на Кремль, на дивные колокольни храмов божьих и пытался сравнить сегодняшние страсти, которые клокочут вокруг Кремля (извечного властелина России), с теми, о которых знал по мемуарным и историческим книгам, по преданиям и легендам, слышанным дома либо в иных салонах. И то, что казалось тогда жестоким и кровавым, сейчас виделось суетной возней десятка семей, каждая из которых мнила себя верховодами.
Казни даже царя Грозного, подкосившего боярство русское, даже царя Петра I, изничтожившего стрелецкое войско, которому Русь во многом обязана была своей победой на поле Куликовом, своей свободой вообще, — даже тот кровавый разгул, та борьба не были столь всеобъемлющими. Не мог осмыслить тогда мужик-трудяга всего, что происходит. Сеятель растил хлеба, кузнец ковал лемеха да подковы, скоморох веселил людей — жила Россия, узнавая порой о казнях и убийствах лишь через годы. А когда опомнилась, схватились самые буйные и гордые за топоры, поздно стало. Кровью умывался любой бунт. Сегодня же торжество угнетенных, забитых. Сегодня бурлит вся империя. Вся, от границ до границ.
Внизу скрипнула дверь, послышались размеренные шаги поднимающихся людей.
— Должно, звонарь. Лучше схорониться, — шепнул Богусловскому Петр, и они бесшумно скользнули в каморку, которая была пристроена к несущей колонне так, что не сразу бросалась в глаза. Тесная, мрачная каморка (свет пробивался лишь сверху в специально оставленные щели) убрана была, словно покои богатого барина: стены в коврах, ковры на полу, небольшой столик красного дерева инкрустирован серебром, два мягких кресла обиты сафьяном и покрыты толстыми пледами, в углу — образ в золотом окладе, под которым лампадка, тоже золотая. На столике — колода карт.
— Ишь ты, чтоб, значит, не скучали господа офицеры, — хмыкнул Петр и вальяжно развалился в кресле.
Но эта игра в беспечного аристократа длилась самую малость. Как только отворилась дверь на колокольню, Петр кошкой метнулся к двери и, достав револьвер, встал справа от нее, жестом показав место Богусловскому левее двери. И мертвая тишина воцарилась на колокольне. Те, что поднялись, тоже отчего-то не двигались.
И вдруг сердитый голос:
— Кого нелегкая занесла сюда?!
— Да кому здесь быть? — успокаивающим вопросом ответил сторож. Петр узнал его по голосу, и пружинность его враз улетучилась. — Кому быть? Звони знай… И так припозднился ты нынче.
Откуда-то издали донесся перезвон колоколов, его подхватили, наполняя просыпающийся город удивительно слитной, благовестной мелодией, но вот вздохнул медно «глас божий» под маковкой Всех Святых, лебедино засеребрил зазвонец, и уже поплыл богатырский гуд, до упругости, до боли в ушах набившийся в каморку. Не спасли толстые бухарские ковры.
Петр махнул рукой, приглашая Богусловского сесть в кресло. А сам тоже, сунув револьвер в кобуру, отошел от двери.
Внизу, на Варваринской площади, колокольный звон наверняка слышался благовестно и не глушил звона соседних церквей и монастырских звонниц, а вплетался в него, но здесь, рядом с ревущими колоколами, Петр и Михаил ничего не воспринимали, молились лишь о том, чтобы эта угнетающая физически разноголосица поскорее умолкла.
Отзвонив свое, умолкли колокола, но звонарь и церковный сторож не враз ушли. Между ними вспыхнула перебранка.
— Глянь, ковры помяты, — с прежней сердитостью заговорил звонарь. — А ты: кому быть? Кому быть! — И спросил встревоженно: — Не пришли ли? Завтрашней ночью грозились…
— Да будет тебе молоть. Их дело когда приходить. А наше — отзвонил да с колокольни долой. А быть никого здесь не может, не отмыкал я церкви неурочно.
— Не отворял, говоришь? Чудно, — недоверчиво молвил звонарь, но все же согласился: — Пошли, значит, коль никого…
Закрылась лестничная дверь, утихли шаги, но долго еще Петр и Михаил сидели молча и не двигались. Осмелел первым Петр. Вздохнув, бросил осуждающе:
— Ишь бары, развалились на коврах! Пока, как моя покойница-мать говаривала, зады не по циркулю.
Помолчали. И вновь заговорил Петр. Теперь уже злобно:
— Под корень бы все эти гнезда контрреволюции! Под самый корень! Иконы — в костер, золото — народу, из меди — памятники революционерам, замученным в царских застенках…
«Что ты кощунствуешь!» — готовый вырваться возмущенный крик силой воли сдержал Богусловский. Спросил отчужденно:
— Известно ли тебе, в какой мы церкви? Кто и когда ее воздвиг? Она — сама история Руси.
— Церковь — символ религии, а религия — опиум для народа.
Слышал уже эти слова Михаил. Их говорили на митингах, и они не особенно западали в душу. Любая идеология, как он считал, всегда ищет красивое словесное облачение, чтобы казаться привлекательной. Атеизм — не исключение. Так думалось Богусловскому. Теперь же, когда услышал он эти слова не в потоке иных, не сказанные с трибуны, а от такого же молодого человека, как и он сам, увиделась ему вся нагота цели, которая, если победит, неведомо куда заведет.
Долго и жестоко вбивали князья в упрямые головы русичей христианство, и успеха в своем предприятии добились превеликого: церковь христианская подчинила себе князей, а с народом слилась, деля и изобильную радость, и лихую кручину, а когда наваливался ворог на Русь, набатно гудели колокола. Священник сельского прихода был и отцом святым, и судьей, часто же и заступником, а предписываемая церковью мораль и этика считались непререкаемыми.
А сегодня тоже свободы ради сбросил народ императора, сломал машину крепостников. Отчего же попы так ненавистно встретили эту свободу? Перевелись, что ли, священники, готовые порадеть за народ? Не может такого быть! Делается что-либо новой властью не так? Вроде бы все верно. Свобода вероисповедания. Так что же? Где же причина? Где корень зла? Кому выгодно, чтобы не сосуществовали народ и церковь, а схлестнулись бы эти две безмерные силы в ненавистной, смертельной борьбе?
Сумбурно, хаотично думая обо всем этом, Михаил подыскивал веские слова, чтобы выложить их слишком уверенному чекисту, не понимающему в полной мере того, что говорит. Но где их взять, веские аргументы? Да, церковь благословляла ратников на подвиг во имя свободы русского народа, но она обожествляла и императора и всех остальных, кто сидел, по сути дела, на шее народа. Да и сама церковь удобно устроилась на народном хребте, а не каждый поп довольствовался лишь мясными щами да буханкой ситного хлеба. А ведь известно: добро, даже великое, скоро забывается, а лихоимство, самое малое, долго помнится. Тут Петр таких примеров наприведет, что не вдруг отмахнешься от них.
Но вот найден главный, как посчитал Богусловский, аргумент для Петра. Михаил спросил:
— Библию, Петр, не читали?
— Я — безбожник. Воинствующий атеист.
Опять чужие слова. Богусловского покоробило, но он не изменил благожелательного тона.
— Тем более важно. Воевать следует с тем, что осознанно не приемлешь. Противиться тому, что неведомо, — безнравственно. Ну да это к слову… Суть же вот в чем. Еще Соломон предписывал: победил врага — разрушь жертвенники. Первые христиане так и поступали. Варвары отвечали тем же. И в этом был смысл. Завоеванный народ лишался духовной основы, взамен которой предлагалась своя. Только завоеватель может рушить храмы…
— Внеклассовый подход. Коммунизм — вот чему я верю. Раз церковь поперек дороги встала — ее под корень.
— Возможно, привлечь? Не всех, а честных?
— Честный поп? Не встречал.
— Церкви и монастыри — что банки. В их стенах — несметные богатства. Огромный золотой запас и культурные ценности России.
— Уж пограбили народ, то пограбили — ничего не скажешь. Народу теперь нужно все и отдать.
Что мог против этого возразить Богусловский? Он перестал перечить. Он понял: летят щепки и будут лететь, пока рубят лес. И достаточно пройдет времени, чтобы Петр усомнился в верности им самим рожденного убеждения. Пока его твердость не поколебать, вагой не сдвинуть.
И верно, Самсонина вовсе не трогал этот разговор. Воспользовавшись паузой, он предложил:
— Давай в «дурака»?
Что ж, в «дурака» так в «дурака». Михаил, правда, не очень-то смыслил в подобной игре, но не сидеть же весь день без дела в тусклой каморке, где к тому же становилось уже душно. А если занят хоть и пустым делом, все побыстрей пройдет время.
Пересилили день за картами да за разговорами о спекуляции, о лихоимстве, о саботажниках и заговорщиках, а когда наступила ночь, спустились вниз. Вскоре сторож впустил и тех, кто на день уходил из церкви и наблюдал за нею из комнатки в особняке.
Новостей никаких, зато в избытке чаю и картошки в мундире. Очень кстати.
В безмолвной тягучести протащилась ночь. Вот уже скоро Самсонину с Богусловским подниматься на колокольню, а остальным уходить в особняк, что напротив церкви. Петр уже встал, потянулся блаженно, облегченно вздыхая, и начал было:
— Что, братцы, пора по своим… — но прикусил язык и замер: с улицы донесся грозный окрик:
— Поспешай!
— Сейчас, сейчас, вашгродь, — рабски льстиво ответствовал сторож, ткнул ключ в замок, торопливо отомкнул его и робко стал открывать дверь.
— Да пусти ты, что трясешься?! — оттолкнул сторожа высокий мужчина, решительно шагнув в полумрак церковной пустоты.
Следом за ним вошел столь же решительно еще один мужчина, тоже высок и крепок, под стать первому. На спинах их горбились внушительные мешки.
Не останавливаясь у двери и не осматриваясь, они, словно постоянно живущие в своем доме хозяева, направились прямо к лестнице на колокольню.
Беспечность, увы, наказуема.
Едва протиснувшись с громоздким мешком (теперь уже было ясно засаде, что в мешках пулеметы) в узкую дверь, мужчина начал сразу же тяжело подниматься по ступеням, и, если бы он не оглянулся, чтобы посмотреть, не нуждается ли его напарник в помощи, протолкнется ли в дверку, все бы произошло иначе. Но тот, первый, оглянулся, увидел прилипших к дверным простенкам Самсонина и Богусловского, крикнул своему напарнику: «Беги!» — швырнул непомерно тяжелый мешок в Петра и кошкой прыгнул на Михаила, цепко сдавив ему горло.
Богусловский слышал тугой металлический удар, глухой всклик Петра, топот ног там, за дверью, напрягал мускулы шеи, пытаясь сдержать нажим крепких пальцев, а сам старался тоже схватить врага за горло, но тот, отбивая локтями руки Михаила, давил все крепче и крепче.
С каждым мгновением Михаил слабел, вот-вот сопротивление его будет сломлено, и опустится он, обмякший, на пол…
Этого не произошло: товарищи по засаде подоспели в самый критический момент. Оглоушенного белогвардейца связали, выволокли за дверь в церковь, где уже лежал его напарник, затем осторожно подняли Петра.
Он еще дышал. Он даже улыбнулся мученически Михаилу и прошептал:
— Вот видишь, жизнь гроша не стоит.
Михаилу хотелось возразить, сказать ободряющее, как говорят в таких случаях обычно, что, мол, еще повоюем, но он только распорядился:
— Скорее выносите! В больницу немедленно! С этими, — кивнул в сторону связанных, — пока один побуду.
Петра вынесли на площадь, а Михаил запер на засов дверь, чтобы вдруг не пришла помощь к белогвардейцам, и, достав наган, встал в нескольких шагах от связанных.
Его тошнило, в голове шумело, будто в паровом котле, но он стоял твердо.
Только ноги расставил шире.
Совсем рассвело. Богусловский мог уже рассмотреть задержанных. Оба одеты в полевую форму пехотных офицеров, только без погон. Оба в кости широкие, руки обоих по-мужицки крупные. Явно из тех, кто на фронте получил офицерский чин за отменную храбрость.
«Сколько германцев подмяли в разведке! — потирая шею, думал Богусловский. — Хватка недюжинная».
Тот, который душил Богусловского, очнулся и грязно выругался в чей-то адрес, из чего Михаил понял, что пустили их с пулеметом в церковь для проверки. Не ценные, значит, птицы, можно ими и пожертвовать. Спросил сочувственно:
— Неужели вас, боевых офицеров, устраивает роль болванчиков?
— А твоя роль чем лучше?! — зло отрубил связанный. — Христопродавец!
Второй раз он слышал это слово. Там, на границе, бросил его желчный запорожец, но тут — офицер. Пусть, новоиспеченный, но — офицер. Что же роднит их мысли и поступки?
А связанный продолжал:
— Один вам конец — смерть! Всем — смерть!
И та же, что у запорожца, ненависть, та же злоба. Нет, в руки им лучше не попадаться. Миндальничать не станут. Никаких колебаний, путь выбран, по нему и идти.
Вернулись товарищи по засаде. Сообщили, что Петю отвезли в больницу.
— Плох. И то сказать, «максимом» придавило. Мыслимо ли? А вам велено подождать чекистов. Мешков не трогать, задержанных велено не обыскивать.
Чекисты пришли скоро. Выслушали подробности задержания и отпустили Богусловского домой.
— Сами тут управимся.
Михаил вышел на площадь и оказался совсем в ином мире: лучистое солнце и теплый ветерок, словно специально подувший для того, чтобы освежить лицо, выветрить из одежды свечной и ладанный дух церкви. Там — застойный мрак, здесь — искристая жизнь.
Робко ударили колокола на Прасковье Пятнице, их подхватили, будто деревенские петухи своего собрата, на колокольнях Андрея Критского, Рождества Богородицы, Трех Святителей, и вот уже плывет, переливаясь в лучах солнца, колокольный перезвон над крышами еще дремавших домов, такой же искристый, как сверкающие на солнце золоченые маковки церквей…
Молчала угрюмо лишь колокольня Всех Святых.
Михаил оглянулся на колокольню, вздохнул и пошагал в больницу, куда отвезли на случайном извозчике Петра Самсонина.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Они совещались уже более часа, но согласие пока не сложилось. Костюков и еще двое взводных сходились на одном: следует ехать либо в отдел, либо в бригаду, а то прямо в округ; но иного мнения держался Леднев, со свойственной ему горячностью он рубил:
— Огнезапасов на год хватит? Хватит! Продукты? Как и прежде, брать станем в кишлаках. Сено летом сами заготовлять начнем. Потом, я уверен: без догляду начальственного не оставят нас, мы же — гарнизон!
— Не пластает наметом, чего это, Магомет к горе, — усмешливо возразил Костюков. — Не горе ли подседлать коня?
«Молодец, Прохор», — одобрил Костюкова Иннокентий Богусловский. Сам он пока не вмешивался в спор. Открыв совещание, только слушал, будто не командир, а вовсе посторонний, случайно попавший в эту до отказа заполненную табачным дымом комнату. Мнение Богусловского было твердым: отправлять посыльных необходимо. Укрепилось оно не враз. Родилось вскоре после боя с джигитами Абсеитбека, когда посчитали расход огнезапаса.
— Пару таких стычек — и можно закуривать, — комментировал с грустью Богусловский. — Одно успокаивает: наличие соглашения с контрабандистами. Бог даст, станут слово держать.
— Бог-то бог, да сам не будь плох, — отозвался Костюков, и тогда Богусловский подумал, что нужно бы отправить донесение в отдел, но потом посчитал это излишним: никогда прежде зимой ничего не возили сюда, запасали все с осени, да и деньги в кассе оставались немалые, на всякий непредвиденный случай, а начальство непременно вскорости пожалует.
Время, однако, шло, и никаких распоряжений ни из отдела, ни из бригады и округа не поступало. Либо забыли о дальнем гарнизоне, что казалось Богусловскому вовсе невероятным; либо штабы оказались не у дел при новом правительстве. А может, и там — раскол? Но Богусловский твердо верил, что все образуется, ибо знал, что ни одно государство никогда не забывало о пограничниках, не бросало границы на произвол судьбы, не может быть исключением и Советская власть. И все же беспокойство с каждым днем, с каждой неделей усиливалось.
Тревожили и доклады казаков о том, что контрабандисты начали без видимых причин все чаще и чаще нарушать договор — стреляют по казакам. Почувствовал враждебность чабанов и табунщиков и сам Богусловский. Прежде, бывало, его встречали весьма радушно, без бесбармака из свежего барашка не отпускали, а теперь, когда он специально поехал по аулам, чтобы порасспросить, отчего контрабандисты не держат слово, не появился ли у них новый Абсеитбек, наткнулся на глухую отчужденность.
Вернулся в смятении. Собрал взводных и распорядился разузнать непременно причину враждебности населения.
Малую ясность внес Костюков через пару дней. Рассказал ему знакомый джигит, будто в Оше весь Совет забросали камнями, разогнали милицию, и все это после того, как уехали оттуда казаки-пограничники, а председатель Совета осквернил святую Сулейман-гору.
— Твой бывший дружок Левонтьев это накуролесил, — заключил Костюков. — Без него, считаю, не обошлось.
Вот и порешил твердо Богусловский: следует посылать гонцов. Намеревался поступить так: направить верхней дорогой Леднева с коноводом, нижней — Костюкова с коноводом. Сказал об этом Ледневу, а тот — на дыбы. Нет резона — и все тут. Вот и собрал совещание Богусловский, чтобы узнать мнение всех командиров. Оттого и слушал терпеливо возникшую перепалку.
— Я — солдат. Будет приказ — выполню его, сейчас же распоряжусь оседлать коней, — горячился Леднев. — Вместе с тем считаю долгом своим воспротивиться, ибо поездка наша — бессмыслица. Уверен: без начальственного глаза нас не оставят, это как божий день ясно. Нам же надлежит, сохраняя всех людей, охранять рубеж, а не вести поиск, кому бы себя поскорее подчинить.
— Своя, стало быть, власть, — ухмыльнулся Костюков. — Только ведь один, это, в поле не воин. А пастух мне давеча сказывал: муллы, что это, народ колготят. Казаки наши, что с Левонтьевым подались, крепкую им обиду учинили. Вот и раскинем давайте умишками, что ожидать можно. Ну, сдюжим два либо три боя, а после чего делать? Кончим огнезапас и — благослови, господи, на райскую жизнь. Только я не готовый для рая, мне еще власть свою отстоять надобно.
— Уж что верно, то верно, — одобрительно закивали взводные. — Много делов еще на земле грешной…
Так и оказался в одиночестве Леднев. Примолк, ожидал последнего слова командира, который не спешил прерывать затянувшуюся паузу. Но вот поднялся. Заговорил решительно, непререкаемо:
— Поступим так: едем мы с Костюковым. Я — верхней дорогой, он — нижней. Леднев остается здесь за меня. Ему в помощь избираем совет. Пять человек. Самых уважаемых. Выезжаем завтра.
Угрюмым оказалось утро, к тому же ветер тянул с гор, а это предвещало пургу. И то ли от этой несподручной в дороге погоды, то ли от неосознанного предчувствия великой трудности в пути, где не будет казаков, верных и храбрых, то ли от мысли о том, верно ли поступает он, оставляя гарнизон и границу на руки не столь опытного офицера — неведомо отчего на душе у Богусловского стало гадко, и как ни пытался он успокоить себя, ничего не получалось. С тоскливой отрешенностью и вымученной внимательностью слушал он доклад Леднева, что кони подседланы, переметные сумки наполнены овсом, патронами и гранатами; для него же, Богусловского, приторочен к луке и карабин, ибо маузер — хорошо, но карабин не будет лишним — вся эта заботливость Леднева нисколько не трогала его, а доклад будто скользил мимо, и Леднев, заметивший необычное состояние своего командира, спросил удивленно:
— Что с вами, Иннокентий Семеонович? Никогда вас таким не видел. Может, погодите с отъездом?
— Об этом не может быть и речи. Одно прошу вас, Григорий, требую даже: не горячитесь. На плечи ваши лег тяжелый груз ответственности за все — подчиненных и границу. Но оскверните столь святое дело. Помните: что позволено юноше, не позволено мужу. Командиру горячность излишняя и необдуманность поступков противопоказаны… Я верю в тебя. Я прошу тебя: не сгуби этой веры.
— Постараюсь, — ответил Леднев, вовсе не по-военному. — Очень постараюсь.
— Вот и ладно. Присядем на дорожку. Помолчим.
Через четверть часа малый отряд всадников выехал из крепости. Застоялые кони вытанцовывали и нетерпеливо взмахивали головами, прося вольного повода, а всадники успокаивали их, поглаживая по гривам и уговаривая:
— Шагом. Шагом. Неблизок путь — умаетесь еще.
Постепенно кони успокаивались, и когда вовсе успокоились под всеми всадниками, Богусловский перешел на рысь, но уже через полкилометра вновь натянул повод. Время их не подстегивало, а силы коней надлежало беречь больше, чем свои.
Чем дальше пограничники отъезжали от крепости, тем порывистей становился ветер, а огрузшие, как коровы на сносях, тучи опустились так низко, что скреблись своими тяжелыми животами по белозубым вершинам, оставляя на них рваные клочья. И хотя предстоящая пурга не очень-то беспокоила казаков, давно привыкших к здешним капризным зимам, но как ни говори, а ехать при солнце лучше, потому-то нет-нет да и бросит кто-либо из них на небо недружелюбный взгляд, и тут же, будто в отместку за это, сыпанет туча снегом. Мелким, хлестким.
Когда они подъезжали к развилке дорог, где предстояло им делиться — Костюкову направиться вниз, по ущелью, Богусловскому прямо, по алаю, — снег уже хлестал беспрестанно.
Богусловский протянул Костюкову руку:
— Поаккуратней, Прохор. Береженого бог бережет.
— Я, это, что, я — везучий. Сам остерегайся. Буду тебя ждать, Иннокентий Семеонович, в штабе отдела. Если ты пораньше меня — подожди. Уговорились?
— Да.
Они крепко пожали друг другу руки и, уже не оглядываясь, порысили каждый своей дорогой. Но через несколько минут Богусловский услышал подгоняемый ветром крик: «Обождите» — и топот скачущего коня.
Подскакал коновод Костюкова без полушубка, в одной гимнастерке, натянул повод и крикнул громко, словно их разделяли десятки метров:
— Там девка. Рожать намерилась!
Развернули коней, пришпорили и понеслись, пригнув головы к лукам, чтобы не так колко стегал в лицо морозный снег.
Богусловскому со своим коноводом ничего, овчинные полушубки ветру не прошибить, только лица обжигает, а коноводу Костюкова каково? Хоть и шерстяная гимнастерка, хоть рубаха нательная из мягкого теплого байка, не удержать им тепла, когда так силен встречный ветер; но казак не куксится, пластает вслед за Богусловским. Греет, видно, его мысль о том, что при деле его полушубок. При важном деле.
Еще издали Богусловский увидел, что Костюков тоже раздет. Стоит и держит укрепленные на шашке и карабине свой и коновода полушубки, чтобы создать затишок для роженицы. И уже на скаку принялся Богусловский расстегивать портупею.
— Ко времени, — облегченно вздохнул Костюков, встретив подкрепление. — Городи юрту из полушубков. Да не глазейте на нее. Отворотитесь.
Богусловский, как и казаки, выполнил команду Костюкова, взявшего на себя роль акушера, но не мог не слышать сдавленных стонов совсем еще юной, как определил Богусловский, девочки, не мог не представлять себе, что происходит за его затылком; ему было неловко за то, что он является хотя и невольным, но все же свидетелем великого таинства, и в то же время радостно от понимания того, что случай привел их сюда так своевременно.
Крикнул и поперхнулся холодом ребенок, приподнялась, потянулась к ребенку мать, но Прохор прикрикнул на нее: «А ну, лежи!», ловко пеленая в мягкий матовый лоскут, который еще загодя вытащил из хурджума, натолканного платьями, шалями и пеленками.
— Помочь? — осмелившись повернуться, спросил Богусловский и удивился ловкости, с какой Костюков пеленает ребенка.
«Что бабка повивальная», — одобрительно подумал Иннокентий, выколачивая старательно снег из меха полушубка, а затем бережно укутывая в этот полушубок беззвучно кричащего ребенка.
— Неси аркан, — попросил своего коновода Костюков, и тот метнулся к сбатованным лошадям.
Веревки, крепкие, из конского волоса пополам с овечьей шерстью и довольно длинные, всегда возили с собой казаки, хотя это было неуставно, а значит, осуждалось командирами. Но как бы строги и пунктуальны ни были командиры, извести арканы не могли, потому что казаку-пограничнику часто в них была нужда. Даже когда приходилось сидеть в засаде либо в секрете, окольцует веревкой место и уже не опасается никаких гадов — ни змея, ни скорпион через овечью шерсть не переползет. Боятся запаха овечьего. Очень кстати пришлась веревка и теперь: крепко оплели ею конверт, сделанный из полушубка, чтобы не раскрылся дорогой, оставив лишь малую щелку для воздуха. Оказавшись в тепле, ребенок вновь обрел голос, закричал, что-то требуя настойчиво. Ласковых, видимо, материнских рук. Но вскоре притих и заснул.
Успокоилась и мать, все порывавшаяся подняться. Костюков законвертовал и ее в полушубки, оплел арканом, и она стала похожа на огромный бездвижный кокон.
— Ишь, как все ладно сложилось, — довольно проговорил Прохор. — Можно теперь и в путь.
— Кто такая, не поинтересовался? — спросил Богусловский.
— Абсеитбекова жена. Брат его должен приехать и взять всех в свой гарем. Зверь зверем, говорит. Она и сбежала. По твоему маршруту ее кишлак. Отвезем, там порешим, как дальше поступать.
— Иного выхода нет, — согласился Богусловский. — По коням.
Теперь они ехали все больше рысью. Потому, что нужно поскорее доставить в тепло женщину и ребенка, но еще и потому, что ветер пронизывал насквозь их гимнастерки. Не мерзли только ноги в добротных яловых сапогах и ватных брюках да головы, укутанные поверх башлыками, и это в какой-то мере сохраняло жизненную энергию казаков, но постепенно она иссякла, все властней наваливалась сонливая безразличность.
Студеный же ветер крепчал, вольно неся по безбрежной долине яростно взлохмаченные густые снежные космы. А на пути до самого кишлака нет никакой муллушки, никакого затишка. Остановить бы коней, сгрудить их, укрыться за ними хоть на какое-то время от ветра, прийти немного в себя, но Богусловский неумолим: вперед и вперед. Пусть кони не так резвы, рысь их не размашиста, все равно — только вперед… И кажущаяся беспощадность обернулась в итоге благом. Пусть на пределе сил, но добрались все же пограничники до кишлака.
— Слезай! — скомандовал Богусловский, сам спрыгнул с коня и принял из рук Костюкова роженицу. Он, как и остальные казаки, уже предвкушал скорый рай: сандал с углями, чай обжигающий…
Увы, испытания их еще не окончились. Костюков звякал массивным, грубой ковки кольцом по такой же массивной железной планке, прикрепленной под кольцом, но, хотя звук все это приспособление издавало довольно резкий и в доме его наверняка слышали, никто не появлялся. Костюков начал бить в калитку прикладом, с каждой минутой все злей и злей.
Выглянули из соседней калитки и тут же захлопнули ее вновь. Еще одна калитка, подальше, воровато скрипнула и тоже тотчас захлопнулась. Хоть вой от бессильной злобы. Безразличны к человеческому страданию эти высокие глинобитные дувалы, древние как сама вечность.
Свистит ветер надрывно, несется, словно горный поток в узком каньоне, выдувает из казаков последнее терпение. И вот уже коновод Костюкова смахнул карабин с плеча, клацнул затвором.
— Остановись! — крикнул Богусловский. — Не сметь!
Даже не взглянул на командира казак, досылает патрон в патронник, еще миг — и прозвучит роковой выстрел, а Богусловский помешать этому не в силах: на руках у него женщина, не бросишь ее. Положить же аккуратно не успеет… Крикнул еще:
— Не сметь!
Костюков, повернувшийся на крик, прыгнул на коновода, как на врага заклятого, выбил карабин, рубанул, крякнув, оплеуху и запустил смачно трехэтажный мат. Сжался в жалкий комок казак, зарыдал горько, навзрыд.
— Слюнтяй! — зло обозвал Прохор казака и с остервенением принялся колотить прикладом по кольцу.
Появился наконец хозяин. Спросил угрюмо:
— Кто такие?
Ответил Прохор. Он лучше всех знал местный язык.
— Пограничники. Привезли вашу дочь и внука.
— Место замужней женщины в доме у мужа!
Терпеливо пояснил Костюков свою невиновность во всем случившемся, ибо не могли же они проехать мимо замерзающей роженицы, но хозяин дома, судя по голосу, еще молодой, полный сил, упрямо твердил:
— Вы убили мужа моей дочери. От вас все несчастье. В доме у меня места для вас нет.
— Возьмите хотя бы дочь с ребенком. Они замерзнут!
— Место жены в доме мужа.
Неизвестно, чем бы закончились переговоры, возможно, удалось бы переупрямить бездушного упрямца, но к казакам подошел от окраинного дома молодой мужчина в легком халате, едва запахнутом, не укрывавшем даже волосатой груди, в тюбетейке и в узконосых калошах, надетых на босу ногу.
— Мой дом, зеленые аскеры, — ваш дом. Гулистан станет дочерью моей матери, мне — сестрой.
Он взял из рук Богусловского женщину и пошагал, не оборачиваясь, к своему дому. Был уверен, что казаки примут его предложение без всяких возражений и препирательства.
И в самом деле, что им оставалось? Не замерзать же возле негостеприимной калитки?
Дехканин остановился лишь у своей калитки, передал роженицу Костюкову, распахнул калитку и, приложив руку к сердцу, пригласил:
— Входите.
Пропустил Костюкова, Богусловского и казака с ребенком на руках, взял поводья у коновода.
— Лошади — тоже моя забота. Входите во двор.
Безусловно, неразумно и рискованно было оставлять колей без своего догляду, но казаку сейчас было не до них. Он охотно поспешил в дом, хотя и понимал, что командиры могут выговорить ему за нерадивость.
Все, однако, обошлось. Костюков только сказал, обращаясь к обоим коноводам:
— Обогрейтесь чуток и обиходите коней.
Но через несколько минут, когда коноводы, получив свои полушубки, уже собирались идти к коням, вернулся хозяин дома и сообщил:
— Лошади ваши расседланы. Я дал им сена. Никого чужого к скотному двору мои собаки не пустят. Когда остынут, я их напою.
— Хорошо, — согласился Богусловский. — Пусть будет так.
— Меня зовут Кул, — представился хозяин дома. — Так назвали, чтобы обмануть злого джинна. Не мальчик появился на свет, а рука, недостойная внимания джинна. А если и напустит джинн какую скверну, то на руку. Потому рос я невредимым.
Говорил Кул с ухмылкой, словно подтрунивал и над наивными родителями, и над глупым джинном, которого так просто обвести вокруг пальца, сам же расстилал на одеяло, накрывавшее сандал, белый дастархан, ломал лепешки, ставил кишмиш и курагу, расставлял большие пиалы, в каких обычно подают шурпу. Затем вышел на террасу, принес огромный медный самовар, фыркавший из кругленьких отверстий в крышке паром, и принялся заваривать чай.
Когда же чай был заварен, Кул крикнул в соседнюю комнату, куда занесли ребенка и роженицу и где мать Кула хлопотала возле молодой женщины:
— Мать, веди к сандалу Гулистан. Ей тепло нужно. Сама тоже садись с нами.
Женщины за одним дастарханом с мужчинами — смертный грех не столько для мусульманина, сколько для мусульманки, но Кул не предполагал возможного отказа, ловко городил удобное изголовье для Гулистан из одеял и подушек, беря их из ниш, где они высились цветными пирамидами.
В комнату действительно вскоре вошли женщины. Гулистан утомленно и робко, словно не сама переставляла ноги, а делал это кто-то другой, без ее на то согласия. Рукавом платья она прикрывала лицо, второй рукой опиралась на мать Кула, которая причитала, моля милостивого аллаха не карать их безжалостно за грехопадение.
— Не стесняйся, — подбодрил Кул юную мать, потом стал внушать своей матери: — Сама же говоришь, что милостив аллах. Неужели же он прогневается, если родившая ребенка согреется. Или ему все равно, пусть мерзнет, пусть болеет…
— Не гневи, сынок, аллаха, — умоляюще попросила мать. — Не будь злоречив…
Богусловский и все казаки, понимая, как неуютно сейчас матери Кула и особенно Гулистан, какое душевное смятение она испытывает, сидели с уткнутыми в дастархан взглядами. Они и сами чувствовали себя неловко. Но что делать, если хозяин, их ангел-спаситель, хотел, чтобы все они пили чай за одним столом. Пусть так и будет. Первый барьер неловкости рухнул, как только Кул внес ребенка, укутанного теперь уже в ватное одеяло, и положил рядом с Гулистан. Она потянулась к своему ребенку, полностью открывая лицо, утомленно-бледное, но одухотворенное ласковой тревогой за сына, великой материнской любовью. Богусловский не мог оторвать взгляда от ее лица, и сейчас он не жалел ее, казавшуюся ему прежде беспомощной девочкой (не случайно и Кул назвал ее кыз-бала — девочка-ребенок), на долю которой так рано выпали столь тяжкие испытания, а любовался и восхищался ею.
И Костюков переживал подобное чувство, только еще острее, еще ощутимей, ибо он был «повивальной бабкой». Воскликнул вдохновенно Прохор:
— Богатырь, рожденный в пургу! Джигитом станет, казаком! Так и дадим ему имя — Батыр.
Гулистан благодарно глянула на Костюкова, потом, словно опомнившись, захватив широкий рукав, потянула руку к лицу. Но остановилась, подержала рукав у подбородка и, улыбнувшись, поправила выбившуюся из-под платка черную прядку волос.
Маленькая пауза покоя, вроде сбросили все с себя мешки-пятерики. И тут Кул решительно заявил:
— Сына Гулистан назовем Рашидом.
— Ты хотел сказать Абдурашидом, — пугливо возразила мать Кула. — Рашид — имя аллаха. Только он — направляющий на правильный путь, а люди его рабы, абды…
— Я, мать, сказал то, что хотел сказать. Гулистан не захотела стать рабыней. Она смогла перешагнуть через жестокость шариата, предпочла умереть свободной, чем жить в унижении. Она не захотела пополнить гарем брата Абсеитбека. Судьба послала ей спасителей, и вот она — живая и свободная. Сидит с нами и не прячет лица. Почему же сын свободной женщины должен стать рабом?! Он — Рашид. Рашид, сын пограничников. Рашид Кокаскеров. Так будет. Пусть отец Гулистан останется рабом, ибо он — трус! Бездушный трус!
Глаза Кула, мягкие, теплые, сейчас были полны гнева, но даже это не портило его доброго лица. Кул был красив в своем благородном гневе. Находись сейчас здесь отец Гулистан, Кул наверняка плюнул бы ему в лицо. Но вот он повернулся к Гулистан, и взгляд вмиг потеплел. Улыбнувшись смущенно, Кул спросил:
— Я не обидел тебя, оскорбив твоего отца?
— Не мне быть судьей отца, — потупившись, ответила Гулистан. — В великий судный день аллах спросит с него…
— Я бы с него сейчас спросил, — вмешался в разговор Костюков. — Дочь и внук замерзают, а он калитки открыть не желает! Кого боится?! Абсеитбека нет!
— Отец Гулистан проклял тот день, когда связался с Абсеитбеком. Я это сам слышал. Я хотел взять в жены Гулистан, копил калым. Она была мне обещана, но Абсеитбек заставил нарушить слово. Сластолюбец попрал шариат и коран, и небо не разверзлось, не поглотило его…
— Труп его выбросили джигиты рыбам на корм. Отлились ему горькие слезы обиженных. Он наказан, — возразил Костюков.
— Тогда его бросили, сегодня он — святой.
— В толк не могу взять, — искренне удивился Костюков. — Абсеитбек — и святой?
— Люди помнят зло, когда у них полные желудки. Не стало Абсеитбека, и тем, кто контрабандил с ним, нужно браться за кетмень, за пастушью палку, а привыкший к безделью работать не хочет.
«Метко весьма. Сама суть в его словах», — подумал Богусловский и усмехнулся, вспоминая, как пытался понять он, отчего контрабандисты, с явным удовольствием выбросившие труп Абсеитбека в речку, через какое-то время стали отзываться о своем бывшем главаре все почтительней и почтительней. Казаки докладывали ему об этом. Он даже думал, не пришел ли на место Абсеитбека кто-либо из его родственников. А все вот как просто. Абсеитбек был кормильцем многих. Хоть и жестоким, но кормильцем. А как теперь переиначивать жизнь? Не лучше ли лелеять прошлое да попытаться вернуть его с еще большими выгодами для себя?
— Муллы тоже не только хвалу аллаху возносят, — продолжал неспешно Кул, то и дело потягивая с явным наслаждением густой парок из пиалы. — Раз неверными убит, значит — святой. Муллы призывают к джихару. Они говорят: мусульманин и кяфир[30] не могут жить в дружбе. С Афганистаном или Персией, говорят, нам сподручней жить.
— Ого! — воскликнул Прохор. — Священная война за веру! Отторжение от России. Ишь, куда гнут, стервецы!
— Скажите, Кул, — спросил Богусловский, — давно ли проповедуется подобное? И только ли в убийстве Абсеитбека причина?
Богусловский задал эти вопросы не оттого, что был вовсе не осведомлен. Он просто надеялся выяснить подробности тех, пока еще туманных для него, событий, о которых разузнал Прохор у знакомого пастуха. Вдруг Кул знает больше и охотнее расскажет.
Кулу явно не по душе пришелся вопрос. Почувствовал неискренность. Спросил с горечью:
— Крепости разве неизвестно, что осквернен мазар?
— Слухи дошли, — ответил Богусловский. — Но можно ли верить им?
— В ум не возьму, — все еще не веря Богусловскому, проговорил Кул, втянул струйку пара и повторил: — В толк не возьму. Новая власть не говорит своим аскерам, что делает? Такого не бывает, — помолчал, выжидающе поглядывая на Богусловского и Костюкова, но те тоже молчали, совершенно сбитые с толку. При чем здесь власть? Левонтьев — это понятно, а власть? Не дождавшись возражений и видя посуровевшие лица гостей, Кул смягчился:
— Совет арестовал дервишей Сулейман-горы, обвинив их в прелюбодеянии. Развесили листки, где сказано: мазар закрыт. Как можно закрыть святое место бумажкой?! Я так скажу: у каждого человека есть своя голова, он сам определит свою веру. Если на аркане вести человека, он в конце концов разрежет узел!
Кул отхлебнул глоток чая и тоном непререкаемого повеления предложил:
— Будем спать. У сандала останутся женщины.
Не дожидаясь согласия, вытянул ноги из-под одеяла и направился в соседнюю комнату, уверенный и на сей раз в том, что все последуют за ним.
Очаг в комнате уже едва теплился углями и теперь не источал ласкового тепла, а наоборот, из широкой сквозной трубы тянул холод и врывался нудный посвист пурги, нагоняя тревожную тоску. Кул, прежде чем расстелить на полу одеяла, завесил очаг толстой кошмой, и сразу приглушилось ощущение пурги, в комнате стало покойней и уютней.
— Сапоги занесите сюда, — попросил коноводов Костюков. — Чтобы вместе с обмундированием и оружием были. — И перевел Кулу сказанное, дабы не обидеть хозяина недоверием.
— Пусть будет так, — согласился Кул, укладывая рядом большие ватные подушки.
Улеглись. Вяло перебросились пожеланиями спокойной ночи, и притихла комната, а вскоре уже и засопела, начала похрапывать. Только Богусловский не мог уснуть. Время для него отступило на день, вернулось к утреннему разговору с Ледневым, заставив еще раз мучительно убеждать себя в обоснованности принятого решения ехать самому, оставив на руках молодого офицера крепость; затем проследовал до развилки дорог, в мельчайших подробностях воспроизводя все то, что ухватил взгляд и зафиксировала память; а когда время остановилось вместе с иззябшими путниками у дома отца Гулистан — здесь оно как бы застыло, приковав мысли Богусловского к дикому, по его понятиям, факту. Но сейчас он не столько осуждал жестокость отца, сколько пытался понять, отчего человек, проклявший прежде человека за причиненное ему зло, не обрадован, что восторжествовала истина. Сожалений о потерянной легкой жизни контрабандиста и нежелания становиться дехканином либо чабаном слишком мало, чтобы отвергнуть дочь и внука, нет, причина глубже, она в страхе, который отгорожен даже от своей совести показной покорностью шариату. Страх нагоняли священнослужители, подчиняться слову которых веками принуждали дехкан покорные баям и старшинам джигиты. Камчами насаждали, клинками и ножами…
Не знал еще Богусловский о свершенных самосудах в кишлаках, по которым проехал Левонтьев. Все бы для него стало ясней. Кому хочется подставлять свои головы под град камней?! Но даже сообщение о том, что свершилось святотатство по отношению к почитаемому мусульманами месту, наводило Богусловского на невеселые мысли. Разными методами действуют те, кто привык повелевать, кто имел свое: землю, торговлю, должностные доходы и не менее доходные приходы — одни секут головы, другие стращают муками ада, а то и карой аллаха еще на грешной земле; но возможно, даже не сговариваясь, идут к одной цели упорно: начать братоубийственную войну. И чем скорее, пока не опомнился забитый мужик, тем лучше. Каждый о себе печется, а прут вместе.
«Как скоры на единение алчные властодержцы, как жестоки, — думал Богусловский, — и как робка честность, как проста и доверчива, как легко ее смутить наговором, явной ложью… Вот даже Кул, смелый мужчина и честный, не доверяет вполне нам. А мы ему? Тоже. Но нам же идти одной дорогой. И Кулу, и мне, и Прохору… Как важно, чтобы единение честных патриотов России свершилось столь же скоро и столь же непоколебима была целеустремленность… От нас, интеллигентов-патриотов, многое зависит. Бороться за души нужно. Энергично бороться…»
Так и не заснул до самого утра Богусловский, К одному выводу привели раздумья: в кишлаках следует искать дехкан, подобных Кулу, не только для приюта, но и для бесед с ними. Поспешить стоит с отъездом.
«Покормить утром коней — и в путь. Каждый своим маршрутом».
Но как говорится: утро вечера мудренее. Когда Кул узнал, что двое пограничников намерены возвращаться на нижнюю дорогу, отрезал сухо:
— Нельзя там! Совсем нельзя!
— Отчего же, — спросил Богусловский с удивлением. — Заносы снежные? Не должны бы…
— Нет, — сердито, ни на кого не глядя, ответил Кул. — Там проехали ваши казаки. Там много новых могил.
Костюков даже присвистнул. Не попадись сначала роженица, а затем вот этот смелый и независимый дехканин, все для него, Прохора, могло бы кончиться неизвестно чем.
— Прикинуть, Иннокентий Семеонович, стоит: сподручно ли голову в петлю совать?
— Пожалуй, вы правы. Придется всем верхней дорогой ехать.
— Зачем всем? Коноводов вернем. Меньше народу — незаметней. Вдвоем и приткнуться где-то не так накладно. Домишки у дехкан — не хоромины.
— Да, наверное, вы правы…
Собрались в дорогу сразу же после утреннего чая. Продукты, оставив себе лишь малый запас на случай, и овес коноводы приторочили к седлам коней Богусловского и Костюкова. Пусть громоздко, но как-то уверенней с добрым запасом.
Метель за ночь немного обессилела, хотя еще вихрился снег, и едва лишь всадники разъехались, как потеряли друг друга из виду.
— Не собьются с пути? — обеспокоенно спросил Богусловский Прохора, пытаясь увидеть в снежной круговерти всадников и определить, верное ли направление ими взято.
— Если что, кони сами отыщут дом, — успокоил Костюков. — Вот нам поплоше будет. Не за самоваром у тещи. Меня, Иннокентий Семеонович, передом пусти. Мой конь попривычней.
— Меняться станем.
Они не спешили. Если долго не попадался оголенный ветром участок дороги, слезали и разгребали снег. Оттого и не сбились с дороги до самого перевала, где начинала подниматься она из долины некруто вверх. Здесь уж никак не сбиться, ибо петляла дорога меж скал.
— Вот и слава богу, — с явным удовлетворением проговорил Богусловский. — Отыщем затишок, покормим коней, сами перехватим и — вперед…
Верный, однако, сказ есть: не гопай, пока не перепрыгнешь. Конечно, можно было не опасаться того, что собьешься с дороги, но сама дорога оказалась переметенной в иных местах настолько, что приходилось спешиваться и прогребать тропу в морозно-сыпучем снегу. Взмокнут и лоб, и спина, пока осилишь гребешок. А сядешь вновь на коня — зябко. Потом приспособились: снимали полушубки, начиная схватку с очередным сугробом.
На пределе сил вытащились на перевал и только теперь со всей ясностью ощутили, что пурга при последнем издыхании. По небу еще неслись облака, но сквозь них прорывались уже голубые прогалины, и только закатная сторона, куда уже перевалило солнце, пока еще чернела огрузлыми тучами.
— Передохнуть бы, — вроде советуясь с собой, молвил Костюков, — да некогда. До ночи внизу надо быть. — И, похлопав по взмыленной шее своего коня, спросил: — Сдюжим? — Сам же ответил: — Не можно не сдюжить.
И все же какое-то время они не осмеливались двинуться вперед, не верили в свои силы, со страхом глядели на петлястую дорогу, которую только с одной стороны ограждали каменные скалы. Поскользнись конь — и поминай как звали. Ни деревца, ни кустика, за что можно бы задержаться, даже ни одной скалы не выпирало из пухлого снега, которым был устлан крутой до головокружительности скат, обрывавшийся над бурной студеной речкой. А сугробы на дороге лежали частыми островерхими волнами.
— Пошли, — позвал Богусловский Костюкова. — Коней — в поводу.
Но сугробы, которые виделись с высоты перевала солидными, оказались совсем пустяковыми, и путники, воспрянув духом, прибавили шагу. Когда же самая крутая часть спуска осталась позади, сели на коней и к мосту через речку подъехали еще задолго до вечера.
— Успеем в кишлак до заката солнца, — определил Костюков. — Здесь и порысить можно.
И верно, речка словно разделяла два царства. Позади остались ветер, снег по пояс, а здесь — безветрие, припорошенные скалы с густыми кустами боярышника и редкими, но внушительными ореховыми деревьями, на которых еще оставались прошлогодние листья, крупные, будто живые. И дорога от моста, еще какое-то время прикрытая мягким снегом, дальше очищалась от него вовсе. Да и кони, почуяв близкое жилье, повеселели, приободрились. Отчего же не порысить?
Вначале они увидели прозрачные столбы дыма, которые будто подпирали небо, упираясь в него, сливаясь с ним, а когда поднялись на взгорок, то и сам кишлак. Большой, сотни на две дворов, обнесенных высокими крепкими дувалами. На узких улочках ни одного прохожего.
— Не проехать ли нам без остановки? — предложил Богусловский. — У мазара заночуем.
Мазар, о котором сказал Богусловский, был могилой какого-то безвестного суфия. Никем она не почиталась, но лет десять назад на месте захоронения пробился ключ, и тогда мулла объявил могилу священной. По его указанию правоверные близлежащих кишлаков построили над могилой часовню, высокую, с куполом, как у мечети, с четырьмя миниатюрными минаретами (в народе подобные надгробные памятники называют муллушками), огородили большой участок земли вокруг муллушки высоким дувалом, а во дворе вырыли хауз[31] — так образовался Суфи-мазар, входили в который верующие лишь по большим религиозным праздникам только вслед за муллой и только после того, как положат монету на медный поднос либо пообещают пожертвовать в пользу мечети барашка или даже теленка. За тахарат — новый садака. Если верующий приходил к мазару в обыденный день, он совершал омовение беспошлинно, в выведенном из хауза за дувал арыке у большого орехового дерева, тут же молился, затем отрывал полоску от полы своего халата и привязывал ее к какой-нибудь ветке. И будет висеть этот лоскутик рядом с бесчисленным множеством таких же цветных лоскутков, пока не обветшает и не растреплет его ветер.
Туда, к этому дереву, где была вода, чтобы напоить коней и напиться самим, где можно развести костерок и вскипятить чаю, предложил ехать Богусловский, не привлекая в кишлаке к себе внимания. Но Костюков возразил:
— Не откажут дехкане-бедняки, думаю. Мы же к мулле не станем стучаться. Такие, как Кул, и здесь имеются. Это уж факт.
Не стал настаивать на своем Богусловский. Прохор сам из крестьян, ему ли не знать души крестьянской. Подумал к тому же, что вдруг удастся собрать десяток дехкан и рассказать им о новой власти, о ее декретах. Да и привлекательней отдохнуть за сандалом, чем у костра.
Ох и пожалел потом Богусловский, что поддался всем этим соблазнам.
Костюков постучал в одну калитку — молчание. Постучал во вторую — молчание, а когда подъехали к третьей, выбрав самый неприглядный, подъеденный солончаком дувал, увидели муллу. Он почти бежал, забыв о степенности. Полы его тонкого белого халата раскрылились, как у боевого петуха перед схваткой, да и сам он, замени ему белую чалму на красную, походил бы вовсе на петуха, которого уже выпустил хозяин на круг и который теперь отрешен от всего и видит перед собой только противника. Смять его нужно, заклевать — и больше ничего.
— Давайте-ка, Прохор, поспешим отсюда, — непререкаемо предложил Богусловский и пустил коня рысью по узкой пыльной улочке.
Они отъехали совсем недалеко от села и услышали зычный, не хуже муэдзиновского, голос муллы, скликающего с минарета правоверных на площадь.
— Погоню еще устроят, — остановив коня и пытаясь понять, что кричит мулла, проговорил Костюков, но так и не разобрал ни слова из распевного крика. Успокоил себя: — Мы же им никакого лиха не сотворили.
— Не в нас, Прохор, дело. Погоня вполне возможна. Думаю, у Суфи-мазара не следует останавливаться.
— Ну нет, Иннокентий Семеонович, у мазара мы остановимся непременно, — запротивился Костюков. Тон его походил скорее на тон командира, разговаривающего с подчиненным. — Только там остановимся. — И, не давая Богусловскому что-либо возразить, продолжил так же упрямо: — Ты извини меня, Иннокентий Семеонович, что нахальствую, но жизнь — это дороже субординаций разных… Как я прикидываю? В кишлаке кони тоже есть. И добрые кони. Не ускакать нам от них никак. А так: углядим погоню, в мазаре укроемся, поведем переговоры. Глядишь — выгадаем чего. Да и отстреляться сможем. Все порядком и пойдет.
Разумно и не лишено логики. Как Богусловскому не согласиться?
Дорога круто повернула влево от бурливой со скальными берегами речки и сразу же распрямила, как прибитая змея, свои изгибы, рассекая наполовину поначалу узкую долину, которая чем дальше, тем раскидывалась вольготней, и уже не хилый боярышник с редкими ореховыми деревьями лепился по склонам, а виделись тугие рощи то из раскидистых седостволых карагачей, то из таких же могучих орехов, а то из стройной джуды[32] — начиналась та, присущая только долинам, благодать, когда все чрезмерно могуче, все пышно, все врасхлест… Богусловский пустил коня размашистой рысью, а когда до мазара, который, они знали это, возникнет вдруг, словно вынырнет из рощи, осталось с полкилометра, перешел на шаг. Пусть поостынут кони, чтобы не опоить их.
Миновали молодую ореховую рощицу, и сразу же перед всадниками открылся мазар — столетнее ореховое дерево на отшибе, примостившийся к нему высокий дувал, за которым бугрилось пузо купола, а над ним нелепо торчали тонкие, словно обглоданные кости, минареты.
— Давай, командир, чуток слевим. Вон у тех кусточков станем, — предложил Костюков. — Арык туда бежит.
Разумно. От мазара метров двести, никто не обвинит в святотатстве, если костер развести да коней на арканах пустить пощипать прошлогоднюю траву. Важно и то, что от кустарника виден большой участок дороги от кишлака. Свернули к кустарнику и вскоре уже, ослабив подпруги, растирали жгутами ноги и крупы лошадей, а те нетерпеливо тянули к воде.
— Не дури, — уговаривал Костюков своего коня. — Успеешь напиться. Остынь чуток. Вот расседлаю, тогда уж…
— Думаю, повременим с расседлыванием часок-другой, — возразил Богусловский. — Неспроста же мулла созывал прихожан своих.
— И то правда, — согласился Костюков и добавил: — Пока кони остынут, я к мазару сбегаю. Осмотрю, что к чему. Ладно?
— Конечно, конечно, я тут пригляжу.
Вернулся Костюков довольный. У него родилась идея: укрыться на ночь в мазаре. Если будет погоня, то наверняка пройдет мимо. Никто не подумает, что казаки в мазаре.
— Велик риск, — усомнился Богусловский. — Пощады не жди, если обнаружится святотатство.
— Конечно. Только я так размышляю: и теперь, если догонят, пловом угощать не станут. Тут так: либо пан, либо пропал.
И на этот раз согласился Богусловский с доводами Прохора Костюкова. Попоили коней, сами напились, наполнили фляжки и, подтянув подпруги, вскочили в седла.
Теперь они безотчетно спешили. Галопом подскакали к воротам. Костюков торопливо открыл их и сразу же, как завели лошадей во двор, перекинул аркан, сложив вдвое для надежности, через дувал, вышел за ворота, закрыл их на засов снаружи, затоптал тщательно следы копыт и крикнул Богусловскому:
— Держи, командир!
Богусловский ухватил аркан, спетлив его, уперся ногой в дувал и ответно крикнул:
— Держу, давайте!
Ловко поднялся по аркану Костюков на дувал и, спрыгнув во двор, запер ворота еще и на внутренний засов.
— Теперь можно и под крышу, — удовлетворенно проговорил Прохор. — И самим, и коням. Места всем хватит…
Расседлали лошадей, протерли им жгутами спины, надели им на морды торбы с овсом и только тогда уж расстелили на глиняном полу потники и, окольцевав их арканом (вдруг есть скорпионы либо змеи), развалились блаженно, хотя понимали, что нужно бы поужинать поскорее, пока спокойно. Увы, усталость брала свое.
Сквозь дрему они оба вдруг услышали топот копыт. Вскочили, напрягли слух. Ничего. Тихо. Только лошади запрядали ушами и, повернув морды в сторону кишлака, перестали вылавливать овес из отощавших заслюненных торб. Костюков припал ухом к полу.
— Скачут! Много!
Поднялся, подтянул торбы повыше, чтобы прилипли они к ноздрям (лошадь тогда не заржет), затем взял карабин и встал у входа в могильник так, чтобы видны были ворота.
Топот, теперь уже явственно слышимый, приближался стремительно, вот он уже почти рядом, вот остановился. Спешились всадники, и тут, словно кто-то режиссировал толпе, она истошно взвыла, восхваляя аллаха и призывая его ниспослать смерть кяфирам.
К входному проему подошел и Богусловский. Тоже с карабином в руках. Он был спокоен, хотя ясно понимал, что, ворвись сюда фанатики-мусульмане, не под силу будет им с Костюковым остановить их.
«Баррикаду бы в проеме, тогда иное дело, — думал он. — Тогда можно всех тут поуложить…»
Сказал о баррикаде Костюкову, тот согласился.
— Верно. Сделаем. Только миновали бы… — И добавил уверенно: — Должны уехать. Уедут!
Толпа повыла разноголосо еще немного и умолкла так же внезапно, как и взорвалась. Богусловский и Костюков еще крепче сжали карабины, предположив, что кто-то увидел следы и сейчас начнется штурм ворот.
Но там, за дувалом, повели в поводу лошадей мимо мазара, а когда уже не кощунственно стало садиться в седла, зычно прозвучал клич: «Смерть неверным!» — и всадники вновь пустили коней в полный галоп.
— Слава богу, — вздохнул Костюков. — Полегче теперь будет. Если что, и уйти сможем. Коней — это они уработают, а наши — свежие. — Снял торбы, выпустил лошадей во двор, где густо стояла прошлогодняя трава. — Пусть попасутся. А мы приглядим, из чего перекрыть вход.
Вокруг хауза двор утоптан. У дувала — трава в пояс, не враз увидишь, есть ли что подходящее (обломки дувала или брошенный кирпич) для баррикады. Нужно, что называется, ногами прощупать, а уже начало темнеть.
— Разделимся, — посоветовал Костюков. — Поскорей будет. Где погуще трава, там и гляди.
Много оказалось брошенного кирпича, опутанного травой, но крепкого, не подточенного временем. Вопрос только в том, как брать: змеи и скорпионы наверняка домовито устроились под кирпичными кучками, а в темени этой, что навалилась уже, разглядишь ли их? Но не отступаться же. Примкнули штыки на карабины — и пошла работа. Не заметили даже, что луна повисла прямо над долиной, наполнив все окрест мягкой светлостью.
Толстым, в два кирпича, полукругом укладывали ряды перед входом в муллушку, когда же подняли полукружие на полметра, завели в помещение коней, и уж тогда подняли укрытие до такой высоты, чтобы можно было стрелять из-за него стоя. Только после этого, ополоснув руки из фляжек, сели за ужин.
— Нелепо, если придется пролить здесь кровь виновных лишь в том, что слепы, — с грустью говорил Богусловский. — Большей нелепости не придумаешь.
— Слепей котенков, это уж точно. Мулла крикнул — все летят глаза выпуча и не видя ничего. На пулю полезут безголовые…
— Еще большие размеры примет вражда. Скольких мы постреляем, погибнем ли сами — значения это иметь не будет. Сам факт свершившегося поднимут священнослужители ислама как флаг. Не станем, однако, опережать события. Давайте поспим.
Они верили в свою чуткость, оттого не стали чередоваться, а заснули оба разом, предусмотрительно надев на морды своих лошадей торбы, чтобы не заржали ненароком, когда почуют приближающихся лошадей. Пограничные кони, верно, лишнего себе не позволят, тренированные, но животное все же не человек.
Проснулись Богусловский с Костюковым, когда уже рассвело.
— Ишь, добро, это, какое! — потягиваясь сладко, восклицал Прохор. — До Ферганской долины решили скакать? Скачите, скачите, а мы тут пока лошадок своих попоим да покормим, себя тоже не обидим.
Достал брезентовые ведра из переметок, перемахнул через кирпичную стенку и вот уже несет полные ведра студеной и чистой, что стекло мытое, воды, подает Богусловскому, а следом и сам легкой кошкой перекидывает себя в муллушку.
Они успели сделать все, даже прошлогодней травы нарвали лошадям по внушительной охапке, затем разлеглись на попонах, скучно переговариваясь о том, долго ли еще ждать преследователей.
— Смерть как не любы мне жданки, — вяло, словно о чем-то постороннем для себя, говорил Костюков. — К одному бы уж концу.
Богусловский прекрасно понимал состояние Прохора, родная стихия которого — действие. Таким уж сделала его природа. Да и самого Богусловского, более уравновешенного, более спокойного, начали уже угнетать вынужденное безделье и полная неопределенность, но он говорил не о том, что думал:
— Пусть их поумотают коней покрепче. Сподручно нам это.
Время плелось, ленивый разговор совсем иссяк, и если бы не кони, жевавшие жесткую траву, в муллушке бы стояла мертвенная тишина. Вроде бы дремали беспечно пограничники, но на самом деле каждый, скрывая это от другого, слушал землю. И каждому уже не единожды казалось, что уловлен далекий топот копыт.
Но вот наконец долгожданный топот услышан въявь. Неспешно он приближался. Шагом едут. Изрядно, видимо, измотаны кони, да и всадники. При подъезде к мазару спешились, повели лошадей в поводу, а затем вовсе остановились. О чем-то переговорили (слов Богусловский и Костюков не поняли), и тихо стало за дувалом, лишь изредка фыркнет конь либо звякнут, ударившись, стремена да потолчется пара лошадей.
«Сбатованы, — определил Богусловский. — Для чего? Следы заметили?!»
Стоит Костюков у бойницы и неотрывно смотрит на ворота. О чем думает? Ни о чем. Благодарит судьбу, что пронесло. Раз замерли в молитвенном экстазе, не видели, значит, следов, никому, значит, не пришло в голову заглянуть в мазар.
И впрямь, за дувалом молились. Просили аллаха покарать неверных, которые ускользнули от праведной кары. Сами-то они наверняка теперь были довольны, что не догнали казаков. Что с берданками поделаешь против карабинов. Мулла раззадорил их, и, попадись им пограничники сразу, не побоялись бы пуль, но, когда проскакали добрых десятка два верст и повернули домой, трезвые мысли одолели фанатическую готовность сложить голову во имя торжества ислама. Сам-то мулла не с ними. Бережет себя. Отчего же им не поберечься. Они ведь тоже люди, им тоже жить хочется.
Каждый из дехкан понимал, что казаки-пограничники не могли так далеко ускакать на усталых лошадях, что они где-то пережидают, в роще какой-либо укрылись или в расщелок какой запрятались, что их можно найти, если поискать как следует, но искать никому не хотелось, ибо каждый отдавал себе отчет, как это опасно. Правда, никто вслух своих мыслей не высказывал. Боялись не только гнева аллаха, но и гнева муллы. Молились истово. Не жалели поклонов. Подниматься с коврика не спешили. Первого, примеру кого можно было последовать, во всяком случае не находилось.
А у пограничников нервы на пределе, словно струны перенастроенные. Даже Костюкову, понявшему, что дехкане на молитве, и то хотелось заглянуть за дувал, убедиться в верности своего вывода. Он теперь даже жалел, что как только замолкли в молитве преследователи, не открыли они ворота и не пустили коней в галоп, подальше от муллушки. Ведь мусульманин не прекратит молитвы, пока ее не закончит, что бы ни произошло. В общем, смятение в душе Костюкова полное. А каково Богусловскому? Все ему не ясно, все тревожно. Он никак не хотел, чтобы их обнаружили. И не потому, что боялся стычки. Он знал, какое примитивное оружие в кишлаках. У контрабандистов, у тех — английские карабины. А в тыловых кишлаках допотопные охотничьи ружья, да и те наперечет. Ножи с клинками — вот и все оружие. Но оно теперь не страшно. С ним через эту вот баррикаду не пробьешься в муллушку. Иное беспокоило Богусловского: пролитая в мазаре кровь — факт для гневных проповедей мулл.
Кто-то громко (Богусловский даже вздрогнул) провозгласил, что аллах есть единственный и всемогущий, нестройный хор подтвердил это, и задвигались, заговорили дехкане, захлопали ковриками, отряхивая с них соринки… Отлегло от сердца и у Богусловского. Он тоже понял: молились.
«Бог даст — минует опасность».
Через некоторое время, попоив лошадей, повели дехкане их в поводу и лишь на почтительном расстоянии взобрались в седла и зарысили домой. Перестук копыт удалялся и удалялся, а сердца пограничников бились все радостней и радостней.
И все же не решались заговорить Богусловский и Костюков еще какое-то время, слушали, не остался ли кто у мазара. Возможна ведь и хитрость.
— Пронесло будто, — нарушил безмолвие Костюков. — Теперь поторопиться нужно бы…
— Верно. Только не убрать здесь после себя мы никак не можем. Святое место дало нам приют, не станем же осквернять его, — возразил Богусловский, прислонил карабин к стене муллушки и, перекинув себя через баррикаду, принялся разбирать кирпичи.
Не воспринял заботы Богусловского Костюков. Он считал, что достаточно развалить сооруженную ими стенку, чтобы вывести коней, и — вперед. Мулла, считал он, выкрутится, когда приведет на молитву прихожан. Еще в свою пользу все повернет. Дескать, святой посетил мазар. Но Костюков — казак, он привык к дисциплине. Он тоже принялся за работу.
Управились быстро. Разбросали кирпичи в траву, подмели в муллушке. А как только вывели коней и Костюков закрыл ворота на засов, вскочили в седла и вопреки всем писаным и неписаным правилам взяли с места в намет.
Подальше, подальше от этого страшного места.
Нет, больше они не стучались в калитки. Кишлаки (похожие друг на друга не только высокими дувалами, но и безлюдьем, испуганностью) проезжали без остановок, а если позволяла местность, то вовсе объезжали. Скорее вниз, в долину, где города, где многолюдные базары. Там не только муллы верховодят, там есть наверняка армейские подразделения, есть в конце концов милиция, есть Советская власть.
Увы, в первом же небольшом городишке, куда они заехали, чтобы дать отдых коням хотя бы на сутки, их мажорным мыслям был нанесен прямо-таки нокаутирующий удар. Председатель Совета Абдукерим, могучий мужчина, каких в Туркестане называли полванами (силачами), и его заместитель Клепиков, из местных адвокатов, просто возликовали, когда увидели пограничников. Не знали куда посадить. И тут же, не интересуясь вовсе планами гостей, потребовали остаться на несколько дней, попатрулировать с отрядом самообороны по городу и по базару.
— Пусть много народу увидит кокаскеров, — возбужденно говорил Абдукерим. — Тогда прижмут шакалы свои вонючие хвосты…
— Складывается пренеприятнейшая ситуация, — начал пояснять просьбу главы городской власти Клепиков. — Рабочие хлопкозавода горой за большевиков, бойня вся на нашей стороне, а это добрая половина горожан. Самая причем активная половина. Остальные пока присматриваются. Нейтральны, так сказать. Автономистов же — считанное число, но у них — английское вооружение. Откуда? Как попало сюда? — это другие вопросы, хотя и они есть. Важно другое: у нашего весьма и весьма многочисленного отряда самообороны берданок, чиненых-перечиненых, раз, два и обчелся.
— Простите, а кто такие автономисты? — перебил Богусловский.
— Как?! — искрение изумился Клепиков. — Вы не в курсе событий?
Он даже вскочил со стула, а на суховатом лице его отразился испуг: не ошибочно ли приняли чужих за своих?
— Представьте, — успокоил Клепикова Богусловский. — Мы только-только с границы.
Клепиков вновь сел и неторопливо, как бы отсекая все лишнее, оставляя самую суть, начал пояснять:
— Когда в Петрограде дали под зад Керенскому, здесь неукоснительно приняли Советскую власть. В Ташкенте — Совет Народных Комиссаров, в городах — Советы, в кишлаках, что поближе к городам, дехкане тоже пораспрямили спины, сами очередность поливов определяют, да и деньги за воду ни мулле, ни баю не платят. И все бы ладом шло, не соберись вскорости мусульманский съезд в Коканде. Объявил тот съезд Кокандскую автономию и призвал всех правоверных добровольно записываться в армию для защиты мусульманской веры. Вот тут приключилась осечка: народ не повалил защищать автономию. Удивление меня, грешным делом, взяло, отчего, думал, без поддержки оказались столь популярные Шуро-и-Исламия да Тюркская партия федералистов. Но, поразмыслив, определил: популярность их была в интеллигентских кругах, а в рабочей среде в почете большевики. Тем не менее сколотили автономисты отрядец. Командует им отъявленный головорез курбаши Иргаш. Он даже крепость в Коканде осадил. Старый город весь в его руках. Выходит, в Коканде нынче две власти. Ну и, как можно было предположить, тут как тут англичане. Фунты свои сыплют безмерно, винтовки да патроны везут изобильно.
Богусловскому, как пограничнику, сразу стало ясно, сколь огромную потерю понесут большевики в Туркестане, если будет отторгнута Ферганская долина. Оценил он и выбор контрреволюционеров: долина изобильна всем, дехкане набожны, мазаров в долине — пруд пруди. Один Шах-и-мордан чего стоит. Почитаем шиитами всего мира, ибо сам халиф Али покоится там. Сунниты тоже вниманием не обходят тот мазар. Вроде бы там, в Фергане, и должен был проходить мусульманский съезд, но нет, Коканд выбрали. Потому, что к границе ближе, к Кашгару. Сподручней для англичан.
Долина сама, если стратегически прикинуть, трудноуязвима. Высокие горы вокруг с редкими перевалами. Выстави на них заслоны покрепче, вот и обезопасил тылы. Только один вольный выход из долины — в сторону Ташкента. Но и тот перешеек можно укрепить. И если удастся автономистам захватить крепости в Фергане, Андижане, Намаггане и Коканде — охрана границы в горах совершенно потеряет смысл. Бесцельно, выходит, остались казаки в горной крепости.
Богусловский спросил недоуменно:
— А Ташкент что предпринимает?
— Предположение мое такое: либо там не все знают, либо свои заботы отягощают. Не доходят руки пока до Коканда. Оружие бы нам, и сами совладали бы с автономистами, извели бы Иргаша.
Не того ответа ждал Богусловский. Как же Ташкент может прохлаждаться? Ведь Коканд не о себе печется, он на весь Туркестан виды имеет.
«В Ташкент следует поспешить», — сделал для себя вывод Богусловский, а Абдукериму и Клепикову сказал:
— Весь завтрашний день рассчитывайте на нас, пока отдохнут кони. А там видно будет…
Хотя усталость и валила с ног Богусловского с Костюковым, уснули они не вдруг. Было над чем подумать, что обсудить.
— Вздыбятся и богатеи, и дехкане, закусят удила, — говорил Костюков, а в голосе его Богусловский чувствовал несвойственную ему холодность. — Не дадут спуску друг дружке. Вот тогда, Иннокентий Семеонович, ты под каким флагом пойдешь?
— Я его уже выбрал, — спокойно ответил Богусловский, хотя был недоволен тем, что Костюков наделил себя правом инспектирующего. — Я патриот России.
— Мы это слышали, когда в строю перед тобой и Левонтьевым стояли. Ты говорил об охране границы от иноземцев, а вот если свои сшибутся, тогда как?
— Вы, Прохор, так говорите, словно кто уполномочил вас…
— Совесть меня уполномочила. Хочу знать: верить тебе аль огляд припасти.
— Верьте, Прохор. Верьте.
— Ну, извини тогда, если обидел. И вот что — бросай свои старорежимные привычки: вы да вы. Давай по-казачьи.
— Давай.
— Если так, у меня такая мысль есть: в Ташкент прямиком податься. Здесь, я гляжу, в крепостях самим туго приходится, не попросишь у них огнезапасов, продуктов и людей.
— Я так и решил.
Не ведали они, что все их планы изменятся уже на рассвете, когда, взбудораживая пыль, пошагали через городок усталые колонны красноармейцев, а к Совету подкатила рессорка в окружении десятка всадников, и вконец растерявшийся самооборонец, охранявший Совет, забежал в комнату, где на кошме мирно спали Богусловский с Костюковым, и закричал:
— Вставайте! Вставайте! Гости у нас!
Что за гости?! Карабины в руки — и к двери. Патрон на всякий случай в патронник.
— Что за переполох? — шумно входя в коридор, вопрошал стройный, среднего роста мужчина в офицерском обмундировании. На плечи накинута пастушья бурка из тонкого войлока, теплая и удобная. На голове — офицерская папаха с красной шелковой лентой наискосок. Шагает решительно, как хозяин, а не гость. — Пограничники, любопытно, что здесь делают?
— С кем имею честь? — все еще не отпуская карабина, тоже задал вопрос Богусловский.
— Командир сводного пролетарского отряда Стародубцев. По приказу Фрунзе идем на помощь Коканду.
Богусловский представился, отрекомендовал Костюкова и сказал о цели своей поездки.
— Здравствует, говорите, гарнизон на границе? Патроны, говорите, нужны? — с нескрываемой радостью вопрошал Стародубцев. — Это же великолепно! — Подумал немного и рубанул решительно: — Поступим так: отберем добровольцев-коммунистов для цементации пограничного гарнизона, снарядим несколько повозок с боеприпасами. Продуктов не дам: разрешима проблема на месте. Охота, помощь беднейшего дехканства. — Вновь помолчал, прикидывая что-то в уме, затем с такой же решительностью заявил: — Двоих не отпущу. Вас, товарищ Богусловский, оставляю при себе. Хорошего комиссара пышноусому казаку дадим — и за милую душу дело поведет. Верно я говорю? — потребовал Стародубцев от Костюкова одобрения. — Не боги горшки обжигают.
— Так это оно так, — довольно погладив усы (подобного Богусловский прежде не замечал за Прохором), ответил Костюков. — Только ведь не с порога командуют. Не приучен я к такому.
— Прав, не спорю. По-революционному. Покажи мандат, тогда уж распоряжайся, — покровительственно похвалил Костюкова Стародубцев и протянул Богусловскому, развернув предварительно, мандат СНК Туркестанской Автономной Социалистической Республики.
Категорически и грозно — так с профессиональной привычностью определил суть документа Богусловский, а затем, уже ради любопытства, читал строчку за строчкой, чтобы почувствовать стиль документа новой власти, который впервые попал ему в руки. «Оказывать всяческое содействие… Приказам повиноваться неукоснительно…» Сила и уверенность чувствовались в каждой фразе. Никакого сомнения в том, что кто-либо посмеет возразить. Именем народа повелевается, а народное повеление — свято для каждого честного гражданина.
— Вас что-то не устраивает? — нетерпеливо спросил Стародубцев.
— Пытаюсь осмыслить: Туркестанская автономная, Кокандская автономная, тоже не монархическая… Трудно, согласитесь, понять неискушенному.
— Народ интуитивно поддерживает свое, кровное, — безапелляционно заверил Стародубцев. — Его не проведешь никакими ложными лозунгами, никаким подстраиванием к народной власти.
— Вы так считаете?
— Не только я.
Не по душе была эта самоуверенность командира сводного отряда. Только вчера он, Богусловский, прятался в мазаре от толпы. Она — тоже народ.
— Не так все просто, как вы предполагаете, — попытался возразить Богусловский, но Стародубцев прервал его:
— Времени для дискуссий у нас еще будет предостаточно. Теперь же давайте подготовим отряд для отправки в пограничный гарнизон.
— Извольте.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
— Стало быть, все едино, что к Каппелю, что к атаману Семенову? — похлестывая короткой плеткой по голенищу, вот уже в какой раз спрашивал Дмитрия Левонтьева и Якова Хриппеля дородный, косая сажень в плечах, есаул с рыжей окладистой ухоженной бородой и пронзительным взглядом коричневых глаз.
Дмитрий напрягся, чтобы легче принять удар, но сегодня есаул, по манерам и речи больше похожий на урядника, не взмахнул плеткой и не ошпарил хлестко, с оттягом, плечо. Продолжал ехидно задавать вопросы:
— За Русь, стало быть? Чего же оттуль в Сибирь подались? Русь-то там.
Молчали офицеры. Они уже все сказали этому хаму. Поначалу требовали, а Хриппель даже пытался угрожать, но плетка быстро их усмирила. Бессильными и безвластными они оказались в руках казачьего есаула, недавно, по всей видимости, испеченного, и не могли найти никакого выхода из сложившегося положения. Бежать? Но казаки знают все тропы, нагонят быстро, и тогда уж вовсе крышка. А так, глядишь, поверит все же и отправит в штаб. Там-то все встанет на свои места.
Честолюбивые планы молодых офицеров, их мечты оказаться у дел рядом с теми, о ком заговорили на Руси, в ком признали силу, рухнули вдруг и совершенно нелепо. Казачий разъезд не заметил их, так нет, сами окликнули. Как же — свои. Но встреча с есаулом огорошила…
— Кто послал?! — строго спросил тот, хлестнув нервно плеткой по голенищу, предупредил еще строже: — Добром не признаетесь, замордую до смерти!
— Мы, господин есаул, — офицеры! И мы просим…
— Офицеры? Ну ты-то, — с ухмылкой глядя на Хриппеля, согласился есаул, — куда ни шло. А этот, — есаул смерил взглядом Дмитрия, — вон азойный какой. Нет кости такой мужицкой у дворян. Я-то знаю.
Откуда было ему, выросшему в глухой забайкальской станице, знать офицерство? Но так уж устроен человек, что он сам себя может твердо убедить в чем угодно, если еще жизнь балует его, если ему фартит. Уверенный в себе человек, если он еще необразован и не воспитан хорошо, многое может возомнить. Таким, уверенным в себе, обласканным судьбою, и был есаул Кырен, Костя Кырен, как его продолжали звать станичники, которые хотя и остались рядовыми, но тоже были о себе высокого мнения, ибо считались, по казачьим меркам, богатыми, крепкодомными. Полк, в котором Кырен поначалу служил рядовым, побывал в Омске, Новосибирске и даже в Самаре. Костя Кырен видел там господ, гулявших в городских садах, завидовал столь вольготному житью, дорогим одеждам и сам мечтал «выйти в люди».
— Повидал я на своем веку всякого, меня не проведешь! — рубанул он и пригрозил: — Не скажете, аже кем и откудова засланы, жалко мне вас станет. Замордую!
— Я — офицер штаба Корпуса пограничной стражи! Я прошу вас либо доложить о нас своему вышестоящему командованию, либо дать возможность сделать это нам самим!
— Ишь ты, серчает. А ответь мне, отчего в такую глухомань черт тебя занес? Там-то, не в Сибири, ее, границы той, не мерено. Иль места тебе не нашлось? Скажи, будь милостив.
Что ответишь на это юродствование? Отчитать бы есаула-выскочку, а то и морду начистить, сразу бы нашел свой шесток, да как сделаешь это, если сила на его стороне. Одно остается — убедить…
Закончился первый разговор плеточной выволочкой. Не крепкой, но чувствительной. На следующий день разговор возобновился, но строился так: вопрос — удар плеткой по ключице либо по шее, а то и меж лопаток, новый вопрос — новый удар. А когда отлеживались на сене в сарае после такого разговора, думали да гадали, как убедить этого твердолобого, по их определению, есаула в том, что не лазутчики они.
Но все, что казалось им самим убедительным, никак не действовало на есаула. Он упрямо спрашивал, приправляя каждый вопрос хлестком плетки, кто и с какой целью подослал их к нему, есаулу Кырену. И конца этим вопросам пленные офицеры пока не видели.
В первый же день Кырен понял, что никакие они не лазутчики, поначалу даже намерился не только отпустить их с миром, но даже дать сопровождающих, затем, однако, передумал. Ему пришла, как он посчитал, от бога мысль: испытать офицериков и того, кто покрепче будет, взять себе в помощники. А поразмыслив денек-другой, и вовсе определил крепшего в подручник превратить, что стелят семейцы на колени при молении. Вот и изгалялся над беднягами до тех пор, пока один из них, Хриппель, не взвыл истошно:
— Шпионы мы! Да! Да! Расстреливайте, но прекратите издевательства!
— Ладно, так и поступим, — удовлетворенно ответствовал есаул и приказал казакам: — В сарай.
А утром вновь за свой вопрос. Только плетку придержал. Подождал ответа минуту-другую и заговорил ухмылисто, с издевкой:
— Помалкиваете? Обиду на меня держите? Не шпионы, дескать, и сказ весь. Согласен. Не лазутчики. На том и порешим. Теперь слушай мой приговор. Тебя, — ткнул в сторону Хриппеля плеткой, — отвезут к атаману. А тебе, — тот же указующий жест плеткой, — быть у меня помощником. Все. Судить-рядить не станем. Выполнять станем.
Есаул кивнул казаку-конвойцу, и тот, нахально улыбаясь, пригласил:
— Кони ждут, вашеброть.
Пожали друг другу руки обрадованные Хриппель и Левонтьев, пожелали друг другу все, что принято в такие моменты желать, а когда вышли из комнаты Хриппель с казаком, есаул, осенив себя крестом, пробурчал смиренно:
— Прости, господи, душу грешную…
Мурашки по спине пошли у Дмитрия Левонтьева от возникшей догадки: ни до какого штаба Хриппель не доберется, а он, Левонтьев, тоже в руках вот этого рыжебородого есаула, который может в любую минуту отправить его к праотцам. А есаул Кырен тем временем достал из кармана расческу, маленькое зеркальце и начал неспешно, с явным удовольствием, расчесывать и без того аккуратную бороду. И как бы между прочим бросил:
— Уж больно много в штабу таких, как твой друг. Лишним станет, истинный крест, лишним. — Прошелся еще разок-другой по бороде расческой и добавил философски: — Припозднились вы. Когда начинали мы, голо было, а теперь чево, теперь как мухи на мед. Облепили все…
Языком полуграмотного казака говорила великая житейская истина. Но не до философских размышлений по поводу этой истины было теперь Дмитрию Левонтьеву. Он думал о себе, о том, как поступит с ним этот жестокий человек.
Внимательно оглядев в зеркальце бороду и оставшись довольным, есаул подошел почти вплотную к Левонтьеву и, вцепившись в него немигающим взглядом, принялся высекать слова:
— У меня останешься. Худа не сделаю. В бега вздумаешь податься — пеняй на себя. — Помягчел голосом. — Чтобы Русь спасать, чего ты намерился, нет нужды в штабе портками трясти. Крепкое дело дам. С башкой будешь, не обездолишь и себя. Вот так, паря!
Хотелось с размаху, всласть влепить этому наглецу оплеуху, но проглотил обиду Левонтьев.
«Ничего, жив буду — сочтусь!»
Поздно вечером, после обильного ужина с крепким самогоном, Дмитрия Левонтьева отвели не в сарай, а в соседний с есаулом дом, где ждала его большая неуютная комната, в которой и было-то всего мебели — кровать, стол да лавка.
— Вот, паря, тут и ночуй, — панибратски похлопав Левонтьева по плечу, вроде бы выдал сопровождавший казак свое разрешение располагаться в этой комнате. — Вон вольно как тут…
Больно кольнуло Дмитрия и «паря» и «ночуй» — не живи, а только ночуй. Понуро побрел он к лавке и принялся стаскивать сапоги, вовсе не обращая внимания на все еще торчащего у порога казака. Ему сейчас было все одно, уйдет ли казак, останется ли в комнате караулить его.
Казак ушел, и Левонтьев вздохнул облегченно. За многие недели мытарств по станциям, по тайге он впервые остался один, и хотя хмель притуплял его сознание, он мог теперь, без пригляду, расслабиться и неспешно обдумать все, что с ним произошло, наметить тактику действий на будущее.
Сколько раз он проклинал себя, что прилип к Хриппелю, поверил его радужным надеждам. Уехав с ним из заимки, податься бы к себе домой, переждать смуту, но нет, потянуло в самую гущу смуты. И чего ради? В монархию он уже не верил так свято, как до заимки под Тобольском, а правда — она ведь у каждого своя. Он даже подумал, что вполне возможно, в чем-то правы мужики, вздыбившие империю от края до края, но в ответ немедленно возмутилась сословная гордость, растоптанная, заплеванная. Со стыдом вспоминал он сейчас те часы и дни, когда из-за трусости своей читал старообрядческие книги, забыв вовсе, что искренне тогда увлекся ими, что они перевернули его душу, заставили на мир посмотреть иначе, не привычно. Но теперь, в возбуждении, он воспринимал все то как унижение. А рыжебородая харя мужлана-есаула представлялась ему столь омерзительной, его поведение так оскорбительно, что даже стон от злобной бессильности непроизвольно вырвался из его груди.
Да, он опоздал. И в Петербурге, и теперь здесь, в Сибири. Но пришла бы нужда спешить ему куда-то, не свершись переворота в феврале, не произойди восстания в октябре? Нет. Он был при деле. При своем деле. И конечно же, та, чужая для него правда, была ему не только неприемлема, но и ненавистна.
И другое он понимал: не властен он пока что распоряжаться собой, прими он даже сейчас решение не перечить большевизму. Ему теперь оставалось одно: искать случая, чтобы обратить на себя внимание Семенова. А тогда уж сполна отплатить рыжебородому есаулу и за плетку, и за все иные унижения.
Почти всю ночь провел Дмитрий Левонтьев без сна, роились думы, тошнило то ли от изрядно выпитого самогона, то ли от чрезмерно (с голодухи) съеденной свинины, но утром он не чувствовал физической утомленности, лишь на душе у него было гадко, и родившееся ночью определение: «Раб есаульский» — назойливо повторялось, не отступая ни на шаг.
В комнату, словно он был за дверью и лишь ждал того момента, когда Левонтьев проснется, вошел вчерашний казак.
— Кличет, паря, тебя есаул. Совет держать.
— Как зовут вас? — спросил Левонтьев, делая ударение на слове «вас», чтобы отдалить нахального казака, дать понять ему, что фамильярность ему неприятна.
— Газимуров я. А тебя как звать-величать?
— Дмитрий Павлантьевич Левонтьев. Офицер.
— Дмитрий, стало быть, — вовсе не обращая внимания на последнее слово Левонтьева, уточнил Газимуров. — Памятливое имя, без заковырок. Ну так пошли. Ждет есаул. Осерчает, чего доброго.
Нет, у есаула было приятное настроение. Он сидел за столом, на котором ведерный самовар настойчиво шептал что-то стоявшему на конфорке цветастому чайнику, и, казалось, внимательно изучал медали, густо набитые на медном самоварном лбу, пытаясь разобраться, когда и на какой выставке была заработана каждая из медалей.
— Гляди, вашеблагородь, — без приветствия заговорил Кырен, как только Левонтьев с Газимуровым вошли в комнату, — медный грош цена ему, а по всему пузу, гляди, — награды. Почет, стало быть. А отчего? Полезный людям. Это тебе не фигурка какая мраморная иль золотая. Цена — не подступишься, а толку никакого. Никто медаль прилепить и не подумает. Осмыслил, к чему клоню?
— Вроде бы да…
— Вроде бы — это негоже. Садись. Вот чашка. Наливай и кумекай.
Долго, однако, кумекать Дмитрию Кырен не дал. Макнул кусок сахара в чай, отгрыз, сколько удалось, хлебнул из блюдца глоток и заговорил напрямую, без притчей.
— Семенову, атаману нашему, да иным всем, кто возле него, золотишко нужно. У нас, забайкальцев, спрос есть: «Каво, паря, без обуток да лопотины с сухаркой насухаришь?» И верно, озябнешь враз, до целования ли? Так и Семенов без золота чего навоюет? Потому и поедешь ты в Зейскую пристань. Не слыхивал небось о таком городе?
Как не слыхать пограничнику об этом, как в штабе называли, «оперативном направлении»? Читал не одно донесение не только с застав амурских о стычках с золотоношами, но и с тыловых острожков — Верхнезейского и Долонского, что стояли на Селимже. Много казаков-пограничников, заступавших контрабандистам-грабителям тропы, было представлено к крестам, но не меньше и погибало. Он знал, что золото намывали старатели на притоках реки Зеи в Приамурье, которое еще именовалось в донесениях «пегой ордой», и что открыл этот золотоносный край землепроходец Юрий Москвитин, а затем побывали здесь Василий Поярков, Игнатий Милованов — Левонтьев и по долгу службы, и любознательности ради читал кое-что о Приморье, но скажи ему прежде кто-либо, что придется ему подневольно оказаться на «оперативном направлении» и выполнять роль контрабандиста-грабителя, посчитал бы величайшим оскорблением.
— Казаки золотишко углядели, — горделиво продолжал, не ожидая вовсе ответа, есаул. — Под казаками и поныне Зея-город. Так кому, скажи мне на милость, золото должно идтить? Атаману казачьему! Семенову нашему, за нас, казаков, радеющему! — сердито выкрикнул есаул, словно Левонтьев упрямо возражал ему. Отхлебнув чаю, продолжил, все так же серчая: — Выбирай, сколь с собой возьмешь. Как определишь, так и распоряжусь. Только вот мой сказ: не больше троих бери. Тайга шума не любит. Ой, не любит. Вот его, — есаул кивнул на Газимурова, — обязательно возьми. Сам он хоть из Газимур-завода родом, места те зейские ведомы ему. У Ерофей Павловича бывал, в Тынде, по Гилюй-реке хаживал, в Золотой горе перемогался. Миллионщиком не стал, но две лавки открыл. Две станицы атаманские шапки перед ним ломали. И будут еще ломать, как изведем латаных горлодеров. Не худобожий Газимуров казак. За свое стоит. Иных двоих, тож алкотных казаков, сам он сыщет тебе. Пополднюете — и, благословясь, в путь. Тайгой да яланями. Оно подольше, зато поспокойней, — бросил взгляд на Газимурова. — Споро чтобы переодеванный был. Да не пакостную лопоть добудь.
Ловко все обставил. Вроде бы просто посоветовал Левонтьеву, да тому от такого совета деваться некуда. Придется ехать тайгою под присмотром есауловских соглядатаев. Не увильнуть, не отделаться от них.
Одежду ему принесли вскорости. Домотканую, на вид грубую, но и штаны и кабатуха, толстая холщовая рубашка, вовсе без воротника, отороченная красной каймой, и шамель, что-то отдаленно напоминающее шинель, только сукно сермяжное много плотней и толще да длиною выше колен — все сидело ловко, все удобно, все вольно, не стесняло движения.
«Для охоты такую одежду иметь», — скользнула мысль, и всплыли в памяти сцены сборов на охоту, зорьки в скрадках, удачные выстрелы по налетавшим табункам, услужливые егери — вспомнилось все так отчетливо, что даже стона не смог удержать Дмитрий. Все в прошлом! А что впереди?
Перед отъездом есаул саморучно налил всем по стакану первача.
— Ну, с богом, — благословил он и, осушив стакан, добавил: — Вестей жду побыстрее.
И начался многодневный путь по едва проторенным дорогам меж сопок, на которых удивительно нелепо, прямо, можно сказать, на камнях росли величавые кедрачи и сосны, а по падям толпились все больше осины, дрожавшие словно в ознобе от сырости и сквозняков, и лишь на вольной ровности, на еланях, по-купечески размашисто, как на опушках среднерусских лесов, стояли березы; на дорогах, по которым правил коня Газимуров, видел Левонтьев множество следов и кабаньих, и лисьих, и лосиных, а несколько раз рогачи показывались перед всадниками, приняв, видимо, мерный лошадиный топот за шаги своих сородичей, но, поняв ошибку, круто виляли и неслись, ломая подлесок, подальше от человека — все это не могло не отвлекать Левонтьева от дум о своей участи, и постепенно, день ото дня, он отходил душой, все охотней поддерживал на привалах разговор с казаками. Постепенно привыкал он и к грубому «паря», и к тому, казавшемуся ему странным, снисходительно-покровительственному, отношению к нему казаков, какое бывает у сильных, обеспеченных и уверенных в себе людей к обиженным судьбой, мечущимся в поисках своей доли. Левонтьев начинал даже с уважением относиться к казакам, которые не видели настоящего богатства, но для которых пятистенник с крытым двором, пяток лошадей, две-три коровы да десяток овец были настолько значительны, что они считали себя вполне достойными уважения. Левонтьев, более того, стал перенимать их манеру держать себя, манеру разговаривать, и когда их маленький отряд подъезжал к цели своего путешествия, Левонтьев уже не «выкал» интеллигентно и казаки относились к нему намного уважительней. Постепенно он отбирал главенство у Газимурова, хотя внешне все вроде бы шло по установленному есаулом Кыреном порядку.
Последний удар по высокомерию казаков Левонтьев нанес за вечерним чаем в доме старовера, или, как их здесь называли, семейца, на окраине Овсянки, вольно раскинувшегося села по левому берегу Уркана. Под вечер переправились они бродом через Уркан повыше Овсянки, и Газимуров предложил переночевать в селе и обмозговать, как лучше добраться до Зейского причала: верхом или лодками.
Постучал Газимуров в ворота стоявшего на отшибе пятистенника с большущим крытым двором, и хозяин, поздоровавшись с Газимуровым, как с другом, по которому неимоверно соскучился, радушно распахнул ворота.
— Милости прошу, дорогие гости.
Левонтьев давно заметил, что Газимуров останавливался на отдых только у семейцев, хотя сам открестился от староверства, когда Левонтьев спросил его, не двуперстием ли он кладет крест. Но не случайны же эти совпадения. И решил Дмитрий рассказать о Тобольске, о том, что стоял у коновода староверов Ерофея Кузьмина. Вдруг знают семейцы здешние о нем. Связи у них крепкие, информация хорошо налажена. В этом Левонтьев убедился, слушая разговоры Газимурова с семейцами, у которых они останавливались. Левонтьев искал только удобного момента, чтобы рассказ его прицельно выстрелил. И вот он настал.
Завели лошадей во двор, расседлали, растерли ноги и бока сенными жгутами, задали сена, а когда протирали стремена и трензеля, один из казаков сказал многозначительно:
— Хозяин, паря, коновод среди семейцев. В почете.
Смысл сообщения этого, как понял Левонтьев, сводился к тому, что гляди, дескать, в каком доме привечают, стало быть, не лыком шиты.
«Что ж, пора определяться, кто и как сшит», — решил Дмитрий, надеясь на то, что хозяин, раз коноводит, вероятней всего, может слышать о коноводе притобольской округи.
Здесь ужин проходил так же чинно, как и во всех староверческих домах. Ели сосредоточенно и молча. Женщины не поднимали глаз на гостей, но видели все, что происходило за столом, улавливали желания гостей и моментально их выполняли. Только хозяйка пользовалась правом голоса и время от времени советовала гостям кушать, не стесняясь, все что на столе.
Беседа началась только после того, как появился самовар и хозяйка начала разливать чай. Раскрыл, как говорится, рот первым хозяин. Не то спросил, не то удостоверил:
— В Пристань, значит, путь… — И посоветовал после паузы: — Урканом спуститься ладней будет.
— Еланями тож заблудки не станет, — возразил Газимуров, но так, вроде бы не хотел этого вовсе делать, а должен был возразить для порядка. И хозяин вполне понял это. Пообещал:
— Карбаз сыщем.
Помолчали, сосредоточенно переливая чай из чашек в блюдца. И тут Левонтьев решился. Понимая, что вовсе не к настроению вопрос, но надеясь вызвать хозяина на заинтересованный разговор:
— Скажи, отчего здесь старообрядцев семейцами зовут? Когда я под Тобольском у Ерофея Кузьмина на заимке жил…
— Погоди, мил человек, не коновод ли тамошний Ерофей Кузьмин? — живо переспросил хозяин.
— Похоже, коновод. Сходилось к нему много народу, слово его слушали. Книги я у него брал ваши — старинного письма. Не попадалось слово «семейцы» в них. Да и прежде, в Петербурге, не слыхивал.
— Глядел в книгу, а видел фигу! — сердито проворчал хозяин. — Стадо божье, единое стадо. — Смягчаясь, спросил: — Как жив Ермач? Справно ли дом блюдет?
— Коммуна трактор у них отняла.
— Не божье дело — коммуна. Ох, не божье, — сокрушенно вздохнул хозяин. — Бог — он осудит. Накажет бог!
— Заимщики тоже так порешили. Мы готовились императора нашего Николая Второго из большевистского ареста вызволить, да против коммуны повернулись.
— А на кой ляд Николашку спасать? — удивленно спросил Газимуров. — На кой ляд?
В этом вопросе как бы распахнулась душа казачья. Что ни говори, а верой и правдой служили императору казаки, но не за здорово живешь, не просто за титул императорский уважали да обороняли, все было гораздо земней: цари им землю без меры, они — головы за царей. А какая сила у Николая Второго? Теперь им самим свою землю защищать, а не ждать манны небесной. Все это прекрасно понял Левонтьев уже давно и именно на этом решил сыграть. Вроде бы и он уважал прежде в императоре не титул, а силу, но вот теперь ставит на более сильную личность.
— И я, о том же подумавши, махнул на все рукой и подался сюда с тем поручиком, что в тайгу вы свезли. Отец-то мой с Семеновым были представлены друг другу.
— Знали, выходит? — еще с большим удивлением спросил Газимуров. — Знали?
— Да. И довольно коротко…
— Ишь ты. Уж куда как махтарый Костя Кырен наш, а не угадал. Офицерика того, сотоварища твого, приказал, чтобы, значит, в спину. Дознается Семенов — крышка есаулу.
Почувствовал Левонтьев, что перехлестнул. Нельзя было всей правды говорить. Газимуров теперь вполне может, чтобы держать в узде есаула Кырена, передать ему все, что узнал, и пригрозить, что в случае чего поможет ему, Левонтьеву, добраться до атамана Семенова. С другой стороны, сам Газимуров теперь станет бояться его, Левонтьева, и глаз спускать не будет, превратится в истинного цербера, а при невыгодной для себя ситуации может и вообще убить. Ругнул себя Левонтьев, да поздно: слово — не воробей. Попытался как-то успокоить Газимурова:
— Да нет, Хриппель не друг мне. Один раз всего виделись. На бале у императрицы. Ну, а я… Есаул прав: в штабе и без меня людей хватит, а здесь я реальную пользу общей нашей борьбе за землю, за права свои принесу.
Не клеился дальше разговор. И казаки, и хозяин-старовер трудно переваривали услышанное. Так, озадаченные все, разошлись спать.
Утром Левонтьев заметил два изменения в поведении казаков. Без него никто не сел за самовар, здоровались с ним все почтительно, и даже слово «паря» звучало не грубо, не унизительно-панибратски, а с мягкой добротой. И во взглядах уважительность. Причина этого изменения ему была понятна и радостна. А вот второе озадачивало. Дело в том, что, как ни старались и казаки, и хозяин держаться безмятежно, Левонтьев все же почувствовал, что растревожены они чем-то очень сильно. Он тоже безотчетно заволновался, пытаясь успокоить себя и терпеливо ожидать, пока уведомят его о том, что же случилось этой ночью.
Пышные румянобокие шаньги, мед, чай со сливками, сметана, масло — всего было много, и хозяйка потчевала гостей настойчиво:
— Медок — горный, с первоцвета. А шаньги — только из печи. Кушайте, христа ради.
Только ей дозволено говорить за столом, всем остальным по правилам хорошего тона семейцев разрешается только отвечать хозяйке: «Благодарствую» — иные слова были не в почете. И видел Левонтьев, макая, как и все, шаньгой в мед и отхлебывая чай, что спешат на этот раз казаки покончить с едой, чтобы поскорей вылезти из-за стола. Дмитрий тоже попроворней задвигал челюстями, поддаваясь общему настроению.
Легла боком на блюдце одна чашка, вторая, третья. И вот уже хозяин распорядился: «Давайте все со стола. Проворней-проворней», а как только женщины унесли самовар и недоеденные шаньги, заговорил, обращаясь к Левонтьеву:
— Беда приключилась нонче. У японцев золото отбили. Похоже, голодранцы красные. На Уркане, у перевоза. Отселя верст пяток. Как бы, говорю, японцы на вас глаз не кинули. Крутой у них спрос: виноват ли, прав ли, все едино — комарам на корм. И пережидать не резон, и в путь идти не ко времени. А карбазом и вовсе нельзя…
— Японцы, — глядя на Левонтьева, подхватил Газимуров, — не есаул. Тот плеткой раз-другой огрел — и ладно. Эти жилы повытянут при допросе.
— Не выгораживай есаула! — не сдерживая ненависти, отрезал Левонтьев, хотя понимал, что не ко времени эти слова, но не мог иначе. Гнев и боль не столько за унижения физические, сколько за нравственные жили в нем неумолчно. — Есаул ваш…
— Не о том, паря, сказ, — настойчиво прервал Левонтьева Газимуров. — О японцах говорю. Понаслышаны о них мы. Во как! — казак приставил ребро ладони к горлу. — Не приведи господи!
В полной мере осознал опасность Левонтьев. У всякого, кто проведает об их появлении, возникает вопрос: для чего они здесь? для какой цели? Беда еще и в том, что не расскажешь искренне о своих намерениях. От казаков тогда смерть. Но Левонтьев не хотел показывать своей растерянности, чтобы не расплескать едва утвердившийся авторитет. Сказал усмешливо:
— Не только, выходит, казаки одни считают себя законными хозяевами золота. На блюде, гляжу я, никто не преподнесет его нам. Придется крепко подумать, чтобы добыть его. А для этого, как я понимаю, нужно целым и невредимым добраться до Зейской пристани. Ну, это уж, дорогой Газимуров, твоя забота. Тебе есаул повелел доставить меня к месту.
— Мандрык[33] сподручен, — посоветовал хозяин. — Пеши.
— А на партизан наткнемся в тайге? — высказал сомнение один из казаков. Но Газимуров одернул его:
— Эко, сказанул. Птицы они, что ли? Следы небось углядим.
— Коней опосля возьмете, когда нужда в них станет. Не объедят. Сена и овса вдоволь у меня.
Левонтьев спросил Газимурова, что такое мандрык, но тот глянул удивленно, пожал плечами.
— Мандрык — мандрык и есть.
Что за этим незнакомым словом кроется нелегкий путь, Левонтьев понял в короткое время. Поговорили еще самую малость о ночном происшествии, так не ко времени случившемся, и хозяин, как бы прекращая пустопорожний разговор, предложил:
— Обуходить обутки пошли.
Он провел их в просторную комнату, которая предназначена была для шорницких и сапожных работ. Она была довольно светлой, о трех окнах, в простенках между которыми висели хомуты, уздечки, потники, а на самодельных полках лежали кожи добротной выделки, колодки, прави́ла, сапожные ножи, молотки, плоскогубые щипцы и иной разный, совершенно незнакомый Левонтьеву инструмент. Хозяин снял с одной из полок короткошерстные обрезки лосиной шкуры, с колен и подбрюшья, и казаки, разместившись за просторным низкорослым верстаком, принялись выкраивать треугольники. Левонтьев же оказался не у дел, стоял возле верстака и пытался вникнуть в суть начатой казаками работы. Но хозяин подставил к верстаку табуретку и, подавая Левонтьеву сапожный нож, пригласил:
— Садись, паря, режь себе подбойки. Без подбоек негоже.
После короткого разъяснения он понял, что́ за подбойки нужно кроить и для чего они. Взял самый грубый лоскут и начал вырезать треугольники с таким расчетом, чтобы шерсть лежала от острого угла к основанию. Восемь треугольников для каблуков, восемь, побольше размером, для подошв. Подбитые углами к центру, на подошвы и каблуки, они полностью исключат скольжение при подъеме и спуске с любой крутизны.
Левонтьев сам, поначалу неловко, а затем все более приноравливаясь, даже испытывая удовлетворение от хорошего удара молотком, когда гвоздь, не ломаясь, вбивался в проткнутое шилом гнездо, прибивал к своим сапогам деревянными березовыми гвоздями подбойки, стараясь накалывать шилом ровную строчку, чтобы было красиво, как у Газимурова и других казаков. За работой, как водится, вели разговоры о житье-бытье. И конечно же о запустевших усадьбах, хозяева которых либо погибли на германской войне, либо ушли в семеновские сотни, а то и подались в партизанские отряды.
— Гибнет землица, — сетовал семеец. — И все от чего? От неверия? Попы-щепотники довели до греха. Старой бы веры не порушили, содома не случилось бы. За щепоть бог и наказует.
— Двуперстием ли, трехперстием ли себя осенять, разве это так уж важно, так уж существенно? — вступил в разговор Левонтьев, намереваясь блеснуть знанием истории раскола и тем самым подняться еще выше в глазах казаков. — Исправлять святые книги начал Аввакум вместе с Никоном…
— Господь с тобой?! — посуровел возмутившийся хозяин. — Аввакум от Никона натерпелся страсть сколько! Неужто мог он вместях быть?! Господь с тобой!
— Верно, натерпелся. Только это позже произошло. После свершившейся реформы, когда Никон патриархом стал. Суть раскола в борьбе русского уклада жизни против нововведений европейских. Не мог же всерьез расколоть нацию возврат к старым, до татарского ига, правилам в церковной службе. И Никон предложил Аввакуму возглавить эту работу.
— За такие слова, паря, поганой метлой из дому гнать тебя следовало бы! Ну да простит тебя, грешного, заблудшего, бог.
Нелепицей показалась поначалу Левонтьеву гневная вспышка хозяина: полное незнание причины раскола и столь же полное нежелание что-либо менять в своем привычном восприятии веры, перешедшей от деда к отцу, от отца к нему.
— Екатерина Вторая вас же, семейцев, сюда сослала, — пытался как-то повлиять на старовера Левонтьев. — Кнутом и огнем расправлялась…
— И то — ложь греховная. Екатерина да Павел вольность старообрядству вынесли. Не греши.
Сослав в отдаленные губернии основную массу старообрядцев, Екатерина Вторая разрешила торговлю купцам-старообрядцам, позволила носить им бороды, даровала права судебного свидетельства, уничтожила двойной налог со старообрядцев, позволила иметь своих священников (не везде, а лишь в Новороссийском крае) — и вон как в народе прослыла: избавительницей. Будто не ведал народ о расправе Екатерины с восставшими староверами в Таре? Сотни их гибли под пытками, сотни кончали жизнь самоубийством. Избавительница? Невероятно, но факт. Это говорит коновод…
В установившемся безмолвии Левонтьев почувствовал себя неуютно, а чем больше думал он о слепой заданности в вере хозяина, не рядового старообрядца, а коновода, тем страшней становилось ему от все более укрепляющегося в его сознании вывода: «Не ведает народ, что творит…»
Что знает о Никоне нынешний старовер? Только то, что узнал из гневной исповеди Аввакума, и то уже переиначенной, подчиненной духу времени. Многие десятилетия минули с тех пор, как горели скиты с замкнувшимися в них упрямыми защитниками русского привычного уклада, и кто сегодня может поведать их предсмертные думы? Какие надежды лелеяли они, цепляясь за старину? А может, и не было надежд? Сказал им духовный наставник, что лучше смерть в огне и вечный рай, чем трехперстый крест и вечная геенна огненная, вот и шли на смерть. Не идеи ради. Ее, идею, знали немногие. Да и конечная цель борьбы ведома была только вождям самого высокого ранга, остальные же шли словно бараны за козлом, который мог привести стадо либо на обильный луг, либо под нож мясника.
А видят ли цель все те, кто сегодня размахивает клинками и не жалеет пуль друг на друга? Ведома ли им конечная цель? Большевистские газеты обещают раи райские, а антибольшевистские — ад кромешный. Поди разберись.
Левонтьев даже усмехнулся, вспомнив, как в свое время отец, перелистывая журнал, вдруг с пафосом прочел вслух, что, победи социализм, общество превратится в массу дикарей, наступит смерть всякой деятельности и всякого нравственного идеала, а затем так же торжественно представил автора: Олесницкий. Мимолетной была та сценка, каких в доме Левонтьева случалось множество, а, смотри ты, запомнилась. Запала, выходит, в душу угроза известного всей просвещенной России православного моралиста.
— Смешного, паря, нет ничего! — приняв ухмылку Левонтьева на свой счет, сердито проворчал хозяин. — Антихристовы слова у тебя, вот что я, паря, скажу! — И махнул рукой безнадежно: — Ну да прости тебя Христос. Не ведаешь, что глаголешь…
Дмитрий промолчал. Объяснять то, о чем он думал, было бессмысленно. Не день и не неделя нужны, чтобы вбитые в староверческую голову понятия хоть чуть-чуть поколебались. Убеждать да доказывать долго и упорно нужно, но у Левонтьева не имелось на это ни желания, ни времени. Докоротать бы день до вечера, соснуть несколько часов и — прощай гостеприимный хозяин.
Находя размолвку Левонтьева с хозяином и наступившее вслед за этим молчание нелепостью, казаки быстро определили, на какую торную тропку следует свернуть. Переглянувшись меж собою, заговорили с сомнением:
— В Зейской пристани каково без коней нам? Без коня казак — не казак. Может, не бросим все же коней?
— Ишь ты, казак — не казак, — враз откликнулся хозяин, — а без божек вы кто будете?
Началось незлобивое пререкание, такое, когда обе стороны вполне уверены, что ведут совершенно пустой разговор, но от этого он не утихает, а наоборот, каждая сторона, поначалу нехотя, постепенно же все более упрямо держится за свое, все более горячится.
Левонтьев не вмешивался в спор. Более того, он вовсе не вникал в его суть. Он думал о том, что многое делается народом такое же никому ненужное, как и эта вот пустопорожняя перепалка, которая в итоге ни к чему не приведет. Газимуров все уже решил и поступит по-своему, тем более что он, Левонтьев, развязал ему руки до прибытия в Зейскую пристань. А там он, Левонтьев, стреножит их всех своей волей, как бы ни спорили они, как бы ни пыжились, что бы ни намеревались предпринять. Он настоит на своем. Но хотя удовлетворенность тем, что, пусть в малом, он все же отличается, даже в нелепом для себя положении, от простолюдинов, и тешило его самолюбие, хотя он от миниатюры своей проводил аналогию на всю страну, на все народы, хотя он и предполагал, что пройдет время и он встанет вновь в привычный ряд тех, кто диктует волю стране, он тем не менее тревожился мыслью и о том, что же ему предстоит делать в Зейской пристани послезавтра, с чего начинать? Этого Левонтьев пока не знал и, понятно, думал о том, что ждет его в тайге, где придется шагать ему по какому-то пугающему своей непонятностью мандрыку, что ждет в самом городе?
Но как бы мрачно или радушно ни рисовал он в своем воображении неведомый завтрашний день, жизнь преподнесла ему совершенно невероятный сюрприз.
Что касается мандрыка, то тут оправдались самые худшие предположения. Затемно вышли они из дому на дорогу, по которой приехали в Овсянку, и вдогонку им, словно желая доброго пути, закукарекали петухи.
— Припозднились, — недовольно буркнул хозяин, согласившийся проводить их до мандрыка. — Рассветет, того гляди. Шибче давайте.
Прибавили шагу. Только зря. Прошли километра полтора, свернули в лес, а рассвет едва лишь прорезался на востоке, и хозяин, не рискуя в темноте идти дальше, остановился вблизи опушки.
— Перегодим. Болотина там. Посветлу пойдем.
Терпеливо он ждал, когда в тайге станет совсем светло. Вот наконец повелел сам себе: «Ну, с богом» — и позвал всех:
— Пора. Пошагали, айда.
Напролом повел, лишь когда встречались совершенные завалы, огибал их. И вывел прямо к старой полузатопленной гати, которая и была-то видна всего метров на двадцать-тридцать, а дальше исчезала среди кочек и тощего ржаволистого кустарника.
— Ну, слава богу, — удовлетворенно молвил хозяин, воздавая должное не своей изумительной способности ориентироваться в лесу, а богу, который наверняка ведать не ведал о пробиравшейся в тайге группе людей. — Слава богу.
Постоял самую малость и смело ступил на илистую, замшелую и казавшуюся совершенно сгнившей гать. Знал, видимо, что обманчив вид ее, что прочны еще бревна.
Гать под ногами сопела, вздыхала, хлюпала, но держала тяжесть людскую. Вот уже почти версту миновали, а гати впереди все двадцать-тридцать метров. Она как бы вылезает из-за кочек и хилых, как мокрая курица, кустов. Солнце уже начало припекать. Вскоре стало парно и душно, как в бане, когда заплескают излишней водой уже остывшую каменку.
Вторая верста позади. Бревна сопят и хлюпают, кое-где гать и вовсе затянута тиною, но не скользят сапоги, подбитые жесткой шерстью. Не набойки бы, хитроумные, не раз пришлось бы хватать воздух руками да потирать ушибленные бока.
Осилили наконец гать, ступили на твердь земную, но не остановился проводник, не поинтересовался, устали или нет казаки и Левонтьев, зашагал еще спорей, словно подгонял его какой-то страх.
К полудню лишь, взобравшись до половины крутой сопки, оказались на едва приметной тропе. Хозяин и казаки пристально вглядывались в тропу несколько минут, затем Газимуров молвил с явным удовлетворением:
— Отура[34] только, слава богу.
— Держись этого мандрыка, — дал последнее напутствие хозяин Газимурову, — не свертай. Так к Пристани и выведет. Верст тридцать.
— Знакома она мне, — ответил Газимуров. — Хаживал по ней.
— Ну и — ладно. Я, значит, обратно. Засветло к дороге успею, а уж домой — потемну. Авось неведомым останется уход мой никому.
На авось надейся, а сам не плошай — не с бухты-барахты родилась эта притча. Но в чем-то оплошал хозяин, где-то просчет получился у него. Только вернулся, только, благословись, сел за ужин, забухали в калитку настойчивые кулаки.
— Кого черти несут? — стараясь побороть страх, проворчал хозяин и велел жене: — Отвори. Впусти.
Ввалилась в комнату разношерстная толпа: японцев двое, каппелевцев двое, сельских богатеев, из семейцев, несколько.
«Слава те господи! — обрадовался хозяин, увидев семейцев. — Не дадут изгаляться. Постращают только…»
Он был благодарен семейцам, что пришли те с японцами. Делать вид станут, что гневаются, а в конце концов защитят своего коновода. Решил не отпираться. Ответил охотно японцу на его вопрос:
— Да, проводил до мандрыка четверых старателей, чтобы, значит, заблудки не случилось. Почему по дороге не пошли? Побоялись. Ночью на Уркане грабеж случился, так не обвинили бы, дескать. Прежде знали ли? А то нет. Стал бы потчевать иначе да провожать. Один неведомый, но из офицеров он. К царю, сказывал, вхожалый.
Не скажи хозяин последних слов, все бы обошлось проще, а так — вцепились в него японцы и давай выспрашивать все до самых мелких мелочей: и рост какой, и волосы, полон или худ, глаза цвета какого, говорит как. И хотя хозяин пытался все порассказать в точности, но японцы не удовлетворились ответами и чуть было не увезли его с собой в Зейскую пристань. Не будь семейцев, каюк бы, считай, ему. Но те разыграли такую комедию, что не только японцев, но и каппелевцев убедили в том, что больше ничего не знает их односельчанин. Накинулись на него с бранью, заставили поклясться здоровьем семьи своей, что все выложил как на духу.
Истово перекрестился хозяин, скрепляя клятву крестным знамением, и это подействовало. Оставили в покое коновода староверческого и, заглянув еще в два-три дома, тоже безуспешно, подались обратно сыщики в Зейскую пристань… Предполагали, что упрек за бесполезные розыски получат, но и похвалу за сообщение о неизвестном офицере, которого ведут глухоманью в город казаки-семейцы. Вышло, однако, все не так. Совершенно безразлично выслушал их полковник и с подчеркнутой холодностью процедил:
— Вы мне больше не нужны.
Но как только остался один, сразу же вытащил из сейфа карту, развернул ее на столе и впился в нее глазами.
«Завтра будут здесь. Нужно встречать!»
Убрал карту и вышел из кабинета. Поспешившего за ним адъютанта вернул обратно в штаб. Пошел по улице как хозяин, которому торопиться некуда вовсе и незачем, ибо дела идут прекрасно. Миновав несколько кварталов, свернул в тупичок, в конце которого неуклюже горбился массивный трактир с призывной вывеской: «Русская водка. Колониальные закуски». Едва начал подниматься на крыльцо, как появился хозяин, японец в китайской одежде, с подобострастной улыбкой и весь в поклоне.
— Дорогой гость, дорогой гость, — захлебисто лепетал он, кланяясь и пятясь, но, как только оказался в устланном коврами кабинете, распрямился и, дерзко глянув на полковника, надменно и негромко проговорил: — Русские таких, как вы, называют шляпами или раззявами. Я собрал золото для Японии, для Великой Японии, а где оно?! Партизаны?! Разве мало у вас солдат императора?! Честный самурай не продолжал бы жить!
— Я с приятной новостью, — пропуская мимо ушей последнюю фразу и стараясь держаться с аристократическим блеском, заговорил полковник. — Завтра в городе появится русский офицер. Знатный родом, имевший право входа в царский дворец. Я его приведу к вам, господин Киото.
— И что я буду с ним делать?! — все так же, не меняя маски раздражения, спросил хозяин трактира. — Он вернет золото? Если он руководил захватом золота, здесь не появится. Займитесь, господин полковник, поиском и уничтожением разбойников. Партизан ищите, если вам дорога честь…
Вмиг натянул маску подобострастия, перегнулся донельзя и попятился из кабинета, семеня пухлыми короткими ножками. И даже когда выпятился из двери, все еще продолжал лопотать услужливо:
— Сейчас будет, господин полковник, ваш обед. Очень скоро будет.
И в самом деле, половые, пышнобородые дауры, несли к кабинету на подносах и яства, и напитки.
Хозяин трактира Киото повторил то же самое с полковником, что тот с солдатами. Его, давнишнего разведчика, не могло не заинтересовать сообщение армейского полковника, который только один во всем городе знал, для чего здесь куплен у китайца трактир и кто такой он, Киото. Древнейшего самурайского рода, он приехал сюда по личной просьбе микадо. Великой Японии нужно золото. Ради этого он готов кормить комаров в этой дыре. Что-то, конечно, пристанет и к его рукам, но главное — просьба самого микадо. Киото не мог ослушаться. И ему просто не приходило в голову, что не своей волей и не по крупному делу пробирается в Зейскую пристань офицер знатного дворянского рода. И хотя русскую империю Киото воспринимал как взбесившийся улей, где пчелы грызут не только трутней, но и друг друга, он не думал всерьез, что ход вековой жизни может как-то измениться. Рано или поздно все уладится, матка станет откладывать яйца, трутни останутся трутнями, сторожа — сторожами, а рожденные добывать для всех пищу будут безропотно трудиться. Но пока идет грызня, можно увозить отсюда все, что можно увезти: из церквей не только золотые и серебряные оклады, но и сами иконы, ибо вкусы меняются, сегодня на икону просто молятся, завтра же она может стать древним искусством и будет стоить очень дорого, с приисков — золото, с заводов — оборудование, с полей — хлеб и сою. Но главное все же — золото. Увозить его нужно все, до самой последней песчинки. Для этого он, Киото, здесь. И он не потерпит, чтобы ему кто-то мешал. Ротозея-полковника заменят, а русского офицера обезвредит он сам. Тихо уберет. Вначале только узнает цель его приезда, чтобы знать, чего опасаться в будущем. Он не станет устраивать засады на дорогах к городу, но как только офицер появится в каком-либо трактире или кабаке, он, Киото, тотчас узнает об этом. Во всех злачных местах имелись у Киото свои люди.
Знал бы Киото, из-за какой нелепой случайности оказался здесь Левонтьев, смеялся бы от души над своими опасениями и планами обезвреживания важного противника.
Левонтьев же тем временем шагал по узкой каменистой тропе, которая то безжалостно петляла по откосам сопок, то круто поднималась вверх, то так же круто спускалась вниз, — она была настолько неловкой, что на ней вначале только встречались кабаньи следы — отура, как казаки их называют, затем им на смену появились только следы диких козлов — гуранов. Даже лоси избегали мандрык. Левонтьев уже утомился не только от бесконечных подъемов и спусков, но и от беспросветной плотности крупноствольных деревьев, закрывавших и горизонт, и небо над головой, от оранжевого багульника, густо цветущего везде, где только есть возможность ухватиться корнями либо за землю, либо за трещину в камне. Левонтьеву хотелось лечь, пусть на жесткий и холодный гранит, и, закрыв глаза, лежать бесконечно долго, но перед ним маячила спина Газимурова, мерно покачиваясь в такт неспешному шагу, и он, представляя себе высокомерно-снисходительный взгляд, которым одарит Газимуров в ответ на просьбу о привале, шагал, преодолевая себя.
Дмитрий Левонтьев не хотел унижения. Не хотел упускать отбитые у Газимурова позиции верховенства.
Ночь перемогли на косогоре, выбрав место поровней да погуще устланное хвойными иголками, слежалыми от многолетия, подопретыми, но все равно дурманно пахнущими смолой. Костра не разводили, поужинали всухомятку, и всю ночь держали казаки поочередно караул. Одного Левонтьева не трогали, но он сам часто просыпался, ощущая какую-то близкую опасность.
Почувствовал себя Левонтьев вольней, уверенней лишь к середине следующего дня, когда все чаще и чаще стали попадаться светлые поляны, на которых горбились стожки, недавно сметанные. И хотя Газимуров обходил поляны и сторонился дорог, продолжая петлять по склонам сопок, но Левонтьев уже предвкушал скорый конец трудного пути.
И верно, они вскарабкались на крутую сопку с залысиной, и Левонтьев расплескал взгляд по немерной длины долине, словно перепоясанной голубым широким поясом реки и уставленной многими десятками осанистых домов. И как-то удивительно было видеть совершенно чистую от леса и даже кустарника широченную полосу, подковой огибавшую дома и упиравшуюся концами в речной берег.
Не только села и станицы боялись и нижнего, и, особенно, верхнего лесного пала, но и город.
Что же приготовил этот отгородившийся от возможных пожаров пустырем город для него, Левонтьева?!
— Стемнеет как, пойдем, — садясь на пенек под разлапистой лиственницей, проговорил Газимуров. — Выпяливаться резону нам нету.
Казаки разместились, найдя для себя удобные места, под деревьями, а Левонтьев продолжал стоять и смотреть на город. Только размером он отличался от забайкальских казачьих станиц. Еще и тем, что торговых рядов было здесь несколько. Один, самый большой, двухэтажный, как и надлежало ему, располагался в центре, отделив себя от домов внушительных размеров площадью с коновязями, у которых стояло множество коней и подвод. Другие, поменьше, на подклетях, высились на всех четырех окраинах почти в одинаковом удалении от центра. Окружающие их площади тоже были поменьше, да и не так людны и лошадны. Все остальные дома походили на близнецов, хотя, конечно же, каждый дом имел свой размер, свои резные наличники и ставни, у каждого на свой манер было сделано крыльцо, да и двор, но расстояние скрадывало различия, однообразило дома, и Левонтьеву виделись они шаблонными, отпугивающими своей невзрачностью. Даже дымы, торчавшие из труб, казались Левонтьеву совершенно одинаковыми. Погрустнел Левонтьев от всего этого, и та уверенность, которую он почувствовал на исходе пути, стала стремительно улетучиваться.
— Уйди с плешины, — попросил Газимуров. — Углядят, не дай бог, япошки…
Нехотя отступил в лес Дмитрий, вяло опустился на хвойную мягкость под кедрачом, прилег спиной к его корявому стволу и вскорости, сам того не заметив, заснул глубоко и безмятежно.
Так и проспал бы невесть сколько, если бы не разбудил его Газимуров:
— Спускаться, паря, пора.
Темень непроглядная укрыла все вокруг, только далеко внизу густо желтели слабым светом керосиновых ламп квадратики окон. Окна те то в одном, то в другом конце меркли, освобождая место темноте. Город засыпал по-деревенски рано, чтобы так же по-деревенски пробудиться вместе с петухами.
— Пошли. Я передом, ты, паря, — приказ Левонтьеву, — в шаг за мной. Не отстань. Заблудка случится, до беды тогда недалеко.
Едва различал Левонтьев тропку, спускавшуюся с сопки, а Газимуров шагал уверенно, словно по освещенной мостовой. Время от времени только оборачивался, не отстали ли далеко казаки. Пока спускались, все окна на окраине города угасли либо закрылись ставнями, но это, похоже, совершенно не смутило Газимурова: скорым, но неслышным шагом он вел своих спутников в темноте по пустырю без колебаний.
Дома зачернели отпугивающе неожиданно для Левонтьева, а Газимуров прошел мимо двух первых, остановился у третьего и постучал двукратно в калитку, которая была вделана в глухие ворота. Брехнула во дворе собака и умолкла. Газимуров повторил двукратный стук. Собака вновь лениво тявкнула, послышались неспешные шаги, и тут только собака залилась визгливым лаем, но хозяин прикрикнул, и она, гавкнув для порядка еще раз-другой, умолкла.
— Кого бог послал на ночь глядя?
— Открывай, Константиныч. От Кырена мы. Газимуров.
— Милости прошу. Жданки все съели. От Кырена весточка давно дадена. Слава богу, стало быть, раз здесь.
Осенил себя двуперстием.
«И здесь старовер. Надежны, видно, в тайных делах эти семейцы», — думал Левонтьев, здороваясь с хозяином и проходя вслед за ним в жилую часть дома.
— Вот сюда, — заходя в просторную комнату, пригласил гостей хозяин. — Туточки окон нету на улицу, вот и закеросиним лампу безбоязно.
Впотьмах нащупал спички, чиркнул, и вот уже семилинейная лампа наполнила комнату ласковым желтым светом.
— Пока старуха пельмени стряпает, о деле поговорим, — приглашая гостей рассаживаться на лавке, что стояла у массивной печи и была покрыта домотканой холстиной, предложил хозяин. — Урок не из зряшных. Азойный урок. Это тебе не вьюн водить: ты ли застукаешь, тебя ли опередят — велика ли беда? А золото — оно кровь льет, жизни губит не жалеючи…
— Прознали хоть что-нибудь? — прервал хозяина Газимуров. — Неуж под пьяну руку не хвастанул кто, где позалук[35] оставил?
— Не удалось. Бражничают, спасу нет, а вот где жилы аль позалуки, помалкивают.
— Нам жилы не нужны. Нам намытое определять до места либо засады засадить на ходоков-золотонош.
— Я считаю, нам следует иметь своих людей в том месте, где старатели приобретают продукты. Трактир, облюбованный старателями, тоже под свой глаз возьмем, — попытался Левонтьев взять в свои руки нить разговора, но тут же получил отповедь.
— Аль людей у вас дюжин с десяток? — с искренним удивлением поинтересовался хозяин. — Четыре всего, гляжу я. Ну, у меня пяток наскребется. А кабаков здесь — две дюжины, почитай. И всюду гуляет, прости господи, рванина фартовая. Спустит за неделю все золотишко намытое да еще и последние, прости господи, штаны, одолжит харч и — в тайгу.
— Выходит, трактирщики все сгребают в свои руки?
— А то кто? Только не держат здесь. Увозят. В Благовещенск, в Читу. В Хабаровск даже. Не меньше и за кордон.
— Знать бы, кто и когда повезет, и всего делов. Кырен бы довольный был и нам не в тягость служба, — проговорил мечтательно Газимуров, но фантастическое, на взгляд Газимурова, желание Левонтьеву показалось подходящей программой для действия. Как бы ставя точку обмену мнений, заговорил категорически:
— Сейчас же распределим трактиры, чтобы взять их под контроль. Я возьму самый крупный.
— Самый крупный у китайца намедни японец перекупил. Лопоть, верно, и у нового китайская, но по морде — японец. Вывески не сменил: «Русская водка. Колониальные закуски». Сдается мне, шибко махтарый. Многих промышленников загубил, антихрист. Ох, многих, прости душу грешную. Опасливо туда…
— С него и начну, — еще более уверенно заявил Левонтьев. — Остальные — делите. Докладывать мне каждое утро, кто привлечен в помощники, что разведано. Возражений не принимаю! — резко бросил Газимурову, пытавшемуся что-то сказать. — Время разговоров осталось в тайге! Настало время действий! Строго спрошу, кто не поймет этого.
Подействовало. Безропотно принялись обсуждать казаки и Константиныч, в какие кабаки кому определяться, и когда в комнату вошла хозяйка с приглашением отведать пельменей, все уже знали, с чего начнут завтрашний день.
Провожатого с собой утром Левонтьев не взял. Спросил лишь, в какой стороне трактир. Искал не так уж долго. Вот он, всем видом своим говорящий о процветании. Манит и основательной домовитостью, и яркой нелепой вывеской. Неспешно Левонтьев поднялся на крыльцо и только взялся было за ручку двери, она отворилась, а через порог шагнул навстречу низкорослый, упитанный японец в китайском халате. На круглом, как полная луна, лице его светилась добродушная улыбка.
«Хозяин встречает! — настороженно подумал Дмитрий Левонтьев. — Есть наблюдение за улицей. Неспроста. Ухо востро нужно держать».
Но он не успел даже опомниться, как оказался в капкане. Отступив на шаг и склонив голову, хозяин пролепетал подобострастно:
— Господина гостя, милости проходите…
Вошел, естественно, куда деваться. И тут рослый даур с лопатоподобной бородой жестом пригласил Левонтьева следовать за собой. Провел в отдельный кабинет и оставил одного.
«Странно. Кабинет отдельный. Я же одет, как обычный старатель, — размышлял Левонтьев, оглядывая мягкие, алого бархата, стулья, приставленные к дорогой работы столу; диван, тоже обитый алым бархатом, экзотические рисунки на голубом гобелене, которым были задрапированы стены кабинета, и вдруг взгляд его, скользивший по райским птицам и смазливым китаянкам, наткнулся на потайную дверь. — Странно! Отдельный кабинет! Потайная дверь…»
Достав из кармана ревнаган, проверил на всякий случай, полон ли барабан.
Но напрасными показались Левонтьеву все тревоги, когда в кабинет бородатый даур внес на подносе штоф водки, вокруг которого, как услужливые слуги, толпились чашечки и тарелочки разной формы и раскраски с закуской.
— Если теперь деньги нету, когда тайга воротишься, дашь мало золота. Расписку только пишешь, если карман пустой.
«Вот в чем суть приветливости. Ввести в должники», — успокоенно подумал Левонтьев, налил рюмку водки и ответил, подражая забайкальскому говору:
— Можно, паря, и расписку дать. Завсегда можно. Фарт схвачу, позалух ладить не стану, сполна расплачусь.
— Фарт где? Один скажет — на Чалумане, другой Нарангу назовет. Ты куда идешь?
— Есть место, — с хитроватой неопределенностью ответил Левонтьев, вовсе не понимая, что выдал себя с головой.
Ему бы поинтересоваться, о каких местах даур сказал. Не существовало в тайге ни Чалумана, ни Нарангу, а были Чульман и Нерюнгри, названия которых умышленно исковеркал даур. К тому же до них от Зейской пристани было верст пятьсот, и никто отсюда туда не ходил. Там своя база — Тында. Но не знал этого Левонтьев. Не впился в даура взглядом любопытно-жадным, как поступают обычно старатели, услышав о новом для них золотоносном районе, не стал выпытывать, какой туда путь самый легкий, а равнодушно опрокинул рюмку и закусил маринованным стебельком бамбука.
— Хозяин слышал, много золота в Чалумане. Шибко много.
— Погляжу, — все с той же хитроватой неопределенностью ответил Левонтьев, отправляя в рот ломтик запеченного в тине сала. — Погляжу. Может, Чалуман облюбую.
Поставив последнюю чашечку с каким-то темным соусом, даур поклонился почтительно и вышел.
«Ишь ты, даже совет дают, куда идти. Так и ведут дело, так и процветают», — думал Левонтьев, выбирая, что более подходит для еды. Не плавники же акулы глотать?
Налил еще рюмку. Но едва не упустил штоф: пальцы не держали, они вовсе не чувствовались.
«Да что же такое?!»
А через миг уже не подчинялись ему ни руки, ни ноги. Сознание, однако же, было ясным, и оттого трагичность положения виделась в полном объеме.
Щелкнул замок входной двери кабинета, почти одновременно отворилась потайная дверь, и в кабинет вошел хозяин, сопровождаемый двумя такими же низкими и плотными японцами, одетыми тоже в китайские халаты.
Сколько было силы воли у Левонтьева, всю он сконцентрировал на том, чтобы побороть ватность руки и вытащить из кармана ревнаган. Он физически ощущал в ладони твердую рукоятку, он нажимал на спусковой крючок и видел, как падают круглолицые японцы… Но рука его едва только шевельнулась.
Осторожно, как тяжелобольного, подняли Левонтьева японцы и понесли темным, без окон, узким коридором, протиснулись в такую же темную, тоже без окон, комнатку, где стоял лишь стол с горевшей на нем трехлинейной лампой, возле которой лежал небольшой кожаный футляр. К столу приставлены два стула. Один жесткий, грубой работы, другой полумягкий с высокой спинкой, как у трона, и голубого бархата сидением.
Японцы посадили Левонтьева на жесткий стул, положили на стол руки ладонями вниз, как велит иной раз строгая учительница расшалившимся ученикам, поклонившись хозяину трактира, вышли из чулана, плотно прикрыв за собой дверь.
Японец вкрадчиво, как показалось Левонтьеву, прошел к своему стулу, с такой же вкрадчивостью раскрыл футляр, и сердце Левонтьева екнуло при виде разной длины и конфигурации игл, блестевших ровным рядком в гнездышках красного бархата.
«Это не плетка Кырена!»
Взяв самую тонкую иглу, японец принялся рассматривать ее, поворачивая перед лампой, словно пытаясь определить, есть ли какой дефект, остался доволен осмотром, взял пальцы Левонтьева в свою пухлую, но, как почувствовал Дмитрий, сильную руку и спокойно, чуть вращая иглу, запустил ее под ноготь. Болью пронзило все тело, дикий вскрик невольно выплеснулся в полумрак комнаты, японец выдернул иглу и очень спокойно упрекнул:
— Офицера, а так кричит. Совсем не больно. Шибко больно станет, если офицера не скажет, кто и зачем прислал его сюда.
Левонтьев не видел никакого смысла таить цель своего здесь пребывания, он боялся лишь повторения того, что творил с ним и Хриппелем есаул: ответ не удовлетворит японца, и каждый новый вопрос будет сопровождаться уколом иглы. Это действительно, как говорил в Овсянке Газимуров, не удар плеткой. С ума сойти можно от адской боли…
— Обстоятельства появления моего здесь столь же печальны и нелепы, как все, что происходит сегодня во всей России. Я готов рассказать все, как на исповеди, если господин…
— Киото.
— Если господин Киото соблаговолит выслушать.
— Киото готова.
Подробно, не скрывая даже своих разочарований в монархии, пересказал Дмитрий Левонтьев о делах Тобольских, затем, не избегая гневных слов, поведал об есауле Кырене и его насильном задании заниматься здесь самым настоящим грабежом.
— Я — пограничник. Служба моя заключалась в борьбе с контрабандным хищением золота, теперь же я, волею рока, сам низвержен на самое дно преступности, — закончил рассказ Левонтьев. — Можете пытать, ничего иного добавить не имею, ибо сказанное мной — истина.
— Кырен-есаул — злой. Киото — хорошо. Киото верит. Киото отпускает офицера. Только помнит пусть офицера: наша разговора — наша тайна. Очень плохо, если тайна уйдет!
Крикнул что-то тягуче, дверь моментально отворилась, вошедшие японцы подняли Левонтьева и понесли обратно по узкому темному коридору.
В кабинете все оставалось по-прежнему. Даже недопитая рюмка водки была нетронута. Киото достал из кармана флакончик, открыл пробку и поднес флакончик к носу Левонтьева. Пронзительный запах ландышевого цветка, истомное кружение головы, и тут же руки и ноги начали обретать силу. Левонтьев сунул руку в карман, обхватил твердую рукоятку револьвера… Но хватило разума оставить револьвер в покое.
Киото все же понял намерение Левонтьева и предупредил:
— Офицера станет стрелять Киото, Киото может убить офицера. — Спокойно повернулся и вышел из кабинета в потайную дверь.
А через четверть часа в кабинете появился даур-половой. Он либо и в самом деле не знал о том, что здесь происходило, либо ловко играл свою роль: удивлялся тому, что гость мало ел и пил, предлагая другие, по вкусу, закуски, а когда Левонтьев, от всего отказавшись, поблагодарил за любезность, тот положил перед Левонтьевым заготовленный договор: хозяин трактира кормит гостя и снабжает его продуктами за два фунта золота.
— Сильно дешева, — искренне восхищался нескаредностью хозяина даур. — Другие — жадные. Три фунта отдай.
Левонтьев подписал, где ему было указано, условился об ужине и поспешил из трактира. Ему о многом предстояло подумать. Положение, в какое он попал, казалось ему как предельно нелепым, так и смертельно опасным. Он был буквально озлоблен на себя. Авторитетный в пограничных войсках офицер, а авторитет рождается не сам по себе, превратился в тряпку, о которую всякий может вытереть ноги, а затем вышвырнуть за ненадобностью.
«Нет! Они еще не знают меня! — грозил Левонтьев есаулу и особенно трактирщику-японцу, который даже револьвера не отнял, ушел как от совершенно никчемного и безопасного человека. — Я еще постою за себя!»
Но как оградить свою честь от поругания и покончить со столь неловким положением своим, он пока еще не знал. Шел по пыльным улицам города, распалял злость. А она — не спутник толковым мыслям.
Решение возникло внезапно. В скобяной лавке, куда он вошел, можно сказать, бесцельно. Увидел ее — и вошел.
Лавка битком набита разного размера лопатами, кирками, косами, вилами и другими необходимыми в хозяйстве, но главное, старателям вещами. Покупателей немного. Двое крестьян-бородачей выбирали ножовки, обмениваясь новостями.
— Слышь, а Семен-трактирщик так и не объявляется. Умыкнули, должно…
Пронзила Левонтьева дерзкая мысль, даже жарко сделалось вдруг в лавке. Вышел на улицу.
«Умыкнули». «Не объявлялся». Сегодня же взять японца! Сегодня!»
Теперь он ходил по городу уже с явной целью: если кто за ним наблюдает, собьется с толку. Заходил в лавки, приценивался к товарам, заговаривал с мужиками, предлагая создать артель старателей, и даже после того как повстречался с Газимуровым и сказал ему о своем решении, продолжал ходить от трактира к трактиру, от лавки к лавке до самого ужина.
В трактир возвращался, перемогая страх. Нет, он больше не хотел сидеть в комнате без окон, не хотел видеть изящной отделки футляр с иглами, боялся нового укола под ноготь, считая, что просто не выдержит его, но он сам поставил условие Газимурову действовать лишь после того, как войдет в трактир, поэтому усилием воли заставил себя подняться на крыльцо и открыть дверь.
Его не пригласили в отдельный кабинет, Киото не вышел встречать, и это немного успокоило Левонтьева. А когда половой указал ему на свободную табуретку за общим столом и поставил штоф водки и убогую закуску в небрежно помытых тарелках, не страх, а брезгливость и обиду за такое невнимание пришлось подавлять в себе, чтобы остаться в этом прокуренном, грязном и пьяном сарае.
Поспешно налил водку в захватанный жирными руками стаканчик и, преодолевая тошноту, торопливо проглотил обжигающую сивуху. Налил еще один, и острота чувств притупилась, окружавший его пьяный мир и грязность стали восприниматься более терпимо.
Вскоре с ним заговорили, и он, стараясь подражать газимуровскому выговору, отвечал на расспросы охотно, сам интересовался тем, в каких местах больше вероятности «схватить фарт».
Оборвал этот «ознакомительный» разговор грубым вмешательством похожий своим телосложением на гориллу казак:
— Ты вот что уразуми: кабатухой не укроешь белой кости своей, но все одно беру тебя в свою артель. Грамотный, счетоводить станешь. Вот прогуляю остатный фунт песку и — айда. Ну, как? По рукам? Это я предлагаю — Никита Фарт!
Спрыснули состоявшийся сговор. Не стаканчиками, а стаканами гранеными. Левонтьев уже начал хмелеть, но крепился предельно, запоминая все, что спьяну выбалтывали старатели. Поднялся из-за стола, когда уже трактир наполовину опустел, а Никиту Фарта, который не в меру расходился и стал бить посуду, дружки-артельщики с трудом скрутили и выволокли из трактира.
До самого дома Левонтьев никого не встретил и растревоженно думал:
«Неужто Газимуров не понял меня?»
Постучал двукратно в калитку, и она тотчас отворилась, словно нетерпеливо ожидали его прихода.
— Газимуров дома? — спросил Левонтьев хозяина, как только тот запер на засов калитку.
— Где ж ему быть, прости господи, — испуганно-горестным голосом выдавил Константиныч. Вздохнул и спросил жалостно: — Что теперича будет, господи? Дом спалят японцы, петлю всем на шею. За какие грехи, господи?
— Взяли, стало быть, трактирщика?
— Приволокли, прости господи…
Борода у хозяина тряслась, как в сильном ознобе, и это особенно обрадовало Левонтьева: значит, в яблочко выстрелил, значит, многого можно будет добиться, подчинив японца себе. Он ликовал, предвкушая увидеть надменного японца униженным, просящим пощады. О возможных трагических последствиях свершенного Левонтьев не думал. Эти мысли появятся у него лишь на следующее утро, не в хмельной голове. А пока, гордый собой, он вошел в комнату, где за самоваром сидел Газимуров и, нарушая принятую здесь этику, потребовал немедленного доклада о выполненном приказе.
Отставил Газимуров чашку, посмотрел насупленно на Левонтьева, ответил односложно:
— Никто, должно, не видел.
— Сопротивлялся?
— Заверещал, скакнул гураном и давай лягаться. Оплеуху смазал ему, под белы рученьки и — в баню. Двух на часы поставил. Не дай бог, удерет…
— Молодцом, — похвалил Газимурова Левонтьев. — Стерегите пуще глаза.
Утром, увидев трясущуюся бороду хозяина и угрюмое лицо Газимурова, спросил с ухмылкой:
— Что, Константиныч, не перемог страх?
— Дык, как тебе, паря, разъяснить? Зазря ты все затеял. Шила в мешке не утаишь. Проведают японцы, вот те хрест, проведают. Каппели им помогут. Жди с часу на час гостей. На волоске жизнь наша.
Такой откровенный упрек и такой откровенный панический страх хозяина дома озадачил Левонтьева, а чем больше он осмысливал положение, им самим созданное, тем неуверенней себя чувствовал.
Не знал Левонтьев, что об исчезновении Киото давно уже доложили полковнику, но тот даже обрадовался тому известию. С исчезновением Киото погибнет и правда об отбитом партизанами золоте. Нет, полковник не собирался поднимать гарнизон. Но откуда было ведать в доме, где держали взаперти Киото, о намерениях полковника, и тревога, нагнетаемая хозяином, нарастала подобно снежному кому. К тому же совершенно ничего не получалось у Левонтьева с допросом. Точнее, получалась настоящая комедия. Левонтьев требовал от Киото, чтобы тот указал, где спрятано золото, но японец лепетал лишь одно и то же:
— Я, господин офицера, совсем не богатый. Все отбирает полковник. У него золото. Если господин офицера у него спросит, полковник скажет: «Киото правду говорит».
И даже на вопрос, кто из других трактирщиков имеет золото, отвечал тем же лепетом. Левонтьеву хотелось от всей души размахнуться и ударить всласть по этому лоснящемуся от жира жалобно-грустному лицу, но он только брезгливо морщился.
«Кулак — дело Газимурова».
До самого обеда длился в бане спектакль одного актера. В безнадежном отчаянии вернулся Левонтьев в дом, а там — будто покойник лежит. Константиныч то и дело крестится, пришептывая: «Прости душу грешную». Лицо, словно у желтушного. В глазах тоска пронзительная. Положение, как бы сказал отец Дмитрия, хуже губернаторского. Не подает, однако, Левонтьев вида, что тоска сердце гложет. Распоряжается:
— Отправь, Газимуров, казака одного на разведку. Кроту незрячему впотьмах сидеть сподручно, а нам негоже. И давайте обедать.
Ели молча и безаппетитно. Оживились немного, когда вернулся разведчик и сообщил, что в городе покой и благодать. Только Константиныч не успокоился.
— Хватятся еще. Как пить дать — хватятся. Залютуют.
— Пока суд да дело, давай, Газимуров, в баню, — приказал Левонтьев. — Побеседуй с японцем. Лицо не повреди только. Поаккуратней.
И газимуровская беседа оказалась без проку. А на следующий день повторился в бане спектакль. Твердил японец как заведенная кукла:
— Я, господин офицера, совсем не богатый. Все отбирает полковник… Киото правду говорит.
Хоть плюнь на все и отправляй японца к его праотцам. Не отпускать же его? Тогда уж точно мученической смерти не миновать. А кому такое по душе.
— В тайгу его? — спросил Газимуров, улавливая настроение Левонтьева. — Сделаем так, комар носа не подточит.
И тут мелькнула жестокая мысль: раздеть донага, открыть окна и двери, а чтобы не закричал, кляп в рот. Не захочет помирать, подчинится.
— Не в тайгу. Пусть здесь комары свои носы потешат, — решительно ответил Левонтьев. — Раздеть, связать, рот заткнуть.
Подождал, пока выполнят казаки его приказ, поставил рядом с головой Киото тазик и посоветовал усмешливо:
— Надоест комедию ломать, постучи головой в таз. — И казакам бросил: — Всю ночь втроем охранять. Стукнет в таз — зовите меня.
Повернулся и шагнул к двери. Казаки — следом.
— Глаз да глаз. Не дай бог, сбежит. Если что, лучше придушить, — еще раз предупредил Левонтьев казаков и направился было к дому, но услышал доносившийся из бани стук. Остановился, поднял руку, чтобы притихли все. Стук повторился.
«Ишь как быстро сообразил, что к чему, — удовлетворенно подумал Левонтьев. — Не успели еще комары налететь».
Вернулся в баню и вынул кляп. Спросил резко:
— Будем беседовать?!
— Иначе я не стал бы вас возвращать. Прошу развязать меня и распорядиться, чтобы мы остались одни. Совершенно одни, — без малейшего акцента заговорил Киото. — Нам не понадобятся свидетели.
— Хорошо.
— Вы — офицер, я — самурай. Самим богом предписано нам на роду блюсти верность императору, защищать его до последней капли крови. Именно эта верность и привела меня сюда. В ином положении вы. У вас нет императора, вас плеткой пригнал сюда какой-то безродный есаул. И вы не задумывались над тем, почему такое могло случиться?
— Много раз, — невольно попадая под влияние уверенного в себе японца, ответил Левонтьев. — Творится на Руси невообразимое…
— Самое подходящее слово. И для меня тоже не вполне ясны силы, которые породили хаос, но я предвижу будущее вашей нации. Она потеряет себя. Нет-нет, не пытайтесь возражать, а лучше последите за ходом моей мысли и тогда поймете, сколь логичен мой вывод. Ваша революция под корень изведет дворянство, эту самую благородную и мыслящую часть нации. Здесь у вас нет, что возразить, ибо вы прекрасно понимаете, что даже вас ждет смерть. Есаул убьет вас, как и вашего сотоварища, как только заездит вас. И это, заметьте, произойдет в стане ваших единомышленников. А как поступает с дворянами и даже их семьями чернь, не мне вам рассказывать. Цвет нации, таким образом, срублен будет под корень. Но беда для вашей нации не только в этом. Сильные люди, целеустремленные люди в критические моменты жизни страны, это подтверждает история, выходят на арену. Золото отбил у нас Кошелев. Это не пьяница-старатель. Это — личность. Боровницкий здесь еще был. Создавал, как они называют, ревком. Тоже — личность. Они погибнут в тайге, погубят вместе с собой сотни честных и сильных людей. Останутся Кырены. Останутся такие, как тот, у кого вы останавливались в Овсянке — предатели и трусы. Теперь давайте порассуждаем вот о чем: ценою огромных потерь дворянство с помощью цивилизованных стран одолеет чернь, но и тут возникает новая, неведомая прежде проблема. Плеткой подчинивший вас себе есаул уже почувствовал власть, почувствовал себя рабовладельцем. Только смерть избавит его от мании величия. Без нашей помощи — Япония и Америка в Сибири, Англия, Франция, Германия в европейской части — не навести должного порядка вам в своей стране… Потребуется смена многих поколений, пока нация обретет прежние благородство и силу.
Дмитрий Левонтьев слушал чистую, с прекрасным выговором речь японца и поражался смелости оценок и выводов. Какими осторожными казались ему теперь те споры, которые возникали вечерами в салоне между его отцом и Михаилом Богусловским. А тогда они шокировали Дмитрия своей оголенностью и категоричностью. По-новому воспринимал он все пережитое за последние месяцы. А впереди что? Беспросветность.
Не мог, конечно же, не понимать Левонтьев тенденциозности в логическом построении японца, но видел в нем и весьма точные выводы.
Киото тем временем продолжал:
— Вы накормите тьму комаров моей кровью, вашу кровь высосут комары где-нибудь в тайге, если мы не поймем друг друга. Я предлагаю: вы поддержите меня и моего императора, а когда чернь будет уничтожена, я и мой император поможем вам установить прежний порядок, обуздать непокорных.
— Я давал присягу царю и отечеству.
— Но вы же рассказывали, что разочаровались в монархии. Или то была ложь, порожденная боязнью перед болью?
— Нет. Слово офицера.
— Тогда о чем речь? Не думаете же вы всерьез цепляться за то, чего нет? К тому же у вас невелик выбор. Комары или… сегодня же ваших церберов предупредят: если они хоть пальцем тронут вас, не просто отправятся на суд к своему богу, но прежде проклянут тот день, когда мать родила их. Я предоставлю возможность вашим казакам перехватить нескольких золотонош, а золото вы доставите не есаулу, а самому Семенову. Этому я посодействую. Тогда вы сможете отомстить и есаулу-плеточнику и церберам за свою попранную честь.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Стародубцев встретил Иннокентия Богусловского с обычной вальяжностью. Только на этот раз не предложил сесть, а многозначительно изрек:
— Большие дела, молодой человек, ждут вас. Я бы так сформулировал: большой государственной важности.
«Наконец-то», — подумал Богусловский, но вместо удовлетворенности, неожиданно и безотчетно, охватило его тоскливое предчувствие чего-то недоброго. Сильное, до тошноты, до холодной испарины на лбу, до безвольной ватности в руках.
Озлился на себя Иннокентий. Ведь он ждал решения своей судьбы уже несколько дней. Ждал с нетерпением. После того как деблокировал сводный отряд Кокандскую крепость и выбил из старого города Иргаша с правительственными органами Кокандской автономии, Стародубцев привез Богусловского в Ташкент, поселил в добротном караван-сарае и каждый день водил «по начальству». Богусловского внимательно слушали, когда он рассказывал об обстановке на границе, о расколе казаков, его самого знакомили со всем, что происходит в Туркестане. Особенно, как понимал Богусловский, всех беспокоит то, что в Закаспии держится только Кушка, все остальное захвачено контрреволюцией, а Дутов, недавно выбитый из Оренбурга Красной Армией, копит силы в Тургайской степи, чтобы вновь захватить город. А это приведет к тому, что Туркестанская республика окажется полностью отрезанной от России…
После таких бесед, которые повторялись в своей основе в каждом новом кабинете, Богусловский возвращался в устланную кошмами и обитую коврами комнату в караван-сарае и ждал следующего дня. О многом он передумал, много планов, интересных с его точки зрения, рождалось в долгие часы ожидания.
И вот ему сообщают: ждут дела. Радоваться бы, а оно вон как обернулось. Тоска неуемная навалилась.
Стародубцев же, вовсе не замечая состояния Богусловского, продолжал:
— Решили мы доверить тебе ответственное дело: организацию охраны границы Туркреспублики в Семиреченской области на наемно-добровольном принципе. Подберем мы тебе десяток крепких помощников из красноармейцев-коммунистов, из военспецов, и, как говорится, — большого полета.
И разочарованность, и удовлетворенность, даже гордость — все одновременно. Молодо-зелено, а уже командир, если по прежнему штату, отряда, а то и выше бери — отдела. Но лелеял мечту стать штабным работником. Была она, согревала душу, будоражила мозг и вдруг — совершенно неожиданное, негаданное.
Такова армейская доля. Пограничная доля. Несогласен если, кто тебя держать станет? Скатертью дорога на все четыре стороны. Но тогда ты, хочешь или нет, станешь если не врагом, то и не союзником рождающейся свободной России.
— Срок отъезда?
— Сутки на сборы. До станции Бурное — в вагонах. Дальше путей нет, дальше — верхом. Маршрут определите сами. Достаточно будет времени приглядеться и к подчиненным, оценить возможности каждого. Мандат получите с большими полномочиями, но не забывайте: полномочия останутся полномочиями, если пренебрегать решительной настойчивостью. Думаю, понятно?
Богусловский даже улыбнулся, вспомнив встречу со Стародубцевым и представив себя на его месте.
— Не берите под сомнение мой совет, — еще настойчивей заговорил Стародубцев, осерчав на улыбку Иннокентия. — Интеллигентская мягкость сегодня не ставится ни в грош. Если хотите быть на высоте положения — наступайте, атакуйте, не давая возможности возражать или даже советовать. Повторяю: только твердость может гарантировать успех. Весь мой опыт этому учит.
Не стал полемизировать Богусловский. У него есть свое мнение, но этот самоуверенный человек не станет его слушать, а время дорого, тратить его на словопрения очень жалко. Понимал, однако, Богусловский, что поступал неверно, молчаливо выслушивая и, стало быть, поддерживая не столько целеустремленность, сколько наглую чванливость. Он, Богусловский, жалея время, промолчал, другой промолчит, третий, глядишь, человека, и без того не обремененного скромностью, вовсе не узнать. Непогрешимым в поступках себя видит, не терпит никакого возражения. А многим и непонятным будет, отчего это, как родилось, как выпестовалось? От лености нашей. Делай, мол, свое дело добротно, а остальное — мелочь, суета сует. Но может, и от робости?
— Если все ясно, — продолжал тем временем Стародубцев, — тогда — за дело.
Вскачь понеслось время, закусив удила, не передернешь повода, не осадишь. Увы, далеко не все чувствовали эту стремительность. Накладные выписывались и визировались с черепашьей неспешностью, а каптенармусы, прежде чем выдать положенное, долго вчитывались в каллиграфические строчки, словно в руках держали папирус с неведомыми иероглифами и пытались распутать великую тайну седой древности. Обстоятельными, раздумчивыми были и напутственные беседы. И, как казалось Богусловскому, вовсе лишними, ибо все они заканчивались примерно одной и той же фразой:
— Опыта пограничного вам не занимать, на месте сориентируетесь и станете действовать сообразуясь с обстановкой…
Но как бы ни волокитилось время, в урочный час все было погружено в вагоны, прицепленные к попутному составу, паровоз пронзительно визгнул, прошипел змеино паром, натужно лязгая, пробуксовал раз-другой, затем захлебывающийся лязг прокатился от вагона к вагону, и поезд тронулся.
— Можно и отдых устроить себе, — вроде бы не командуя, а лишь советуя, проговорил комиссар Владимир Васильевич Оккер. — Мы заслужили отдых…
Предупреждая возможное возражение командира, снял фуражку, выгоревшую, с потрескавшимся козырьком, бросил ее на нары и добавил утвердительно:
— Да, заслужили…
Богусловский собирался сразу же, как тронется поезд, провести совещание, а предложение Оккера нарушило его планы. Задело это командирское самолюбие. Но сдержался Богусловский и, видя, как поспешно принялись вслед за Оккером красноармейцы и краскомы распоясываться да снимать фуражки, бросая их на облюбованные места, тоже снял фуражку.
Увы, смежил веки Богусловский лишь под самое утро. Вначале думал об Оккере, который безошибочно уловил настроение всех и преподнес ему, командиру, приличный урок. Нет, не принимал душой поступка Оккера Богусловский, но в то же время не мог не согласиться с разумностью его совета. Приказа, по сути…
С Оккером его познакомили только накануне отъезда. Представили коротко:
«— Командир». — Кивок в его, Богусловского, сторону.
«— Комиссар». — Кивок в сторону Оккера.
Оккер был в красноармейской форме, изрядно поношенной и основательно выгоревшей, но затрапезно не выглядел: форма сидела на нем ловко. Богусловский почувствовал сразу волевую силу в этом человеке.
Комиссар подал руку. Жесткую.
«— Потомственный рабочий. С Красной Пресни».
«— Пограничник. Тоже потомственный».
«— Вот и добре. Думаю, сработаетесь, — удовлетворенно констатировал познакомивший их начальник. — Должны. Точнее, обязаны».
«Если самовольничать и дальше станет, — думал теперь под стук колес Богусловский, — не сработаемся. Оттеснить себя не дам…»
Он долго обдумывал, как ему вести себя с комиссаром, чтобы и авторитета его не рушить, но и свой блюсти безущербно, но постепенно мысли его переключились на более важное: он стал систематизировать все напутствия, но больше всего думал о том, с чего начинать в Семиречье и каким маршрутом туда добираться. От железной дороги путь поначалу ясный: Аулие-Ата — Пишпек. А дальше? На Верный через Каскелен? А может, на Чолпон-Ату, а затем в Кеген, Чунжу, Джаркент. Там казачий пограничный гарнизон. Там наверняка казаки продолжают охранять границу. Но Верный — центр Семиреченской области. В нем — большая крепость. Обосноваться рекомендовали там и уже оттуда посылать на границу уполномоченных. Вроде бы верно все, но от границы Верный далековат. К тому же, как говорили перед отъездом, там кулацко-байские элементы имеют крепкие позиции, пользуясь поддержкой большой части семиреченского казачества.
Вот и выбирай. Вот и прикидывай, как выгодней поступить, где разумная середина?
А поезд на перегонах лязгал надоедливо колесами, на остановках же осмотровые бригады шумной стаей налетали на состав, стучали молоточками по колесам и осям, громко перекликались — все это не давало ни сосредоточиться, ни заснуть.
И тоска не проходила. Притупилась, как хронический недуг, ослабла, но продолжала скрести сердце.
Утро тоже не внесло ясности. Позавтракав всухомятку, расселись чинно по нарам на совещание. Вопрос пока один: маршрут. И сразу началась перепалка. Одни ратовали за степной путь, другие — за горный, мимо Иссык-Куля. Противились из-за воды, корма для коней, возможности обеспечить питанием себя. Помалкивал лишь Оккер, с иронией поглядывая на разгоряченных товарищей. И только когда выговорились все не единожды, поднялся с нар и, встав рядом с Богусловским, который терпеливо слушал споривших и внимательно вглядывался в их лица, заговорил с легкой усмешкой:
— Спора нет, предмет разногласий заслуживает пристального внимания. Пристального, однако же не главного. Считаю, определять путь наш должна политическая обстановка. Да-да, именно — политическая! — жестко закончил он и глянул на Богусловского, чтобы определить его отношение к сказанному.
Богусловский кивнул одобрительно.
«Смышленый. Уверенный. На Костюкова чем-то похож».
А Оккер продолжал:
— Второе направление нашей мысли — охрана границы. Где удобней для этой цели нам обосноваться, где лучшая возможность привлечь добровольцев? Лошадей, уверяю вас, мы сможем прокормить. Себя тоже. Если живы будем.
Примолк вагон. Это тебе не сено с овсом, тут поразмыслить нужно. Крепко поразмыслить. Да и знать побольше того, что они знают о Семиречье.
Поспокойней заговорили, повесомей слова стали. Но мысль одна — окончательно определить маршрут в Пишпеке.
До конечной станции добрались без особых происшествий, если не считать довольно долгой стоянки в Арыси. Их вагоны поставили на запасный путь и, казалось, забыли о них. Но когда Богусловский, сопровождаемый Оккером, который для верности был при сабле, маузере да еще с карабином за спиной, предъявил мандат, а Оккер, словно по дурной привычке, от нечего делать, начал перекидывать, как игрушку, деревянную кобуру маузера из ладошки в ладошку, начальник станции тут же распорядился прицепить вагоны к отходящему на Чимкент составу.
— Вот видите, а вы не хотели идти, — упрекнул Богусловского Оккер, когда они, довольные удачной концовкой визита, возвращались к своим вагонам. — Нет, вы явно оторвались от жизни в своем пограничном гарнизоне. Она, Иннокентий Семеонович, ой как круто поменялась.
— Никогда я не соглашусь с вами, — возразил Богусловский. — Если человек остался служить, он должен выполнять свое дело. Революция же не означает хаос.
— Служат, но вредят. Пакостят каждый в меру своих возможностей и способностей.
— Увольнять таких следует. Они же дискредитируют самую суть революционного переворота.
— Спуститесь, Иннокентий Семеонович, на землю грешную с памирских высот.
— Нет-нет, ни понять, ни тем более согласиться не смогу никогда. Сбросив рабство, задохнуться может Россия в неурядицах деловых. Каждый должен делать свое дело и отвечать перед обществом за него полной мерой. А если всякий раз, чтобы решилось дело, маузером пугать — далеко зайдем. Не приемлю этого!
Тем не менее в Чимкенте, где их вновь отцепили и загнали в тупик, Богусловский не стал ждать, пока о них вспомнит само железнодорожное начальство. По полной форме, с шашками и маузерами, нанесли Богусловский с Оккером визит в городской Совет. Итог радостный. Овес и сено, хлеб, крупы, консервы выделены обильно, а начальнику станции велено немедленно сформировать, пусть неполный, состав и отправить в Бурное…
Для верности к начальнику станции Оккер сходил сам. Это тоже возымело действие: вскоре состав из десяти вагонов выкатил из Чимкента и ходко понесся мимо пыльных полустанков сквозь бесконечную пыльную степь.
Метко окрестили эту чрезмерно обласканную солнцем и забытую богом, жаждущую получить хоть глоток воды пустыню: Голодная степь. И не всю ее им удастся пересечь в вагоне, предстоит еще по этому безжизненному горячему однообразию ехать верхом…
Но когда они выгрузились и, уложив в повозки фураж, продукты, оружие с боеприпасами, тронулись на восток, к своему удивлению и огорчению, выяснили, что степь не безжизненна, а обжита, исполосована дорогами, не очень торными, но заметными. А им говорили, что до Аулие-Аты проводника брать не нужно — дорога одна, с пути не сбиться.
Сколько раз Богусловский упрекал себя за то, что поверил этому утверждению, особенно когда подъезжали к очередному развилку и начинали гадать, куда направить коней. Благо что встречались в степи и юрты. Правда, не каждая юрта гостеприимно откидывала полог и зычный голос успокаивал злобных собак, иной раз так никто и не отзывался.
Двигались с горем пополам через пустыню все же в нужном направлении, и, чем ближе подъезжали к Аулие-Ате, тем чаще попадались не только одиночные или парные юрты, но и целые аулы из юрт, а то и из глинобитных плоскокрышных домишек. Встречали тоже по-разному. То барана зарежут и кумысом вволю напоят, а то еще издали спустят свору собак.
К таким юртам не сворачивали, если даже очень нужно было расспросить дорогу.
На исходе степи стали попадаться хохлацкие и староверческие села — Алексеевки, Николаевки, но чаще Подгорновки. Осанистые, с пышными садами, с вольными пашнями. Неприветливые села. Только когда видели всадники красный флаг, обычно на выселках, — подъезжали безбоязненно. Коммунары охотно делились с пограничниками небогатой своей пищей, не жалели сена лошадям и несказанно радовались, когда получали от отряда две-три винтовки и цинк патронов.
Тревожные беседы велись за вечерним чаем. Коммунары рассказывали, что кулачье сбивается в шайки, обзаводится не только винтовками, но и пулеметами. И все она — землица. Пусть не осилю, пусть овсюгом зарастет, но не отдам никому. Мое есть мое.
— Не взять добром у них, что нахапали, у нас же нахапали, — с сожалением говорил кто-либо из коммунаров, и все соглашались с ним.
В Аулие-Ате Богусловского несколько успокоили, заверив, что имеют достоверные данные: крепость в Верном у красных казаков. Но уже через несколько дней, когда они добрались до Пишпека, там узнали совершенно противоположное: крепость поднялась против большевиков. Какие дела в пограничных гарнизонах, никто толком ничего не знал. Богусловский собрал совет.
На этот раз никто уже не говорил об овсе и сене. Путь определяли взвешенно. Приняли горный вариант — тропами Пржевальского. Главный фактор таков: бедные чабаны дружелюбней домовитых хохлов-переселенцев и зажиточного казачества, к тому же киргизы менее вооружены.
Пару дней на сборы. Брички заменены вьючными лошадьми, строевые кони перекованы, потники старательно почищены, а к седлам прикреплены накрупные ремни (чтобы на спусках не съезжало седло на холку и не наминало ее) из сыромятной кожи, основательно пропитанной дегтем. Сена с собой не стали брать, ибо все предгорье уже было в густом разнотравье, среди которого рваными островами алели маки. Да и проводник, взявшийся показать дорогу до Иссык-Куля, утверждал, что травы по дороге будет вволю.
Первые километры среди изумруда трав и пламени маков радовали путников, но вскоре холмистое однообразие начало угнетать, и глаз невольно тянулся вдаль, к нахлобученным на вершины снежным папахам. Но пламенные маковые острова назойливо лезли в глаза, никак от них не отделаешься.
— Смотришь на маки, и оторопь берет, — словно серчая на кого-то, говорил Оккер. — Оттого, думаю, столько легенд о маке… Своя у каждого народа.
— Только суть у них у всех одна, — поддержал разговор Богусловский. — Капли крови борцов со злыми силами, с захватчиками, с притеснителями, борцов не за свое счастье, а за счастье всех.
— Логично бы тогда святыми почитать следовало эти цветы, — усмехнулся Оккер. — Так нет, рвут их люди охотней других, топчут без всякой жалости эти огненные капли крови великих храбрецов. Парадокс…
— Не вижу несоответствия со здравым смыслом, — возразил Богусловский. — Жить лишь памятью, не означает ли это петь только панихиды? Пусть памяти останется святость, жизнь пусть живет. Полно живет, во весь размах. По мне, так каждое поколение просто обязано оставлять о себе легенды.
— Мы-то оставим, спору нет. Вволю их наберется. Добрых и недобрых.
— Поживем — увидим, — неопределенно ответил Богусловский и пришпорил коня. Не хотелось ему продолжать разговор, который вдруг крутнул в иную сторону.
Спустились в ложбину, будто грязный хребет какого-то чудища выдавился из земляной глубины, растолкав и зелень травы, и маки, но обезножел и теперь набирается в спокойной неге силы, чтобы еще разок напрячься и распрямиться, подняться в полный рост… И не замечало чудище, что бока слезятся от солнечной горячей ласки.
— Сказка! — восхищенно воскликнул Оккер. — Истинно — сказка!
— Нет, — возразил Богусловский. — Жизнь реальная. Частенько и люди так: пыжатся, а бока у них тают.
Удивленно посмотрел на Богусловского Оккер. Он не понял своего командира, ибо не знал его мыслей, его ассоциаций.
Нет, не складывался у них разговор. Что-то мешало им раскрыться полностью, а ведь они понимали, что долог их путь стремя в стремя. Да и сторожиться друг друга вроде бы причин нет. Оккера Богусловский выделил сразу, почувствовал он и ответную симпатию. И надо же — стоило лишь перейти на разговор, не касающийся службы, как тут же он стопорился и каждый из них чувствовал сдержанность собеседника. Недоумевая по поводу этого, они тем не менее ничего не предпринимали, чтобы откровенно объясниться.
Тропа все теснее, все круче подъемы и спуски, а местами скалы вплотную подступают к тропе, и тогда кажется, что воздух, привыкший к полной тишине, дрожит испуганно от цокота подков, да и скалы пугливо отшвыривают чуждые им звуки, и они мечутся по теснине неприкаянно, заполняя собою все, что можно заполнить.
В таких местах всадники замолкали, лошади возбужденно прядали ушами.
После одного такого, очень глубокого и очень длинного расщелка, по дну которого журчала торопливая речушка, перед утомленными путниками вдруг распахнулся неохватный простор нежной голубизны. Будто небо, раздвинув горы, расстелило себя под копыта коней до самого горизонта. Богусловский натянул повод.
— Иссык-Куль! — восторженно выдохнул кто-то. — Горячее озеро. Красиво!
— Вот оно какое?! — столь же восторженно воскликнул Оккер. — Природный уникум!
Полюбовавшись бездонной голубизной, покойно чувствующей себя в ореоле хмурых с седыми вершинами-головами скал, двинулись по правому берегу озера, вначале по узкой прибрежной полоске, но вскоре горы начали постепенно отступать, появились деревья, вольные, могучие, и ехать стало легко и просторно, а тень и ветерок, который постоянно тянул с озера, приятно освежали. После застоялой духоты каньона все это воспринималось как земной рай.
Повстречалась первая рыбацкая артель. Русские, киргизы и казахи. Рыбаки только что вернулись с удачливого осмотра сетей и на радостях предложили пограничникам остаться на уху.
Пока чистили рыбу, еще живую, пока разжигали очаг, Богусловский и Оккер беседовали со старшим артели, назвавшимся Василием. Выясняли более легкий путь на Чунжу.
— Я вам проводника дам. Кегенские у меня есть. Рады будут рыбки домой переправить. Лошадью только его обеспечьте.
Нежданный подарок. Теперь не придется больше двигаться на ощупь. Сколько будет сэкономлено и времени, и сил. И путь, как пояснил Василий, не озорной.
— В степи зорует, слухи ходят, сволочь всякая. Насильничают, грабят. А здесь — бог миловал пока.
Значит, верный маршрут избран. Пусть немного длиннее, но зато безопасней.
— Большевистскую власть без огляда приняли здесь. Кто побогаче, знамо дело, насупились, но пока, слава богу, помалкивают. А дехкане, чабаны да мужики, что на земле сидят, те сразу быков да ослов в упряжь — и давай Пржевальского стаскивать. Генерал ить царев.
— Что?! Уничтожили памятник?!
— Не совладали. Крепок шибко, — ответил Василий безразлично, затем так же безразлично спросил: — Жалко, что ль? Иль родственник?
— Пржевальский — патриот России. Он — история России!
— Кто ж его разберет, — все так же равнодушно ответил Василий. — Генерал он и есть генерал. Одного поля ягода.
С простодушной искренностью было это молвлено, и именно от этой незлобивости, от этого полного безразличия оторопь взяла Богусловского. Как же так?! Отсечь пуповину — естественно, но как остаться без материнской груди, если грудь, и это тоже естественно, не родилась вместе с новорожденным, а была прежде. Что? На вышвыр ее? Пагубна позиция: «Кто ж его разберет…», пагубна непредвиденностью последствий. И Богусловский, горячась, и оттого не очень-то последовательно, но пылко и потому по-своему убедительно, принялся втолковывать, какую роль для России, для тех же киргизов, для староверов, что сгоняли к памятнику быков и ишаков, сыграл Пржевальский.
— Нельзя же, поймите, стричь под одну гребенку крепостника-кровопийцу и величайшего русского ученого. Кощунственно это!..
— Верно вроде бы все, если по-твоему рассудить. Только на митинге давеча нам иное сказывали: раз генерал, выходит, одна ему дорога — под корень.
— Да кто посмел такое?!
— Большевиком назвался. Из Пишпека. Из тех, которые грамотные, ученые. Что и ты говорил, только иначе как-то. Во вред, мол, все генеральские дела. В колонии, сказывал, собирался киргизов угнетать. А им, бедолагам, и без того податься некуда. Стригут, что овец. Под нулевку норовят.
Это было выше понимания Богусловского. Он не мог поверить, чтобы просвещенный человек хулил Пржевальского. Такое мог делать только враг России. Только враг мог возбудить народ, играя на его справедливой ненависти к притеснителям и лихоимцам, против тех, для кого благо России и могущество ее были превыше всего, возбудить народ против своего же прошлого, против груди материнской.
— Поймите же, обкрадывают вас. Духовно обкрадывают. Дети наши, внуки наши не найдут доброго слова для нас, если мы проведем запретную черту между прошлым, нынешним и будущим!
— По мне, так: хватит на мой век рыбы в озере, тогда и детям останется.
— Не тратьте попусту энергии, Иннокентий Семеонович, — вмешался в разговор Оккер. — Ну одного наставите, а что делать с тысячами, с сотнями тысяч? То-то.
— Верно, — поняв по-своему Оккера, поддержал рыбак. — Чего безрыбью воду сквозь невода цедить. К ухе пора. Да с проводником сговориться.
Уха была навариста, душиста, как всякая уха, сваренная из свежей рыбы, положенной без экономии. Воистину за уши не оттянешь. Молча и сосредоточенно работали ложками рыбаки, отирая то и дело потные лбы шумливо, вприхвалку, — пограничники. И только Богусловский не усердствовал над своей чашкой. Уха ему тоже нравилась, но полностью отдаться трапезе, забыть разговор с Василием Иннокентий не мог. Он был уверен, что от памятника не отступятся. Он представлял себе, как сделанный старанием многих искусных людей памятник великому сыну России покачнется от взрыва и рухнет на землю — Богусловский даже ощутил боль, будто сам валился с пьедестала.
«Сколько их в империи — памятников достойных?! Что, все — динамитом?! Нет, следует спасать. В Ташкент депешу. В Москву! При любой встрече наставлять людей. Особенно когда к месту доберемся».
Вроде бы успокоить должно было Богусловского это умозаключение, но, вопреки здравому смыслу, та тоска, к которой он уже привык и даже не замечал ее, — та хроническая тоска обострилась и до боли сдавила сердце. Какая уж тут уха?
Никому не было дела до дум и чувств Богусловского. Мелькали ложки, остановки делались только для того, чтобы отереть тыльной стороной ладони взопревшие лбы. Вот она, вековечная традиция простолюдия: пока я ем, я глух и нем.
И совсем неожиданно и даже неуместно прозвучал голос Василия:
— Ты, командир, приглядись к кегенцам, пока они за едой. Мы как определяем: каков в еде, таков и в труде. Вон те, особняком что, все — семиреченские. Любой согласится, кого выберешь в проводники. Слова русские все они сколь-нисколь, но калякают. А понимать — как есть понимают весь разговор наш.
Поглядел Богусловский на кегенцев. Одеты, как все рыбаки, в стеганки из «чертовой кожи», замызганные настолько, что непонятно какого цвета, в такие же лоснящиеся от налипшей чешуи и слизи штаны, заправленные в яловые добротной работы сапоги. Кегенцы отличались от остальной артели только редкобородыми скуластыми лицами. Словно братья, сидели они тесным рядком, ели неспешно и чинно, с чувством внутреннего достоинства. По меркам русского нанимателя они не годились в отменные работники, да Богусловского и не интересовало, жаден ли до еды будущий проводник. Лучшим качеством в человеке Богусловский считал доброту и сейчас приглядывался, у кого из семиреченских казахов самое доброе лицо. Все казались ему одинаково достойными выбора.
— Ну как, приглянулся кто? — полюбопытствовал Василий через какое-то время. — Позвать?
— Не нужно, я сам, — ответил Богусловский и перешел, взяв свою почти полную чашку, к дружному рядку казахов. Те потеснились, освобождая Богусловскому место в центре, и заприглашали наперебой:
— Жогара чикингиз…
— Проходит перед…
Сколько раз он слышал это традиционное приглашение казахов, которое уважительно произносилось у распахнутого полога юрты, сколько раз переполняло его чувство благодарности к доброму степному народу, ибо у злого и завистливого не может быть столь бескорыстного гостеприимства. Вот и теперь он с благодарностью опустился на траву в тесный ряд сердечно встретивших его людей. Помолчав немного, спросил:
— Кто сможет проводить нас до Кегена? Горы не любят слепых котят…
— Верно, — закивали казахи. — Ой как верно.
Затем заговорили между собой, определяя, кому ехать. Сообщил мнение всех старший по возрасту, лицо которого уже тронули бороздки времени:
— Сакен поедет. Молодая жена скучает у него.
Каждому из них хотелось воспользоваться счастливым случаем, чтобы побывать дома, но все добровольно уступили самому молодому. Не ведали они, что искренняя доброта их обернется великим испытанием для их товарища.
Но кто и когда может определить, что станет с нами завтра? Знал бы где упасть — соломки бы постелил.
Сакена, улыбчивого молодого мужчину, о которых говорят: в расцвете сил — не мучили предчувствия, как Богусловского. Он резво вел отряд по долине меж плантаций цветущего мака, не дикого, а взлелеянного ради терьяка окладистобородыми староверами или неприметными дунганами, осторожничал только тогда, когда предстояло пересечь горную речку, часами отыскивая броды, но стоило лишь чуточку распрямиться тропе, даже в ущельях пускал коня рысью. Он тоже не предполагал, что спешит не в объятия истосковавшейся по его ласкам жене, а на свидание со смертью.
Перевалил через горы отряд в семиреченскую долину по притоку Кегена. Сакен, довольный тем, что самый трудный путь позади, сообщил:
— Спим в караван-сарае. Богатый был, теперь пустой. Год, может, пустой. Днем Кеген будем.
Пограничники, ночевавшие все время под открытым небом, тоже обрадовались возможности поспать под крышей, пусть даже в заброшенном доме, но каково же было их удивление, когда они увидели над крепкими, обитыми цинковым железом воротами красный флаг. Не менее удивил их и размер караван-сарая. Высокий глухой дувал, крепкий, едва лишь тронутый по низу солонцом, окружал множество построек: ряд домиков-гостиниц, напротив которых осанисто стояли, тоже в ряд, склады с массивными запорами на крепких дверях, а в глубине двора вытянулись подслеповатые конюшни, кошары и коровники. Маленькая калитка выходила на берег речки. Да, с умом и размахом велось здесь дело.
Сейчас, в этом большом дворе, приспособленном для отдыха купеческих караванов, было так же шумливо, словно и нынче караван-сарай процветал. Во двор въезжали повозки с сеном и соломой, от кузницы доносились звонкие удары молоточка мастера, вслед за которыми ухала кувалда, а в конюшнях покрикивали конюхи в ответ на нетерпеливое ржание лошадей. Из труб почти всех домиков столбно поднимались дымы, и это особенно подчеркивало домовитую основательность жизни караван-сарая.
У крыльца бывшего хозяйского дома сгрудился десяток мужиков, одетых кто в солдатские гимнастерки, кто в темные крестьянские косоворотки, и баб в цветастых сарафанах. Они, жестикулируя и горячась, что-то обсуждали, но как только пограничники въехали в открытые ворота, от толпы отделился высокий сухопарый мужчина в накинутой на плечи длиннополой кавалерийской шинели и размашисто зашагал навстречу гостям.
— Какими судьбами? — с доброй улыбкой на таком же, как и сам, сухопаром лице приветствовал гостей.
— В Кеген, — ответил Богусловский, — а там, судя по обстоятельствам, либо в Верный, либо в Джаркент. Границу будем охранять.
— Похвальное и весьма нужное дело, ибо ослабла граница здешняя, гуляет контрабанда беспошлинно. Ну, это к слову. Дела военных неподсудны хлебопашцам. Расседлывайте лошадей, места в конюшнях есть. Мы пока работы на завтра обмозгуем, затем — к вашим услугам. — Он пробежал глазами по все еще сидевшим в седлах пограничникам и заверил: — Всех устроим. По семьям распределим.
Поклонившись старорежимно, пошел к ожидавшим его мужикам и бабам. Теперь к тем заботам о завтрашнем дне добавилась еще одна — устройство гостей, но именно она-то ускорила решение деловых проблем, и, едва лишь успели пограничники управиться с конями, их тут же разобрали по домикам.
Богусловский с Оккером оказались в большом, председательском, как его теперь называли, доме. Они сидели на настоящих стульях, от чего уже вовсе отвыкли, за настоящим столом и пили из настоящего самовара чай, который разливала невысокая, полногрудая, бедрастая молодая женщина с грубоватыми, мужскими, чертами лица, скрадывались которые нежной белизной кожи, пышными темными, почти черными, волосами, и оттого лицо казалось женственным и приятным.
Красила женщину (она назвалась Ларисой Карловной Лавринович) и озорная улыбка, появлявшаяся всякий раз, когда она глядела на председателя коммуны Климентьева, и было непонятно, что веселит ее, ибо сам «товарищ Климентьев», как он представился и как его все называли, держался весьма строго, а рассказ его, более похожий на исповедь, на тайное желание получить одобрение того главного, ради чего он оказался на границе гор и степей, не казался не только смешным, но даже просто веселым.
— Сам я имел сан. Отцом Климентием именовался. Когда отлучили за проповеди крамольного, противного богу вольнодумства, не стал возвращать мирское имя, Климентьевым на каторгу поехал. Чахотка открылась там. Не дожить бы мне до деньков светлых, да спихнули царя-батюшку. Сотоварищи по каторге в Россию подались, в Питер да в Москву. Меня тоже звали, только я иное определил себе. Знавал я богатых да и роду не мещанского людей, кто все бросал нажитое и подавался в глухомани зауральские не корысти ради, а чтобы трудом своих рук прилежным, наставлениями и просвещением приобщать людишек тамошних к земле. Вот я и подумал: в России много таких, как я, найдется, а здесь все больше казаки, а на них нагляделся я и до каторги, когда сан имел, и на этапах нагляделся. Не сеятели они свободного и справедливого труда, правды и милосердия. Нет-нет, не возражайте. Я тоже не огульник, не хулитель. Но очень многие из них далеки от понимания, что есть заблуждение и что — истина, что есть зло, а что есть добро. Отсюда их беды, их нравственное падение.
— Я никак не могу разделить столь категоричные оценки, — все же вставил свое слово Богусловский. — Они — разные. Как и все земные люди. Но что подкупает: они честны перед собой. Честны в поступках. Угодны ли нам те поступки, противны ли — это другое дело.
В дверь постучали, и в сопровождении коммунара вошел в комнату Сакен. Глаза гневные, лоб нахмурен. Так бы сейчас и кинулся на оскорбителя. Только кто тот оскорбитель?
— Что стряслось, Сакен? — с искренним удивлением спросил Богусловский, поднимаясь навстречу проводнику. — Обидел кто?
— Он считает: я — желтая собака! Сам — собачий сын!
— Что стряслось? — все еще не понимая причину гнева, но чувствуя неслучайность этого гнева, спросил озабоченно Богусловский. — Поясните вразумительно.
Не вдруг осознан был весь трагизм того, что произошло во дворе у конюшни и о чем так непоследовательно, беспрестанно прерывая рассказ оскорбительными тирадами в адрес «собачьего сына», поведал Сакен. Вместе со всеми он завел своего коня в конюшню, подложил ему сено, распушив его и выбрав из него крупные жесткие стебли, а в это время к нему подошел пожилой казах, не из кегенских, совсем незнакомый, и принялся расспрашивать, куда держат путь пограничники. Сакен ответил, что не знает, ибо он взялся проводить их только до Кегена.
Вновь вопросы: что во вьюках? Не винтовки ли с патронами? Сакен ответил, что не только винтовки, но и пулеметы. Тогда казах прищелкнул от удовольствия языком и поспешил в крайний денник. Сакен посчитал, что это один из коммунаров, но каково же было его удивление, когда, выйдя из конюшни, увидел незнакомого казаха верхом на серой лошади. Тот явно поджидал Сакена. Поманив поближе его, он почти шепотом предупредил, что оставаться на ночь в караван-сарае нельзя, но уйти нужно тихо, никем не замеченным. Сказал, развернул жургу (иноходца) и стегнул его камчей.
— Думал крикнуть: стой, сын собаки, только журга за ворот ушел.
— Что ж, отдых отменяется, так, командир? — решительно поднимаясь из-за стола, скорее утвердительно, чем вопросительно проговорил Оккер, затем принялся высказывать свои предложения по организации обороны караван-сарая: — Ворота забаррикадировать мешками с землей. В дувалах пробить бойницы…
— Вы предполагаете налет на коммуну? — с искренним изумлением спросил Климентьев. — Но с какой стати? Мы же хлебопашеством занимаемся. У нас никакого оружия нет. Всем в округе об этом известно. Караван-сарай бросовый. Еще после февральской, говорят, кинул здешний хозяин свое дело. Никакого насилия мы никому не чиним. Цель наша лишь в том, чтобы примером личным убедить людей в радости коллективного труда, в его великих возможностях! Возможно, причина в вашем приезде?
— Вернее считать так: наш приезд спасет коммуну и коммунаров, — возразил Оккер. Ухмыльнувшись, спросил: — Неужели, товарищ Климентьев, вы и в самом деле верите своим словам?
— Молодой человек! Я бы попросил! Мой революционный и жизненный опыт позволяет мне!..
— Не время для ссоры, — спокойно прервал Климентьева Богусловский. — Мы не знаем того, что произойдет, но факт, изложенный проводником, весьма тревожен. Подготовиться к обороне мы просто обязаны.
После короткого совещания решили так: то, что Сакен не успел возмутиться, предполагает, что налетчики не изменят тактики, станут рассчитывать на внезапность, и, чтобы сохранить в тайне подготовку к обороне, следует в первую очередь закрыть ворота и калитку, поставив у них часовых, после чего лишь поднять пограничников и коммунаров. Пока те станут обкладывать мешками с землей ворота и калитку, подкатывать к дувалу брички и поднимать их на дыбы, чтобы удобно было стрелкам стоять вровень с дувалом (бойницы пробивать не решались, чтобы не создавать излишнего шума), Оккер с Сакеном и одним коммунаром обыщут все помещения караван-сарая.
— Но это же бросит тень на наш принцип, — возразил товарищ Климентьев, — на ту суть, ради чего мы здесь. Мы несем людям мир и согласие, мы всегда рады всякому гостю: смотри, учись жить, познавай истину. Мы даже ночью лишь прикрываем ворота. А недоверие и насилие породит ответное недоверие.
— Сколько существует мир, столько человечество ищет и не находит истины. И найдет ли? У каждого человека — своя истина, — прервал Климентьева Богусловский. — Но обменяться взглядами по этому вопросу мы успеем, если все кончится благополучно. Теперь же я прошу только одного: совершенно беспрекословного выполнения моего и вот его, — Богусловский кивнул в сторону Оккера, — приказов. Поймите, любая недисциплинированность может дорого обойтись нам всем. Жизни может стоить. Надеюсь, вы не слишком спешите к костлявой в гости?
Подействовало. Поначалу хотя и без энтузиазма, но делал все, о чем его просили, когда же за кормушкой одного из денников обнаружили «гостя», Сакену тоже неизвестного, а в сеннике скотного двора — еще одного, и те признались, что оставлены специально для того, чтобы открыть ворота, если они вдруг окажутся запертыми, Климентьев стал не только исполнительным, но и шумливо-деятельным. Пришлось чуточку остудить его организационный пыл, запретив распоряжаться самостоятельно.
Право такое имел только Оккер как комиссар. Да и команды его, как видел Богусловский, были разумны и тверды. А это было весьма важно, ибо, как показали лазутчики на допросе, коммуне грозила серьезная опасность: налетела, что называется, коса на камень. Глава небольшого племени, пастбища которого были малы и безводны, возымел намерение разжиться землей в предгорье, а брошенный караван-сараи представлялся ему прекрасной стоянкой, откуда можно делать набеги, а в случае опасности укрываться за надежным дувалом. И вот когда уже, свернув юрты, двинулось племя в путь, получил глава племени Сулембай известие, что в караван-сарае поселились русские. Коммуна поселилась. Сулембай повелел возвращаться. У джигитов племени было мало оружия, а русские наверняка имеют много винтовок — так предположил Сулембай и решил повременить, решил разжиться ружьями и винтовками, решил подослать к русским соглядатаев, чтобы с их помощью расправиться с коммунарами внезапно.
Вскорости Сулембай сбил отряд в двести всадников, привел их в предгорье и этой ночью планировал налет. Желание его удвоилось, когда узнал он, что в караван-сарае тюки с карабинами и пулеметами. С таким оружием он станет держать в страхе всю округу, он возьмет ту землю, какую захочет. За сытным ужином, где без меры разливался кумыс, обсуждал он с самыми близкими соплеменниками судьбу коммунаров и кокаскеров.
Только двоим даровалась жизнь. В наложницы себе Сулембай брал председательскую жену, а бывшего офицера — советником. Если, конечно, не будет возражать. Иначе — тоже смерть.
Наступила ночь. Безлунная, темная. Сулембай посылает пятерых всадников без оружия вперед, чтобы узнать, открыты ли ворота. Если нет, постучать и попросить приюта. Остальной отряд остановился поодаль в готовности к броску.
Подъехали разведчики — караван-сарай помалкивает, словно спят все мертвым сном. Толкнулись в ворота — не поддаются. Постучали раз, постучали другой и третий раз — молчит караван-сарай. Развернулись тогда и порысили в темноту душевно смятенные всадники.
— Сейчас полезут, — уверенно заключил Оккер и предложил: — Встретим на подходе. Залпом. Охотку и отобьем.
— Нет, — возразил Богусловский. — И еще раз — нет! Первыми стрелять не начнем. Сигнал начала, повторяю, первый выстрел со стороны нападающих. Лучший исход — мирный исход. Здесь же жить коммуне.
Богусловский, Оккер, несколько пограничников и Сакен лежали на мешках с землей, которыми под самый верх завалили ворота, и видели, насколько позволяла темнота, все, что происходило перед воротами. Вот подъехало еще десяток всадников. Спешились, поднажали плечами — без пользы. Ускакали. А вскоре всадники начали попарно наплывать из темноты и, не приближаясь к воротам, сворачивали, так же попарно, вправо и влево и ехали вдоль дувала.
— Хитрецы, — шепнул Оккер. — Ишь как ловко задумано.
И впрямь, умно. С седла на плечи напарнику и — на дувале.
Оккер скользнул по мешкам вниз, чтобы предупредить пограничников и коммунаров о тактике налетчиков. Сейчас он был доволен своей предусмотрительностью: настоял, чтобы по всему дувалу разместились стрелки на приставленных бричках. До времени никто не должен был высовываться. Теперь же пора приготовиться к бою, иначе можно прозевать нужный момент.
Оккер, однако, успел сказать только стрелкам на первой от ворот бричке, как услышал громкий голос Сакена. Оккер не понимал слов, но догадался, что проводник хочет предотвратить кровопролитие.
И верно, Сакен взывал к благоразумию:
— Джигиты, здесь нет ваших врагов. Здесь мирные дехкане. Кокаскеры, с которыми я приехал, тоже не враги. Одумайтесь, джигиты!
Хлестнул выстрел, за ним второй, Богусловский, для которого поступок Сакена оказался неожиданным, но похвальным, свалил проводника на мешки и спросил:
— Не задело?
А караван-сарай уже ожил, ощетинился вспышками частых выстрелов. Нападающие ответили, но не дружно. Кто-то из тех, кто успел проскочить вдоль дувала, еще пытался вскарабкаться на него, но стрелки метили в лошадей, и обезлошадившимся всадникам оставалось одно: уползать торопливо в темноту.
До утра отряд Сулембая не тревожил коммунаров. И вообще вокруг было такое спокойствие, словно ушел он совсем, отступился.
Рассвет еще более утвердил пограничников и коммунаров, что сбил оскомину Сулембай. Отряда и след простыл. Привычно нежится в еще нежарких лучах солнца нежно-зеленая пшеница, расправляются листки свеклы от ночной зябкости — мир и покой вокруг. Никого нет и на дороге. Дальняя степь тоже привычно пустынна.
— Ну что? Освобождаем ворота? — радостно, не предполагая возражения, спросил Климентьев Богусловского. — За работу пора.
— Повременим. Слишком все просто. Не хитрость ли какая? Выедете на поля, а он налетит коршуном. Повременим давайте.
— А как скот поить? Лошадей?
— Калитку открыть можно, если что, ее быстро укрепим.
Успели коммунары, однако, напоить только лошадей, как наблюдатель, лежавший на мешках у ворот, крикнул:
— Пыль в степи!
Замерли коммунары, ожидая приказа Богусловского. А тот не спешил с выводом, взобрался на мешки, понаблюдал сам минуту-другую и, спустившись вниз, распорядился:
— Быстро поить овец и коров, затем заполнить водой все, что можно. Всем работать. Всем до одного.
Вмиг образовалась цепочка, словно на пожаре. Ведра цинковые, эмалированные, брезентовые передавались из рук в руки, заполнялись колоды, бочки, казаны и кастрюли. И, словно хлыстом, подстегивали работающих доклады наблюдателя:
— Верста осталась. Всадников двести — двести пятьдесят… Верблюды следом. Коней табуны!.. Овцы!.. Много овец!
Ничего пока не ясно. Что за тактический прием? Возможно, вовсе мирное кочевье, не сулембаевское. Но на всякий случай укрепиться стоит.
— Заложить калитку, — командует Богусловский и посылает Оккера с Сакеном на мешки к воротам. Возможно, узнает Сакен, кто кочует.
Вскоре Сакен совершенно уверенно определил: Сулембай привел всех своих сородичей, пригнал весь свой скот. Тут уж и сам Богусловский не выдержал, вскарабкался на мешки. Не отстал от него и Климентьев.
Лежат на мешках, глядят сквозь щели меж досок (по верху ворота железом не обиты) с возмущением на то, как проносятся по пшеничным полям кони, а следом за ними тысячи острых овечьих копытцев втаптывают остатки нежных пшеничных стебельков в сухую землю, и остаются позади отар погибшие поля.
— Что вы делаете?! — крикнул, поднявшись, товарищ Климентьев. — Топтать хлеб — кощунственно!
Ответом прогремел выстрел, и Климентьев, ойкнув, плюхнулся на мешки, с недоумением уставившись на плечо, где набухала кровью гимнастерка. А на караван-сарай навалился тем временем огневой шквал. Свистели пули, щелкали по воротам, пробивая доски и впиваясь в мешки. Переломилось подсеченное пулями древко знамени, и оно начало медленно валиться за ворота, и тут Климентьев непостижимо вытянулся, будто не глядел только что обалдело на рану, пытаясь, видимо, осмыслить причины столь великого заблуждения того, кто стрелял в невооруженного человека, и ухватил здоровой рукой древко, рванул его на себя и, вновь ойкнув, уставился на пробитую пулей руку. Две раны в считанные секунды — ничего хорошего не предвещающее начало.
— Всем, кроме наблюдателя, вниз! — скомандовал Богусловский и стал помогать спускаться Климентьеву, теперь уже совершенно ослабевшему не от потери крови, а от нервного потрясения.
Не успели еще Богусловский с Оккером спуститься на землю, как увидели стремительно бегущую к раненому Ларису Карловну. В глазах ужас, волосы, прежде мягко спадавшие на плечи и придававшие ее лицу женственную миловидность, невообразимо вскопнились, и теперь Лавринович лицом была похожа на первобытного человека, каких принято изображать не только в дешевых книжонках, но и в солидных энциклопедических изданиях, в безысходном горе застывшего у потухшего костра.
Обняла, припала к груди, слушая сердце и причитая: «Жив! Жив!», хотя Климентьев даже не лежал, а стоял. Испуг у него прошел, и теперь он старался держаться молодчиной, что ему в какой-то мере удавалось. Только лицо оставалось снежно-белым.
— Ему более нужна, Лариса Карловна, перевязка, а не причитания ваши, — вмешался в эту трагикомическую сценку Оккер. — Йод и бинты у вас есть?
Нашлось несколько бинтов. Лавринович начала было бинтовать раны, но делала это неловко, и Оккер отстранил ее:
— У вас, Лариса Карловна, юзом все выходит.
Сноровисто Оккер наложил на раны смоченные йодом тампоны, приговаривая: «Терпи казак — атаманом станешь» — и Климентьев добросовестно терпел, даже не просил Ларису Карловну отереть взмокший лоб, хотя пот щипал глаза.
— Флаг укрепить надо, — через силу выдавил из себя Климентьев. — Непременно надо…
— Что верно, то верно, — добродушно соглашался Оккер, бинтуя плечо. — Только одно условие: делайте это ночью, а то у вас бинтов не припасено в достатке.
— Флаг — не предмет для шуток, — упрямо давил из себя Климентьев. — Флаг класса…
— Я и не шучу. Кто полезет днем, своими руками сброшу вниз! О воде нужно думать в первую очередь. О колодце.
— Да, колодец нужен, — поддержал Оккера Богусловский. — Теперь же следует рыть его…
— Колодец нельзя, — возразил Сакен и ткнул себя в живот. — Курсак пропал будет. Соль много. Под дувал дыра рыть — хорошо.
— Выход ли? — не выразил энтузиазма Богусловский. — Много ли ведрами натаскаешь? Если же лаз обнаружат, непременно пристреляются к нему. Выход один — подземный водовод. Если не песчаная земля, осадки не даст.
— Чистейшая глина, — сказал Климентьев. — Метра три глины. А там — песок.
Три метра — вполне достаточно. Работа закипела, ибо уже скоро могли замычать коровы, прося воды, заржать лошади. Не отдавать же скоту припасенную для себя воду. Самим надолго ли хватит?
Вырыли поначалу глубокий хауз подальше от дувала, затем повели от него траншею, чуть помельче, а у самого дувала принялись пробивать тоннель. Никто не уходил на обед, сменялись землекопы часто, чтобы споро рылось, и еще засветло пробили подземный арык до самой речки. И угадали выход удачно, специально так не рассчитаешь, прямо между огромными валунами. Щель небольшая, ее совершенно не видно, да и напор воды невелик. Выбрались довольные землекопы, хотя и мокрые с головы до пят, в глине все, словно поросята-шалуны.
А вода, поначалу мутная, но потом посветлевшая, заполняет хауз. Черпай ведрами и неси скотине. Не страшна теперь осада.
А там, за дувалом, шла своя, не менее спешная и вдохновенная, работа. Метров двести правее караван-сарая переправлялись на предгорные пастбища кони и овцы; охватной подковой, концы которой упирались в берег реки справа и слева от караван-сарая, ставились юрты, сооружались летние очаги, камни для которых подтаскивали от берега дети, возбужденно-шумливые от новизны впечатлений, от обилия воды, прежде ими невиданного, — ничто на первый взгляд не выдавало агрессивности кочевья, и только уложенные на траву у каждой юрты винтовки, ружья и карабины были необычны для обычных, мирных намерений.
К вечеру каждая из противоборствующих сторон осталась довольна собой. Задымили трубы в домиках коммунаров, занялись огоньками костерки под казанами у юрт — все тихо и пристойно, только у каждой юрты стоял часовой, наблюдавший за караван-сараем, а оттуда, тоже непрерывно, наблюдали за юртами. Разница была лишь в том, что часовые у юрт расхаживали открыто, уверенные в том, что не станут русские стрелять по ним, чтобы не попасть случайно в детей, затеявших под вечер колготные игры возле юрт, а коммунары вынуждены были хорошо укрываться, ибо помнил каждый из них раны своего председателя, товарища Климентьева.
Смеркалось. Пограничники и коммунары, те, кто из бывших солдат, разобрали оружие и заняли свои места на мешках и на бричках. Что им сулила ночь? Первая ночь в осаде?
Хлопотно прошла она. Богусловский, согласно просьбе Климентьева, распорядился стрелять только в тех, кто взберется на дувал. И это, естественно, осложнило оборону. К полуночи к дувалу начали бесшумно подползать сулембаевцы. В них не стреляли. Вот они уже у самого дувала — молчит караван-сарай. Постояли, прижавшись к дувалу, не совсем понимая, отчего их вроде бы не замечают. Осмелев, размотали припасенные веревки с кошками на концах. Не у каждого такая веревка, всего десятка два, но и это не мало.
Коммунары, правда, готовы были к тому, что штурм дувала будет и по приставным лестницам, и с помощью кошек. Лестницам ничего не противопоставишь, единственный выход — стрелять, а вот кошки можно мирно отбивать. Оглоблями и слегами.
Лестниц не оказалось. Только кошки. Вот и началась крутоверть. Хлестнет по дувалу кошка — несется туда коммунар и спихивает ее слегой. С деревянными кошками проще, не впиваются те в твердь дувальную, с железными же, а их оказалось несколько штук, — сложней. Вцепится в дувал, не враз столкнешь слегой. Дело до выстрелов дошло. Скосили стрелки за ночь десяток штурмующих. Это отрезвило. Задолго до рассвета отступились сулембаевцы. Убитых и раненых унесли с собой. И тут началось: взвыли страдальным многоголосьем юрты. И аллаха в свидетели призывали, ни за что ни про что, дескать, сгублены неверными верные рабы его, и все проклятия, мыслимые и немыслимые, посылали на голову кокаскеров и коммунаров.
— Эка дела, — удивлялись коммунары. — Сами виноватые, а нас виноватят…
А плач женщин и детишек становился все горестней, все пронзительней. Он угнетал, он невольно создавал ощущение виновности, вызывал чувство сопричастности к чему-то мерзкому, нечеловечному. И нигде, ни в домиках, ни на конюшне, нельзя было отгородиться от этого плача, он проникал во все щели, и колготившиеся всю ночь защитники караван-сарая никак не могли уснуть.
— Психологический штурм, — определил Оккер. — Жесток ихний главарь. Куда как жесток!
— В наглой изобретательности ему тоже не откажешь, — добавил Богусловский. Если говорить честно, то он завидовал тому, как Сулембай возбуждает соплеменников, подогревает их ненависть к коммунарам. Даже неудачу сумел повернуть себе на пользу.
Как и все люди, Богусловский много встречал творящих зло и в мелочах, и в крупных делах. Как правило, все они держались гоголем, наскакивали на каждого, кто осмеливался воспрепятствовать злу словом или поступком. Иногда Богусловский даже завидовал таким людям, хотя не принимал их вовсе, тем более не стремился подражать им. Завидовал ненавидя. Вот и теперь с завистью представлял, с каким отчаянием полезут ночью через дувал подогретые ловкой жестокостью сулембаевцы и, наоборот, как опасливо станут действовать защитники караван-сарая. И только оттого, что ему, Богусловскому, противоестественным кажется любая ложь. А ведь в бою, и это он понимал прекрасно, она может стать добрым помощником. Даже своего рода оружием.
Шло время, а поминальный плач с жалостными причитаниями не притухал. Но вот застучал упрямо молот по наковальне, по-деловому неуместно, словно в насмешку над неуемным горем сирот и вдов, горем всего племени. Наблюдатель доложил:
— Кошки мастерят.
— Позвольте собрать коммунаров и наших, — обрадованно спросил Оккер у Богусловского. — Есть отдушина.
— Да, — согласился Богусловский. — Полезны весьма были бы слова товарища Климентьева.
— Думаете, спустился после ранения на грешную землю? Иллюзия…
— Послушаем.
Товарищ Климентьев принял предложение держать, как он выразился, речь на митинге без колебания.
— Клеймить алчное вероломство! Немедля клеймить! — воскликнул он. Казалось, он даже обрадовался возможности сказать своим товарищам по коммуне то новое и для себя, и для них, что осмыслил в долгую бессонную ночь.
Увы, Богусловский ошибся. На митинге Климентьев только начал с гневного призыва: «Алчное вероломство надлежит сурово карать!» — но на этом воинственная запальчивость иссякла. Голос его обмяк, погрустнел:
— Увы, меч — не главное средство для кары. Я атеист, и слова Иисуса: «Не мир принес я вам, люди, но меч» — не приемлю. Я отвергаю их. Я порвал с церковью оттого, что не приемлю первородного греха. Источник добра — сам человек. Каждый человек. Слышите плач страдалиц? Горе причинили им мы, поклявшиеся друг другу мирно возделывать поля, без насилия нести забитым и обездоленным свет. Свет добра, свет знаний, свет коллективного труда и коллективного быта. Мы не сдержали той клятвы!..
— Но, товарищ Климентьев, — с несвойственной сердитостью прервал председателя Богусловский, — и коммунары, и мы, да и вы тоже не можете не слышать стука кузнечного молота. Не подковы куются у юрт, не серпы, не лемехи — куются кошки! И разве не можем мы представить, какая предстоит нам ночь?!
— Мы можем погибнуть. Если хотите, мы просто обязаны погибнуть ради возвышенной цели. Смерть наша окупится сторицей! Добро будет посеяно, взойдет оно алыми маками!
— Прекрасный порыв, — с саркастической ухмылкой прервал Климентьева Богусловский. — Пользуясь, однако, правом, которое дает мне мандат, полученный мною в Ташкенте, я налагаю запрет на нелепую мученическую смерть. Та новая жизнь, ради которой совершена революция, полагаю, нужна живым, а не мертвым. А маки, товарищ Климентьев, найдут места в достатке, где им расти. Поистине героические места. Так вот, пользуясь правом, я приказываю, — голос его налился металлом, — подчиняться только мне и ему, — стрельнул он пальцем в Оккера. — К любому самовольству буду применять фронтовые меры пресечения! Надеюсь, всем это понятно?! — После малой паузы, уже спокойнее, продолжил: — Вы слышите удары молота? Я повторяю: это куются кошки. И это, надеюсь, ясно, ради чего?! Потому приказываю вооружиться всем мужчинам. Кто не умеет стрелять, учиться сейчас же. Мы не хотели смерти тем, кто убит нами. Они сами пришли за ней. Сегодня мы тоже станем стрелять только в тех, кто окажется на дувале. Повторяю: только тех! Ни одного выстрела за дувал! Помните это. И еще… Давайте подумаем, как скидывать обратно кошки. Это поможет избежать кровопролитие.
Была бы подана мысль, а русский скоро ее обратает. Изворотлив он, когда нужда заставляет его есть калачи. К вечеру десятка два слег заточили клином, обив их железом, а для верности выпустили шильцами перед клиньями зубья от вил. Убыток хозяйству немалый, ну да что поделаешь.
Пока суд да дело — солнце уже под закроем. Пора по своим местам. Кому с винтовкой на бричку, кому с пулеметом на мешки, а кому со слегой к отрезанному под его глаз куску дувала.
Ждать пришлось недолго. Подползли татями сулембаевские молодчики, и хлестнули темень резко брошенные кошки. Пошла круговерть пуще прошлоночной. Верно, ныне ловчее действовали осажденные — ни одному из штурмующих до самого утра не удалось подняться на дувал. Мужики даже ловчить начали, с разумностью кошки скидывая, не враз, как вопьется в дувал, а с выдержкой, когда натянется струнно волосяной аркан. Подсунет тогда шильце слеговое под кошку, поднажмет плечом, кованый наконечник вырвет с мясом когтистый зацеп, и там, за дувалом, глухо шмякнется лихач штурмующий. Иной молча, иной посылая страшные проклятия на головы кяфиров — иноверцев.
Как бы ни гневались сулембаевцы за помятые бока, живыми они остались все, а когда рассвело, коммунары принялись похваливать себя за ловкость и силу. И не сразу заметили, что нет среди них Сакена. Хватились, лишь когда начали поить и кормить лошадей. Давай искать: не убит ли, не ранен. По всем закоулкам заглядывали — нет человека. Вспоминать начали, кто последним видел его, и выходило, что почти до рассвета он находился в караван-сарае.
— Сбежал, сукин сын, — заворчали осуждающе коммунары, но Богусловский приструнил их:
— Жизнью мы все ему обязаны. Жизнью! Я ему несколько раз предлагал либо в Кеген добираться, либо обратно на Иссык-Куль вернуться. Упрямился. Возможно, разум взял верх. Неподсуден он нам. Пожелаем ему доброго пути.
— Ну если так, то пусть так и будет, — согласились коммунары и принялись за прерванные дела.
Управившись по хозяйству, захрапели, наверстывая недосып прежний. Безмятежно захрапели, праведно. И никто не предполагал, что прервется их сон, не успев набрать силу. Пробудит их всех крик наблюдателя:
— Сакена ведут! Избитого!
Богусловский первым вскарабкался на мешки, и захолодело сердце его, привыкшее, казалось бы, за годы пограничной службы ко всяким жестокостям. В подковном охвате десятков трех озлобленных прислужников Сулембая шагал Сакен, подгоняемый тычками ножей и ударами короткохлыстых плеток-камчей. Лицо в густых кровоподтеках, разорванные уши кровоточат, а он, словно не жалят его острые ножи, не рвут кожу жесткие ременные узлы, идет достойно, не вздрагивая и не ежась, не ускоряя и не замедляя шаг.
Метрах в двадцати от ворот остановили Сакена.
— Говори! — потребовал толстый в животе, весь бархатный, серебром шитый властелин. Откинул со лба пушистый лисий малахай рукояткой камчи и еще более настойчиво процедил сквозь зубы: — Говори!
Зашипела атакующая «подкова»:
— Говори! Говори, сын собаки! Говори! Сулембай простит тебя.
Но Сакен будто не слышал шипения многоголосой толпы, не ощущал ее остервенелости, стоял, чуть расставив крепкие короткие ноги, гранитным изваянием, и было совершенно ясно, что благородная цель вдохновляла его, давала ему силы. Он верил в ее конечное торжество.
— В клинки? — спросил Богусловский Оккера, одновременно прикоснувшись к плечу наблюдателя, который сжимал уже рукоятку затвора, готовясь дослать патрон в патронник. — Стрелять нельзя. Юрты там. В клинки…
Скатились пограничники на землю, и вот уже бегут торопливо одни коммунары к воротам раскидывать мешки, другие — в конюшни седлать коней. Подстегивают их приказы все более злобные и более грозные: «Говори! Говори, иначе — смерть!»
Последние мешки отбрасываются от ворот, последних оседланных коней выводят из конюшни. Не только пограничники готовы к вылазке, но и многие коммунары. Как пики, держат они в руках остроконечные слеги.
А за воротами вдруг гвалт поднялся. Там Сакен сдавил мертвой хваткой горло Сулембая и душил, не реагируя на град пинков в голову и бока.
— Скорее! — кричит Богусловский тем, кто освобождает ворота, и, как только был отброшен последний мешок, скомандовал зычно: — За мной, марш-марш!
Не сразу разъяренная толпа увидела всадников. Потом примолкла и вдруг кинулась наутек, огрызнувшись всего лишь двумя выстрелами. И обе пули угодили в скакавшего впереди Иннокентия Богусловского.
Конь, почувствовав неладное с хозяином, остановился, и Богусловский, сползая с седла, увидел, как стремительно кинулись от юрт женщины-казашки навстречу ожесточившимся коммунарам и пограничникам, чтобы загородить собою мужей и братьев, увидел и коммунарок, бежавших из ворот. Впереди всех — Лариса Лавринович.
Богусловского и Сакена, с трудом оторвав его от уже задушенного Сулембая, внесли женщины осторожно в дом председателя. Когда начали обмывать кровоточащую голову Сакена раствором марганцовки, он пришел в себя. Оглядел комнату, женщин, склонившихся над ним, увидел Богусловского и трудно, с надрывом заговорил:
— Я шел сказать им — вы не враги. Сказать: вместе хорошо. Скот пасти у гор… Здесь сеять хлеб… Думал, поймут. Думал, хорошо будет, когда вместе…
— Истину говоришь ты, — вдохновенно подхватил Климентьев, который тоже пытался, несмотря на свои раны, помочь женщинам обмыть и перебинтовать Сакена и Богусловского. — Истину, которая проложит себе дорогу непременно. Она восторжествует, как бы ни противостояли ей власть имущие и власти предержащие. Истина в свободном коллективном труде! Все остальное — заблуждение. Придет время, и скажет земля алчности и властолюбию: «Изыди!»
— Земной рай? — с отрешенной тоскливостью спросил Богусловский. — Утопия.
Не ведал Иннокентий, что повторил слова, сказанные Климентьеву еще на каторге. Прозвище Утопист к нему крепко там прилипло.
— Утопия строилась на гармонии неравноправия социального, — горячо возразил Климентьев, считавший, что то, о чем мечтал он на каторге, воплотил теперь в реальность. — Я же предлагаю равноправный коллективный труд. Предлагаю, но не насилую. Кто не желает, того среди нас нет. Мы несем мир этой округе, и нападение на нас — чистейшее заблуждение.
— Я уже говорил вам: сколько стои́т мир, столько люди ищут истину. И не найдут, ибо она у каждого своя, — возразил вяло Богусловский.
— Но есть вселюдские истины. Есть вера в лучшее завтра. Она извечна, иначе не родилась бы и не стала столь живучей идея неземного, а затем и земного рая, не было бы страстного желания людей делать это лучшее своими руками. Я человек и оттого не могу тоже не думать о лучшем, не делать лучшее. И никто не может — слышите, никто! — осуждать меня…
Последние слова едва доходили до сознания Иннокентия. Ему уже стало совершенно безразлично, какой сделает для себя вывод из случившегося Климентьев.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Нет, такого Андрей Левонтьев не ожидал. Все, кажется, шло блестяще. Отряд по пути к Семиречью, да и в Семиречье прибавился намного, никаких, однако, попыток потеснить власть атамана не случилось. Газякин оказался незаменимым помощником: все знал, везде поспевал повлиять, а если требовалось, то и подмять. Никого в отряде не осталось, кто бы не рубанул шашкой совдеповца либо коммунара, кто бы не сорвал грубо платья с вдовы убитого совдеповца. Не уйдет из отряда, как считал Левонтьев, теперь никто — все почувствовали безнаказанную власть над себе подобными, вольную волю обращаться с жизнями людей по своему уразумению. Левонтьев уже предвкушал добрый отдых в Верненской крепости, которую рассчитывал свободно захватить, не представляя даже, что казаки станут противиться казакам. Отряд самооборонцев, какие попадались ему на пути и какой наверняка был в Верном, он в счет не брал. Увы, орешек оказался не по зубам. Километрах в трех от города, с питомника купца Моисеева, встретили отряд пулеметы. Оповестили, видать, город о появлении белоказачьего отряда. Не пришли казаки еще в себя от такой неожиданности, а уж эскадрон пластает навстречу, поигрывая клинками. Только поспешный отход в предгорье Ала-Тау, в лесные дебри, спас отряд от полного разгрома.
Отдышались немного и стали совет держать, куда подаваться. Левонтьев собрал привычный «круг» — пусть погорячатся. После поражения в бою, считал он, это полезно. Тем более что Газякин докладывал: винят казаки атамана, разведку, мол, не выслал, не за понюх табаку кровь казачью пролил.
Все так и оказалось: всяк к своему гнездовью тянет. Серчают на своих супротивников, вот-вот за грудки хватать друг дружку начнут. Толковой, однако, мысли Левонтьев никак не мог уловить. Сплошь пустобрехство. Только десяток казаков, стоявших вроде бы вместе со всеми на поляне, в то же время друг к другу плотней, чем к остальным, помалкивали. Знал Левонтьев, что из одной станицы они, из Алексеевской. Никто не заговорит из них, пока не скажет своего слова старший — урядник Васин, похожий внешне на Газякина, только уверенный в себе. Все время, как Васин появился в отряде, Андрей пытался приблизить его к себе, но ничего из этого не выходило. Рядом вроде бы урядник, но сам в себе. Вот и теперь: вместе со всеми, но и особняком. А наверняка имеет что предложить.
— Прошу тишины, — крикнул Левонтьев, пересиливая гвалт. — Хочу слышать мнение урядника Васина.
Притихли, раз атаман потребовал. Повернули головы к алексеевским. Во взглядах у иных презрительность, у других — ненависть. Не воспринимается равнодушно ни в каких кругах, ни в каких сферах самостоятельность суждений и взглядов, на том стоит человечество. Ровно все должно быть, как травка на газоне, как подстриженная живая изгородь. Все, что начинает возвышаться, — скосить, состричь. Не нарушай ласкающей глаз гармонии…
— Мне ли слово, когда за клинки уже хватаются? — с сомнением ответил Васин. — Есть у меня мыслишка, только по душе ли она казакам?
— Говори, чего уж, — снисходительно разрешили казаки. — Говори.
— На Медеу податься следует теперь.
Хохот взметнулся над поляной. Ого-го-го! Вот это ответ! В щель забраться, как тараканы, и ждать, пока совдеповцы не пожалуют да не пустят кровушку казачью!
— Тихо, — гневно крикнул Левонтьев. — Я хочу знать его совет!
— Я уже сказал свое, — ответил спокойно Васин, когда притихла поляна. — На Медеу. Иль разжевать? Коням там корм есть? Есть. Нам прокорм? Скота тьма-тьмущая. Передохнем чуток, пока разведаем, где казачья сила не сломлена, туда и подадимся. Не сайгачить же по степи вслепую, коней гробить, себя под пули совать…
Посомневались для порядка казаки, но уже без горячности возражали, а вяло, и понявший настроение казаков Левонтьев приказал:
— По коням!
На разведку в Верный он послал несколько человек по разным маршрутам. Перестраховался. Ведь может кто-то наткнуться на разъезд либо в самом городе оплошать, зато другие задание выполнят.
Медео оказалось прекрасным местом. Коней пустили пастись на густотравные склоны предгорных холмов. Не остались без еды доброй и казаки. Хозяин богатого аула, похоже, обрадовался появлению казаков, повелел резать баранов, нести кумыс и айран. Настроение у всех поднялось, стало празднично-благодушным. Даже в засаду, которую Левонтьев приказал выставить на случай если кто из разведчиков, попав в плен, не умолчит о местоположении отряда, отряжались неохотно.
Беспечность царила в отряде и на следующий день, хотя казаки стали замечать недобрость во взглядах пастухов и табунщиков, для которых такое множество незваных и, похоже, не торопившихся покидать урочище гостей было обременительно. Когда же вернулся один из разведчиков и рассказал, как твердо держат в городе власть совдеповцы, и никто не знает, в каких городах такая власть слаба, нахмурились казачьи лбы.
Второй разведчик вернулся и тоже принес неутешительную весть.
Рассказ третьего посеял еще большую безнадежность.
Гозякин докладывает, что поговаривают казаки меж собой, не пора ли, дескать, бросать эту канитель?
Хочешь не хочешь, а задумаешься над всем этим. Поймешь, что нужны самые срочные меры, чтобы сохранить отряд боевым и единогласным. Однако сколько бы Левонтьев ни думал, с кем бы из верных своих подручных ни советовался, ничего стоящего не находил.
Вот уже вернулись все разведчики. Только есаула Васина нет. И уже не шепотком, в кулак, а во всеуслышание раздается:
— Переметнулся, не иначе!
— И то верно. Не только помилуют за такую измену, но и чин дадут!
— Как не дать! Заманил в мешок, бери нас голыми руками.
К Левонтьеву, атаману своему, подступают смело: решай, как поступать дальше?
Известна Левонтьеву переменчивость людских симпатий. Только сильный и смелый в авторитете. Дай одну, да другую, да третью промашки, и авторитету твоему конец. Это — первый промах. Достойный выход из него вернет послушание непрекословное. Но впредь следует не казаков оберегать от ненужных потерь, а свою власть, свой авторитет. Спросил Газякина:
— Всех приметил, кто слишком ретив?
— Иначе как же? Дайте срок, обуздаю!
— Утром уходим отсюда. Спускаемся к границе. По пути дадим казакам потешиться над совдеповцами. Пригляди, чтобы к утру все было готово.
— Слушаюсь.
Ловили коней, набивали сетки сеном, коптили мясо, собирали со всех юрт баурсаки[36] и курт[37], и к рассвету отряд готов был двинуться в путь. Но случилась заминка. Приятная заминка: вернулся Васин и принес приятную весть.
— В Жаркенте председатель совдепа миллионер Кувшинов, с ним купцы Салихов, Мершанов, Иванов, бывший городской голова, бывший следователь и бывший судья. Туда и путь держать.
Верные слова. Теперь о маршруте подумать. Васин предлагает:
— Можно и предгорьем. Здесь сел да станиц погуще, поразгульней будет отряду.
— Хорошо. Двигаемся предгорьем, — согласился Андрей Левонтьев. — По коням!
Не екнуло в тот миг сердце у товарища Климентьева, не подсказало предчувствие, что сказаны роковые слова и для него, и для всей коммуны, что уже меньше чем через неделю въедут казаки в открытые ворота караван-сарая.
Могло бы, возможно, ничего не произойти, ибо вначале Левонтьев предполагал свернуть в степь по реке Чарын, и тогда коммуна осталась бы в полусотне верст восточнее, но прослышали казаки о коммуне, которая для баев была бельмом в глазу. Гневались баи оттого, что не отмщена смерть почтенного человека, главы рода, погибшего от рук — кого?! — самих сородичей. Молва многолика, и каждый выуживает из нее и запоминает то, что волнует его. Баи восприняли молву по-своему. Распаляла почтенных старейшин и аксакалов-богачей еще и боязнь потерять уважение и послушание своих бедных сородичей, которыми коммуна воспринималась как утренняя заря. Вот и старался каждый, у кого останавливался Левонтьев, очернить коммунаров.
После очередного обильного обеда с кумысом и бузой Левонтьев решил изменить маршрут отряда.
Узун-кулак[38] быстрее ветра нес весть о Левонтьеве, свирепом как тигр. Велики у страха глаза, вот и неслись от аула к аулу джигиты, снимались чабаны с обжитых мест, гнали поспешно овец и лошадей подальше в степь либо в горы, лишь бы в сторону от приближающейся лютой смерти.
Дошел слух об отряде белоказаков и до коммунаров. Собрались те на сходку. И стар и млад. Двор караван-сарая битком набит. Впору проводить собрание на вольном просторе — так разрослась коммуна. Радостно на душе у Климентьева: взросли семена добра, могучую поросль дали. Начинали же, можно сказать, с ничего: десяток семей, коровенок пяток, десяток поставленных на ноги лошадок-работяг да петух краснокрылый с малочисленным гаремом. Особенно много народу добавилось после того, как хлебопашцы объединились со скотоводами. Приедет казах или русский поглядеть, верны ли слухи, что дружно и в полном достатке живут люди разных наций, а уезжать уже не хочет. Принимали всех желающих. Как все домики в караван-сарае заселили под завязку, стали на берегу реки строить. Камышитовые дома. Артельно, за считанные дни. Многие чабаны согласились жить не в юртах, а в домах. Разрастался поселок стремительно по обоим берегам реки, но не ухудшалось от этого сытное житье — работали все без понуканий. Сообща решали и все вопросы. Не припомнит Климентьев, чтобы разногласия большие возникали на собраниях. Думал и сейчас, послушаются его без особых споров. Внушительно заговорил, стараясь не частить, чтобы слова в душу западали:
— Следует ли нам опасаться казаков? Думаю, нет. Кто такой казак? Он такой же хлебопашец, как и мы. Любит он землю ухоженную. Скотину тоже он любит и ухаживает за ней любо-дорого. Увидят казаки наше отличное хозяйство, поймут всю выгоду нашего устройства труда и захотят, поверьте мне, перенять. А уж пояснить, поверьте мне, я смогу. Открытые сердца наши вызовут ответное добро. Ну, найдется пусть десяток недоброжелателей, кто не поймет нас, так вон нас сколько?! Пусть без оружия, но, повторяю, с открытым сердцем. А это еще сильней. Сопротивление же, считаю, вызовет ответный гнев, а это для нас нежелательно, это подорвет саму суть нашего здесь существования, самую идею добра…
— Не пограничники бы давеча, косточки бы наши давно погнили, — вырвался из толпы неуверенный, словно пробный голос.
— Но баю хотелось захватить землю нашу, казакам же она не нужна. А если нужна — милости просим к нам в артель. Ее тут на всех хватит.
— Запереть бы ворота, надежней оно, — донеслось из толпы уже более настойчиво. — Береженого бог бережет.
И тут, словно прорвалась запруда, хлынул поток выкриков. Один другого громче:
— В горы уходить!
— Добро бросать?! Авось минуют белоказаки нас.
— В горы! Там спасение!
Как ни убеждал коммунаров Климентьев не паниковать, многие не послушали его, собрали спешно скарб и подались в горы, угоняя с собой несколько отар овец и табуны коней. Но, на беду свою, осталось немало пахарей, чабанов и табунщиков.
На следующее утро еще несколько семей покинуло коммуну, поэтому оставшимся коммунарам прибавилось работы, и они даже не заметили, как заволокли сумерки горы и степь. Подошла пора дойки, и чабаны на лужайке у берега реки, ловко прижимая овечьи шеи петлями длинного аркана, выстраивали овец в длинную цепочку, а женщины, не дожидаясь, пока свяжут всех дойных овец, уже начали с привычной сноровистостью выдаивать жирное густое молоко в специально сработанные для этой цели овечьи желудки. В караван-сарае шла своя работа. Там доили коров, поили и задавали корм лошадям, растирали их натруженные ноги и бока. Но вот все вечерние хлопоты подошли к концу, коммунары разошлись по своим домам, чтобы, почаевав всласть, поспать до рассвета малое время, снять хоть на немного усталость. Как они считали, им предстоял завтрашний день не менее хлопотный.
А в это время в полуверсте от караван-сарая остановился в неглубокой впадинке, заваленной шарами перекати-поля, отряд Левонтьева. Спешились казаки и стали ждать, пока разведчики разведают, как подступиться к коммуне. Помалкивают, а стремена подтянуты, чтобы не звякнули ненароком. Никто не крутит самокруток, не достает кресал. Нельзя, демаскировка.
Вернулись разведчики, докладывают удивленно:
— Ворота открыты. Охраны нет. В окнах кое-где еще горит свет…
— По коням, — негромко приказал Левонтьев и, дождавшись, когда казаки выполнят команду, продолжил: — Газякин, возьми десяток молодцов — и вперед.
Только через несколько минут повел Левонтьев весь отряд к караван-сараю, настороженно ожидая выстрелов.
Напрасно Левонтьев опасался возможной хитрости коммунаров, Гозякина встретил всего один человек, назвавшийся дежурным. Скрывая испуг, с насильной ласковостью он залепетал:
— Милости прошу. Сейчас товарища Климентьева покличу. В один миг. Лампа горит в евонных окнах.
— Не спеши, — остановил его Газякин. — Мы сами. В каком он доме?
— Вон светится.
Дежурный отвечал на все вопросы скоро и подробно, как принято было здесь не таить перед гостями ничего, и, когда Левонтьев с отрядом подъехал к воротам, Газякин знал уже все о коммуне. Предложил Левонтьеву:
— Половину отряда — к речке. Дома и юрты почистить. Остальные — здесь. Первым брать председателя.
— Хорошо, — согласился Левонтьев и бросил теперь уже трясущемуся от страха коммунару: — Веди к председателю.
Если бы казаки подъехали шумно, весь ход дальнейших событий мог бы для них осложниться. Были у некоторых коммунаров охотничьи ружья, в сенях у иных стояли косы — при нужде какое-никакое, а оружие. Но казаки действовали настолько тихо, что даже в ближних домиках никто не проснулся, а до дальних никаких звуков и вовсе не доносилось. Не слышали ничего и в председательском домике. Лариса Карловна взбила подушки, расправила одеяло и, полная нежных чувств и предвкушающая близость порывистых ласк любимого мужчины, живя ими, готовая к ним, подошла к Климентьеву, чтобы помочь ему раздеться, как делала это каждый вечер после его ранения. Сняла рубашку, провела мягко ладонью по шраму, прижалась к Климентьеву, но в это время услышала приближающиеся к дому шаги. Твердые, уверенные.
— Кто-то идет?
— Может, не к нам?
А топот сапог уже в сенцах. Резко распахнулась дверь в комнату, и с приторной любезностью вошедший офицер представился:
— Левонтьев. В настоящее время атаман казачьего, простите, белоказачьего отряда. С кем имею честь? С товарищем, как вас величают, Климентьевым?
— Да. Я поставил перед собой цель: примером личным нести доброе в эти дикие степи. Моя идея увлекла многих…
— Увести! Всех в клинки, этих коммунаров. Всех!
Лариса прижалась к Климентьеву, но ее грубо оттащили, и до ее слуха, словно издалека, словно из небытия, донеслось:
— Коммунарок — казакам в утеху.
Шагнул к ней: молод, красив, перетянут ремнями, а взгляд презрительно-похотливый, отвратительный. Машинально запахнула полы халатика и принялась судорожно застегивать пуговицы. Услышала издалека, из небытия:
— Красавица. Неплохо бы ночку провести с такой. — Повернулся к казакам, еще не успевшим вывести Климентьева: — В клинки всех! Живо!
— Прощай, Лариса, — спокойно проговорил Климентьев. — Прощай и прости. Чего-то я в жизни не понял…
Она кинулась к нему, но оказалась в жестких руках Левонтьева…
Двое суток отряд утешался в караван-сарае, в поселке на берегу и в юртах насильной любовью, откармливал коней семенным овсом и семенной пшеницей, а когда Левонтьев скомандовал сбор в поход, набили зерном не только переметные сумки, но еще и перекинули через седла хурджумы, прихваченные в юртах.
Левонтьев оглядел строй, остался недоволен тем, что кони скорее походили на вьючных, чем на строевых, но не упрекнул никого, не распорядился оставить весь нештатный груз. Наоборот, весело пошутил:
— Мы славно поработали. Есть о чем доложить предсовдепу в Джаркенте.
Смешок перекатился по рядам, кто-то спросил шутливо: «Еще бы ночку поработать, а?» — строй загоготал, пересыпая хохот сальными шутками.
— За мной, марш-марш! — насмеявшись вместе со всеми, скомандовал Левонтьев, застоявшийся конь его нетерпеливо рванул в галоп, но, послушный поводу, перешел на мягкую рысь.
Доволен Левонтьев, что разгромлена коммуна, но не меньше доволен тем, что те «прыткие», как они с Газякиным окрестили проявивших в Медео недовольство казаков, тоже не сторонились; он представлял себе, с каким удовольствием воспримут Кувшинов и другие совдеповцы Джаркента сообщение о гибели коммуны, и вовсе не подозревал, какую совершил ошибку, изменив маршрут и потеряв на это несколько дней, и как эта ошибка повлияет не только на судьбу отряда, но и на всю политическую обстановку в этом людном уголке Семиречья.
Произошло в Джаркенте то, что рано или поздно, а должно было произойти. Давно уже вернувшиеся домой фронтовики поговаривали, что пора бы сместить буржуазный совдеп, но недоставало у них решительности. Вернее, не находился человек, который бы возглавил борьбу. И вот он приехал. Раненый фронтовик, начальник штаба революционного пограничного полка. Из Петрограда в Верный с мандатом — честь по чести; а из Верного — в Джаркент. И уже на следующий день добрая полусотня бывших фронтовиков заполнила помещение совдепа. Требование одно: отчитаться перед народом о своих делах. Кому дали землю, кому улучшен быт, как распределяются народные деньги.
Кувшинов тут же отказался от своих полномочий, другие же совдеповцы, покуражась, согласились собрать представителей народа, перед которыми и отчитаться. Надеялись, видимо, собрать своих сторонников.
Вышло, однако, по-другому. Городской сад, где должен был состояться отчет, заполнила беднота не только города, но и окрестных сел и аулов. Русские, украинцы, казахи и уйгуры. Совдеп, естественно, переизбрали. Тут же началась добровольная запись в Красную гвардию. И когда отряд Левонтьева приблизился к Джаркенту, там уже были готовы встретить его пулеметами.
Как и на подъезде к Верному, Левонтьев не выслал и теперь разведку. В богатых юртах ему расхваливали джаркентский совдеп как настоящий, уважающий обычаи старины. О самом же Кувшинове наговорили столько лестного, что Левонтьев, не зная его, рад был служить человеку, имя которого называлось с великим почтением. Но как и на подступах к Верному, ударили пулеметы, а вслед за этим выпластали справа и слева с околичных садов по эскадрону всадников.
Если, однако, от Верного левонтьевские казаки ушли в горы, то здесь такого надежного укрытия поблизости не было, отряд вынужден был принять бой, и, действуй красногвардейцы пограмотней да посноровистей, чем бы все кончилось, известно одному богу.
Противники, однако, остались, как говорится, при своих интересах. Казаки отбили атаку красногвардейцев, в Джаркент же врываться не осмелились. Отступили на несколько километров и, встретив саксаульник, расположились в нем на ночлег. И хотя потери в отряде оказались небольшие, но посоловели казаки — разрушилась у них еще одна надежда. Если бы они шли брать Джаркент с боем, но не смогли этого сделать, тогда дело иное, разочарование тогда не было бы столь подавляющим, но они же рассчитывали на радушный прием и так жестоко оказались обманутыми.
— Без головы, что ли, атаман наш? — ворчали казаки. — Разведал бы город.
— И то верно. Завихрились бы ночью, куда бы совдеповцы подевались?! А теперь сунься попробуй. Застав понатыкали, должно.
Левонтьев и сам клял себя теперь уже за вторую оплошность: опытный офицер, пограничник — и надо же так сротозеить? И видел выход только в риске. В смертельном риске.
Среди красногвардейцев, атакующих отряд, Левонтьев заметил Трибчевского, с которым не единожды встречался в штабе погранкорпуса и о котором много слышал как о перспективном офицере, и вахмистра Ремизова, который служил на Алае под его, Левонтьева, началом и которого перевели в Семиречье незадолго до революции. К ним и решил, пробравшись в город, наведаться Левонтьев. Если предприятие удастся, атаманство его останется незыблемым. Казаки любят отчаянных.
Только к кому первому? К Трибчевскому? Скакал в общей лаве, как простой солдат. Но вряд ли он на рядовых ролях. Скорее совдепом повелевает.
А может, к Ремизову? Похоже, боем руководил он. И не безупречно. Чем больше Левонтьев анализировал каждый тактический маневр красногвардейцев, тем яснее ему виделись просчеты Ремизова. Атака с двух флангов вроде бы и разумна, но тогда нужно было обход сделать более глубокий. Получилась же полная бесполезность: стоило чуть-чуть казакам попятиться, и красногвардейцы едва друг с другом не сшиблись. Пока меняли направление атаки, казаки хлестнули разок-другой залпами, хочешь не хочешь, а повернешь обратно в сады, чтобы укрыться от пуль. Случайно ли все это? По Алаю Ремизов запомнился Левонтьеву как тактически грамотный вахмистр. Любое приказание, бывало, выполнит отменно. Все видели — рвался Ремизов в офицеры.
«Грудь в крестах или голова в кустах», — повторил мысленно Левонтьев любимую поговорку отца и приказал Газякину:
— Васина ко мне. Приготовь форму рядового казака для меня. На красные ленты спороть лампасы.
— Позвольте и мне в разведку? — предложил свои услуги Газякин. Левонтьев, однако, возразил:
— Приглядывай за «прыткими». Если что, не церемонься. Ясно?
— Так точно.
Урядника Васина и еще пятерых казаков взял с собой атаман. У всех — банты красные на груди, как у тех красногвардейцев, что атаковали отряд. Васин — впереди. Левонтьев — в роли рядового. Сделали изрядный крюк и подъехали к Джаркенту с северной стороны. Спешились у кукурузного поля, Васин с одним казаком исчез в ночи, чтобы найти караул и, дождавшись смены часовых, подслушать пропуск и отзыв.
Долго не возвращался урядник, но вот наконец выскользнул из кукурузных зарослей. Доложил:
— Нагель — Нарынкол.
— Тогда с богом! — распорядился Левонтьев. — Вперед.
Проехали первую заставу благополучно. Без осложнений обменялись паролем с красногвардейским патрулем, важно шествующим посредине улицы, сдавленной с обеих сторон палисадниками. Когда же выехали на базарную площадь, в ночи отпугивающе-пустынную, попался им дотошный патруль.
— Кто и откуда?
— Сказан тебе пароль, вот и баста! — рубанул Васин. — В крепость мы. А ну расступись!
— Не пугай пуганых! — угрожающе вскинул винтовку, сделав шаг вперед, приземистый казак с бантом на груди. — А ну слазь!
Левонтьев, понимая, что осложнения могут привести не к доброму концу, хотел было попросить патрульных, чтобы, не скандаля, сопроводили в крепость к Ремизову, и если же те воспротивились бы этой просьбе, тогда выход один: в клинки и — вон из города, сметая по пути патрули и заставы, но его опередил шагнувший вперед казак с бантом. Он был, похоже, старшим патруля.
— Слазь, слазь! Доставим к Ремизову, он разберется!
Теперь Левонтьев мог благодарить бога за столь счастливую развязку первой части задуманного. Да, он вполне был уверен, что Ремизов в крепости, но столь же уверен был и в том, что совдеповцы тоже там. Встречи же с любым из них он, естественно, не хотел, хотя понимал, что такая встреча не исключена во время поиска Ремизова. Теперь все страхи отпали. Теперь одна мысль в голове: как поведет себя Ремизов.
В крепость их ввели со стороны конюшен.
— Вот здесь, в манеже, погодите, — указывая, куда завести лошадей, распорядился старший патруля. — Кто старшой, айда со мной.
Вызвались Васин и Левонтьев. Это не понравилось казаку-красногвардейцу. Возмутился:
— Я старшого звал. Вдвух у Ремизова чего делать?
— Веди двоих! Так надо! — грубо отпарировал Васин. — Задержал — твоя власть. Куражиться — не сметь! Не на гулянку мы ездили. Уяснил?
— Карабины оставь здесь, — покладистей распорядился старший патруля. — Айда.
Пошагали по песчаной дорожке с густой живой изгородью по обочинам и могучими ветвями над головой. Все, что дальше, не видно. Темень укутала.
Долгой кажется эта мягкая к ноге дорожка, сплетается то с одной, то с другой, таких же размеров и с таким же густым, ровно подстриженным кустарником по бокам. Если уходить придется, пару пустяков сбиться с пути. Бодрит лишь твердая теплота ревнагана в кармане шаровар. Выхватить его — один миг.
Подошли наконец к крыльцу штаба. Часовой окрикнул грубо:
— Пропуск?
— Приклад.
Вот в чем дело. У караулов крепости иной пароль. Оттого и задержаны. Промах крепкий. Правда, на пользу дела оказался. Не пришлось плутать по крепости.
— Сам у себя? — спросил старший патруля. — Для выяснения.
— У себя. Веди.
Широкий коридор с одной керосиновой лампой в дальнем конце. Неуютно от полумрака и гулких шагов. Хоть бы скорее нужная дверь. Возле самой лампы она. Обита хромом. Что кроет она за своей глянцевой чернотой?!
«Господи! Обереги!»
Вошли в кабинет. Просторен, с двумя семилинейными лампами на дубовом столе. Взгляды Левонтьева и Ремизова скрестились. «Прекрасно. Испуг есть», — отметил с радостью Левонтьев и, чтобы не возникло какой неловкости, заговорил первым:
— Задание выполнено. Готов доложить.
Поспокойнел взгляд Ремизова. Еще миг — и вовсе справился с собой бывший вахмистр. Вышел из-за стола, пожал крепко руку Левонтьеву, затем Васину, а казаку-патрульному кивнул:
— Молодцом, что ко мне сразу привел. Мы тут поговорим одни, а вы, — на Васина тоже указал, — подождите на крыльце дальнейших указаний. — Когда дверь закрылась и приглушенно послышались удалявшиеся шаги, Ремизов, разводя руки, воскликнул: — Ну, Дмитрий Павлантьевич, за такой вояж в доброе время к «Георгию» представили бы.
— Вернем императора, чинов и наград не занимать станет, — ответил Левонтьев. — Но пока поругана и его и наша честь. Мы присягали, и мы обязаны свято блюсти верность!
— Горяч. Ох, горяч! Лбом нынче ничего не прошибешь. Ум и ловкость — вот наш козырь. Пусть побузит чернь, польет кровь и слезы, а у власти останемся все равно мы. Понимаешь, мы!
«Эка, унтер-офицеришко, однодворец, а туда же — в князи», — неприязненно воспринял слова и фамильярность Ремизова Левонтьев, но перечить не стал. А вахмистр столь же уверенно продолжал:
— А император? Бог ему судья, коли подданных своих в узде удержать оказался не в состоянии.
— Вы говорите о грядущем, я предлагаю власть сегодня. Власть в наши руки. Для этого всего лишь нужно моему отряду войти в Джаркент. Мы тут быстро наведем порядок!
— Дело нелегкое. Понаехало в город изрядно черни, а совдеп многим выдал оружие. Вояки они никудышные, но ядро, с позволения сказать, гвардии красной — казаки. С ними куда как не просто. — Прошелся по кабинету в раздумье, остановился вновь напротив Левонтьева. — Даже не знаю, что ответить. — И вдруг воскликнул радостно: — Верно! Так и поступим. Давай к столу! — уже повелительно пригласил Левонтьева.
Передернуло Левонтьева от этого приказного «давай», неприятна ему эта непочтительность. Нахмурился. Но вновь сдержался. Подошел к столу.
Ремизову же не до наблюдений за настроением собеседника. Говорит вдохновенно:
— На завтра намечен общегородской митинг на базарной площади, до которой от крепости рукой подать. Красной гвардии совдеп поручил обеспечение порядка на митинге. Я выведу максимальную часть красногвардейцев. Без оружия. Просто участвовать в митинге. Патрулей выставлю только вблизи площади, на южных улицах. Между крепостью и базаром никого не будет. Маршрут для тебя — сегодняшний. Успех будет зависеть от того, как бесшумно снимете вы заставу.
Он командовал. Он не исполнял волю Левонтьева, он диктовал ему, а это никак не входило в планы атамана. Взять город, чтобы попасть в подчинение унтер-офицера? Лихо!
Слушал, однако, Левонтьев внимательно, все запоминал, со всем соглашался.
— Пароль на завтра: Баек — Бийск. Запомнишь?
— Конечно.
— Что ж, тогда до завтра. Я провожу тебя.
«Наглец! Как к нижнему чину обращается. Ничего, сочтемся!»
Вахмистр Ремизов проводил Левонтьева до манежа и, словно повторяя приказ, напутствовал:
— До самых мелочей разведать. И — немедленно назад! Приказ ясен?
— Да.
— Тогда — вперед.
Уже рассвело, когда Левонтьев вернулся в свой отряд. Спрыгнул с коня и бросил Газякину:
— Седлать коней! Живо!
Построился отряд, ждет, что скажет атаман. Веры той, какая прежде была, нет. Плохеть начал. Не пора ли менять?
А Левонтьев не спешит. Левонтьев красует себя перед строем. Эффектен, ничего не скажешь, влит в коня, одно с ним целое. Взгляд смелый, веселый.
— Молодцы! Будет вам сегодня воля потешиться! Джаркент ждет вас!
Не возликовали казаки. Не верилось им, что за ночь, которую провели они, как зайцы, в саксаульнике, изменилось что-либо. И хотя успели казаки узнать еще до построения, что Левонтьев побывал у самого красногвардейского командира, они не могли пока осмыслить всей выгоды столь рискованного действия атамана. Смелость одобряли, но проку пока в ней не видели. Левонтьев же не спешил раскрывать карты. Повел недоумевавший и не вполне веривший ему отряд в обход Джаркента.
Только невдалеке от города остановил Левонтьев отряд у кукурузного поля. Подозвал Васина:
— Бери вчерашних молодцов. Задача: снять засаду. Без выстрела.
Подождал, пока осядет пыль на дороге после ускакавших казаков, и принялся распределять отряд — кому крепость брать, кому базарную площадь в клинки. Когда же прискакал посыльный от Васина с докладом: «Путь свободен!», молвил торжественно:
— С богом, молодцы!
А на городской улице, испуганно поглядывавшей окнами домов на белогвардейский отряд, невесть откуда взявшийся, Левонтьев спросил рысившего рядом Газякина:
— Вахмистра Ремизова помнишь?
— А то. Бычился все, нос драл знатней офицеров.
— Отступился от присяги. Красногвардейцами командовал. Теперь и их предал. На трибуне должен стоять. Его первого снимешь. Потом уж остальных совдеповских главарей. Определи пяток стрелков метких. Запомни: Ремизова — первым. Сам бери его на мушку. Понял?
— В удовольствие свое. Попортил на Алае мне кровушки.
Не все так произошло, как наметил Левонтьев. Крепость взяли лихо, почти без выстрелов, но на базарной площади вольной рубки не получилось. По раздольному полю да на полном аллюре налети казаки, не сдержать бы красногвардейцам лавы, а когда табуном из одной узкой улочки, где не то что галопом нестись, но и рысью не разбежишься, вываливаться начали казаки, тут времени в достатке, чтобы загородить собою беспомощную базарную площадь. Первым встретил казаков огнем патруль, который оказался ближе всех. Смяли его казаки, потоптали и порубили, но слева и справа открыли огонь другие патрульные группы, а устроители митинга, руководители совдепа, попрыгав с помоста-трибуны, бросились тоже навстречу казакам. И в этот миг не единожды похвалил себя Трибчевский, который настоял, чтобы красногвардейцы, вопреки приказу Ремизова, вышли на митинг и с оружием, и с боеприпасами.
На трибуне только Ремизов. Кричит зычно, вроде распоряжается, а сам панику наводит:
— За дома разбегайтесь. За дома! Быстро, если жизнь дорога!
Поперхнувшись, рухнул на доски. Газякин белке в глаз стрелял, а выцелить голову — для него плевое дело.
Вырываясь из толпы, красногвардейцы смыкались в цепь и, припав на колено, стреляли по казакам в упор. Казаки попятились за дома и, спешившись, повели ответный огонь.
Невыгодно красногвардейцам. На виду они, негде укрыться от меткой казачьей пули. Никто, однако, не отступил, пока вся базарная площадь не очистилась от людей.
— Отходи! — скомандовал Трибчевский, который был со всеми вместе в цепи, и красногвардейцы, отстреливаясь, начали отступать за дома.
Когда оказались в безопасности, Трибчевский предложил:
— Оставим заслон, а сами — из города. Спешно.
— Может, напротив, выбьем? Их же немного, — предложил предсовдепа.
— А огнезапас большой ли? — спросил Трибчевский, затем заговорил резко: — Для споров времени нет. Командование отрядом беру на себя. Приказы прошу выполнять беспрекословно.
Он не хотел повторения того, что произошло с пограничным полком в Финляндии. Он не раз корил себя за уступку, которую сделал тогда полковому комитету. Он лучше комитетчиков понимал обстановку и должен был подчинить их себе. Теперь не допустит безграмотных действий.
— Повторяю: беспрекословно подчиняться. Бесцельных жертв я не допущу! — Затем, уже мягче, пояснил: — По всему видно, случилась измена. Крепость, уверен в этом, занята казаками. Первейшая наша цель — спасти наш отряд. Поэтому требую немедленного отступления.
Действительно, решение это весьма соответствовало обстоятельствам, тем более что Газякин не осмеливался атаковать красногвардейцев, которых было значительно больше и которые могли делать засады на каждой улице. Послал посыльного к Левонтьеву за помощью, чтобы окружить совдеповцев. Пока подоспела помощь, Трибчевский увел отряд из города. Преследовать его казаки не стали.
Левонтьев торжествовал победу. Только Джаркента ему было мало. Он слал гонцов в Баскунчи, Подгорновку, Джаланашколь, в Кок-Тал — везде хотел иметь свое влияние, казаков всей округи свести в одно войско: он видел себя атаманом войска Джаркентского, а там, бог даст, и Семиреченского.
Только ведь как говорится: мыши с кошкой не подраться. Крепли и партизанские отряды Лесновский и Коктальский, да еще Верный помощь направил. Объединились и обложили Джаркент: ни выехать никакому гонцу из города, ни въехать. В самом городе тоже неспокойно стало. Поначалу-то не очень свирепствовавшие белоказаки покруче взяли, да толку-то ни на грош от того. Кто труслив, тот, конечно, ставни не открывает, но кого пули и шашки казачьи не страшили, ибо сами умели стрелять и сплеча рубить, отправляли еженощно многих патрульных на тот свет.
Зароптали казаки, и Левонтьев решил уходить из города. Ночью уходить. Чтобы добраться до рассвета к горам, а там уже решать, как поступить дальше: идти ли в подчинение к Дутову, чего Левонтьев никак не хотел делать, уходить ли за кордон.
Готовились в полной тайне от жителей города. Хотя и понатыкали белоказаки засад довольно, но вдруг прошмыгнет кто-либо. Оно ведь как: береженого коня и зверь не бьет.
Хотел Левонтьев поначалу всем отрядом идти на прорыв, но затем передумал. Риск большой, по дорогам заслоны крепкие. Надеяться, что Трибчевский или другие командиры ротозейничают, было бы смешным. Вот и решил просочиться сквозь блокаду мелкими группами, как мука через сито. План этот, по мнению самого же Левонтьева, был, однако, уязвим в том, что часть казаков могла не выйти к месту сбора. Но эта беда казалась ему меньшей, к тому же локализуемой при определенном подборе групп. Вот и сел он вместе с Газякиным, чтобы свести до минимума возможное дезертирство, намечать группы, назначая старшим каждой верного казака.
Построил отряд всего за полчаса до начала операции. Выехал к строю, повел взглядом по звеньям, хотя уже сумерки мешали разглядеть лица казаков. Да его мало интересовало, хмуры ли казаки, радостны ли, главное эффект произвести: командир-отец смотрит на своих подчиненных в трудную минуту, чтобы запомнить их лица, чтобы вдохновить. На это рассчитывал, этого добивался.
Заговорил уверенно, будто не бежать из города предстояло казакам, а готовились они к победному бою.
— Уходим, молодцы, временно. Уходим группами. На Сарыбель. Оттуда — в горы. Думаю, каждому понятно, что, попади он в руки красных, суд свершится над ним скорый и страшный. Я выбрал эти часы, потому что еще не ночь, еще нет настороженности у врага, и это поможет нам. Вперед, молодцы! За волю казацкую! За землю нашу разворованную!
Прорыв удался. Прошли без потерь. Более того, все группы, даже те, где было много «прытких», собрались к утру у Сарыбеля. Пяток легкораненых не в счет. Дали передохнуть коням, подкормили их овсом из торб — и в путь. Подальше от Джаркента, от возможного преследования. Так что напрасно опасался Левонтьев, что может начаться в отряде разлад. Он появился потом, много месяцев спустя, когда, уставшие от скитания по стылым горам и крови, подумывать начали казаки, что не пора ли по станицам родным, к земле пахотной. Особенно Васин со станичниками думу эту крепко в головы взяли. Как случался передых от похода, так и разговоры у костра о доме.
— Эхма, истосковалась земля по сеятелю…
— И то верно, сколько колготиться можно? Пора бы коней править к домам.
— Башку не страшно потерять? Спросят станичники, где был.
— Иль тут башку убережешь? Там-то своим пыль в глаза пустить можно: пограничил, мол.
— И то верно. Завтра круг потребуем.
Но вышло не так, как думалось да гадалось. Прикорнули земляки Васина у затухшего костерка, тут как раз и хлестнул выстрел в дальнем ущелье, где караул казачий находился. Через миг понесло-поехало. Гул по горам перекатом пошел от залпов.
— По коням!
Сейчас либо в рубку, если небольшой отряд красноармейцев, или бросок многоверстный по глухим ущельям. Затем передышка день-другой, а потом вновь налеты. Коварные своей неожиданностью. Жестокие.
На этот раз, однако, ни в атаку белоказаки не бросились, ни оторваться от красноармейцев не смогли. Пришлось отходить с боем. До самой границы отстреливаться пришлось. Лишь когда перемахнули бурливую пограничную речку и углубились уже на чужой стороне в глухое ущелье, словно заплесневелое от сырости и вечных сумерек, спешились и сняли седла с мокрых лошадиных спин.
Вперед Левонтьев выслал разведку, а на выход из ущелья, туда, откуда они только что прискакали, направил Газякина с десятком верных ему казаков и «максимом». Напутствовал:
— Если начнут переправу — пулемет в дело. Все понял?
Да, он понял все. Давно уже Левонтьев и Газякин намеревались увести отряд за границу (там спокойно можно отдыхать после каждого налета и всадникам, и коням), но все не решались. Предполагали, что не все согласятся на это. А кто знает, вдруг противники одолеют? Теперь же, когда силой обстоятельств они оказались на чужой земле, возвращаться не намеревались, не обосновавшись здесь, не обзаведясь базою. Если нужно, то можно ради этого пойти в подчинение единому эмигрантскому правлению. Но обсуждения этого вопроса на кругу решили не допускать. Обменялись Левонтьев с Газякиным несколькими фразами. Тихими, чтобы никому не слышно было.
— Если взбунтует кто, сразу же разрешу возвращение. Даже предложу сам. А вот выпускать их нельзя.
— Я заслоном стану.
— Прекрасно…
Ну а задачу заслону ставил чип чином: сберечь отряд от возможного преследования красноармейцев. Что у них на уме? Но знал же Левонтьев непреложное правило красноармейцев: через границу не переходить.
Опасения Левонтьева подтвердились. Пришли в себя малость казаки, и пошли разговоры меж собой говорить: что да как дальше? Вертаться опасно — это факт. На чужбине меда не жди — тоже факт. Момент требовал ставить точку, пока «прыткие» не взбаламутили отряд. Левонтьев приказал построиться.
— Что, молодцы, приуныли? — пружиня на носках, с напускной веселостью спросил Левонтьев, проведя взглядом по лицам казаков, чтобы определить настроение отряда. Ухмыльнулся и продолжил: — Все сложилось как нельзя лучше. Казны нашей, — Левонтьев кивнул на вьюки, возле которых стоял часовой, — хватит, чтобы купить землю. Думаю, у каждого из вас тоже золотишко имеется. Только не пахарями мы станем, а мстителями! Мы вернемся в свои станицы и города! Не владеть разбойникам краснозвездным землями нашими и добром нашим, что от поколения к поколению хребтом наживалось! Конец им один — смерть! Лютая смерть! Скорый конец!
Прошелся горделиво вдоль строя. Пусть поворочают мозгами казаки, но не очень долго, чтобы не успели осмыслить все в доскональности. Продолжил задиристо, эффектно пружиня на носках:
— Не неволю. Кому милей суд красных, может возвращаться. Есть такие? Пусть выйдут из строя…
Не враз дрогнул строй. Левонтьев уже было решил, что напрасно опасался разлада, хотел уже скомандовать: «Разойдись», но тут шагнул вперед Васин. За ним, дружно, станичники его, а уж потом, поодиночке, разнобойно ломая строй, еще несколько казаков.
«Не много, полтора десятка», — определил Левонтьев и проговорил с издевкой:
— Скатертью дорога. Вас ждут клинки красноармейские. Соскучились по вашим дурным головам.
— Смерть дома краше, чем жизнь на чужбине, — смело глядя на Левонтьева, ответил Васин. — Только, думаю, простить могут. Повинную голову меч не сечет.
— Ишь, на что надежда! А если спросят, сколько совдеповцев и коммунаров в клинки вы брали, что ответите? То-то! — Но, поняв, что зря ввязывается в полемику, обрубил: — Все! Если ехать, седлайте коней — и с глаз долой!
Примолкли казаки. И те, кто уезжал, но особенно те, кто оставался. Многие седлали бы сейчас коней вместе с Васиным, но боялись. Боялись встречи с красноармейцами, зная в полной мере свой грех и понимая, что покаянием одним не смыть его. А больше всего не решались возвращаться потому, что не верили Левонтьеву. Не просто так Газякин пулемет прихватил. Красные не полезут — это известно всякому.
Зацокали в тревожно притихшем ущелье подковы, заметался дробный перестук меж высоких гранитных откосов, отдаваясь в душах казачьих, вызывая у одних ненависть, у других — сочувствие, у третьих — зависть. Многие думали так: выпустит Васина атаман, подседлаем коней и — следом. Жадно вслушивались в удаляющийся цокот.
На полпути между отрядом и газякинской засадой Васин остановил коня, снял из-за спины карабин и, дослав патрон в патронник, опустил карабин на луку. Все последовали его примеру.
— Пойдем рысью. Если что — ответный огонь и в галоп. Там поворот, расстояние небольшое, проскочим. А рубить их, пеших, сподручно.
Задумка верная, но не простаком был и Газякин. Верно оценив неудобство своей позиции, выслал к повороту двух своих казаков. Наказал: когда появится кто, без злобы встречать.
— Башку сниму, — угрозливо провожал дозорных Газякин, — если ссора возникнет! В голову ихнюю для успокоения встаньте. Иль вольны мы лишить жизней казаков, с кем кровушку лили вместе?
Последние слова сказал, не веря в преданность дозорных. Что у них на уме? Переметнутся вдруг, тогда, считай, конец. Порубят заслон и спокойненько уйдут.
Газякин жить хотел. Чтобы убивать тех, кого ненавидел. Ненавидел же он всех, кто не единомышленник его. Ну о предателях, какими считал Васина и его земляков-станичников, тут уж и речи никакой не могло быть. Один исход: смерть им. Выпусти, справедливо считал он, одних — отряд рассыплется, не соберешь.
Когда Васин издали увидел дозорных, то насторожился, зашарил глазами по ущелью, нет ли за каким камнем пулемета. Вроде бы пусто до самого поворота. И дозорные едут навстречу с карабинами за спинами.
«Неужто выпустят?!»
Не очень-то верилось. Но вот они — дозорные. Спрашивают, не смена ли.
— Нет, уходим!
— А-а-а. Не боязно? Порубят красные.
— Кто ведает, что станется. Чужбина тоже не мед.
— Оно верно.
Пристроились сразу же за Васиным и вместе едут. Не станут же делать этого, если пулеметом намерен Газякин встречать. И все равно не верится Васину в мирный исход. Неужели, думает, не пожалеет жизни своих двух, чтобы нас в заблуждение ввести? Решил спросить без обиняков:
— Вас что, Газякин приманкой пустил?
— Да нет. Сказывал: не вольны, дескать, жизней лишать своих казаков.
По разуму, не выходил такой расклад. Крепко сомневался Васин. Так и думалось: «Перестрелять следует весь заслон, безо всякой опаски тогда переправляться», но отмахивался, как от назойливого слепня, от этой мысли. А вдруг и впрямь не имеют злого умысла? За что же стрелять их тогда? Грех на душе всю жизнь гирей висеть будет…
Так и не решив, как поступить, выехал Васин к заслону. И крикнул бы «Огонь!», не так ловко сыграй свою роль Газякин. А тут все натурально. Зло смотрит подручный атамана. Цедит сквозь зубы:
— Порешить всех за измену, да не волен!
— Надвое бабка гадала, кто кого порешит, — возразил Васин. — Оно ведь у нас рука не слабее.
— Уезжай, не доводи до греха! — еще больше серчая, отрезал Газякин. — Уезжай.
И что бы нажать Васину на спусковой крючок, вскинув карабин?! Нет, махнул рукой казакам своим, скомандовал:
— За мной!
И только принудили они коней своих спуститься с берега в бурлящую воду, тут и застрочил пулемет захлебисто, ударили карабины дружными залпами в спины людские и конские. Никто даже не успел ответить выстрелом: либо сам падал замертво, либо конь валился, сбрасывая седока в стремительную студеную воду.
До отряда стрельба та донеслась приглушенно, но все поняли, что произошло на реке.
— Седла-ай! — громко крикнул Левонтьев. Он спешил, чтобы не дать казакам времени для осмысления последствий случившегося, чтобы увести их подальше от границы, пока страх закрался им в души, пока мысль о мести еще не пришла.
— Пошевеливайся, молодцы! Быстрей!
Через несколько минут отряд уходил по ущелью от границы. Впереди — Левонтьев. Вскоре догнал их Газякин со своей группой. Ехали они позади, метрах в ста.
Километров пять замшелых, и вот отряд выехал в долину. По всему было видно, что здесь нет недостатка в воде, и оттого, куда ни кинь взгляд, — ухоженные пашни перемежаются с садами, будто обсыпанными розовым снегом. А небольшое селение, видневшееся недалеко, стыдливо, казалось, прикрывало свои белобокие дома розовой кисеей.
Левонтьев подозвал к себе Газякина и, как бы советуясь с ним, высказал свое мнение:
— Проедем поглубже в долину? А можно и попытаться приобрести землю здесь…
— У гор сподручней. Лихо-то, оно не заказано. Горы укроют.
— Что ж, дело советуешь, — согласился Левонтьев.
Ему понравилась долина. Он уже начал прикидывать, какой построить дом для себя, где разместить казаков, чтобы и под рукой были и не мешали. Он вовсе не думал, что ему не продадут землю, ибо готовился отдать любую сумму, какую запросят местные землевладельцы.
Газякина Левонтьев уже видел своим управляющим.
В кишлаке встретили отряд, что говорится, ни шатко ни валко. Брехнули собаки и умолкли, одернутые хозяевами. Лишь несколько стариков, любопытства ради, вышли из ворот на улицу, но у всех у них лица казались в совершенно одинаковых масках — безразличного спокойствия.
Изменилось отношение кишлачных моментально, стоило лишь баю, чей дом стоял особняком, рядом с небольшим прудом в тени вековых ореховых деревьев с еще неокрепшей, по-весеннему нежной листвой, встретить Левонтьева низким поклоном и пригласить к себе в дом. Тут же нарасхват развели казаков по домам, и задымились во дворах гостеприимные очаги.
Хозяин богатого особняка усадил Левонтьева на открытой веранде с колоннами из орехового дерева изумительно кропотливой резьбы, и почти сразу же был принесен чай в ярком пузатом чайнике. Хозяин бросил что-то требовательное юноше, принесшему чай, тот ответил услужливо и бегом побежал со двора. Не успел Левонтьев выпить первую пиалу, как на веранду спешно поднялся мужчина неопределенного возраста с белой чалмой на голове и столь же белой бородой, но которая не старила, а, наоборот, молодила его. Представился:
— Я — толмач. Готов облегчить вашу беседу с досточтимым властелином нашим…
Левонтьев ждал вопроса о том, какая судьба занесла в эту долину русских казаков, но ни хозяин, ни переводчик его не задали. Переводчик спросил у Левонтьева другое:
— Чем может досточтимый властелин помочь вам, бежавшим от красных нечестивцев?
Конкретный вопрос. Столь же конкретный ответ:
— Я хотел бы приобрести землю. Большой участок. Чтобы хватило работать на нем всем казакам, со мною приехавшим…
Ни малейшего удивления на лицах хозяина и переводчика. Будто речь идет о совершенно обыденном деле.
«Я повторил кого-то?» — недоумевал Левонтьев, ожидая ответа.
— Земля есть. Только дорогая, — перевел слова хозяина толмач. — Шибко дорогая.
— Это не препятствие для меня.
— Хорошо, — переводил толмач. — Досточтимый готов обсудить условия. Только как вы, русские, говорите: утро вечера мудренее. С усталым путником не богоугодно решать дела, ибо можно его обмануть. Аллах покарает.
— Я действительно устал, — согласился Левонтьев, — и рад буду хорошему отдыху.
Откуда мог знать Левонтьев, что хозяин послал вглубь долины гонца и специально теперь оттягивает время. Радуясь тому, что земля обещана, ушел Левонтьев в отведенную для него комнату.
Утро и впрямь оказалось вечера мудренее. Проснулся Левонтьев, едва лишь начало рассветать. Открыл окно, в комнату потянуло снежной прохладой, и на душе стало так покойно, как не было покойно вот уже многие месяцы.
Брызнула отраженным лучом самая высокая вершина, похожая, больше чем другие, на острый клык, а следом, как по ранжиру, начали вспыхивать слепящие огнем все новые и новые белоснежные клыки. Зачарованно смотрел на всполошную яркость Левонтьев и не вдруг осознал, что дверь решительно распахнулась и в комнату кто-то вошел.
— Атаман? — резко спросил вошедший, и только тогда Левонтьев обернулся. Перед ним стоял совсем молодой на вид полковник, припудренный пылью и с влажными от конского пота шенкелями.
«Спешил. С чего бы это?» — встревоженно подумал Левонтьев, но ответил с достоинством:
— Да. А с кем имею честь?
— Уполномоченный войскового атамана.
Разговор состоялся недолгий. Упрекнув Левонтьева в том, что тот долго действовал в одиночку и зачастую мешал проведению крупных операций силами нескольких отрядов, уполномоченный предложил без лишних эксцессов влиться, как он выразился, в единую казачью семью.
— Мне велено принять половину кошта вашего для войскового кошта и выделить проводника на место дислокации вашего отряда. Численность его отныне не должна превышать полусотни сабель. Право отбора вам предоставлено. Остальных я увожу с собой.
— Но мне и всем моим казакам нравится здесь. Я намерен приобрести здесь землю…
— Ваши намерения должны быть только одни: служить делу спасения поруганной родины. Все остальное осуждается. Кара единая для всех, — полковник многозначительно положил руку на кобуру маузера.
Нет, такой оборот дела никак не устраивал Левонтьева, но он вполне понимал опасность, которая возникнет, если поперечить войсковому атаману. Часть казаков тут же сбежит от него, Левонтьева, остальных будет ждать незавидная участь. Стиснув зубы, он подчинился. И после завтрака два проводника повели похудевший изрядно отряд глухим ущельем на юг, где бесконечной чередой высились горы.
Непомерно длинным, хмуро-тоскливым показался Левонтьеву путь по стиснутой диким гранитом тропе. И лишь к исходу дня, когда сумерки словно набросили мягкую вуаль на остроконечные стены ущелья, проводник подбодрил Левонтьева:
— Поворот один, и вы у цели.
В самом деле, темнота еще не успела воцариться вокруг, как отряд выехал из ущелья в уютную долину, которую легко было охватить взглядом. Трава — по пояс. По берегам речушки, которая пересекла долину, густо росли тальник и барбарис. А почти в центре этого девственного великолепия возвышался насыпной холм с плоской вершиной, на которой стояла убогая старинная крепостишка с изъеденными солончаком стенами, с жухлой травой на плоских крышах. И без того маленькое и запущенное строение в сравнении с буйством трав и особенно с гранитными кряжами, вековечными в своей устойчивой монолитности, виделось жалким до сердечной тоски.
Горы вокруг упирались в небо, быстро темневшее. Ни одного просвета, куда бы мог устремиться взор.
— Травы вдоволь, баня и пекарня в исправности, конюшни тоже. Остальное — казаки не без рук. Муку, овес и мясо доставлять придется вьюками, — напутствовал Левонтьева старший из проводников. — Мы теперь же возвращаемся. Хочу порекомендовать. Самовольство исключено. Не жалует войсковой атаман. Здесь был уже атаман с полусотней. Прыткий больно. Связи на той стороне и маршрут станете получать перед походом. Честь имею.
Что оставалось делать, как не козырнуть в ответ?
Пошли чередой дни, недели, месяцы, то ленивые и сытные, то стремительные и жестокие. Когда возвращался Левонтьев из набега живым и невредимым, радовался даже этой беспросветной яме, невесть каким образом оказавшейся среди гранитных громадин. Но отсыпался день-другой, отъедался, и наваливалась тоска на Левонтьева такая, что, казалось, пулю в лоб и то лучше. До сумасшествия недалеко.
А время шло. Тоска не отступала. Но жил Андрей Левонтьев, как и весь его неприхотливый отряд. Нет предела человеческой терпеливости и живучести.
И только когда прискакал атаманов гонец и передал, что войсковой атаман кличет срочно на совет, а затем добавил: «От Семенова ждем представителя. Фамилия его тоже Левонтьев. Не брательник, случаем?», сдавило болью голову и зашлось сердце. Но пересилил волнение свое быстро. Приказал Газякину:
— Седлай коней. Еще двоих казаков возьми.
У войскового атамана Андрей Левонтьев не задержался. Переменил коней и — навстречу Дмитрию. Сам атаман проводил его. Сразу почувствовал Андрей перемену в отношении к нему атамана, ласковый такой, внимательный. Понял: высоко взлетел Дмитрий, с трепетом ждут его приезда. И словно крылья расправились, пришпоривал коня, подставляя лицо ветру.
«Теперь все пойдет иначе! Собью спесь со всех!»
Андрей первым прискакал в кишлак, который стоял на самом краю зеленой долины перед безмерной, исхлестанной суховеями степью. Суховеи, похоже, не щадили и кишлака, потому что казался он безлико-серым, пожухлым. Даже не встретил он казаков обычным для здешних мест захлебистым собачьим лаем.
В доме, где должен был встретить Андрей Дмитрия, уже стояла кошевка, посланная еще раньше войсковым атаманом.
«Молодец Дмитрий, — гордясь братом, думал Андрей. — Высоко шагнул. Не то что я — на посылках. Ну да ладно! Все теперь изменится. Возьму свое!»
Дмитрий Левонтьев приехал лишь на следующий день. С восхищением смотрел на своего брата Андрей. Сухощав, как отец, и черноволос, но ноги матери — по-женски полные. И лицо матери — нервное, остроносое, но самое радостное для Андрея оказалось то, что как только вошел брат в комнату, в ней сразу стало тесно, Андрей даже не сдержался:
— Вылитый отец. Даже, как и он, неловок для других.
— Мне ловко, и ладно. Остальные перетерпят, — с явным довольством ответил Дмитрий, удобно устраиваясь на подушках.
Хозяину и Андрею стало тесно за дастарханом.
Явно не спешил к войсковому атаману Дмитрий Левонтьев. А когда Андрей хотел на следующее утро поторопить брата с отъездом, сказав ему: «Все атаманы в сборе. Ждут тебя», ухмыльнулся в ответ: «— Ничего, подождут. Ничего с ними не поделается. До начала совместного удара есть еще несколько дней, вот и побудем денек вместе. Завтра тронемся».
За выделенный себе день братья пересказали все, что произошло с ними за эти годы. Не все, что они делали, казалось им теперь верным. Андрея даже возмутило то, что брата подмял японец.
— Да как же так?! Ты же — русский офицер!
— Посмотрел бы я на тебя, случись ты на моем месте. Либо смерть, либо… Соглядатаи мои превратились в верных псов. С десяток золотонош прирезали они на мандрыках, так они глухие таежные тропы зовут, с этим золотом я напрямую к Семенову. А отец, ты же помнишь, близко его знал. Есаула-мучителя моего тоже в штаб пригласили. Спас я его, он теперь при мне. Пресмыкается. Одного недостает мне: пригляда за Кыреном и Газимуровым. Споткнись чуть-чуть, не дай бог, — предадут вмиг.
— Могу дать забайкальца. Газякин. Верней человека нет.
— Думаю, и тебе со мной нужно ехать. Хозяйством я крепким обзавелся. Думаю, что у тебя тоже припасено кое-что. Прикупим еще земли.
— Предложение стоящее…
Они даже пофантазировали о своем будущем житье-бытье, но явно поспешили. Сразу же после того как Дмитрий Левонтьев закончил совещание, как определены были направления и сроки казачьих налетов, а все атаманы начали разъезжаться по своим отрядам, войсковой атаман пригласил Андрея и предложил ему должность начальника войскового штаба.
— Сразу бы оставил, — как бы извиняясь, говорил атаман, — но своди отряд. Семенов от нас ждет крепкого удара, а новичок может не справиться с твоим отрядом. Вернешься — и сразу за дело принимайся. Для верности даю тебе сотню добрых казаков. Как? По рукам?
— Я предполагаю увезти его с собой, — возразил было Дмитрий Левонтьев. — У меня есть земля…
— Здесь она тоже есть. Я скажу, так дешево продадут, — настаивал атаман. — Или должность невысока?
— Я остаюсь, — ответил Андрей. — Видеться, думаю, будем. Газякина возьми с собой.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Шли чередой мобилизации, известия с фронтов летели внахлест, то торжественно-победные, то унылые… Уже давно не работало Главное управление пограничной охраны, а товарищи Михайла Богусловского сражались на всех фронтах, ждал и Михаил своего череда, но шли недели, шли месяцы, а он только и делал, что сиживал в засадах с чекистами, раскрывал малые и большие заговоры, обыскивал, арестовывал. Он вполне понимал, что поступать так необходимо во имя того, чтобы не становились жертвами предательства полки, дивизии, армии, — он понимал все это, но продолжал ждать, когда его отправят на фронт, ибо все, что он делал в Москве и Подмосковье, считал временным. Он даже стеснялся своей работы. Особенно обострилось чувство неловкости, когда услышал он обидное: «Гороховое пальто» — прежнее прозвище сотрудников сыскного отделения, размещавшегося на улице Гороховой.
Сам он видел, что чекисты и милиционеры, с кем сидел в засадах, с кем проводил облавы и обыски, не имели ни малейшего сходства с сытой и наглой сыскной полицией. Милиционеры, пошатываясь от голодной усталости, сами грузили на подводы припрятанные на Даниловском сахарном заводе сотни тысяч пудов сахара, и ни один из милиционеров и чекистов не взял себе и фунта. А когда обыскали склады общества «Кавказ и Меркурий», где оказалось хлопковое масло, мед, сало, и тоже сотни тысяч пудов, грузчикам и милиционерам выделены были продукты только на скромный обед.
Да и у самого Богусловского дома иной раз совершенно не было хлеба, в то время как на совещании говорили, что работники городской продовольственной управы, опираясь на общественность, органы ВЧК и милицию, реквизировали такое количество продуктов, которыми можно прокормить целых полгода всю Москву. И не последнюю скрипку играл во всем этом он, Михаил Богусловский.
Несмотря, однако, на понимание всей, казалось бы, важности и нужности того, что делал Богусловский, он все же не единожды говорил чекистам о своем желании уехать на фронт. Но те не принимали всерьез его просьб. Не поддерживала его и Анна.
— Раз не пускают, — говаривала она, — нужнее, стало быть, ты здесь. А меня лично это весьма устраивает.
Вот уже и вести добрые все чаще. Все видней конец кровопролитию. А он продолжает ждать отправки на фронт либо туда, где уже формируется граница. Когда же стало очевидным, что мимо него, как он определил, прошла гражданская война (засады, облавы, аресты не в счет), Михаил стал ждать весточки от Иннокентия. Несколько раз писал отцу, чтобы тот тут же дал знать, если получит от Иннокентия известие. К нему бы он тогда и уехал.
Увы, Иннокентий как в воду канул. И некуда было сделать запрос.
И все же пришло время, когда вспомнили о том, что Михаил Богусловский — пограничник. Границе, которая все более и более определялась, потребовались грамотные кадры, и на Покровке открыли курсы по подготовке командно-политического состава для пограничной охраны. Вот туда и пригласили преподавателем Богусловского. Эта работа была уже больше по душе.
А вскоре и от отца получил письмо. Тот тоже на Мойке учит новых пограничников.
Все вроде бы хорошо. Михаил, однако, вскоре принялся обивать пороги в Отделе пограничной охраны ГПУ, просил, чтобы послали его в Туркестан, где все еще продолжались бои с басмачами. Он не только хотел испытать себя в настоящем деле, в настоящей службе, но и лелеял мечту найти Иннокентия.
Вместо границы его зачислили слушателем Высшей пограничной школы, и трудно даже представить себе, как это обидело его, бывшего штабного офицера-пограничника: мог быть полезным организатором охраны границы, он хотел стать им, но его посадили за парту.
«Кто будет учить и чему?» — думал с досадой он, но нашел в себе силы подчиниться приказу.
И не пожалел. Преподавали уважаемые в прошлом в пограничных и армейских кругах старшие офицеры и генералы. Многих Михаил знал, о многих был наслышан. А более всего удивило и покорило его то, что совершенно неожиданно приехал в их коммунальную квартиру отец. Не в гости, а, как он с гордостью сообщил, насовсем.
— Пригласили читать лекции в Высшей пограничной школе. Квартиры пока своей не сдал, пригляжусь поначалу, но думаю, верно поступили, что к моей помощи прибегли.
Такого же мнения был и Михаил. Он лучше всех знал, как осведомлен его отец обо всех пограничных договорах и конвенциях, в подготовке многих из которых участвовал сам, и какой поистине незаменимый опыт имел Богусловский-старший в оперативной работе, — он многому мог научить новых стражей российских границ, и раз ему дозволили это сделать, значит, новое правительство всерьез озабочено подготовкой профессиональных пограничников, без которых охрана границы — не охрана.
Утром отец и сын отправились на Покровку вместе. Семеон Иннокентьевич в старой своей форме, только без погон, более походил на швейцара фешенебельного ресторана, чем на генерала, Михаил же смотрелся молодцом в полевой офицерской форме, достаточно поношенной, но сшитой у модного портного и старательно отутюженной Анной. За послереволюционное время он потерял ту дрожжевую пышность, которая не портила его, но уже как бы прокладывала первую борозду в отцовскую будущую тучность, стал стройней, и форма еще более влито сидела на нем, более ему подходила. И если усмешливый взгляд прохожего переходил с Богусловского-старшего на Михаила, плечистого, бравого, то становился либо уважительным, либо завистливым.
А они ни на что не обращали внимания, отягощенные своими мыслями, и только изредка обменивались незначительными фразами.
Вечером их ждал сюрприз: кушетка, довольно приличная, почти новая; ширма, хотя и аляписто-яркая, но полностью отгораживающая кушетку от остальной комнаты, на столе, теперь уже втиснутом между кроватью и трельяжем, полная сковорода жареной картошки, пышный, почти прежних времен, хлеб и бутылка вина. На все это Анна потратила лишь одно фамильное кольцо, зато какое доброе дело сделала: не придется уступать друг другу место на кровати, убеждая, что на полу спать не менее удобно, а ужин — это и радость встречи, и помин по Пете с Иннокентием, помин по рассыпавшейся и погибшей семье Левонтьевых, по которой она не переставала тосковать и частенько, оставаясь одна, тихо и грустно плакала. Анна понимала, что ужин будет невеселым, что за столом начнутся бередящие душу, и без того неспокойную, разговоры, но она даже с затаенной радостью готовилась к ним.
— Порадовала старика, что и говорить, — похвалил покупку Анны Семеон Иннокентьевич. — Не кабинет, конечно, не спальня, но уголок приличный. Переможем до лучших времен.
Довольна Анна, что оценена ее заботливость. Приглашает мужчин к столу на торжественный семейный ужин, как она пошутила, по случаю начавшейся новой жизни старшего в роде Богусловских.
— Остра на язычок, — добродушно попрекнул Семеон Иннокентьевич невестку, поудобней устраиваясь за столом.
Налиты хрустальные бокалы кровавым вином. Первый тост Богусловскому-старшему. Вздохнул он, обхватил бокал тучной рукой и трудно, словно тяжелую гирю, приподнял его от стола.
— За отсутствующих первый глоток. За Иннокентия, за Левонтьевых, невесть куда запропастившихся, за Петю… Поманил его бог, да не сулил счастья…
Ожидала такого тоста Анна, готовилась к нему, но не предполагала, что вот так, сразу, с оголенной прямотой будет сказан. Комок горестный подкатил к горлу, глаза ее вспухли слезами.
Замолчать бы в самый раз Семеону Иннокентьевичу, осушить бокал, но не почувствовало его издерганное горем сердце надрывного горя другого, не менее истосковавшегося сердца, да еще оголенно-нежного. Продолжил:
— Петром назвали мы его не моды ради. В самом имени смысл видели. Меньшенький, думали, той скалой станет, на которую опереться в старости сможем… И этого не судил бог…
По-бабьи визгливо вскрикнула Анна и зашлась в рыдании. Так это оказалось неожиданным и для Семеона Иннокентьевича, упивавшегося своим горем, и для Михаила, сидевшего с понурой головой и не отрывавшего взгляда от красного вина, что оба опешили. Михаил первым кинулся к Анне, прижал ее, вздрагивающую судорожно, к себе, не зная, что сказать, чем утешить. Сейчас он острее обычного почувствовал безвинную вину свою перед погибшим младшим братом, но и теперь, как и прежде бывало, не осуждал себя за то, что женился на Анне. Он любил ее, и эти вот рыдания, хотя он понимал и оправдывал их, когтями рвали сердце. А Анна, подмятая горем, почувствовала чуткой душой своей состояние мужа и, сдержав усилием воли очередной приступ, молвила виновато:
— Извини, Миша, за боль, что причиняю тебе.
И вновь зашлась в рыдании.
Прошло довольно много времени, пока утихла опустошенно-выплакавшаяся Анна, и тогда Семеон Иннокентьевич вновь поднял бокал:
— Мертвым — земля пухом. Пропавшим — найтись поскорее. Живым — жизнь.
Анна тоже подняла свой бокал, виновато улыбнулась и молвила тихо и грустно:
— Я обещала Михаилу быть доброй спутницей в радости и в горе. А боль? Она привыкнется с годами.
Сейчас Анна, как и в тот момент, когда решала свою судьбу, говорила с такой же искренностью, с какой верила в это сама. И не предполагала она, что всю оставшуюся жизнь она не перестанет делить себя, хотя этого никто, даже Михаил, замечать не будет. И чем больший достаток придет к Богусловским, чем успешней пойдет карьера Михаила, тем неуемней станет затаенная тоска по Пете, ее Пете, с кем был бы весь этот уют и покой, но были бы они любимей и оттого еще дороже.
Никогда не раскроет Анна своей души Михаилу, но Михаил будет считать, что не она, а он скрытничает, ибо с годами чувство вины перед Петром (его нет, а он жив), хотя и не воспринимаемой разумом вины, будет у него тоже нарастать. Так и будет жить эта с виду счастливая семья двойной жизнью. Теперь, однако, они находились в совершенной уверенности в том, что года утолят душевную боль, а жизнь обретет неделимую полноту. Они старались утешить друг друга, и это им в конце концов удалось. Ужин закончился покойной мечтательной беседой о днях грядущих. И хотя они говорили, что жизнь прожить — не поле перейти, виделась она им в ореоле радужного семицветья.
Дни полетели колготно и для старшего, и для младшего Богусловских, но если бы они пристальней пригляделись к ним, то разочарованно бы поняли, что в сути своей они утомительно однообразны. Но им либо недосуг было приглядываться, либо они не хотели этого делать, чувствуя свою нужность в новорожденном пограничном организме, принимая и боясь ревизовать ее. Вечерами же они, если не шли в театр или в гости, затевали разговор о новых инструкциях, о реорганизациях, которые тогда были частыми, но и эти разговоры, порой горячие, по сути своей тоже повторяли одну и ту же тему: Богусловский-старший считал, что нечего мудрить, что не следует столь много и громоздко перестраиваться, а что нужно просто вернуться к старой, надежной, как он говорил, структуре, но Богусловский-младший выступал против слепого цепляния за старое.
— Функции границы теперь иные, чем прежде, — возражал Михаил отцу услышанными и усвоенными на лекциях и собеседованиях истинами. — Она теперь и политический рубеж…
— Пусть это так. Я с этим в разлад не собираюсь вступать. Я говорю совершенно о других вещах — о структуре войсковой и оперативной. Один командир. Все в его ведении. Повторяю: все! Он организует охрану границы, он целиком и полностью за нее отвечает. Эту мысль, сын мой, я не перестану отстаивать, пока в состоянии это делать. И вспомнишь старика, вернемся на круги своя. Уклад вековой — он крепкий, испытанный.
— А я не против поиска. Ты, отец, тоже не станешь возражать, что ищущий находит. Определится новое, совершенное. Уверен я в этом. Да и сам начну искать, как только пошлют меня на границу.
Пока это туманилось где-то вдали. Но дни летели чередой, и вот уже выпуск, как говорится, на носу. Оба Богусловских хлопотали, чтобы направление Михаилу состоялось на Памир, но, как объясняли им, туда только готовится десантирование пограничного отряда, пока же там маломощные посты, пограничники которых давно уже ждут смену, да таможенная служба. Там пока что нечего делать выпускнику Высшей школы, и направили Михаила в распоряжение командования части пограничной охраны полномочного представителя ОГПУ Киргизского края. Направили в Алма-Ату.
— Проявишь себя в работе — широкая тебе дорога, — вручая предписание, пообещал председатель выпускной комиссии. — Пример вашей семьи для многих поучителен. Не изменили в лихую годину вы границе.
Не порадовался Михаил этой похвале. Он ждал отправки на границу, он торопил время, но вот наступил этот момент, а удовлетворенности не почувствовал. Напротив, было такое ощущение, что свершается что-то ненужное, чего следовало избежать. И комнату коммунальную ему стало жаль, и отца, который остается без присмотра под старость лет, но более всего жалел он Анну, представляя, каково будет ей на новом месте, — ей, выросшей в обильном достатке, не знавшей вовсе, что такое деревенская изба. Он не корил себя за неуютность московского быта — революция определила его. Он даже утешался тем, что у других и подобного устройства не было. Теперь же, когда жизнь налаживалась, когда, останься он в Москве преподавателем ли, работником ли штаба, как ему предлагали, обеспечили бы его приличным жильем, как обеспечили уже многих его коллег, а он бросал все это, уезжал в Тьмутаракань и увозил туда Анну. Теперь этот шаг казался Михаилу опрометчивым, но идти на попятную мешали ему и гордость, и командирская честь. Оставалось одно: собирать чемоданы, увязывать в тюк постель, вовсе не предполагая по неопытности, что тюк этот окажется в пути обузой и будет вызывать невольную усмешку ездовых, ибо чего-чего, а подушек и даже перин сколько угодно можно купить в любой казачьей станице, в любом поселке у хохлов-переселенцев.
Нет, не знал этого Богусловский, красный командир, хотя вполне прилично изучил и историю, и этнографию того края, где предстояло ему служить. Вот и хлопотал, чтобы все собранное, пусть и превышало оно норму, определенную железнодорожными инструкциями, отправить билетным багажом. В конце концов это удалось ему. Удалось достать и билеты в спальный вагон.
Проводник с нафабренными усами встретил их с профессиональной безразличной вежливостью, проводил в купе с мягкими, обитыми коричневым бархатом диванами и спальными полками над диванами, тоже мягкими и бархатными, лучшего желать чета Богусловских не могла, и старались Анна с Михаилом поначалу просто не обращать внимания на то, что бархат на диванах изрядно потерт и бугрится пружинными кругами, а воздух нечист от невыветренного табачного дыма и застарелой грязи, а спустя сутки-другие обвыклись и чувствовали себя превосходно.
Привыкли они к тележному скрипу и самого вагона, который, особенно в первую ночь, рождал тревожное беспокойство: «Не рассыплется ли?», привыкли к долгим стоянкам на узловых станциях, даже выходили прогуливаться по перрону; и к тому привыкли, что поезд то захлебисто пересчитывал стыки рельсов, то полз по-черепашьи, — они превратились в заправских пассажиров, подолгу спали, остальное же время либо читали журналы и газеты, что услужливо приносил им вместе с утренним чаем проводник, либо смотрели в окно; а чем дальше отъезжали от Москвы, тем окно все более притягивало их к себе.
Привычный лес, то густой и хмурый, то раскидисто-праздничный, который мелькал за окном, когда поезд прытко бежал от полустанка к полустанку, пахотные лоскуты среди этого леса, деревни на взгорках у тихих разливистых речек, пароконные брички на колеистых проселках — все это знакомое и оттого не очень привлекательное оставалось позади, а к железной дороге, все упрямей расшвыривая леса на тощие колки, властно подступала степь, настолько бескрайняя, что терялась она где-то за горизонтом. Ровная, серовато-зеленая, она магнитно тянула к себе, хотя, казалось бы, не за что было ухватиться взгляду. Крутит встречно безмерная ровность за окном, и все, а надо же — не оторвешься. И редко когда взбугрится в степи юрта да проплывет вдали серо-черная отара овец, еще реже — аул из юрт.
День, второй, третий — всюду степь. Даже запыленные полустанки с выгоревшими на солнце домишками казались растворенными в степной шири, смятые и задавленные ею, и тихая грусть, исподволь подкрадываясь, захватила в конце концов полностью и Анну, и Михаила. Нестерпимо хотелось им, чтобы мелькнул за окном привычный темный бор, блеснула в ожерелье ракит речка; им хотелось назад, в Россию, но они старательно скрывали это желание, боясь обидеть друг друга, в то же время понимая, что делать этого не следовало бы, оттого чувствовали себя неловко и больше помалкивали, уткнувшись носами в окно или в книги.
— Голодная степь, — оповестил проводник вскорости после того, как они миновали Арысь.
Чем она отличается от той — сытой? Ничем. Все та же бескрайность, прокаленная солнцем. Только воздух, врывавшийся в окно, немного теплей. А поди ж ты — объявил проводник, и поднадавила грусть покрепче…
Но жалкими и смешными показались бы Михаилу его грустные думы, знай он, что через вот эту степь проезжал Иннокентий верхом, снедаемый тревожными предчувствиями чего-то недоброго. Не сутки ехал, не двое. Не в вагоне по новеньким рельсам, которые легли уже до самого Пишпека.
В Пишпек, в этот тихий, необычный для Анны и Михаила своей сплошной зеленостью город, поезд привез их уже оттаявших душой, налюбовавшихся белопапаховыми горами, уютными долинами с белокипенными речками — им все вновь стало интересным, увлекающим. Их не смутило даже то, что через несколько минут после перронной суеты они остались совсем одни, безъязыкие в совершенно незнакомом городе.
Терпеливо Михаил пытался выяснить, выйдя на привокзальную площадь, как найти нужный адрес, но все, кого он ни спрашивал, пожимали плечами либо кивали подбородками в сторону гор. Тогда он решил пойти к начальнику вокзала, наверняка, как он подумал, русскому человеку, но Анна остановила его:
— Фаэтонщик, Миша, должен знать по-русски.
— Верно. Пошли.
Увы, по выражению глаз, этих безразличных черных жуков, нельзя было даже предположить, что фаэтонщик хоть что-либо понял из сказанного Михаилом, но, когда он безнадежно закончил объяснять, куда им нужно попасть, фаэтонщик сказал непонятное: «Жаксы», помог сесть в фаэтон Анне и, взгромоздившись на облучок, подобрал вожжи.
Не успели еще Михаил с Анной насладиться мягкой ездой в прохладной тени под белым тентом, как фаэтон уже остановился у кирпичного, давнишней постройки, внушительного дома, и возница, ткнув в сторону двери кнутовищем, сказал что-то непонятное, но что, как догадались Богусловские, означало: приехали, платите денежки и — до свидания.
— Удивительно, — читая трафаретку, прикрепленную к стене рядом с дверью: «Управление ГПУ по Кара-Киргизской автономной области», недоуменно проговорил Михаил. — Ничего вроде бы не понял, а надо же — привез.
— Велико ли дело? — улыбнулась Анна. — По форме твоей краскомовской смекнул.
Их встретили без особой радости. Лишние заботы, и немалые, но пообещали отправить в Алма-Ату в самом скором времени и с надежной оказией. Предоставленные самим себе, в ожидании «самого скорого времени», Анна и Михаил бродили по улицам, удивительно похожим на улицы заштатных русских городишек. Дома, хотя и разные по размеру, но похожие друг на друга одноликостью фасадов, тесовыми крышами, палисадниками и даже цветами в этих палисадниках. Только окраины Пишпека были иными — глинобитными, беспорядочными, но Богусловские не решались проникнуть в глинобитную тесноту. Побродив по улицам-близнецам и утомившись от однообразия, возвращались они к себе в заезжую, как называли здесь двухэтажный деревянный особняк, конфискованный у какого-то купца-воротилы, и принимались за книги, которыми в изобилии снабжала их библиотекарь управления.
Книги тоже были похожими друг на друга, как близнецы-братья, тем, что написаны были как бог на душу положит; но, видя их несерьезность научную, Богусловские все же читали, надеясь пополнить хоть немного свои знания о крае, куда они приехали жить. Лишь иногда Михаил не выдерживал:
— Наставляли нас: знайте и уважайте обычаи местных жителей, образ хозяйствования. А тут попробуй разберись во всей этой несерьезности, — откладывая брошюрку с очерком незадачливого этнографа, возмущенно говорил Богусловский. — Всех под одну мерку — туркестанцы. Их же тут, племен и народов, сколько?!
Анну же забавляла горячность мужа. Улыбнется и спросит:
— Значит, они — верхогляды? А ты сам?
Он соглашался с ней, что и в самом деле, сидя в кресле не познаешь народа, тебе незнакомого, вовсе, но все же вновь брал очередной очерк. Вдруг есть что-либо интересное и нужное.
Во время одной из таких пикировок, родилась у них мысль отнести все эти толстые и тонкие книги в библиотеку, а взять словарь и приняться за изучение киргизского языка. Не ведали они, что в Семиречье казахи говорят иначе, хотя и похоже. Словарь они выпросили насовсем и взяли с собой, когда пришло время тронуться в путь. Но вышло так, что среди их попутчиков оказались казахи, и те, когда Анна с Михаилом начинали попугайно твердить какое-нибудь слово, цокали языками, покачивали головами несогласно и наконец осмеливались сказать это же слово на свой манер. Поначалу Михаил даже серчал на эту, как он считал, помеху, а потом понял, что легче познавать язык в общении с носителями самого языка, и уже все дни, пока они петляли по предгорью, преодолевали перевал, а затем ехали по дороге-стреле, проткнувшей степь до самого горизонта, — все те дни Михаил Богусловский ни на шаг не отходил от казахов, ставших его учителями. На удивление себе он сносно усвоил ударение и жесткость говора, быстро понял, что, как и в России, места именовались по ассоциации с чем-либо привычным. Даже вот эта поразительно ровная дорога названа Длинным деревом — Узунагач, и поселок, который встретится им на дороге при подъезде к Алма-Ате, носит то же имя, что и дорога, просто оттого, что стоит рядом с ней, и Алма-Ата вовсе не отец яблок, а яблочное место — Алматы; как верно бы, не искажая сути местного названия, должно переименовать Верный — многие слова он хорошо запомнил и вполне сносно произносил их, и это радовало как и учителей, так и самого ученика.
— Важен почин, — говорил он Анне. — Дальше станет легче. Слово за словом начнет цепляться. А словарь? Пусть остается. Как память, как упрек: подумай, прежде чем заняться чем-то.
В Алма-Ате краскома Богусловского ждали, и лишь только о его приезде доложено было начальству, тут же последовало приглашение.
Просторный кабинет, в красном углу которого будто врос в пол массивный стол под зеленым сукном. На полу — ковер. Работы старинной. Правда, с заметными проплешинами. У стен в парадной ровности — осанистые разномастные кожаные кресла. И совсем приличные еще, и старенькие, потертые.
— Столица — в гости к нам, — с излишней восторженностью приветствовал Богусловского хозяин кабинета, краском средних лет, среднего роста и средней полноты.
Он вышел из-за стола, вежливо пожал руку Богусловскому и, пригласив сесть его в кресло, сам уселся рядом.
Кресло было ему явно великовато, и чтобы не казаться в нем утонувшим вовсе, раскинул руки вольными крыльями по круглым толстым подлокотникам.
— Жалоба к нам поступила. Весьма неприятная. Самосуд на заставе. Мы бы просили вас начать свою службу с выяснения обстоятельства вопиющего беззакония. Начальнику отряда мы доверяем, он из рабочих, предан Советской власти, но есть одно обстоятельство… Короче говоря, я имею основание отвести от расследования начальника отряда. Хочу, чтобы все было без предвзятости. Поезжайте и изучайте вопрос на месте. Ваши выводы позволят нам принять верное решение. — Помолчал немного, затем продолжил сочувственно: — Понимаю, отдых с дороги не повредил бы, особенно вашей жене, увы, я вынужден поторопить вас с отъездом. Жену сразу берите с собой — в том отряде останетесь служить. Но дорога неспокойна, поэтому решайте: с усиленным сопровождением либо только с одним проводником-коноводом? Меньше привлечете внимания. Три всадника.
— У меня багаж.
— Еще лучше. Пароконку выделим, возницу. Оружие — под сено, вот тебе и переселенцы, которых сейчас — пруд пруди.
— Я согласен. Жене на бричке тоже удобней.
— Оформляйте тогда мандат.
Они, привыкшие приказывать и подчиняться, даже не подумали, что решили за женщину, коей сама природа предопределила повелевать. Нет, не приказывать, не настаивать, а соглашаться и поддакивать, добиваясь в конце концов своего. А если еще женщина любима, ее желания становятся непререкаемым законом. В общем, Анна захотела ехать верхом и попросила мужа:
— Можно, Миша, и я в седле? Верно-верно, на бричке удобней, я понимаю, но ты же сам говоришь, что дорога опасна, а на бричке, если что, не особенно ускачешь. Ты же знаешь, что в седле я себя прекрасно чувствую…
Да, Михаил знал, что она любила конные прогулки. Не слезала с седла, бывало, по два-три часа и никогда не казалась уставшей. Но сравнимы ли те прогулки с предстоящей многодневной дорогой? Сравнимо ли женское седло с кавалерийским строевым? И не ровные просеки петербургских лесов лягут под копыта коня, впереди — крутые подъемы и не менее крутые спуски, где особенно ловко нужно сидеть в седле, чтобы не намять холку лошади, не посдирать себе колени.
Анна, уловившая недовольство мужа ее просьбой и понявшая причину этого недовольства, не отступилась тем не менее от своего:
— Пусть, Миша, это будет проверкой моего тебе обещания: в любой трудности с тобой.
После таких слов особенно не повозражаешь. Но не мог Михаил не предупредить Анну:
— Горами придется ехать.
— Я все снесу. Поверь мне.
— Хорошо. Дадут ли только лошадь? Попытаюсь уговорить.
Не пришлось уговаривать. Желание Анны ехать верхом было воспринято с уважением. Охотно подобрали невысокую, гладкую, не только от молодости и здоровья, но и от мягкого, доверчивого характера кобылку, нашли казахское седло, выточенное из дерева и обитое плотным войлоком. Короче, быстро сделали все, как надо. Михаилу, однако, седло показалось неприглядным и неудобным, он начал было возражать, но получил убедительную отповедь:
— Седло кочевников! Седло чабанов и табунщиков. В нем мудрость народа, весь его опыт. Не то, что строевое, для сабельных сшибок рассчитанное, для атак лавных. А это, — краском провел рукой по войлоку, будто по гриве любимой лошади, — для мира.
Ну, если так, то что же возражать. Согласился. Хотя сомнения и остались. Широкое слишком седло, удобно ли будет Анне?
Первые километры, как выехали, все поглядывал на жену, то и дело спрашивая, хорошо ли седло, не поменяться ли? Анна успокаивала его, уверяя, что все в порядке, и он в конце концов успокоился.
Как и сам город, прислонившийся к горам, но ни одним домишком не взобравшийся даже на первые предгорные холмы, так и дорога из Алма-Аты шла по степной ровности, упрямо огибая любой горный выступ. Но поначалу ни степь, которая стелилась слева, ни горы, поднимавшиеся справа до самых небес, не воспринимались: плотными рядами стройных часовых стояли на обочинах пирамидальные тополя и привлекали все внимание к себе строгим совершенством форм; чем дальше, однако, дорога уходила от города, тем чаще в строю том встречались прорехи, будто прошлась по нему пулеметная очередь, а потом и вовсе оголилась дорога и стала как бы рубежом между аскетической суровостью и барской вольготностью.
Когда они глядели на степь через вагонное окно, то видели ее всю сразу, лишь выхватывая иногда взглядом жухлые полынные кусты или пропыленные саксаульники, попадавшиеся недалеко от железной дороги, но сейчас степь, вот она, под копытами коней, которых они то пускают рысью, то переводят на шаг. Любуйся ею, познавай, ибо все неведомо, все удивительно. Анна заливисто, с той безотчетной веселостью, какой давно уже не испытывала, смеялась над сусликами, которые торчали столбиками у своих норок и очень походили и своей напряженностью, и пугливым взглядом на новобранца, первый раз вставшего на часы и взявшего, тоже первый раз, на караул при виде приближающегося командира.
Не меньше веселости было у Анны и когда она смотрела, как по-бабьи неуклюже прятались суслики в свои норки.
Михаил же, глядя и на сусликов и на Анну, улыбался довольный. В эти минуты он был просто счастлив и не хотел замечать огромных солончаковых плешин, которых было много по левую руку и на которых не росли даже убогий ковыль и занозистая верблюжья колючка. Его взгляд тянулся к горам. И удивительное дело, от самых подошв предгорных холмов, сразу, без подготовки, начиналось буйство природы: боярышник, облепиха, дикие яблоньки и даже миндаль в густом переплетении, в травной тесноте поднимались по склонам вверх и там врезались клиньями в глухие сосновые боры, могучие, нахмуренные; и только в поднебесной выси лес редел, мало какие хребты щетинились низкорослыми сосенками да темнели сосновыми пятнами стиснутые скалами ущелья, а над всей этой причудливой мешаниной гранита и зелени нависали ледники, белые до синевы — все красиво, все величественно, но с непривычки берет робость.
А степь отталкивает. Только веселят суслики и Анна, заразительно смеющаяся над сусликами.
Миновали сонный поселок, приткнувшийся к небольшой речушке, шумно выбегавшей из тугайной лощины, где деревья густо перевивал дикий виноградник; проехали еще десяток километров, и возница, остановив бричку у развилка, сообщил Богусловскому:
— Коль на заставу сразу, то вверх лощиной. Бричке только ходу нет. Жинка пусть со мной. Все одно в отряд возвернетесь. — Потом предложил красноармейцу-коноводу: — А то, Паша, свези ты в отряд, а я верхом. Знакома мне дорога.
— Будто я кутек писклявый, — серчая, отозвался Павел и подтолкнул под буденовку высунувшуюся на лоб жидкую пепельную прядку.
— Гляди. Не заплутал бы.
— Типун тебе на язык…
А у Анны с Михаилом свой разговор. Анна на своем стоит, чтобы вместе ехать. Пусть трудно, пусть горы, но вместе. Потом вместе и в отряд. Михаил отговаривает, убеждает, что не долгой будет разлука. Увы, ничто не помогает, Анна обрезала:
— Я еду с тобой! Все!
Откуда такая настойчивость? Вроде бы всегда отличалась покладистостью, излишней даже уступчивостью, а вот тебе, уже вторично на своем настаивает. Что ж, не ругаться же? Да и самому покойней, когда рядом жена. Знаешь, что с ней ничего не случится неведомого.
— Хорошо. Пусть будет по-твоему.
Попрощавшись, разъехались, и дорога, на которую свернули Богусловские с коноводом и которая тут же сузилась до тропы, сразу же насторожила жуткой спокойностью и затхлой сумеречностью. Нет, здесь не было мертвецкого безмолвия, напротив, речка шумела изо всех сил, подковы звонко цокали по граниту, здесь густо облепили речку деревья, веселые и пышные от обилия влаги и оттого, что их здесь никогда не трепал ветер; в зеленой гуще прытко сновали меж веток пичуги, перекликаясь самыми различными голосами, — здесь все жило, все двигалось, все шумело, но вся жизнь совершенно не воспринималась потому, что тропа лепилась к высоченной до головокружения гранитной стене, которая задавила все своей каменной молчаливостью. Даже лошади, не ведающие душевной нестойкости, то прядали ушами, то локаторно настораживали их.
Путники молчали. Коней рысью не пускали. А неспешная езда еще больше угнетала их. Михаил старался отвлечь Анну воспоминаниями о Москве, рассказывал, первый раз, о штурме Зимнего, о реакции солдат на картину «Туалет Венеры», о том, как пытался Ткач вынести из Зимнего драгоценности, — Анна слушала Михаила, казалось бы, с интересом, даже упрекнула, что прежде никогда об этом не говорил, но бледность не сходила с ее лица. А когда видела Анна на высоте двадцати-тридцати метров впившуюся в гранит корнями, похожими на щупальцы осьминога, сосенку либо осинку, она еще сильней бледнела и совершенно машинально втягивала голову в плечи. Михаил же, понимая полную бесполезность своих действий, с болью в сердце смотрел на Анну и еще с большей настойчивостью продолжал уводить ее мысли в прошлое, стремясь вовлечь в равноправный разговор.
Долго длилась эта бессмыслица. Несколько часов. И вдруг, после некрутого подъема и столь же некрутого поворота, воздух, вольный и свежий, пахнул в лицо, речка будто проснулась, птицы защебетали явственно, лошади весело вскинули головы — словно сбросила природа вериги и задышала полной грудью. А всадники прежде почувствовали разительную перемену и лишь потом только осознали причину: гранитная стена круто оборвалась и вольно распростерлась впереди холмистая в густом разнотравье долина. А горы, ступенчато поднимаясь от окраин долины, виделись отдаленно и оттого казались приглаженными и добродушными.
Неописуемую, никогда прежде не виданную красоту долины, как казалось Михаилу, создавали прилавки, каждый из которых имел свой, совершенно отличный от соседнего, мир деревьев, трав и подлеска, хотя и была во всем этом зеленом многообразии как форм, так и оттенков какая-то закономерность. На прилавках северного, самого крутого, склона преимущество имела тяньшаньская ель, необычайно длиннохвойная и чрезмерно, до самого комля, густая. Но Михаила поражали не столько густота, сколько непостижимая разнообразность форм, каких не встречал он в лесах России. Там каждое дерево начиналось со ствола. Тут почти ни у одного дерева ствола не видно. Вот торчит лохматая колонна высотой метров под сорок, а рядом, столь же лохматая, пирамида Хеопса, а за ней — наконечник копья, выкованный умелым и аккуратным мастером.
А березы, которые густо лепились на прилавках ближе к восточному и западному склонам? Розовостволые и тоже высокие, что тебе голенастые девчонки, ошпарившие холодной росой босые ноги, когда перебегали полянки с густым купырем, борцом и василистником.
Но чем южнее, чем солнечнее были склоны, тем чаще втискивались в сосновые и березовые ельники корявостволые клены, образуя серебристую проседь в густой зелени, когтистый боярышник и приземистые яблони. Постепенно клен, боярышник и яблони отвоевывали для себя целые прилавки и вольготно ветвились на них.
— Чудо природы! — обращаясь к жене, заговорил Михаил, но тут же замолчал, увидев ее устремленный на ледники взгляд и поняв, что она даже не услышала его слов.
Да, Анну восхитили ледники. Не скрывая восторга, она воскликнула, указывая на дальний ледник, над которым пухлыми белобокими лоскутами двигались редкие тучки.
— Смотри, Миша, какая прелесть! Как живые. Они катятся по леднику.
— Точно, — поддержал Анну Михаил и добавил раздумчиво: — Верно отец сказывал как-то: горы видеть нужно, а не читать про них. Невообразимый контраст красок и в то же время удивительная гармония в этом хаосе скал, ущелий и долин. Можно ли привыкнуть к горам и не восторгаться ими? Даже если ты здесь родился, здесь пасешь овец и лошадей?!
Не предполагал краском Богусловский, что совсем скоро вся эта восхитительная гармония станет обычными трудными для путников горами, где опасность подстерегает тебя всюду.
Первым ушатом холодной воды оказался развилок тропы, у которого ехавший впереди коновод придержал повод и, сдвинув буденовку на лоб, поскребся по-мужицки в затылке.
— Что? Неведомо куда путь? — еще не ощущая полной мерой важности момента, спросил Богусловский, остановив своего коня рядом с Павлом.
— Куда-никуда — приведут. Джайляу это. Людей все едино встретим, — спокойно ответил коновод. — Напрямки и возьмем…
А куда «напрямки»? Развилок словно рогатка. Один ус — вверх, другой — вниз. Павел, уверенный, что «прямки» те, что вверх ведут, повернул коня вправо. Но километра через два остановился в нерешительности: от тропы сучковато ветвились тропки поменьше, теряясь в густом разнотравье, а сама тропа худела, как ствол к вершине, и в конце концов терялась в траве, как и боковые отпрыски.
— Стало быть, вниз следует, — глубокомысленно изрек Павел и развернул коня.
Нижняя тропа привела обратно к берегу речки, какое-то время так и шла возле нее, словно прилепленная, затем тоже отвернула вверх, перевалила через несколько мягких холмов и, вильнув вниз, уткнулась в утрамбованную до каменистой твердости и оттого совсем бестравную площадку.
— Теплые ключи, — все с той же невозмутимой покойностью констатировал коновод. — Верный путь, стало быть. Версты три по увалу, а там и аул.
Три версты не бесконечность неведомая, заваленная горами. Можно до темноты успеть. Солнце еще довольно высоко. Неспешно обиходили коней, и когда те аппетитно захрумкали овсом, слюнявя торбы, подкрепились сами. Но прежде умылись в теплом сернистого запаха роднике, поверив Павлу, что целебен источник, что паломничество сюда настоящее, оттого и тропа широкая, и площадка умята прочно.
Увы, три горные версты далеко не те, что в степи. Пусть они там даже с гаком будут. Не испытала этого на себе прежде чета Богусловских, вот и не спешила, проникшись спокойствием коновода. А зря. Напрасно и Михаил тянул время, чтобы, как он думал, отдохнула получше Анна, которая хоть и бодрилась, но было видно, что устала основательно.
Поняли они это совсем скоро. Через каких-нибудь полкилометра. Тропа, ровно тянувшаяся по склону, вдруг, упершись в гладкокаменную ровность, вильнула вниз и как-то сразу отощала. Это вызвало у Михаила Богусловского недоверие, но Павел спокойно объяснил, что путь здесь один и заплутать теперь они не заплутают никак. Однако не прошло и четверти часа, как тропа привела к голой площадке с несколькими развалившимися, явно прошлогодними очагами, вокруг которых уже начала пробиваться трава. За площадкой начиналась широкая осыпь, которая загибалась вправо за скалу, конца оттого осыпи не было видно.
— Брошенная стоянка чабанов, не иначе, — заключил Богусловский. Его уже начало угнетать олимпийское спокойствие коновода, его принцип: куда бы ни ехать, лишь бы не стоять на месте. — Нет же дальше пути. Где-то потеряли мы нужную тропу. Возвращаться нужно, искать ее.
— Как же потеряли, если не терялась она? — удивленно спросил коновод. — По осыпи, должно, дальше. Иначе куда ж? Нет пути иного. Так по угору и нужно.
— Сомнительно. Весьма сомнительно, — пожал плечами Богусловский и глянул на Анну, ожидая ее слова, ее поддержки.
Но Анна сказала иное:
— Мы же, Миша, не знаем. Зачем обижать недоверием человека.
Кони, эти привыкшие беспрекословно повиноваться поводу и шенкелям кони оказались на этот раз не столь послушными. Павел даже крикнул на своего мерина, только тогда он боязливо ступил на окатанные камни, в навал лежавшие на склоне, и, подгоняемый шенкелями хозяина и глухим каменным шорохом, который рождался от потекших вниз камней, заперебирал торопливо ногами.
— Давай следом, — велел Михаил Анне. — Я замкну.
Как по каленым углям засеменила послушная кобылка Анны, напрягаясь вся, словно жгут, но ничего — успевает за конем Павла. Но вдруг споткнулась, сбилась с темпа и начала тонуть в круглом текучем камне по самые бабки, до крови разбивая их, — Анна натянула повод и, жалея лошадь, спрыгнула на камни, а те поплыли из-под ног, ноги подвернулись, и Анна тяжело завалилась, больно ударившись не только боком, но и головой.
— Стой! — крикнул коноводу Михаил и, как ни спешил к беспомощно лежавшей на камнях жене, слез с коня и осторожно, стараясь ступать как можно мягче, чтобы не упасть и тоже не подвернуть ноги, подошел к Анне и помог ей подняться.
— Что? Больно?
— Вроде все цело, — силясь улыбнуться, ответила Анна, и было видно, с каким трудом дается ей улыбка.
— Обними меня. Пошли.
Медленно они пошагали по осыпи, шелестя камнями. Впереди, примеряя каждый шаг, двигался Богусловский, держа одной рукой жену, а из другой не выпуская повода своего коня. Следом шел в полном спокойствии коновод, держа под уздцы своего мерина и кобылку Анны. Вначале он молчал, затем, когда солнце подобралось к вершинам почти вплотную, принялся время от времени бубнить:
— Засветло бы успеть, а, товарищ краском?
Михаил и сам понимал, что, если ночь застанет их на осыпи, положение окажется безвыходным, но как он мог торопить Анну, которая, он видел, совершенно обезножела и ковыляла из последних сил. Не спешил Богусловский еще и потому, что боялся, как бы не оступиться, не покатиться вместе с камнями вниз, туда, где весело шумит река.
Начинало смеркаться, а конца осыпи все еще не было видно.
Темнота в южных горах наваливается споро. Прошли путники еще метров тридцать, и не видно уже скалы, нависшей над осыпью. Впиталась она в темноту. Один ориентир: шум речки, доносившийся слева. Неважный ориентир, но на безрыбье и рак рыба.
Минут двадцать двигались они на ощупь, ловя старательно речной шум. Но трагичность положения с каждой минутой им виделась все ясней. И вдруг:
— Миша! Огонек!
Столько было радости в крике Анны, что Михаил даже испугался за душевное состояние жены. Но, оторвав взгляд от камней под ногами, тоже увидел не очень далеко тусклый костерок, который только начинал набирать силу, и тоже воскликнул:
— Костер! Спаситель наш!
Только коновод спокойно изрек:
— Ужин у юрты готовят. Выбраться бы из камней, пока горит. Поспешить бы.
Он обвинял. Он, самоуверенно заявивший вознице, что не собьется с дороги; он, по вине которого они потеряли более двух часов светлого времени, плутая по джайляу, а затем оказались здесь, в этих сыпучих камнях, — он обвиняет. Это было сверх понимания Михаила Богусловского, но он не стал ничего говорить коноводу, осознавая и бесполезность упреков, и полную их ненужность в данной ситуации. Пошагал вперед. Теперь более уверенно. На костер.
Еще почти час они скреблись по осыпи. Первый костер уже потух, зато разгорелось несколько новых. Зовуще и радостно они мерцали в ночи, хотя казались далекими. До отчаяния далекими.
Вот наконец нога Михаила ступила на твердое. Какая радость ощутить под ногой не выскальзывающий камень, а твердь! Шаг, другой, третий… Гранит. Еще несколько шагов и — трава. Анна со стоном повалилась на нее.
— Змей здесь полно, — выводя на траву коней, предупредил Павел. — Не ужалила бы. К юртам бы нужно. Там кошмы. Там не опасно.
Ясней ясного, только не в силах подняться Анна. Стонет сдержанно. О седле и слышать не хочет.
— Вот что, Павел, — приказывает Богусловский, — бери всех коней и — вперед. Я следом понесу жену.
— А что не на конях? — недоуменно спросил коновод. — Прытче же на конях…
Подождал ответа, но, не получив его, накинул поводья на согнутую в локте руку и, понукнув: «Пошли, милые», взял направление на огоньки.
Михаил поднял Анну, та прильнула к нему, безвольная, обмякшая, судорожно, но беззвучно зашлась в плаче.
Михаил молчал. Чем он мог утешить свою Анну? Он понимал, что впереди полная неизвестность. Даже неведомо, как встретят их в ауле. Он сосредоточенно делал каждый шаг, чтобы не оступиться в темноте, не уронить жену, не причинить ей еще и физической боли.
Заржала устало и жалобно кобылка Анны, ее поддержал задористо и звонко конь Михаила, и от юрт откликнулось сразу несколько лошадей, а вслед за этим наполнилась темнота топотом скачущих лошадей и лаем собак, которые, было похоже, неслись рядом с всадниками.
Остановился коновод, смахнул карабин с плеча. Отпустил торопливо Михаил на землю свою жену, кинулся к коноводу.
— Коней кладем!
Легли послушные кони, образовав живые укрытия. Михаил маузер достал и приспосабливает руку у седла, чтобы удобней, с упора, стрелять. Нет, не даст он в обиду жену свою, любовь свою. Ни людям, ни собакам.
Коновод тоже мостится за своим мерином половчее, патрон в патронник досылает.
Ближе и ближе топот копыт. Не так и много всадников, как поначалу показалось. Не более пяти. Собак, тех, кажется, свора целая. Трудно управиться будет с ними, если набросятся. Конечно, если огонь открыть с упреждением, тогда полегче, но…
— Не вздумай стрелять, — строго предупредил Богусловский коновода, — ни в коем случае без команды!
— Не кутек я слепой, — осерчал Павел. — Мирных ни за что ни про что обидеть можно.
Летит свора неудержимо, захлебывается злобным лаем. Вот она, видна уже. Огромным усилием воли Михаил держит неподвижно палец на спусковом крючке. «Только в упор стрелять! — убеждает себя. — Только в упор».
Анна молчит перепуганно. Съежилась за своей кобылкой, дохнуть боится.
На пределе нервы. На самом пределе. Еще миг — и врежется в хриплый лай выстрел. Выделил уже Михаил самого крупного пса, уже начал пальцем давить на спуск. И тут что-то непонятное гортанно крикнул невидимый еще за теменью всадник, и собаки будто наткнулись на глухую стенку. Они лаяли все так же ненавистно, но ни на шаг не приближались.
Наплыл из темноты всадник. Он держал, как копье, длинную палку с веревочной петлей на конце. Осадили коней и остальные всадники. Михаил, поняв, что это табунщики, решил первым вступить в переговоры. Стараясь выговорить как можно четче, сообщил:
— Пограничники мы. Плохо не сделаем.
На этом его словарный запас на данную ситуацию иссяк, но и этого оказалось достаточно, чтобы один из всадников, похоже старший, прикрикнул на собак: «Турдеса!», что, как понял Михаил, означало: угомонитесь. А когда те, понурив хвосты и замолчав, отошли в сторону, слез с лошади и положил палку с веревочной петлей на землю. Спрыгнули и остальные всадники и тоже положили палки у своих ног, демонстрируя этим мирные намерения.
Михаил встал, скомандовал Павлу, чтобы тот держал на мушке старшего, перешагнул через лошадь и сделал несколько шагов навстречу табунщикам. Сказал старательно:
— Женщина у нас. Жена моя. Ноги. — И, еще не зная, как сказать по-казахски, принялся коверкать русские слова, словно они станут от этого понятней, объяснять, что произошло с Анной.
Тот, кого Михаил принял за старшего, бросил что-то своим товарищам резкое, затем, передав повод одному из них, снял бархатный халат, подошел к Анне, расстелил его рядом с ней, жестом подозвал Михаила и, тоже жестом, потребовал переложить на халат Анну, которая была в обмороке.
Дальше все шло ловко и быстро, без всяких слов. Подняли Анну Михаил и табунщик вдвоем, но тут же им на помощь подошли еще двое казахов, и, прировняв шаг, двинулись размеренно они к юртам. Чуть приотстав, шагал Павел с конями. Следом за ним вели на поводу лошадей казахи-табунщики, а замыкали шествие с молчаливой покорностью собаки.
У юрт Анну облепили женщины, заохали, запричитали. Затем самая старшая из женщин посеменила к большой юрте, откинула полог и крикнула:
— Несите.
Анну осторожно подняли и понесли в юрту, а перед Михаилом, который пытался помочь женщинам, опустили полог, и он остался стоять в растерянности. То одна, то другая женщина пробегали мимо него с горячей водой, с одеждой, со свежими овечьими шкурами, с пучками травы. Он был в полном отчаянии, он хотел сейчас находиться рядом с женой, но, подчиняясь воле женщин аула, стоял истуканом возле юрты.
Подошел табунщик, уже в другом халате. Ткнул себя в грудь и назвался:
— Сакен.
— Михаил, — ответил машинально Богусловский и повторил: — Михаил.
— Джаксы, Михаил-ага, — одобрительно кивнул Сакен и, мягко положив на плечо Михаилу руку, позвал: — Жур.
Знал это слово Богусловский. Пошел послушно рядом с Сакеном к ярко пылавшему очагу, у которого сидели на кошмах мужчины аула и Павел.
Богусловскому подали кумыс, он выпил его жадно, до дна, и тут же сморила его усталость, и физическая и душевная. К бесбармаку он едва притронулся, как ни приглашали и жестами и словами, смысл которых не доходил до сознания Богусловского, хотя иные слова ему были хорошо знакомы. Сакен, поняв состояние гостя, отвел Михаила в юрту.
Подумалось Богусловскому, что нельзя без охраны, что следовало бы поделить ночь с Павлом, но никакого распоряжения коноводу он не дал, поверив этим приветливым чабанам и табунщикам. Он побоялся обидеть гостеприимство подозрительностью. И не напрасно. Как только Сакен вернулся к дастархану, мужчины аула завели разговор о том, что перво-наперво следует сообщить на заставу о кокаскерах и женщине и что необходимо джигитам всю ночь посменно охранять аул.
— Келеке, этот ненавистный басмач, недалеко, — говорили они. — Нельзя, чтобы нежданно нагрянул…
Мужчины удивлялись, каким образом смогли пограничники проехать по осыпи на лошадях, где даже пешие опасались проходить. Несколько лет назад один смельчак скатился в каменном оползне прямо в реку. Да и несподручен пограничникам этот путь. Дорога на заставу по той, за хребтом, долине, куда ведет хорошая тропа. Нет, не могли понять мужчины, как пограничники очутились здесь. Может, предполагали, Келек сел на хвост? От него уходили? Если так, то особенно важно охранять аул.
Того, что пограничники могли заблудиться, никто из них даже не подумал.
Так и не удовлетворив своего любопытства, разошлись аульцы по своим юртам, оставив для охраны самых молодых, самых ловких и крепких. Тех оставили, кого в повседневности называли уважительно джигитами.
Богусловский проснулся рано, едва лишь чабаны начали откидывать пологи юрт. Еще раз прокрутилась мгновенно неприглядная картина возможных последствий ночной беспечности, она словно подстегнула его, принудила торопливо одеться и выйти наружу.
Натренированный взгляд Богусловского схватил сразу главное: выше юрт, на выступе, похожем на бараний лоб, стоял юноша с непривычно длинной одностволкой, а издали, от ущелья, что рубило восточное крутосклонье, мерно рысила пятерка всадников с ружьями на луках. «Охраняли! — с чувством благодарности подумал Богусловский. — Не мирно здесь, выходит».
Совестно ему стало, что так непростительно размяк и принес столько хлопот добрым, гостеприимным людям.
Еще больше испортилось настроение Богусловского, когда он, осматривая долину, понял, что они сбились с пути. Безлесая долина — классический трог, выдолбленное в граните корыто с широким округлым дном и крутыми боками-склонами, на которых белели, как трещины в застарелом дереве, промоины. И даже ущелье, прорезавшее восточный склон, тоже казалось большой трещиной. Дно и нижняя половина корытных боков были застланы ярким разнотравным покрывалом, которое делало, как ковер на полу комнаты, долину уютной. Уютность эта, однако, не воспринималась Богусловским, он думал о том, как выбраться отсюда на заставу, упрекал тех, кто выделил проводником-коноводом не знающего пути бойца, досадовал и на самого Павла, чрезмерное спокойствие которого и завело их, как думалось Богусловскому, в это корыто.
«И Анне что потакнул? — серчая, осуждал себя Михаил. — В отряде была бы давно. А теперь и колени натерла, застрянем здесь…»
Он понимал, что не вправе оставаться при жене до ее поправки, его ждала служба, в то же время он совершенно не представлял себе, как оставит ее здесь, в этом глухом ауле, хотя и у гостеприимных, но все же совершенно незнакомых людей. Из того, что ночью конный, как он назвал, дозор находился в ущелье, Богусловский делал вывод, что в этом районе гор есть басмачи, и что сделают вот эти, пусть смелые, пусть мужественные, люди с прадедовскими одностволками против вооруженной банды? Погибнут. Но оправдана ли такая гибель? Нет, Анну оставлять здесь одну Богусловский не мог, но и не ехать на заставу тоже не мог. Вот и соображал, как поступить, чтобы и овцы были целы и волки сыты.
В юрту к Анне его не пустили, объяснив с виноватым видом, что ее лечат, и потому ничей глаз, даже мужа, не должен смотреть на нее. Михаил из длинных фраз выхватил лишь отдельные слова и понял одно: опасения его не напрасны, Анна сесть в седло сегодня не сможет. Не сможет, наверное, и завтра, и послезавтра.
Подошел коновод. На этот раз с виноватой потупленностью. Давит из себя:
— Занизили мы, товарищ краском, чуток. Тропа там, за скалами.
— И пути нет туда, кроме осыпи?
— Должен. Как же не должен? Только ведь как — не знаючи?
— Не знаючи, это уж точно, — плохо, — согласился с деланным равнодушием Богусловский. — Хуже может быть, да уж некуда.
— Проводника взять бы…
— Думаю, что помогут до тропы выбраться, — ответил Богусловский в полной уверенности, что так и произойдет.
Увы, он получил категорическое: «Джок!»
Нет, не страх того, что басмачи могут предъявить счет за помощь кокаскерам, и тем более не леность были причинами отказа, но здравый смысл. Так понял Богусловский, продираясь сквозь жесты и знакомые слова. Понял он и то, что остались они живы лишь благодаря беспечности Павла, сбившегося с пути. В том ауле, где они предполагали ночевать, находился сейчас Келеке.
Об этом главаре небольшой, сабель с полста, но очень наглой и жестокой банды Богусловский был уже информирован в Алма-Ате. Однако в штабе сказали, что последнее время Келеке не слышно, и вполне возможно, он ушел за кордон. Не ушел, стало быть. Какая тогда сила держит его в горах в бездействии? Не одумался ли? Тогда он безопасен, тогда встреча с ним лишь на пользу.
Но когда поняли чабаны вопросы и предположение Богусловского, энергично, наперебой бросали жесткое: «Джок». И только после этой необычной несдержанности начали терпеливо объяснять, что шакал не иначе как ждет кого-то. Сольется стая дикая и тогда спустится вниз. Попадаться же кокаскеру ему в руки совсем нельзя. Наиздевается вдосталь, затем казнит лютой казнью. Обойти бандита можно лишь одним путем: спустившись вниз, ехать от заставы к заставе. Напрямую же, либо обратно по осыпи, затем вверх, через перевал, либо по ущелью, что виднелось трещиной в этом «зеленом корыте», все равно не миновать аула, где Келеке. Так объяснили чабаны. Богусловский, однако, и верил и не верил им. Думал, что хитрят, чтобы оттянуть выезд до выздоровления Анны, а тогда уж и проводника дадут, и стращать не станут. Увы, вскоре он понял, как чабаны искренни. Размеренно, взвешивая каждое слово, заговорил самый пожилой чабан. Его слушали внимательно и почтительно, но, как только он умолк, сразу же вспыхнул спор. Неудержимо горячий. Особенно с возмущением что-то доказывали молодые джигиты. Аксакал не перебивал споривших долго, словно не слышал перебранки, будто ушел в себя, полностью поглощенный своими думами. Но вот наконец поднял руку, успокаивая молодежь, и та тут же примолкла, как замолкает перекрытый валуном ручеек, полнится до поры, набирает силу, чтобы обрести вольный бег, пересилив препятствие.
Недолго помалкивала молодежь. Хлестанула неудержимо возмутительная волна, закрутила водовороты горячей схлестки. Но рука аксакала властно рубанула воздух.
— Стыдно джигитам уподобляться крикливым женщинам. Пойдут те, кого назовут старшие. Пойдут там, где им укажут идти старшие.
Через полчаса из аула ушли двое молодых парней. Ушли на заставу. Порознь ушли. Едва заметными архарьими тропами. Теперь Богусловскому оставалось одно: ждать возвращения посланцев, изучать язык и попытаться понять нравственные устои, которые определяют быт и взаимоотношения в кочевье. Ехать на заставу через отряд он не хотел, чтобы не встретиться с начальником отряда, которого в Алма-Ате просили к следствию не привлекать.
Не предполагал Богусловский, что прибытие повозочного в отряд взбудоражило штаб, и Оккер, знавший о том, где Келеке, приказал спешно седлать коней полуэскадрону и сам повел пограничников резвым аллюром в горы. Начальник отряда сразу же догадался, что краском из Алма-Аты не заехал в отряд неспроста.
«По душу Ларисы Карловны, — думал Оккер. — Ну, натворила! Не оберешься теперь хлопот».
Вместе с тем Оккер недоумевал: отчего краском с женой? Может, заставу принимать? Тогда зачем обходить штаб?
Решал шараду Оккер, а сам пришпоривал коня, чтобы успеть вызволить из лап Келеке краскома с женой и коновода. Что они попали ему в руки, Оккер не сомневался, ибо, как он считал, миновать басмаческий стан путники никак не могли. Но как ни спеши, а километры в горах ох как длинны, и быстрей того, насколько можно, не осилишь их, как бы ни старался. Одним днем не отделаешься, как ни шпорь коня.
Не ведая о двигавшемся на выручку полуэскадроне, Богусловский прикидывал, как скоро приедут к ним пограничники заставы. Не вдруг прискачут, это уж точно. Пешие посланцы не открыто пошли, а тропами, которые легки только для архаров и теков, и как ни ловок чабан, как ни легок он на ногу, а птицей не перелетит через несколько хребтов да отрогов. Не один день пути.
Откуда было знать чабанам и Богусловскому, что застава не в состоянии будет послать помощь в аул, а направит лишь эстафетой донесение в отряд, ибо ждет она нового перехода большой бандгруппы и дробить силы поосторожничает. И если бы не решение Оккера, жить бы им в ауле не менее недели.
Позже, когда сам Богусловский послужит в этих горах, когда познает в полной мере, сколь долги горные версты, он научится ждать, научится рассчитывать, теперь же он считал эту вынужденную остановку совершенно нелепой. Он был еще молод и горяч, оттого и не мог спокойно, без угрызений совести, ждать.
И как обрадовался он, когда к исходу второго дня на плоском валуне, нависшем над ущельем, задымился костерок; и чабаны, только что пригнавшие овец, сбились в кучки и устремили свои взоры к выходу из ущелья. Богусловскому, который сразу же понял, что костер — сигнал добрый, хотелось закричать «Ура!», но он неспешно подошел к чабанам, и те сразу же, радуясь и за себя (опасность от Келеке миновала), и за пограничников, сообщили:
— Ваши едут. Кокаскеры.
Вскорости и впрямь показался сломанный строй всадников, которые, выезжая из ущелья, равнялись в звеньях, и вот уже командир отдал повод своему коню, полуэскадрон зарысил размашисто по крутому корытному боку. Собаки кинулись было от юрт навстречу всадникам, но, подчиняясь окрикам, вернулись и вяло разбрелись меж юрт.
— Скажу я вам, — спрыгнув с коня и представившись по форме, заговорил Оккер, — в рубашке вы родились. Едва к вам пробился. С боем пришлось. Без потерь, правда, но и Келеке ушел. — Затем спросил, меняя тон вновь на официальный: — С кем имею честь?
— Краском Богусловский. Получил направление для дальнейшего прохождения службы…
— Постойте-постойте… Во-первых, фамилия? Во-вторых, если служить, отчего тогда миновали отряд?
— Богусловские — старинный пограничный род…
И замолчал, не зная, что сказать в ответ на второй вопрос. Пауза становилась неловко-долгой, нужно было что-то ответить. Решил быть искренним.
— Велено мне прежде расследовать, — приостановился, подбирая формулировку, — дело Лавринович.
— Иннокентий Богусловский, стало быть, родственник ваш?
— Брат. Вы знакомы с ним? Где он? — взволновавшись, забросал вопросами Оккера Михаил и даже подался вперед. — Знаете, где он?!
— Знал. Вместе осаду держали. И Лавринович там была. Бог даст, к могиле съездим.
Вмиг осунулось лицо Богусловского, и желваки зажгутились на скулах.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Наконец-то они одни. Отданы все распоряжения, закончена трапеза и неспешная беседа за обильным дастарханом. Оккер попал, казалось, в свою стихию: и мясо брал руками ловко, как и сами казахи, и кесу[39] с сурпой принимал так, словно родился и вырос в ауле, и говорил с достоинством и только ко времени, и слушал чабанов со вниманием, не перебивая. Богусловскому же не терпелось порасспросить о брате у Оккера все, что тот знал, что видел. И потому Михаил осуждал Оккера за неспешность, за то, будто сознательно оттягивал тот неприятный разговор.
«Обещал рассказать подробней, и надо же! Да, сытый голодного не разумеет. Мог бы сослаться на усталость с дороги. А может, что между ними произошло?»
Не предполагал Михаил, что и Оккер рад был отказаться от ужина, но тот понимал, как обидит этим аул, и теперь молил бога, чтобы поскорее закончились эти нисколько не волновавшие его разговоры, его беспокоил самый важный для него вопрос: каковы полномочия краскому даны в Алма-Ате и можно ли повлиять на выводы по случившемуся. Ему было важно, чтобы незапятнанным осталось имя Ларисы Карловны. Сама-то она с обидой твердит: «Приехал следователь, ни одному слову не верит. Работничек-вояка».
Понимал Оккер, что напутал следователь Мэлов, ошибся в чем-то, но не видел, как поправить дело. Был же он в этом кровно заинтересован.
И вот краскомы Богусловский и Оккер в отведенной для них юрте. Наконец-то. Но лежат, укрывшись тулупами, на мягких одеялах, смотрят сквозь круглое оконце в куполе юрты на звездный кружок неба и молчат. Михаил едва сдерживает резкий вопрос: «Ну, что вы молчите?!» Ему не терпится узнать подробности гибели брата, и обида на молчавшего Оккера копилась, готовая плеснуть через край, хотя Михаил всячески пытался оправдать начальника отряда:
«Времени много прошло. Крутого времени. Сколько смертей?! Припоминает…»
Нет, Оккер не забыл той неожиданной и вовсе нелепой с военной точки зрения обороны караван-сарая. Но даже сейчас, когда он понимал, чего ждет от него брат погибшего Иннокентия Богусловского, виделось ему из прошлого не то, как поднялся Климентьев, возмущенный тем, что табуны коней налетчиков и их отары овец топчут хлеба, забывший об осторожности, и был ранен, а то, как стремительно, с неописуемым горем на лице бежала к раненому Климентьеву Лариса Карловна, и даже теперь, зная трагическую судьбу председателя коммуны, он все же завидовал ему; Оккеру вспоминались не избитый Сакен за стеной, не лихорадочное растаскивание мешков от ворот, не стремительность Иннокентия Богусловского, рванувшегося навстречу смерти ради спасения Сакена, — ему виделась толпа коммунарок, выбежавших из ворот вслед за мужьями, и впереди этой толпы прекрасная в своей решительности Лариса Карловна Лавринович…
— Жениться на ней думаю, и вот тебе — недолга! — горестно молвил Оккер и тягуче вздохнул.
И вздох этот осадил, как ковш холодной воды кипящее молоко, поднимавшуюся через края обиду.
«У каждого своя боль, — подумал Богусловский. — И чья больней, не рассудить».
— Побывал я в караван-сарае уже после того, — продолжал Оккер, — как побили казаки всех коммунаров, а над коммунарками понасильничали. За Лавринович ездил. Только не оказалось ее там. Перед воротами, где Иннокентий кровь пролил, — маки пышно цветут. На братской могиле — тоже маки.
— Так что же произошло?
— Испокон веков встречаются на Руси люди родниковой души и младенческой наивности. Им нет дела до скрещенных мечей, до кровавых водоворотов, рожденных революционными бурями, коих на Руси тоже не перечтешь на пальцах, — люди такие гнут свое, цепляются за доброту человеческую, за разум. Гибнут эти святой чистоты люди ни за понюх табаку, но их не убывает. Вот и Климентьев. Тут класс на класс стеной встал, а ему одно: учить трудовым примером. Коварство Сулембая не пошло ему впрок. Так и не затворял ворота на ночь. Да и от оружия отказался. Утверждению его устремлений способствовало и то, что в дружбе зажили казахи и коммунары. Образовалась этакая кооперация. В предгорье — отары овец, табуны лошадей, в пойме реки — хлеба, овощи. Сообща, на сходках, обсуждались дела совместные. Конфликты какие, тоже всенародно судились. Хорошо, конечно, только в степи, не среди чабанского люда, а у знати, теория о соответствии имени человека его сущности, прямо скажу, в почете. Не в чистом виде, приспособленная к степи, но в основе своей неизменна: если имя тебе чабан — паси овец, а не лезь в дела управленческие, тем более судейские. Решать и судить дозволено лишь тому, имя которого — почтенный. Вот за сохранение милого их сердцу уклада почтенные те ножами да клинками глотки полосуют непослушным. Перерезали глотку и коммуне-кооперации. Доложу я вам, однако, не столько прискорбен факт гибели мужиков-коммунаров, позор их жен и дочерей, гибель особливо заметных в делах кооператива казахов, хотя трагедия здесь великая, сколько неподсчетны по своей отрицательности последствия разгрома коммуны и кооперации. Тут мне один казах говаривал: «Советская власть — справедливая власть. Не джигитова сила только у нее и аркана нет крепкого, дабы баям руки посвязать…» Как переубедишь? Придет, дескать, время. Не сразу, дескать, даже Москва строилась. Только не всякий ждать того времени желает, а тем более свою жизнь ставить на карту. Ему при его жизни блага потребны. Иной же так рассчитывает: окрепнет власть новая, вот тогда я к ней прильну, как теленок к матке, а пока поостерегусь, издали понаблюдаю…
Замолчал, понимая, что не это теперь жаждет услышать брат погибшего. И все же, вопреки, казалось бы, здравому смыслу, осознавая, что навязчивым подчеркиванием положительности Ларисы Карловны может настроить краскома и против себя, и, что особенно нежелательно, против самой же Ларисы Карловны, продолжал разговор о том, что волновало его:
— Иная реакция на трагедию оказалась у Лавринович. В коммуну пришла она благодарности ради. Любви ради. Не настоящей, тешу себя надеждой, а придуманной. Когда отец Лавринович (пимокат он был) занемог, Климентьев, тогда совсем не знакомый еще им, лечил старика, последние, возможно, деньги свои тратил на лекарства и продукты. Вот она, благодарная ему, и приехала в коммуну, когда узнала о затее Климентьева. Пассивный она была сторонник Советской власти. Личное преобладало. После же трагедии бойцом стала. Настоящим бойцом. В Ташкент подалась. Разведчицей стала. Упорством своего добилась. У белоказаков года два была. Важнейшие сведения поступали оттуда. Вернулась, узнав о подготовке крупной операции, что замыслили казачки против нас, и местах перехода границы белоказачьими отрядами. Времени для передачи данных не оставалось, вот и рискнула. Когда в бою с тем отрядом погиб начальник заставы, она приняла командование заставой. Не могла она самосуд учинить. Не могла!
— Мне, однако же, говорили, что следователь опытен. Да и честен. Зимний штурмовал.
— Верно. Штурмовал. Фамилию изменил, составив из начальных букв пролетарских вождей. Похоже, из интеллигентов. Из старорежимных юристов. И все ж Лавринович я больше верю. Больше.
— Истинную фамилию не называл?
— Нет. Фальшивость какая-то у него в желании оставить о себе хорошее впечатление. Сколько раз говорил с ним, всякий раз после так и хотелось руки помыть. Словно к чему-то склизкому прикоснулся, жабу в руках подержал… А с Иннокентием, — меняя тон, в котором почувствовалось искреннее сожаление, — не сошлись. А ведь сколько вечеров на привалах коротали. Не складывался разговор, замыкались. Отчего? Вот и теперь ответа дать не могу. И только на смертном одре он мне раскрылся. Не о себе говорил, о России, о границах ее. Сколько разумных мер намеревался провести, да только у жизни много планов, у смерти — один.
Неспешно, стараясь не упускать ни одной детали последних часов жизни Иннокентия, ни одного факта из его предсмертной исповеди, принялся рассказывать Оккер, и получалось так, будто Оккер был участником обороны пограничного гарнизона на Алае, словно сам отсиживался в муллушке, готовый к обороне и к смерти, а затем с отрядом ташкентских пролетариев освобождал Коканд от автономистов. Далеко за полночь тянулся этот печальный монолог, который ни разу не прервал Михаил Богусловский. И лишь когда Оккер умолк, молвил:
— Не уважая человека, не сохранишь о нем память. Благодарю искреннейше. А мечты его — нам подспорье.
— Я уже кое-что воплощаю. Он говорил: не с туркестанцами — слово аборигены и тем более сарты для него были неприемлемы, — так вот, не с туркестанцами, не над туркестанцами, как поставили себя казаки-пограничники, а с ними заодно охранять границу. Заодно, заметьте. Не вдруг забитым, запуганным вера в искренность наших помыслов приходит, но плоды усилий своих вижу: на многих заставах есть джигиты-проводники. В аулах и городишках образовались добровольческие отряды нам в помощь. Кстати, Сакен, вылечили которого, подняли на ноги, первым джигитов собрал вокруг себя и привел в отряд. Все, говорит, что повелите, делать станем. Следопытствуют нынче орлы. Преотменные проводники.
Так и не сомкнули глаз до самого рассвета краскомы. Оккер рассказывал о контрабандистах, матерых, знающих каждый камень в горах, о басмачах, жестокость которых не поддается пониманию здравомыслящего человека, о пассивности части жителей приграничных аулов, их нежелании, из-за боязни конечно, бороться с басмачеством — вместе они обсуждали, что предпринять (ведь им предстояло работать бок о бок не дни и месяцы, а, возможно, годы) для искоренения зла и насилия. Они мечтали о том времени, когда казахи и казаки, оставшиеся в аулах и станицах, не ушедшие с атаманами и баями за кордон, не только созерцать станут, но и действовать, самозащищаться. И верили: такое время придет, и придет довольно скоро. Не могут же люди долго терпеть насилие, не могут же не понять, откуда зло, кто носитель этого зла.
Посветлели звезды, что виднелись через дыру в юрте, затем и вовсе растаяли, утонули в бездонности белесого колодца. И вот уже духовитый кизячный дым просочился в юрту: хлопотливые, заботливые женщины аула разжигали очаги, чтобы напоить мужей чаем с баурсаками и куртом перед тем, как те отправятся пасти овец. А сегодня чай нужен еще и гостям. Пусть много их для такого малого аула, но без внимания никто не может остаться.
— Пора вставать и — в поход после утреннего чая, — сладко потягиваясь, проговорил Оккер. — Конечно, еще денек-другой отдыха для Анны Павлантьевны не оказались бы лишними, однако же накладен полуэскадрон для малоюртного аула. Придется, Михаил Семеонович, объяснить ей ситуацию. Надеюсь, проявит понимание и… мужество.
— Она поправилась почти совершенно, — ответил Богусловский, который думал сам настоять на отъезде, если бы даже Оккер не спешил. Михаил был благодарен чабанам и их женам за искреннее гостеприимство, злоупотреблять же этим гостеприимством не хотел. — Она поедет.
— Уверены вы, однако же, в своей жене. Не спросимши ее, ручаться…
— Поедет. Женщины аула — волшебницы. Исцелили.
— Вот и ладно, коли так.
Когда краскомы вышли из юрты, Анна, одетая по-дорожному, вместе с двумя казашками расставляла на дастархане пиалы, насыпая из довольно объемных кожаных сумок возле каждой пиалы бугорки курта, и было видно, что женщины понимают друг друга прекрасно, хотя и сопровождают жесты неведомыми друг другу словами.
— Мужчины, быстро умываться и — к столу, — приветствовала Анна Павлантьевна краскомов. — Прекрасный завтрак: сушеный творог и крепкий чай с бараньим жиром. Женщины говорят, что сытно весьма. Весь день можно без обеда.
— Прекрасно. Обедать нам и не придется. Если все ладом пойдет, успеем к ужину на заставу.
Все пошло ладом. Дорога оказалась не такой уж и трудной, перевалов немного, все больше альпийские луга-джайляу с нечастыми аулами, то ласкающими глаз добротностью юрт, то угнетающие своей невообразимой убогостью: истлевшая, латаная-перелатаная кошма на скособочившихся юртишках, похожих скорее не на жилье, а на забытые за ненадобностью и оттого сопревшие стожки.
— Под одним небом вроде бы живут, — сокрушенно говорил Оккер и высылал вперед разведку. Он не верил ни обильным аулам, ни убогим: засада Келеке могла укрыться везде.
Это, безусловно, было логично, но, но мнению Богусловского, во всем остальном Оккер поступал совершенно нелогично. Послав в аул разведку и получив добрые донесения, в аулы все же не въезжал, а обводил полуэскадрон стороной, в ущелья же, которые оказывались на пути, никого не посылал. Подберет поводья, поднимет руку, предупреждая конников о смене аллюра, и прижмет шенкеля — конь, подчиняясь поводу, зарысит резво. Так и прорежет полуэскадрон ущелье с ветерком, и только на выходе осадит Оккер коня и двинется медленно, прислушиваясь и, казалось даже, принюхиваясь к горной безмолвности, в которой цоканье копыт полуэскадрона бездонно терялось. Потом и вовсе остановит и не тронет коня, пока не убедится, что впереди никого нет. Только в одно ущелье, уже вблизи заставы, послал сразу два дозора с интервалом в полкилометра. Пояснил:
— Один дозор минует ущелье, второй только подъедет.
— А что прежде разведку не слали?
— Там засады невозможны. Стены будто тесаны, наверху тоже негде укрыться.
«И верно, — досадливо подумал Богусловский. — Что с глупыми вопросами лезу?»
Миновали последнее ущелье благополучно. Четверть часа переменным аллюром по зеленому склону, поворот влево, и перед всадниками, как-то вдруг, совсем неожиданно, возник неуклюжий серый квадрат высокого каменного дувала, который казался совершенной нелепицей в этом уютном зеленом распадке.
— Вот и добрались подобру-поздорову, — с облегченным вздохом проговорил Оккер. — И стоит целехонька.
Понял Богусловский по этим последним словам, что не только из-за нежелания стать обузой гостеприимному аулу спешил с отъездом Оккер, да и привала большого не делал тоже не только потому, что опасался Келеке, который, если неспешно двигался бы отряд, мог бы, получив сведения об этом, опередить пограничников и встретить их в удобном месте, — спешил Оккер потому, что знал обстановку на заставе и боялся опоздать.
— Целехонька стоит. Все в порядке.
Но как только часовой открыл ворота и начал было докладывать за дежурного по заставе, Оккер прервал сразу же:
— Где начальник? Где дежурный?
— Банду ждут.
— Ясно, — кивнул Оккер и скомандовал полуэскадрону: — Слеза-а-ай. Не расседлывать коней. Отпустить подпруги, надеть торбы с овсом, растереть жгутами. Готовность к выезду через десять минут. — И часовому бросил: — Чай сюда организовать. Быстро.
Михаил, спрыгнув с коня и передав повод Павлу, поспешил к Анне, и она, обмякшая, вовсе безвольная, сползла ему на руки. Она показалась Михаилу необычно тяжелой, и он с благодарностью, одновременно жалея ее, подумал: «Из последних сил держалась. Молодчина». Спросил участливо:
— Устала?
— Да, — ответила она. — Немножечко.
Он поцеловал ее, шепнув: «Спасибо, родная!»
— Пойдемте, — пригласил Оккер, с едва скрываемой завистью глядя на чету Богусловских: «Будет ли Лариса такой же женой?» — Пойдемте, устрою вас на отдых.
— Не думаете ли вы оставить меня здесь? — с совершенно нескрываемым неудовольствием спросил Богусловский. — Я полагаю…
— Полагать может один командир, — осадил Богусловского Оккер. — Так вот: я полагаю, что вам следует остаться здесь. Пока вы следователь, с вами ничего не должно случиться.
— Пока я не вступил в должность, вам подчиненную, я вправе поступать согласно своему разумению.
— Прекратите, мужчины, — со светской капризностью воскликнула Анна Павлантьевна, затем с лукавинкой глянула на Оккера. — Владимир Васильевич, уверяю вас, Миша, если останется, казниться будет. Поймите его.
— Ох уж эти жены, — несердито буркнул Оккер. — Будь по-вашему.
Они подходили к довольно внушительной казарме из добротных сосновых бревен, год-другой как срубленных и умело просушенных, за которой прятался небольшой домик красного кирпича.
— Конюшню одну казачью разобрали и — вот таких три заставы. Дальние, горные.
— А лес на взгляд совершенно свежий.
— Умели казаки строиться. Бревна сушили отменно, затем в конской моче выдерживали, а потом вновь сушили. На сотни лет. Звенят бревна.
Прошли мимо заставы к командирскому домику.
— Вот здесь и отдыхайте, Анна Павлантьевна. Две комнаты. В одной Лавринович живет, другая — не занята. На ужин вас позовут.
Оккер, прощально кивнув, повернулся и пошагал к казарме, оставив Богусловских одних. Михаил привлек к себе Анну, поцеловал крепко:
— Не волнуйся. Я скоро, должно быть, вернусь.
— Храни тебя бог.
На людях она давно уже не поминала бога, а когда оставались одни, она по привычке, как было всегда принято в доме Левонтьевых, благословляла мужа, если предстояло ему что-то совершить, утешала тоже именем бога, и это его нисколько не шокировало, хотя сам он уже не помнит, когда перестал верить в бога.
Еще раз порывисто поцеловав Анну, Михаил поспешил за Оккером, который уже входил в казарму.
Несколько минут краскомы, склонившись над схемой участка заставы, решали, куда скрытно провести полуэскадрон, чтобы можно было ударить банде в тыл, как втянется она в бой с заставой. Чай в кружках, которые сразу же принес в канцелярию повар, остывал. Когда же определили самый удобный, по мнению Оккера, маршрут, времени пить чай уже не оставалось.
Оккер, а за ним и Михаил вошли в казарму, Анна тоже открыла дверь в сенцы. Переступила порог, но следующего шага сделать не решалась. Она переводила взгляд с чистенького медного умывальника на эмалированный таз под ним, тоже чистый, словно не был он помойным, на ведро с водой, стоявшее на крашеной скамейке и покрытое аккуратно выпиленной и до желтизны проскобленной досточкой, на ковшик, висевший на гвоздике над ведром, но видела все это она как что-то далекое, ускользающее от реального восприятия.
Когда Михаил сказал Анне, что Андрей Левонтьев был пленен при переходе границы, а затем застрелен, и ему, Михаилу, велено разобраться в законности происшедшего, она сразу же расплакалась и долго не могла успокоиться. А чем ближе они подъезжали к заставе, а особенно в юрте во время болезни, когда представилась полная возможность думать неспешно обо всем, что произошло с ней и со всей дружной, как она привыкла считать, ее семьей, с ее отцом, чья жизнь была отдана границам России, с Дмитрием, который, как и отец, исчез невесть куда и где теперь — неизвестно, она не могла не думать о их возможной гибели.
«Никого нет. Одна совсем. Нет рода Левонтьевых».
Но если даже отец с Дмитрием живы, они там, у врагов Михаила. Они с теми, кто убил Петю, ее Петю, которого никто никогда не заменит.
Она не плакала. Она не могла плакать, зная, что в любой миг может войти кто-либо из хлопотливых, добрых лекарок, которых слезы могут обидеть. Непомерным усилием отгоняла она тоску, заставляла себя улыбаться, когда кто-либо входил, и приветливо разговаривать. Когда же ей полегчало, прибыл в аул полуэскадрон пограничников, она и вовсе отвлеклась от тоскливых дум. Стоило ей, однако, сесть в седло, на сей раз особенно удобное, небольшое, то ли детское, то ли женское (подарок аула), как мысли об Андрее завладели ею, и, чем ближе был конец пути, тем они становились властней. Она больше помалкивала и была благодарна Михаилу, что тот понимает ее состояние и не пытается веселить, навязывать разговор.
Теперь же, оставшись одна, Анна даже не пыталась сдерживать слез, они катились по щекам, и она не отирала их.
Команда: «По коням!», которая влетела в сени со двора, встрепенула и Анну Павлантьевну, она с лихорадочной торопливостью принялась вытирать глаза и щеки платочком и сделала было шаг к порогу, но остановилась. Нет, ей хотелось, очень хотелось проводить Михаила с Оккером и всех конников, помахать им рукой, пожелать бескровной победы, но она испугалась, что Михаил наверняка догадается о ее слезах, расстроится и станет волноваться, пока не вернется. Но ведь он идет в бой, и спокойствие ему очень важно. Анна Павлантьевна лишь шепнула страстно:
— Сохрани их, господи!
И вновь слезы неуемно покатились по щекам, реальность отдалилась, будто заволоклась осенним неприглядным туманом, мысли смешались. Она стояла истуканом в маленьких сенях, совершенно от всего отрешенная. Она не воспринимала даже своих слез.
По дорожке от казармы приближались размеренные твердые шаги, до Анны Павлантьевны же они доносились словно из далекого небытия, а когда она наконец осознала, что кто-то идет к ней, времени, чтобы привести в порядок заплаканное лицо и надеть маску спокойствия, не осталось: красноармеец в белой поварской куртке стоял уже в дверях.
— Здравствуйте, — с веселой уверенностью от сознания того, что пришел к гостье с добрыми намерениями и потому не может быть неприятным, приветствовал Анну Павлантьевну заставский повар. — Ужин ждет вас. На выбор: отбивная баранья или гуляш…
И осекся, встретившись взглядом с заплаканными главами, где как бы наложились друг на друга грусть и боль, доброта и благодарность.
— Извините. Я не думал…
— Ничего-ничего. Сейчас все пройдет. Женские слабости, — и в самом деле успокаиваясь и даже пытаясь улыбнуться, ответила Анна Павлантьевна. — А ужинать что-то не хочется.
— Я сюда принесу. Отбивную или гуляш? Я мигом.
— Если можно, чаю, пожалуйста.
— Я мигом.
Стало быть, нужно умываться, нужно все же войти в комнату. В комнату убийцы брата.
«Сейчас-сейчас, — обещала Анна Павлантьевна сама себе, продолжая стоять. — Сейчас».
Подошла все же к умывальнику и принялась макать лицо в пригоршни холодной воды. Это успокаивало. Взяла полотенце. Подумала: «Ее — убийцы», но все же утерлась им.
Комнатка, в которую наконец решилась Анна Павлантьевна открыть дверь, поразила ее уютом и чистотой, хотя стояли здесь несообразные вещи: железная солдатская кровать и старинный буфет ручной работы, дешевенькая местпромовская этажерка и шифоньер красного дерева, тоже ручной работы, грубый стол и венские стулья, но все эти вещи казались у места. Анна Павлантьевна с естественным женским любопытством попыталась понять эту странность, и, чем больше приглядывалась, тем яснее видела, что странности нет, что уют создан хозяйкой-аккуратисткой, наделенной к тому же чувством гармонии.
«Непостижимо! — думала Анна Павлантьевна, любуясь и книгами, со вкусом расставленными на этажерке и скрывавшими ее грубую дешевизну, и бархатным покрывалом, в тон шифоньеру и буфету, с идеальной ровностью застланным на кровати; любуясь нежным, будто морозом рожденным рисунком кружевной накидки на подушке и занавески на окне; уважительно поглядывая на пол, который вроде бы дышал свежестью. — Непостижимо! Она не может быть жестокой…»
И ухмыльнулась грустно столь нелепому, как ей представлялось, выводу. Андрея застрелила она. Самосудно. Зря Михаила не послали бы сюда расследовать.
Нет, не оставалось незыблемым ее прежнее представление о Лавринович: маузер через плечо, шашка до пола, пышные груди с глубокими промятинами от портупеи (она видела что-то подобное на плакате, но считала, что образ создала сама), галифе, подчеркивающие пышность бедер и толстость тренированных ног, короткие толстые пальцы с обломанными ногтями-лопатами, руки эти особенно были ненавистны Анне Павлантьевне, жестокие руки жестокой женщины — все, что вообразила себе в тоске и ненависти Анна Павлантьевна, теперь вдруг исчезло, расплылось в этом уюте, в этой чистоте. Предполагала Богусловская, что комната женщины-убийцы пропитана запахами потных портянок, табачного дыма, ваксы, ружейного масла, а уловила лишь легкий аромат мяты, слегка завядшие стебельки которой были вставлены в небольшую розовую вазу, стоявшую на буфете.
— Можно? — постучавшись в дверь, спросил повар и внес на подносе не только чайник с пиалой и тарелку с хлебом, но и покрытые тарелками миски, из которых вкусно пахло жареным мясом и пряной подливой.
Прошел к столу и, расставляя на нем ужин, оправдывался:
— Глядишь, кроме чаю еще что захотите. Вот на выбор. Гуляш. Отбивная…
— Давайте, я помогу вам, — встрепенулась Анна Павлантьевна, но поднос уже был пуст, все стояло на столе, и ей оставалось лишь поблагодарить повара.
Она поужинала, не переставая думать о погибшем брате. Она ждала Михаила и молила бога, чтобы и на этот раз муж вернулся живым и здоровым, рисовала в своем воображении встречу с той, которая убила ее брата, но ела с аппетитом. Недаром же говорят: голод — не тетка.
Уснуть тоже уснула, вовсе не надеясь на это. Прилегла, не раздеваясь, стала прислушиваться с тоской, не донесется ли топот копыт, и на тебе — усталость взяла свое…
Не слышала Анна Павлантьевна ни залпов, которые хлестнули на рассвете, ни пулеметных очередей, ни громкого «Ура!» пограничников, взявших в клинки басмачей ударом с тыла, — она проснулась лишь тогда, когда затопали в сенцах сапоги, а затем распахнулась дверь и в комнату стали осторожно вносить, боясь задеть за косяк, метавшуюся на шинели Лавринович.
— Господи! — воскликнула Анна Павлантьевна, забывшая все на свете в этот миг, сбросила покрывало с кровати, взбила подушку:
— Сюда, сюда! И уйдите все. Я ее сама раздену. Йода и бинтов! Скорее, пожалуйста!
На кровати Лариса Карловна вскоре успокоилась, перестав метаться и бредить, но в сознание не приходила. Лицо ее теперь казалось совершенно безмятежным, отдыхающим. Пышные черные волосы, в которых как бы утопало оно, подчеркивали эту безмятежность, его нежную юность и, смягчая грубоватость черт, делали удивительно привлекательным.
«Мила, — думала Анна Павлантьевна, вглядываясь в лицо Лавринович. — Женственна».
Теперь уже не рушился, а летел в пропасть созданный Анной Павлантьевной образ женщины-вампира, и мысли ее получали постепенно иное течение, рождались иные выводы. Она уже думала о возможной вине Андрея, а вскоре единственным ее желанием стало желание узнать подробности случившегося от самой Лавринович, а не в пересказе мужа. Она твердо решила, как только раненая очнется и немного освоится со своим положением, рассказать о цели приезда на заставу, попытаться расположить женщину к себе и обо всем порасспросить ее. Анна Павлантьевна уже поняла, что раны в правое и левое плечи не опасны, суставы все целы, кости лишь слегка задеты, и шок Лавринович наступил более от усталости, и от того, что организм, долго находившийся в нервном напряжении, расслабился до бесконтрольности над собой, а не от потери крови и сильных болей. Богусловская, обработав и перебинтовав раны Ларисы Карловны, давала теперь ей время от времени нюхать нашатырный спирт, прикладывая смоченный им тампон к вискам, надеясь этим возбудить уставший организм.
Удалось этого добиться вскорости — очнулась Лавринович. Размежила трудно веки, в глазах поначалу — полное безразличие и пугающая холодность, но постепенно теплел взгляд, появилась осмысленность.
— Кто вы?
— Гостья ваша. Вынужденная гостья, — ответила Анна Павлантьевна. — Подкрепитесь, тогда уже пооткровенничаем.
Она помогла приподняться раненой повыше, подложив под спину еще одну подушку, которую принесли из соседней комнаты, и, хотя боль выбелила лицо Лавринович, она даже не ойкнула, терпеливо переносила боль, пока устраивала Анна Павлантьевна изголовье, и только после этого откинулась расслабленно, глубоко и облегченно вздохнула.
Повременив немного, чтобы раненая почувствовала облегчение, Богусловская начала кормить ее с ложки супом.
Завтрак прошел в полном молчании. И только когда Лариса Карловна допила чай, тоже из ложечки, женщины могли удовлетворить каждая свое любопытство. Первой заговорила Лавринович:
— Я готова слушать. Так какими судьбами к нам?
— Я — Богусловская, — ответила удивленная Анна Павлантьевна.
Она считала, что Лавринович не могла не знать о приезде Богусловского, и вопрос должен был прозвучать совсем иначе: «Вы, значит, жена краскома?», или что-то в этом роде. Во всяком случае не «какими судьбами?».
Не думала Анна Павлантьевна о том, что не видела Лавринович ни Оккера, ни Богусловского. Бой с бандой уже начался, первая пуля уже прострелила ее плечо, когда подполз к ней связной от Оккера и передал приказ: «Через десять минут начать ложное отступление в глубь ущелья. В контратаку перейти, когда полуэскадрон ударит по банде с тыла». И все. О Богусловском ни слова. Да и была ли в том нужда? Несказанно обрадовалась Лариса Карловна этой совершенно неожиданной помощи. Она знала, что намечал прорваться через границу объединенный отряд белоказаков и басмачей, и поначалу предполагала сделать засаду в самом ущелье, но потом передумала.
«Остановить мы их легко остановим, только толку от этого чуть…»
Наткнувшись на засаду, банда может моментально отступить и, проскакав долиной около километра, выйти через другое ущелье к аулу, где их ожидал Келеке. Поставить заслон загодя и там застава не имела сил, вот и решила Лавринович рискнуть, занять оборону в полусотне метров перед входом в ущелье за грядой обросших травою камней. Успели пограничники приготовить огневые точки для пулеметов, вырыли и для себя окопчики, искусно их замаскировали, но до самого начала боя Лавринович не была уверена, разумно ли она поступила, не погубит ли заставу. И можно понять, с каким воодушевлением она передала приказ начальника отряда по цепи.
Отбила застава атаку вражескую, примолкли все в ожидании следующей. Не из легких задачка предстоит: отступать, вроде бы дрогнули, обессилели, но в то же время не дать банде сблизиться для сабельной сшибки.
Незаметно для противника один станковый пулемет Лавринович перемещает в тыл, правее входа в ущелье, чтобы мог открыть фланговый огонь. Предупредила пулеметчиков: не выдавать себя, стрелять лишь в том случае, если прорвутся всадники через оборону заставы. Если же не случится такого, открывать огонь только тогда, когда пойдет в атаку полуэскадрон Оккера. Ослабляла она этим оборону, зато обеспечивала больший успех кавалерийской атаки резерва.
Очередное наступление белоказаки начали в пешем строю. Приближались короткими перебежками к пограничникам на бросок гранаты, и это вполне устраивало заставу. Она сразу же начала отходить, тоже короткими перебежками. А когда противник понял, что дрогнули пограничники, когда вылетела из-за увала орда гикающих басмачей, было уже поздно — пограничники, отстреливаясь, укрылись в ущелье.
Тактика Оккера, который провел свой полуэскадрон как раз в то ущелье, куда мог повернуть враг, строилась на том расчете, что атакующие ворвутся в ущелье, как говорится, на плечах заставы. Так оно и случилось с конниками. В ущелье уже загремели залпы, а сотня пеших казаков находилась еще далеко от него и явно не спешила на помощь басмачам. Коноводы не подавали коней, казаки лениво поднимались и неспешно трусили к входу в ущелье. Момент критический. Застава может не выдержать нажима басмаческой конницы и погибнет, но и атака с тыла бесцельна в такой ситуации: казаки встретят залпами полуэскадрон и не пропустят его в ущелье.
И тут заработал пулемет, подсекая лениво бегущих казаков, рассчитывающих подоспеть к шапочному разбору. Живые плюхались на траву и по команде сотника ползли на пулемет, охватывая его подковой.
Оккер, увидевший все это со скалы, где он лежал между гладкими валунами, торопливо спустился вниз, с благодарностью думая о Ларисе Карловне: «Молодчина! Получше иного мужчины командует». Вскочил в седло, поднял руку.
— Бесшумно! Аллюр три креста! Краском Богусловский! — Он рубанул рукой, как бы отсекая правый фланг строя. — На казаков. Я с остальными — в ущелье. Вперед!
Рысью вышли конники из каменной тесноты и запластали по мягкому травяному ковру, разламываясь надвое. Безжалостно шпорили коней, ибо слышали, что в ущелье уже не так дружны залпы, и понимали: опоздай, несдобровать и им самим, а заставе наверняка конец. И казаки как бельмо на глазу. Тоже минуты решают исход схватки.
Казаки подползли к пулемету, теперь это уже было хорошо видно скачущим пограничникам, совсем близко. Не поднимаются, однако, для последнего броска, стреляют из карабинов и ждут, пока посланные сотником казаки не проберутся за скалами в тыл пулеметчикам и не постреляют их. Полуэскадрону все это на руку.
Впереди скачет Богусловский. Он понимает, что вот-вот начнут натыкаться пограничники на шальные пули, что разумней было бы с флангов ударить, но тогда будет потеряно время и внезапность, казаки могут встретить тогда прицельным огнем, а это куда как не легче. Богусловский выхватил саблю.
Еще метров полста безопасных, а там — взгорок, там — встречные пули от своего же пулемета. Припал к гриве Богусловский и шпорит коня. Утешная мысль: «Минет шальная, не зацепит» — подбадривает, а боязнь того, что казаки вот-вот увидят атаку пограничников и откроют огонь, подгоняет.
Выпластали пограничники на взгорок, и обрубилась пулеметная очередь.
«Что делают! Казакам руки развязывают!»
Напрасно встревожился Богусловский. Добром обернулось решение пулеметчиков прекратить огонь. Казаки, посчитав, что кончились у красноармейцев патроны, поднялись в рост и потрусили к пулемету, предвкушая сабельную расправу над беззащитными, а когда услышали топот копытный, поздно уже было, засверкали над их головами жгучие сабли.
Поразумней кто, руки подняли и в кучу сбились. Спрыгнул Богусловский с коня, пожал руки пулеметчикам:
— Молодцы! Собой жертвовали ради товарищей, ради победы!
— Верно, посекли бы шашками вмиг, не шпорили бы вы коней так, — радуясь жизни, которая только что была на кону, ответил весело пулеметчик, поправил сбившуюся на затылок фуражку и повел восторженным взором по безбрежности горной, наслаждаясь тем, что может вот так свободно смотреть на величавый простор.
И метнулся к Богусловскому, сбил его с ног, а сам отяжелело повалился рядом.
Не вдруг Богусловский осознал, что произошло: пулеметчик лежит бездыханный, несколько пограничников, припав на колени, стреляют в сторону ближних скал, а взводный, который в атаке все норовил обогнать его, Богусловского, просит настойчиво:
— Разрешите догнать гадов?!
— Да, — кивнул Богусловский почта машинально, не отрывая взгляда от гипнотизирующего алого островка среди густой зелени луга. Он бы и себе не ответил, о чем думал. Да и видел он не кровь, а пулеметчика, которого переполняла радость жизни и который с восхищением смотрел на горы в свой последний миг жизни. Нет, он не хотел умирать ни тогда, когда отпустил гашетку «максима», понимая, что может погибнуть, ни в тот момент, когда закрыл собой совершенно неизвестного ему краскома. Богусловский опустился на колени и поцеловал в лоб красноармейца, принявшего его смерть на себя.
Из ущелья донеслось раскатистое «Ура-а-а!» — Богусловский поднялся, крикнул зычно:
— По коням! Сади-и-ись! За мной!
Несколько человек только осталось охранять пленных казаков, все остальные понеслись, что называется, с места в карьер к ущелью, где ржали кони, но откуда выстрелы доносились все реже и реже.
Опоздал Богусловский. Бой окончился, пленные басмачи понуро стояли в окружении пограничников, а чуть подальше несколько бойцов несли на шинели раненую Лавринович, затем подняли ее и помогли Оккеру, который был в седле, поудобней взять на руки.
— Не могу воспринять как реальность, — глухо проговорил Оккер, когда к нему пристроился Богусловский. — Дичайшая несправедливость!
— Убита?
— Дышит. Но в беспамятстве.
— Возможно, рысью? — предложил Богусловский. — Крови меньше потеряет.
— Разумно, — согласился Оккер. — Возьмите повод.
Они рысили рядом, когда позволяла местность, в тесных же местах Богусловский переходил на шаг и отпускал повод на всю длину, чтобы конь Оккера шел позади.
За всю дорогу Лариса Карловна ни разу не пришла в сознание. Не видела она Богусловского, ничего о нем не слышала, оттого и вопрос такой задала, а ответ ничего ей не прояснил.
— Стало быть, с Владимиром Васильевичем, — поправилась, — с начальником отряда приехали?
— Я жена краскома Богусловского. С ним и приехала.
— Смена мне? Наконец-то. Сгоряча всунула в хомут голову, да что оставалось делать: убили начальника заставы почти тут же, как бой начался с казаками, а красноармейцы не то чтобы дрогнули, просто замешкались… Не представлял никто ни силы беляков, не знал никто и планов ихних. А мне ведомо все. Вот и принялась распоряжаться. Ловко побили белоказаков, в плен многих взяли, тогда мне и говорят: молодец, командуй заставой до смены. Согласилась, опять же сгоряча. Оно-то ведь как: дом не велик, а сидеть не велит. Но тут-то — велик дом. Участок один чего стоит. Ходкий. То басмачи, то казаки шалят, то контрабандисты, то все вместе сгрудятся. В пору клинки в ножны не вставлять… Теперь все, передохну немного, а там — куда пошлют…
Анна Павлантьевна слушала исповедь Лавринович с радостью: не сторожится, почувствовала расположение. Но и тревожила мысль: не уйдет ли в себя после того, как узнает о цели приезда Богусловского. Умалчивать, однако же, истину тоже, понимала, нельзя. Вздохнула и ответила виновато:
— Нет, Лариса Карловна, не смена. В отряде будет служить Михаил. Сюда же мы заездом. Его просили разобраться, — Анна Павлантьевна остановилась, подбирая нужные слова, нашла их и, с трудом сохраняя прежний тон, продолжила: — С фактом расстрела плененного в бою офицера.
— Ох! Да никто его не расстреливал! — возмущенно воскликнула Лавринович, даже приподнялась было, но резкая боль побелила ее лицо и отбросила на подушки. Переждала, пока утихнет боль, заговорила уже спокойней: — Сама я в него не стреляла. Не успела. Хотя и хотелось пристрелить, как собаку, сразу же как ввели в канцелярию. Пленные скоро его выдали. И что атаманил долго, и что офицер бывший. Пограничники и ведут его ко мне, чтобы допросила, не пойдет ли еще вскорости банда какая. Сразу узнала его, холеного офицерика, а он, вижу, — нет. Выходит, думаю, частенько насильничал, если не помнит. А я, дура, пряталась от него, больной прикинулась, толком почти ничего не узнала. Заводят его, стало быть, рука у меня к маузеру. Да так скоро, едва успела сдержаться. «Красавец, — говорю ему и даже улыбаюсь. — Неплохо бы ночку провести с таким». Его же словами, значит, говорю. А он мне: «Не в моем вкусе». Вот тебе и на. А в коммуне?..
— Как ни пытаюсь понять вас, Лариса Карловна, не могу, — решилась прервать рассказ Лавринович, хотя опять же опасалась, что это может остановить вовсе ее откровения. Но столько неясного и любопытного для Анны Павлантьевны было в словах раненой, столько волнующего, хватающего за сердце, что не вытерпела больше, перебила: — Где вы прятались от офицера? Отчего он должен был узнать вас? О каком насильничанье вы говорите?
Подозрительно посмотрела Лариса Карловна на Богусловскую, удивленная чрезмерной заинтересованностью, с какой та задавала вопросы. Мелькнула мысль: «Нужна ли откровенность? Не повторится ли, как с тем следователем?» — и все же стала отвечать подробно, как прилежная ученица перед учительницей.
— У атамана казачьего и прислужничала. А тут он говорит, чтобы я, значит, поприличней выглядела да подавала бы все аккуратно на стол, когда гости съедутся. Спрашиваю его: «Что за гости?» Осерчал он. «Не твоего ума, рычит, дело!» Эге, думаю, важное что-то будет. Принялись вскорости гости съезжаться, атаман атамана важней. Бражничают, спасу нет. Утомилась я донельзя, только креплюсь, жду, как и они, какого-то важного семеновского посланника. Пожаловал, когда неделя к исходу шла. Да не один. Выбежала я по необходимости какой-то на крыльцо, гляжу: тарантас пылит и прямо к воротам. Казачок-служка настежь их, хозяин мой тут как тут, стоит, готовый к рапорту. Выпрыгивает тот, главный, поджарый вроде, только ноги мясные, а следом Левонтьев атаман. Дух у меня занялся. Бежать надо, а ноги, что лен моченый. Потом узнала: братья они…
Анна Павлантьевна чуть не вскрикнула радостно: «Жив Дмитрий!», но только смежила веки, чтобы укрыть от собеседницы вспыхнувшую радость.
— Стою, значит, а сама понимаю: узнает если — конец. Повытянут все жилы.
— Да отчего же узнает? Встречались прежде, выходит?
— Приходилось, — вмиг подсевшим голосом процедила сквозь зубы Лариса Карловна и умолкла.
Так ярко всплыли ужасы последнего дня коммуны, такой тоской сдавило сердце, что она не могла произнести ни слова. Вроде и не здесь она, а там, в караван-сарае. И не теперь, а тогда…
Разобрала постель, сняла прокаленные солнцем потные одежды свои, набросила халатик и стала расстегивать пуговицы на рубашке Климентьева. Так у них повелось после его ранения, она помогала ему раздеваться, хотя рана давно зажила. Сняла уже с него рубашку, и тут со двора донеслись жесткие шаги, а следом почти тотчас дверь хлестко отворилась и — вот он, Андрей Левонтьев. Приказывает: «Всех в клинки, этих коммунаров. Коммунарок казакам в утеху».
Вроде бы вот он, грубый хвато́к бородатого казака, выламывающий руки, отрывающий от Климентьева, а потом презрительно-масленый взгляд самого Левонтьева. И слова снисходительные: «Красавица. Неплохо бы ночку провести с такой».
Не смогла Лариса Карловна сдержать стона от боли воспоминаний, а Богусловская, не знавшая истинной причины глухого стона, положила на лоб раненой ладонь, чтобы узнать, нет ли жара, и спросила с заботливой тревогой:
— Больно?
— Да, очень, — с грустным вздохом ответила Лавринович. — Не знаю, пройдет ли она когда-либо. Та ночь проклятая колом в сердце вбита.
Не верила, вернее, не хотела верить Анна Павлантьевна тому, что слышала; она проходила памятью своей день за днем, год за годом, детство, юность, взрослость, пытаясь вспомнить, хоть в каких-то поступках, в каких-то словах проявлялась у Андрея жестокость, и не могла этого сделать: мягок, ласков, уверен в себе, чужой воле неподвластен — нет, она не хотела верить Ларисе Карловне, но понимала в то же время, что Лавринович говорит искренне, ибо даже не предполагает, кому исповедуется.
— В Верный подалась я, потом в Ташкент. Подучилась немного и — в белоказачий стан. Что проведаю, через связного сюда. Думаю, не одну банду встретили умно по моим сообщениям. А в тот, последний раз, хотя и сказалась больной, сердце, мол, зашлось, хотя и не слышала сама многого, но прознала: готовят переход границы в пяти местах одновременно, связного же нет и нет. Я и подалась сама. Успела. Все нужные заставы предупредили. Ну, а с Левонтьевым как вышло? Не стала я его допрашивать. Отправила обратно. Только, значит, вывел его красноармеец, и тут — выстрел. Я хватаю маузер — и во двор. Гляжу: атаман Левонтьев застреленный лежит с шашкой в руке, а пограничник скорчился весь, рану в боку зажимает. Вышло это все так: только из казармы они — атаман метнулся, выхватил из ножен конвойного шашку и в живот ему удар нацелил. Вмиг все это. Только и пограничник не лыком шитый оказался. Увернулся, бок только немного задело шашкой, и — в упор. Патрон, видать, в патроннике был.
— Но Миша… — Поправилась Анна сразу. — Краском Богусловский сказывал, что следователь заключил, будто вы стреляли. Беспричинно, выходит?
— Пограничники, когда выбежали, маузер у меня в руках все видели. Да я и сама не скрывала, что с радостью пулю бы ему в лоб влепила. Он-то вроде ничего, кивал сочувственно, вопросы, как и вы, задавал, а вышло вон как. Мне Владимир Васильевич, — и тоже поправилась, — начальник отряда сообщил о его заключении. Без вины обвинили.
— Тенденциозный подход, значит?
— Кто его знает? Возможно, выслужиться хочет, а может, не понял чего. Пусть его… Подлечусь и снова попрошусь, чтобы послали куда-либо.
— Но мне известны намерения Владимира Васильевича…
— И мне известны. Только я товарища Климентьева любила. Очень.
— Я тоже любила. Брата нынешнего мужа. Да, видно, не судьба.
— Погиб?
— Да. В Финляндии. Рассудила так: с любящим человеком — а Миша давно меня любит — лучше, чем одной…
Промокнула платочком Анна Павлантьевна вначале свои слезы, потом стала вытирать сбегавшие по щекам слезы у Ларисы Карловны, уже не обращая внимания на свои, которые застилали глаза.
Тихо и мирно плачущих их и застали мужчины: Оккер, Михаил Богусловский и незнакомый, тоже молодой и подтянутый, краском. Вошли улыбающиеся, возбужденные каким-то приятным разговором. Особенно радостным было лицо у Оккера, и хотя, увидев Ларису Карловну плачущей, он постарался посерьезнеть, но ничего путного из этого не получилось. И в голосе радость:
— Смена вам, товарищ Лавринович. Вот, новый начальник заставы. Я сам познакомлю его и с обстановкой, и с участком. Вам, Михаил Семеонович, — обернулся Оккер к Богусловскому, — тоже не лишним станет ознакомление. Через два дня мы сможем выехать в отряд…
— Я вам, Владимир Васильевич, — глядя на Оккера полными слез глазами, сообщила Богусловская, — сосватала Ларису Карловну. На свадьбу пригласите?
Словно бомбу бросила, и та крутится, дымя фитилем, готовая вот-вот взорваться и смести единым махом всех собравшихся. Лариса Карловна была шокирована столь смелым заявлением этой едва знакомой женщины, взявшей на себя смелость решать ее судьбу. Оккер обалдел от вдруг свалившегося на него счастья, но более всех был поражен Богусловский, который еще не приступил к расследованию и вот теперь, благодаря столь опрометчивому, как он считал, действию жены, оказался будто спеленатым. С упреком он смотрел на Анну, но та, однако же, нисколько не смутилась. Ответила с мягкой грустью:
— Напраслину на нее, Миша, навели. Она тебе все расскажет…
— Самой дорогой гостьей вы, Анна Павлантьевна, будете на свадьбе! — горячо воскликнул Оккер, влюбленно глядя на Ларису Карловну.
Лавринович не ответила на этот взгляд таким же взглядом. Она устало смежила глаза.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Нет, Михаил Богусловский решительно не мог понять, для чего и этот многотысячный митинг, для чего вообще эта шумливая экспедиция к ледникам. Он стоял перед строем полуэскадрона и, казалось, внимательно слушал очередного выступающего, который, как и прежние ораторы, страстно убеждал забившую до отказа городской сад толпу в том, что, если дать воду степи, она станет цветущей; на самом же деле Богусловский воспроизводил в деталях тот спор, который произошел прежде и с Оккером, и с учеными, пытаясь разобраться в своих оценках происходящего.
Толпа бурно приветствовала уверенное обещание оратора: «Мы воочию убедимся, сколь плодородна ныне безжизненная степь, когда напоим ее живительной влагой». А Богусловский с недоумением думал: «Ну как же так? Разве непонятно, что это — маниловщина? Неужели все здесь без разума?»
А может, он сам не прав? Вот до этих радостных оваций все ему было понятно, он был совершенно убежден в своей правоте и считал резкость вполне уместной в тех не единожды возникавших перепалках…
Первый спор, вернее, почти незаметное разногласие случилось при первом сообщении Оккера о возможном приезде научной экспедиции. Богусловский вошел в кабинет начальника отряда с очередным докладом по обстановке.
«— Получены данные, что Келеке готовится к вылазке. Его усилит отряд белоказаков. Считаю необходимым заявить ультиматум соответствующим чинам сопредельной погранстражи, потребовать, чтобы не потворствовали бы…»
«— Неисправим ты, Михаил Семеонович, неисправим, — с явным сожалением ответил Оккер. — Сколько заявлений сделано, а проку от того много ли? Меры боеготовности следует разработать тщательнейшим образом. И вот что имей в виду: ученые едут к нам. Из столицы. Цель их — изучение ледников и моренных озер Тянь-Шаня. Замах, видишь, велик. Придется сопровождать».
«— Время ли для этого? С басмачами и белоказаками впору справляться».
«— Придется удвоить и утроить усилия».
А неделю спустя Оккер приказал готовить полуэскадрон к походу в горы.
«— Ученые уже выехали из Алма-Аты. К их прибытию все следует подготовить».
«— Но у нас нет совершенно резерва. Маневренная группа на заставах, где предполагается переход Келеке».
«— Придется отзывать. И пусть будет по-твоему, бери из хозвзвода перебежчиков».
Несколько казаков, по которым ударил в спину Газякин, остались живыми. Попадали с подбитых лошадей в воду, и понесла их речка стремительно вниз, кого закружила до смерти, кого расшибла о валуны, обильно выпирающие из воды на самых быстринах, но те, которые в рубашках родились, выбрались на берег. Васину тоже повезло. Хмуро оглядел он своих товарищей и выдавил: «Казните. Я во всем виноват!» И чем бы все закончилось, известно одному богу, если бы не выскочили из расщелка красноармейцы. Они видели все и, выбирая короткий путь, погнали коней ущельями, чтобы опередить стремительную речку и там, где она поворачивает от границы в тыл и немного смиряет бег, раздавшись вширь, спасти живых и раненых. Десяток красноармейцев окружили тех, кто выбрался на берег, остальные плотной стеной перегородили речку, вылавливая в воде убитых и раненых. Всех спасенных привезли в отряд. На вопрос Оккера: «Что, навоевались досыта?» — ответил Васин: «Дайте оружие, и вы узнаете, как крепко мы можем мстить».
Не убедило Оккера это заявление. Сказал, что ненависти, согласен, у них хоть отбавляй, а вера иная. Определил в хозвзвод, хотя Богусловский убеждал, что их место в маневренной группе: горы изучили досконально, где укрывались от пограничников, урок от своих же получили такой, что хочешь не хочешь, а с головы на ноги встанешь.
Несколько раз Богусловский просил Оккера изменить решение, заговаривал даже с ним об этом, когда собирались у семейного очага в редкий свободный вечер вместе, но, несмотря даже на поддержку женщин, разговор всякий раз оказывался хотя и горячим, но бесполезным. Один у Оккера ответ: на мести далеко не уедешь. Верить нужно в то, что защищаешь, за что воюешь.
«Нужда привела к разумности», — подумал не без удовольствия Михаил Богусловский. Но выход из положения он не видел в том, что возьмет к себе перебежчиков. Сказал с сомнением:
«— Не велико подспорье. Границу все равно ослаблять придется».
«— Ничего. Ради будущего…»
«— Когда это будущее придет? Через полвека? Сколько людей нужно, чтобы создать искусственные реки в пустынях? А где их теперь возьмешь?»
«— Мы — солдаты. Для нас главное — выполнить приказ, — ушел от полемики Оккер. — К сроку полуэскадрон, Михаил Семеонович, подготовь. Ну, а мысли твои? Времени у тебя достанет обратить в свою веру ученых. Путь, как я понимаю, долгий будет у вас».
Богусловский принял совет, решив и впрямь погодить до «долгого пути» и упрятать свое мнение в долгий ящик. Но в первый же день едва сдержался, приглядевшись к пожилому бритоголовому профессору столичного университета и двум его молодым коллегам, которые еще не имели громких научных титулов, но которых профессор опекал подобострастно и заботливо, словно наседка цыплят. Молодые же ученые, было похоже, не тяготились столь всеподавляющей опекой, а воспринимали ее как должное. Они вполне были уверены, как виделось Богусловскому, что они — гении, не приспособленные к житейским неурядицам, и стало быть, опекун не только должен торить тропу в науку, но и просто обязан ограждать ту тропу от мирского сглазу. Только тогда ученики достойно продолжат дело учителя и даже превзойдут его.
Видя все это, Богусловский как ни пытался убедить себя, что только смелость, только истинное стремление служить народу привело этих людей в такую глушь, но сомнения все больше и больше укреплялись.
«Полазают месяц-другой по горам и станут всю жизнь снимать проценты», — с неприязнью думал он.
Удержал все же себя в тот, первый день, не навязал дискуссии. Она разгорелась на следующий день, когда ученых пригласил на праздничный бешбармак председатель исполкома и где, вполне естественно, такими же почетными гостями были командиры-пограничники.
После первых протокольно-сухих официальных минут, удлиненных обычными для восточного стола приветствиями, вниманием собравшихся постепенно завладели столичные гости.
«— Почему мы выбрали Тянь-Шань? — задавал себе вопрос профессор и медлительно, с расстановкой, как с кафедры университета, чтобы каждое слово ощутилось, осело в сознании, сам же отвечал: — Тянь-Шань — это гигантский оазис в великом поясе пустынь Азии. Обратите внимание: от Каспийского моря до Центрального Китая — Кызылкумы, Каракумы, Голодная степь, Такла-Макан…»
«— И если бы не ледники, — бесцеремонно прерывая профессора, будто взял с места в галоп молодой ученый Лектровский, — не быть бы среди бескрайних песков ни Аральского моря, ни Лобнора, ни Балхаша. — Сделал паузу, поглядывая на всех с явной гордостью, вот, мол, внимайте, впитывайте все, о чем я буду говорить, затем продолжил: — Исток Волги не увидишь, пока не подойдешь к нему вплотную, истоки среднеазиатских рек видны за сотни километров: они в изгибах ледяных корон, что венчают вершины хребтов. Но, обратите внимание, раздел рек происходит в более низких и потому более теплых поясах. Причем раздел этот столь тонок и изменчив, что даже след лошадиного копыта может изменить направление течения воды».
«— А у нас сколько лошадей будет? — иронически спросил Богусловский. — Не потопчем ли мы все разделы?»
«— Опасность имеется, — вполне серьезно ответил Лектровский, то ли не уловивший иронии, то ли не обративший на нее внимания. — Но эта опасность ничто в сравнении с нашей великой целью. Наши оценки запасов воды в Тянь-Шане лягут в основу гигантских проектов по превращению диких пустынь в цветущие сады, в безбрежные пашни. Извечная мечта азиатского крестьянина обретет реальность, зримость. Изобильная радость воцарится в ныне бесплодных степях».
«— Как скоро это случится? — с еще большей иронией спросил Богусловский».
«— Три, четыре, пять десятков лет — миг для истории, миг в жизни народа. Мечтали и надеялись столетиями. Сколько легенд и сказаний связано с водой? Достаточно обратиться к одной: Фархад и Ширин. Воплощение же мечты займет десятилетия…»
Богусловский больше не иронизировал. Он заговорил жестко:
«— Фархад — не казах — киргиз. Совсем недалеко отсюда есть следы древней ирригационной системы. Да-да, системы. Было время, когда каналы и арыки пересекали Бетпак-Далу, теперь заброшенную пустыню. Теперь еще многие в прошлом возделываемые участки называют огородами. И не оттого, осмелюсь утверждать, брошены поля, что леность обуяла народ. Нет! Ему едва хватало сил отбиваться от джунгар и калмыков, от тех же узбеков, гений которых воспел Фархада. Героями эпоса казахского народа стали герои, отвечающие иным идеалам, идеалам бесстрашия, мужества и самопожертвования ради национальной свободы. Не считайте мои замечания за желание напомнить вам историю края, у меня иная цель — провести, если хотите, параллель между древностью и днем сегодняшним. Не видится мне возможность сегодня рыть каналы не только в Бетпак-Дале, но даже на семиреченских залежных землях. Много сил отнимает борьба с байско-белоказачьим движением. Да и сама экспедиция — дело хлопотное, ущербное для обороны границы… А через полста лет, когда, как вы говорите, подоспеет время, ваши данные устареют, на них никто не станет опираться. Пойдут новые экспедиции. И нужны им будут не полуэскадроны, а только проводники».
«— Столь мрачная картина, — с едкой усмешкой возразил Лектровский, — которую нарисовал пограничный командир, никак не соответствует тем светлым далям, к которым устремлен сегодня освободившийся от оков рабства народ. Хочу заметить, что даже царское правительство обеспечивало безопасность экспедиций… Инженер Васильев тому пример. Он разработал целую систему орошения долины Чу. Повторяю, еще при царском режиме. Сейчас разработкам Васильева будет дана зеленая улица. Васильев уже в Пишпеке. Видимо, командир-пограничник не совсем в курсе дела?»
«— У атбашей Васильев сумел объяснить старейшинам каракиргизских племен, которые встретили его у переправы враждебно, пользу своей экспедиции. Миром все обошлось. Посмотрю я, как вы сможете договориться с Келеке».
«— Если с таким настроением командир, как поведут себя красноармейцы? — недоуменно спросил профессор. — Я не желал бы вручать свою судьбу…»
«— Бандитская рука коснется вас лишь тогда, — резко прервал Михаил Богусловский, — когда не останется в живых ни одного пограничника. Но до этого, будем надеяться, дело не дойдет».
«— На том и порешим, — как бы подвел итог спору профессор, И добавил, пристально глядя в глаза Богусловскому: — А мысли ваши, молодой человек, не в духе времени. Я бы охарактеризовал их неполезными».
Никто не возразил профессору. Хозяин стола предложил тост за успех предприятия, на какое-то время стол оживился, но все равно обед вскоре закончился. По пути в штаб отряда Оккер упрекнул Богусловского:
«— Не ко времени спор затеял. Председатель исполкома обиделся, что прием не получился задушевным. Нам это тоже учитывать следует».
Сцены минувшего со всей ясностью восстанавливались в памяти Богусловского, но в то же время он замечал все, что происходило вокруг него сейчас, и соотносил свои оценки с оценками собравшихся на площади людей. Они же аплодировали ораторам радостно, вдохновенно. Скажи им сейчас: «Вперед! Рыть арыки! Сооружать каналы!» — они не остановятся ни перед чем — такое впечатление было у Богусловского.
«Неужели я все же не прав?»
И тут он услышал реплику Сакена на ораторское обещание: «Недалек тот день, когда живительная влага побежит по рукотворным рекам, и припадет к ним иссохшими губами пустыня, оплодотворится в них».
— Кто кетмень в руки возьмет? В аулах юрты без джигитов.
Вот тебе и овации.
Митинг шел своим чередом, мысли Михаила Богусловского — своим. Теперь, когда уверился он в своей правоте, мысли его перекинулись на предстоящую долгую разлуку с Анной, вот уже вторую после женитьбы. Но если, оставляя ее в Москве, он больше беспокоился о ней, теперь же, наоборот, считал, что судьба уготовила ему жесткий экзамен на жизнь. Речи последних ораторов, резолюция митинга — все это лишь фиксировал в своем сознании Богусловский машинально, сам же, взвешивая каждую фразу, каждое слово, готовился к прощальному разговору с Анной. Он не хотел, чтобы жена почувствовала его сомнения и его опасения. Станет тогда тревожиться, а она недавно объявила, что будет у них ребенок. Волнения, стало быть, ей совершенно вредны.
Увы, все слова, которые приготовил Михаил, оказались вовсе ненужными. После митинга он, приказав полуэскадрону еще раз осмотреть снаряжение и вьюки, а утром в назначенное время выстроиться на манеже, пошел сразу домой. Анна встретила его с необычной грустью в глазах, и грусть их обоих как бы слилась воедино, но странное дело, оба почувствовали себя более покойно. Любая фальшь вмиг бы разрушила их, пожалуй, первое со времени женитьбы единение душ.
— Боюсь я за тебя, Миша.
— Я тоже боюсь. Всему миру растрезвонили маршрут.
— Значит, вы до Хан-Тенгри, оттуда к Чилико-Кебикскому горному узлу? Так?
— Да. Они хотят изучить Заилийский Алатау и Кунгей-Алатау. Месяца два, а то и три. И никакой связи. Посыльного не пошлешь. Берем только голубей.
— Хан-Тенгри зовут Кровавой горой. Страшно, — тоскливо сказала Анна, а помолчав, справившись с собой, продолжала со спокойной грустью: — Что ж, как распорядится судьба. Я буду ждать. — И поправилась: — Мы будем ждать.
Михаил прижал ее к себе и, повынимав шпильки, рассыпал прическу, затем долго процеживал сквозь пальцы ее шелковисто-мягкие волосы, а она с трудом сдерживала рыдания, время от времени лишь судорожно вздыхала.
Летняя ночь, что обрубок. Вот уже и в путь пора. Народу, несмотря на раннее время, собралось проводить экспедицию много. Пришли все находившиеся в гарнизоне командиры. С женами все. Красноармейцы высыпали из казарм и сгрудились в манеже. Сколько советов, сколько пожеланий…
Анна шепнула одними губами: «Храни тебя бог», чтобы даже не услышала Лариса Карловна, которая уже поцеловала Михаила и теперь отступила, давая возможность проститься супругам.
— Полно, Анна, — ласково упрекнул Богусловский жену. — Береги себя. Береги сына.
— А если дочь?
— Тем более береги.
Он поцеловал Анну, и ее тут же под руку взяла Лариса Карловна, как беспомощную старушку, а Богусловский крикнул зычно:
— Слушай мою команду! По коням! — Подождав, пока все провожающие отошли к краю манежа, а ему подвел коновод коня, рубанул рукой. — Сади-и-ись! Справа по звеньям за мной, марш!
Вроде бы полуэскадрон всего, а с вьючными лошадьми строй вытянулся впечатляюще.
Таким ли он возвратится? Неспокойно в горах. Тревожно на границе. И не связано ли все это именно с экспедицией? Не поставлена ли задача перед Келеке уничтожить ученых? А по их программе в каждом крупном населенном пункте должны состояться митинги. Богусловскому же казалось наиболее разумным начать экспедицию с конца маршрута, поднявшись на Заилийское Алатау по пойме речки Иссык, а вернуться через Нарынкол, Текас, Подгорное, Чунжу и Коктал. Тогда и провести задуманные митинги. Такое изменение обезопасит экспедицию, как считал Богусловский, ибо она исчезнет из поля зрения тех, кто, возможно, за ней следит, а научным изысканиям нисколько не повредит.
Предложение свое Богусловский высказал профессору, но тот решительно возразил:
— Мы настроились на изучение ледников именно в той последовательности, как и намечен маршрут. Вы можете аргументировать свои сомнения? Научно?
— Нет, научно не могу, ибо граница каждый день преподносит совершенно новый эксперимент. Повторы бывают весьма редки, а, насколько я могу судить компетентно, любой научный вывод — это результат серии совершенно идентичных экспериментов. Мы, пограничники, больше рассчитываем на интуицию, приобретенную многолетним опытом службы. Мы просто обязаны уметь обобщать частные факты, самые невзрачные. Так вот, интуиция, родившаяся из анализа таких фактов, подсказывает мне, что возможны серьезные осложнения, если мы не изменим маршрут.
— Это напоминает мне гадание на кофейной гуще. Вы видели, как вдохновенно горели глаза всех, кто слушал наши выступления? Возможно ли с их стороны предательство? Нет! Тысячу раз нет! А каждый новый митинг — это новые сотни энтузиастов орошения бесплодной степи, а стало быть, наших сподвижников, наших защитников.
— В сыртах их не будет. И потом, обещанием скорой воды воду не заменишь. А разочарование, как вам ведомо, приводит к депрессии, к неверию. Слово станет для них пустым звуком.
— Нет, вы решительно недооцениваете морального фактора. Зажечь людей идеей — это уже половина успеха. Горячее слово всегда имеет неоценимую важность.
— Вам не попадалось одно очень заметное слово, рожденное нашим временем, слово это — политическая демагогия? — едва сдерживаясь, но все же спокойно спросил Богусловский. — Не о горячем слове для народа, как я понимаю, вы печетесь, а о славе для себя. Лишняя же слава всегда вредна. А в нашей обстановке, думаю, особенно.
— О вашей дерзости я вынужден буду информировать в полной мере в Алма-Ате, — оскорбленно воскликнул профессор.
— Ваше право.
Нет, они не нашли общего языка, маршрут не изменили, и каждый новый населенный пункт готовил им пышную встречу. Проводили иногда по два митинга в день. Чем ближе к горам, тем реже аулы и станицы, тем проворней шел отряд, тем возбужденней становились ученые. А когда увидели они пик Хан-Тенгри, очень похожий издали на египетскую пирамиду, восторженным восклицаниям не было конца. Прорвало даже самого молчаливого из ученых, Комарнина.
— Властелин духа Небесных гор! Сколько смысла в этой топонимике?! Смотрите, смотрите, как кровянеет его вершина!
И в самом деле, закатное солнце будто выплескивало на отточенные грани вершины огненные языки, то прозрачно-яркие, то до жути похожие на густеющую кровь.
— Властелин духа во гневе! — воскликнул Лектровский. — Он предостерегает. Но мы не из трусливых. Мы не остановимся!
— Закат этот предвещает хорошую погоду в горах, — буднично пояснил Богусловский. — А «Властелин духа» — перевод не совсем точен. Здесь в ходу иное название: «Подножие божьего трона»… И еще называют пик в народе Кровавой горой. Наверное, вот за такие закаты. А может, из-за сотен погибших смельчаков, пытавшихся подняться на вершину.
— Вы мастерски можете портить настроение, — упрекнул Богусловского профессор. — Одна фраза и…
— Полно вам безгрешного в грехах обвинять. У меня одно желание — помочь вам на правах хозяина.
Не убедил. Обиженные, что посягнули на их ученый авторитет, до самой заставы ехали и профессор, и его молодые ученики молча.
Уже совсем стемнело, когда полуэскадрон въехал во двор заставы, и сразу же здесь стало шумно и тесно — не рассчитана застава на стольких гостей. Благо добрая половина пограничников несла службу в сыртах, а наряды высылались туда на несколько суток.
Ученых разместили в комнате политрука, который тоже был в сыртах, а Богусловского взял к себе начальник заставы, краском хотя и в годах, но все еще холостой.
Когда все угомонились, когда были высланы дополнительные дозоры, Богусловский с начальником заставы смогли наконец неспешно, за кружкой чая, проанализировать обстановку на границе в районе работы экспедиции.
— На мой взгляд, — докладывал начальник заставы, — об экспедиции на сопредельной стороне знают, и по ней готовится удар. Чем ближе вы подъезжали, тем у меня нарушений добавлялось. У каждого — карабин, да еще и маузер, а то и два. В хурджумах всего по горстке курта и баурсаков, остальное — патроны. Максимум людей на сыртах держу, но не уверен, что всех переходчиков мы задержали.
Оба краскома знали, что многие долины, труднодоступные с тыла, имели превосходные подходы со стороны сопредельной, и если пограничные наряды, высылаемые с заставы на несколько дней, могли сообщать о себе только по голубиной связи, а поддержку получать лишь через несколько суток, когда она могла оказаться вовсе ненужной, то белоэмигранты и басмачи маневрировали своими силами вольно, широко.
Знали краскомы и то, что в высокогорных долинах есть аулы, либо не принявшие Советскую власть, либо выжидающие, колеблющиеся. Для Келеке — это хорошая база.
— Я так считаю, — продолжал начальник заставы. — У границы побоятся нападать. А вот когда оторветесь от нас, тут устроят ловушку. Пока по аулам попрячутся, выжидая удобного момента.
В горах не число, а место может оказаться решающим. Въедет экспедиция в ущелье, отсекут ее спереди и сзади — куда денешься. Пощелкают как куропаток. Пограничники сами были мастера устраивать подобные ловушки, потому ведали, насколько это опасно.
— Еще один вариант возможен: Келеке попытается прорваться через границу. Много нечисти сосредоточилось, не сдержу я своими силами. Тогда совсем плохо. Засада отрежет путь вперед, а Келеке навалится…
Гадали они и так, и эдак, определяя наиболее разумный ход действий, наконец, Михаил Богусловский решил поступить совершенно, казалось, не логично.
— Пока гляциологи работают в районе Хан-Тенгри, вы переподчините мне половину заставы. Когда снимемся, я переподчиню вам полуэскадрон. С собой возьму только пять пограничников.
— Рискуете, товарищ начштаба. Я повторяю: в сырты много могло просочиться басмачей.
— Главная задача, и вы лично несете за это ответственность, — вроде бы не услышав предостережения начальника заставы, продолжал Богусловский, — не дать прорваться Келеке. Примите все меры. А теперь пора спать. Завтра на заре — в путь.
Утром, когда все было готово к выступлению, начальник заставы спросил проводника Сакена:
— Где поведешь?
— В Сары-Джаз.
— Неважный ты проводник. Не ходи там. Обвалы снежные. По леднику Мушкетова тоже нельзя, и там обвалы.
— Тогда Баянколом пойду.
— И по тому ущелью нельзя нынче. Снег там сдуло, Мраморную стену не осилите. К зимовью Саду-Сай веди, а потом через перевал Тоз в долину Иныльчека.
— Много дороги. — Долго идти, — возразил Сакен. — Сары-Джаз ближе совсем. Зачем снег бояться, снег упадет, когда совсем лето станет. Когда не совсем лето, снег спит…
— Много его там нынче. Не спит он, Сакен, к сожалению. Я наряды туда только в крайнем случае посылаю. И контрабандисты обходят Сары-Джаз.
— Ладно, Иныльчек пойду, — не очень-то охотно согласился Сакен. — Ой-бой, далеко путь.
— Тогда — по коням, — протягивая руку для прощания начальнику заставы, заключил Богусловский. — И в путь.
Сомкнулись руки, привыкшие сжимать эфес сабли, жестко. Начальник заставы придержал руку Богусловского. Посоветовал:
— Нелишне бы вооружить самих ученых. Я велел вчера все приготовить. Боеприпасы уже в переметах у них.
— Так и сделаем… Молодец!
Но если молодые ученые охотно надели на себя сабли, маузеры и карабины, то профессор заупрямился:
— Все это обузно. Я не привык. Мне сдается, что вы чрезмерно запугиваете сами себя. Отчего же не предположить вам с такой же уверенностью, что никто даже не помышляет сделать нам зло?
— Граница — не московское Садовое кольцо, — решил еще раз повлиять на профессора Богусловский. — Не смею утверждать, что там не кипят страсти, но по сравнению со страстями на границе они — мизер. Район Хан-Тенгри привлекал к себе не только альпинистов. Вам ли не знать об этом? Не думаю, что вам не известно, что еще в начале нынешнего века мюнхенский географ Мерцбахер дошел до Хан-Тенгри. С ним были геолог и топограф. Для чего? Во всяком случае, не спорта ради. Англичане просили Николая сдать им в аренду район Хан-Тенгри и Мраморной стены на десять лет. Не думаю, что ради развития альпинизма. Это я для примера. Что экспромтом вспомнилось. Шевельнуть если историю, найдутся и еще сотни не менее убедительных фактов. Но это еще не все… Выходы в долины Хан-Тенгри из-за кордона легкие, вот и норовят скотоводы пасти отары на нашей земле. Разве они не станут противиться потере дармовых пастбищ? Сливаются, стало быть, межгосударственные интересы с межплеменными. Оттого особенно велика опасность.
— Как не знать этого. Знаю. Но мы не ставили и не ставим себе целью поиск ископаемых, что ведет к освоению хозяйственному. Мы, напротив, ратуем за девственную неприкосновенность ледников и стоков. Отчего же?..
— Это знаете вы. А они? — Богусловский кивнул в западную сторону. — Там привыкли говорить одно, а делать другое. Это называется политикой. Так что не считайте обузой необходимость. Принимайте оружие. На привалах я научу вас стрелять.
Нехотя, но все же вооружился профессор. И Богусловский подал команду:
— По коням!
И пошел после этой команды отсчет времени, которое лило воду на мельницу успеха ученых. Не враз они осмелели до явного подтрунивания над Богусловским, ибо побаивались его резких суждений и, чего греха таить, перед собой, его шлепков по носу при любом споре; но дни шли, экспедиция продвигалась все выше в горы, Богусловский высылал вперед не только дозоры, но и разведку, которая неизменно сообщала: «Путь свободен», вот и начали ученые день ото дня отвоевывать, как именовал их действия Богусловский, утраченные позиции. Правда, даже профессор не очень-то пререкался, когда Богусловский приглашал гляциологов потренироваться в стрельбе из карабинов или маузеров. Молодые охотно палили патроны, а профессор иногда добродушно, иной же раз с явным сарказмом высказывал свое отрицательное отношение к таким занятиям.
— Каждое действие непременно в принципе своем должно предопределяться полезностью. Мы же, похоже, бессмысленно транжирим труд тех, кто отлил эти пули, предполагая, что они станут разить врагов…
Богусловский отмалчивался и терпеливо объяснял, каким образом совмещать мушку с прорезью прицела, как нажимать на спусковой крючок, как укрываться за камнями, чтобы тебя не задела пуля, а самому можно было прицельно стрелять, — профессор поначалу упрямился, притворяясь непонимающим неумехой, но постепенно, сам того не замечая, увлекался, и занятия имели успех.
Зато вечером, у костра, он, как говорится, брал свое. Нет, он не упрекал Богусловского, который на каждой ночевке не только выставлял усиленную охрану, но и создавал позиции для круговой обороны, — профессор обычно рассказывал случаи, наверняка каждый раз придуманные, свидетелями которых он якобы был сам. Выставлялся обычно в смешном виде всякий раз какой-либо новый коллега профессора, чрезмерно подозрительный. Сюжеты повторялись: ученый прячет свои изобретения, опасаясь того, что их могут выкрасть, а оказывается, его работу проверяют по поручению начальства, чтобы или повысить его в должности, или выделить дополнительные средства для более глубокого экспериментирования…
Молодые ученые особенно старательно смеялись над потешками своего учителя, а Богусловский слушал их равнодушно. А утром вновь высылал разведку, за ней дозор, и только тогда, когда убеждался, что на пути нет засады, садился в седло.
А когда спустились в долину Иныльчек, Богусловский вовсе потерял покой. Не оставалось времени слушать профессорские байки. Приставил к ученым Сакена с десятком пограничников, которые, проводив гляциологов до ледника, перекрывали засадами все тропки, по которым могли прошмыгнуть басмачи, а сам со своими и заставскими пограничниками стерег границу. Удивительно тихо, однако, было не только в Иныльчекской долине, но и в Сары-Джазской, и это особенно настораживало Богусловского.
«Выжидают. Надеются, что успокоимся, — думал Богусловский, — а уж тогда ударят. В спину».
Он еще больше убеждался в том, что полуэскадрон непременно надо оставить здесь, но сделать это скрытно. Показать, будто уехали все, что приняли тишину за безопасность.
Но эта мера, так сказать, на будущее. А что произойдет через час, через сутки? Точных намерений Келеке Богусловский не знал. Вот и перестраховывался, хотя уже не только ученые, но и пограничники нет-нет да и бросали вопрос:
— Не зря ли колготимся?
Один раз Богусловский даже оказался свидетелем весьма заставившего его задуматься разговора. Нет, он не желал подслушивать. Получилось совершенно для него неожиданно, зато поучительно.
День шел к концу. Богусловскому нужно было обдумать, как распределить силы пограничников на завтра, но ученые никак не могли прийти к единой оценке, увеличивается или уменьшается область питания ледников Мушкетова и Иныльчека; у каждого было свое мнение, и каждый рьяно его защищал, и понятно, спокойного хода мысли в такой атмосфере быть не могло, тогда, устав от этого бесполезного, как казалось ему, переливания из пустого в порожнее, Богусловский вышел на улицу. Устроившись на приятной теплоты валуне, он начал думать ту самую думу, которая в такие часы становилась всепоглощающей у всех пограничных командиров на всей границе — куда, в какое время и какие выслать наряды, чтобы уберечь охраняемый участок от врага…
Вроде бы все знакомо, известны облюбованные контрабандистами тропы, удобные броды, глухие расщелки; кажется, знает командир каждого своего подчиненного, может без ошибки сказать, где тот принесет большую пользу; и что вроде бы сложного расставить, как на шахматной доске, каждого по своей силе на свою клетку, так нет — не раз и не два перетасует в мыслях различные варианты командир-пограничник, прежде чем окончательно остановится на каком-то решении. Слишком велика ответственность. Самая малая ошибка может оказаться неоплатной стоимости.
Солнце начало закатываться, и Хан-Тенгри заиграл своими кровавыми переливами, хотя и привычными уже Михаилу Богусловскому, но всякий раз неизменно захватывающими… Решение постепенно обрело стройность, Хан-Тенгри тускнел, с ледников потянуло ночным морозцем, Богусловский начал зябнуть и намеревался сразу, как только граненую вершину пика проглотит чернота неба, вернуться в теплую тесноту домика — в это самое время донесся до него справа, из-за моренной грядки, вначале терпкий махорочный дымок самокрутки, а вслед за ним такой же терпкий матерок.
— Ишь ты, кровянеет как, сучий кот!
— Да, страшит Хан-Тенгри, пугает на ночь глядя, а утром одумается — и ласковей ничего во всей округе нет.
«Любопытный ход мысли», — подумал Богусловский, но следующие слова будто ошпарили его.
— Это он тебя ласкает, а командира нашего как пужнет с вечера, так и держит пужанным. Чего заставское сено изводим, коней и себя мотаем? Пяток конников для ученых вот так — по самое горло.
— Келеке, сказывают, скучился…
— Чего он тут потерял? Келеке там ходит, где пограбить можно чего…
— И то верно.
Богусловский пытался узнать говоривших по голосам, но не смог. Подумал: «Неужели весь полуэскадрон так считает?!»
Что ученые сомневаются в нужности тех мер, которые принимает он, Богусловский, можно как-то оправдать, но у пограничников отчего такие мысли?
— Ну, пусть не пять, пусть десять, — продолжал тем временем первый голос. — «Гочкисов» — пару. Мало ежели, пусть «максим» еще. Пусть Келеке изворотлив, но сил-то у него — не сотни сабель. Чего труса праздновать?
— Мякины в голове у вас много, — вплелся в разговор третий голос, и Богусловский узнал, что заговорил один из перебежчиков, бывший урядник Васин.
Его тут же обрубил первый голос:
— У тебя, видать, мозгов много, раз с беляками заодно был?
— Может, у меня не мякина, а солома тогда была, — так же незлобиво ответил Васин. — Быльем то былое поскорей поросло бы, полегчало бы на душе. Только урок — он всегда урок. Находился я среди них, знаю потому: шапками их не закидаешь. Атаманы у них с головой на плечах. Да и казаки не лыком шиты. А когда честь и совесть потеряны — чего угодно ждать от них можно. Зря, думаю, наш командир не сторожился бы, не имея на то причин. Он-то поболе нас знает. На свой вершок мерить, казаки, негоже. А не сказывает командир нам чего, стало быть, не время.
Богусловский горько ухмыльнулся. Не бережения тайны ради не рассказал он полуэскадрону подробности обстановки, а по упущению. Просто не подумал, что могут возникнуть сомнения у пограничников. Решил исправить свою оплошность днем, когда более всего не заняты в наряде пограничники, собрать их и без утайки разъяснить им и возможную опасность, и свой замысел.
«Гляциологов стоит пригласить», — подумал он и, поднявшись, зашагал в зимовье слушать спор о том, на каком из ледников выпахивается ложе активней и можно ли считать ледники района Хан-Тенгри щитом, ледниковым покровом или только обычным центром оледенения…
Прошла неделя. На Иныльчек поднялся начальник заставы с двумя десятками пограничников и двумя «максимами».
— А на заставе кто остался? — недоуменно спросил Богусловский, выслушав рапорт начальника заставы.
— Усилена взводом мангруппы. Получены данные, что сюда направился еще один отряд белоказаков. Сотни полторы сабель. Вот я и поспешил.
— За все время — ни одного контрабандиста, ни одной провокации, — озабоченно делился своими наблюдениями Богусловский, — а участок всегда отличался активностью. Самый беспокойный в отряде. Затаился Келеке, не дает узнать его планы, и вполне возможно, что наши предположения ошибочны.
— Конечно, — согласился начальник заставы, — но, думаю все же, нам менять тактику не следует. Когда снимаетесь?
— Через три дня.
— Я со своими в наряды не пойду пока, чтобы не засекли. Перед отъездом митинг проведите. А возвращается пусть полуэскадрон ночью и небольшими группами. Посылать их в наряд не стану, а соберу в резервный кулак.
— Что ж, согласен. Более разумного хода пока не видно.
Так они и поступили. Когда гляциологи закончили свою программу, Богусловский приказал готовиться к походу всему полуэскадрону. Особенно следил, чтобы побольше навязали тюков сена, приторочили их не только к вьюкам, но и к седлам строевых коней. Впереди, длиною в несколько переходов, — бестравный в это время участок, и, если полуэскадрон тронется в путь без сена, засекут это наверняка с сопредельной стороны, и зародятся там сомнения.
Митинг начался после обеда. Открыл его сам Богусловский, затем поочередно давал слово всем троим ученым, начальнику заставы, и так как коротких речей не было, затянулся митинг на добрых два часа, а этого и добивался Богусловский: тронуться так, чтобы засветло добраться лишь до первого плато, чтобы попусту не копытили горные версты. Небольшой перекур после митинга — и вперед. Не прячась. Неспешно, с достоинством. Даже дозоры не выслал в ущелье, куда лежал путь полуэскадрона. Риск, понимал, велик, но он, как виделось Богусловскому, оправдан. Километра два, которые просматривались с сопредельной стороны, ехал отряд по ущелью спокойным шагом, все так же не высылая дозора.
Пограничники знали, для чего это делается, но от этого их напряженность не уменьшилась. Что ждет их за поворотом? Более, однако, чем у всех лихорадились мысли у Богусловского. Он вполне понимал меру ответственности, которую взял на себя. Он ни в чем себя не упрекал, ни в чем не сомневался, ибо действовал по своему же плану, к тому же был в какой-то мере уверен, что засада в такой близости от границы маловероятна.
Но вздохнул облегченно Богусловский, когда ущелье за крутым поворотом оказалось таким же мертвецки-тихим. Сразу же выслал вперед дозор.
Все круче и круче забирает ущелье, лошади идут с трудом, и Богусловский начал опасаться, верен ли его расчет, не слишком ли затянул митинг, успеет ли засветло пересечь плато, чтобы дальше, уже в следующем ущелье, остановиться на ночлег. Место это — небольшой карман в высокостенном ущелье, с узким, легко охраняемым входом и, что не менее важно, вытекающим из-за скалы родником, — было разведано заранее. Ошибка, он понимал, случилась оттого, что расчет времени был сделан по небольшой разведке, а сейчас двигается внушительный строй. Двигается, естественно, медленней. Напрасно все же опасался Богусловский, зряшными были его упреки самому себе: на плато они выехали задолго до вечера.
Спешив полуэскадрон у выхода из ущелья, послал он дозоры вперед, а сам достал из чехла бинокль и медленно, цепляясь за каждый расщелок, за каждую осыпь, за каждую арчу, повел им по кольцу прилавков, зажавших плато… Вроде бы никого. Отнял бинокль от глаз, и удивительная случилась метаморфоза: не горы окружают плоскодонный котлован, с небольшим озерцом посредине, а бараньи лбы. Вроде бы кинулось несколько огромных стад со всех сторон на водопой, никто не хотел уступать друг другу, каждый баран стремился первым припасть к воде, и от этой неразумной жадности сдавилось кольцо в гибельной плотности, так и остались бараны вековечно созерцать манящую прозрачность студеного озера. На многих лбах, усиливая впечатление, торчали, напоминая рога, низкоствольные арчовые деревца. Богусловский даже поежился от столь ясно представившейся ему жуткой картины. Потом усмехнулся: «Эка, куда воображение занесло?!»
Подошел профессор с учениками. Профессор попросил бинокль. Но не прилавки, похожие на бараньи лбы, его интересовали, он даже не заметил этого сходства, — он созерцал приближенные в несколько раз оптикой снежные хребты, которые будто пропарывали небесную синь.
— Жизнь необходимо прожить здесь, только тогда обретешь право говорить: я знаю горы, — опуская бинокль, грустно проговорил профессор. — Как я теперь понимаю ваше сопротивление экспедиции. Сотни экспедиций здесь нужны. Именно, сотни. Превосходно, к тому же, оснащенные. А мы? Капля вот в том моренном озере…
— Кто-то должен же быть первым! — с жаром воскликнул, возражая профессору, Лектровский. — Кто-то всегда прокладывает путь остальным!
— Первые здесь уже проходили: Пржевальский, Семенов… Мы — не первые.
— Да, но в советское время?!
— Ледники, — ухмыльнулся профессор, — не социальное явление. Они не имеют своего лица в зависимости от того, какой класс правит. Они живут своими законами. И чтобы изучить эти законы, подчинить их интересам человека, нужны усилия многих ученых.
— Новый социальный строй предоставляет такие возможности!
— Не спорю. Только, думаю, краском прав: сегодня экспедиция наша более полезна нам, чем той идее, о которой мы так горячо говорим. — И, словно давая понять Лектровскому, что больше не намерен вести полемику, обратился к Богусловскому: — Когда конники покинут нас?
— Сегодня. Как стемнеет.
— Не рискуем ли мы чрезмерно, совершая подобный шаг?
— Рискуем, — искренне ответил Богусловский. — Очень даже рискуем.
Ему было понятно душевное состояние профессора. Там, на равнине, он просто не мог воспринимать всю ту опасность, с какой может столкнуться их экспедиция, ибо идея изучения почти неизученных гор настолько владела им, что любое противодействие он отшвыривал, как отшвыривают обычно злого кутенка, который норовит куснуть, не имея зубов, штанину. Уверенность придавало и то, что находились они постоянно среди местных жителей, добропорядочных, может быть, и не понимающих, для чего едут ученые в горы, но воспринимающих и цель ученых и их самих с великим уважением; либо на заставах, среди столь же добропорядочных и не менее уважительных пограничников, — эта уважительность возвышала ученых в собственных глазах, являлась, вольно или невольно, подтверждением правильности их предприятия — она как бы подпитывала их первоначальную идею. Но вот они среди гор. Величественно-холодных, совершенно безразличных к людским страстям. Не мог не почувствовать себя профессор, как все люди, ибо он такой же человек, бессильной пылинкой в этом молчаливом могуществе, незыблемом, вечном; не мог не понять всю зряшность задуманного, всю мелочность житейской тщеславности. Когда едешь по узкому ущелью, сдавленному хмурыми гранитными стенами, когда слышишь только стук копыт конских, но не обычный, как в раздольной степи, а тревожно-глухой, противоестественный в этой недвижной сонности, когда видишь над головой только полоску неба, да и то не привычного, а с белесыми звездами, — тогда очень о многом думается невольно, неподвластно…
— Очень рискуем, — повторил Богусловский, — но иначе поступить я не могу. Я видел, как расправляется Келеке с теми, кто попадает к нему в руки. Видел я и сожженные бандитом аулы… Правда, Келеке и белоказаков на границе встретят огнем, но исход боя предсказать точно никто не возьмется. А мы? Будем вдвойне, втройне предусмотрительны. Да нас и не мало, по пограничным понятиям, остается. Вооружение сверх табеля. Огнеприпасов вполне достаточно. — Посмотрел на профессора изучающе и предложил: — Можно иначе поступить. Можно возвратиться. Я готов дать команду.
Не сразу ответил профессор. Какие мысли были в те молчаливые минуты в его голове? Ответил наконец решительно:
— Возвращаться не станем. В конце концов, даже я обучен меткой стрельбе.
На противоположном краю плато выехал из ущелья дозорный, поднял фуражку на клинке вверх: значит, путь свободен.
Не весь полуэскадрон повел Богусловский. Большую часть оставил. Приказал:
— Как только стемнеет, без задержки возвращаться. Скрытно только. Вполне возможно, Келеке именно сегодня нагрянет.
Пересекли плато. И только втянулись в ущелье, Богусловский вновь остановил строй. Ученых и тех, кого отобрал с собой, попросил проехать вперед, остальным приказал:
— Пересекать плато после того, как стемнеет. Группами по пять человек. Интервал — четверть часа. Сосредоточиться на той стороне и двигаться ускоренным маршем в распоряжение начальника заставы. До свидания, товарищи.
Ответили пограничники разнобойно, негромко и начали спешиваться. Богусловский же направил коня в глубь ущелья. За ним потянулся кургузый строй, в котором вдвое больше было вьючных лошадей, чем строевых. Оглянулся Михаил Богусловский на строй, на оставшихся пограничников, и неуютно ему стало в этом узком ущелье. Усилием воли он сдержал себя, чтобы не вернуться и не взять с собой хотя бы пяток всадников. Нет, он не вправе был делать этого. Он не мог рисковать больше того, как рисковал.
Начало быстро темнеть. Вскоре все слилось в единый густонастоянный мрак, цокот копыт стал пугающе-звонким. Богусловский подозвал Сакена:
— Дозорных догони. Не проехали бы место ночлега.
— Хорошо, командир.
Порысил в темень и растворился в ней.
Вскоре послал Богусловский еще одного пограничника. С собой оставил только двоих. Перебежчиков. Он им доверял так же, как и остальным, а Васину тем более, ибо, оказавшись невольным свидетелем того, как тот втолковывал азы своим товарищам, стал внимательней приглядываться к бывшему уряднику и определил, что он весьма смышлен и уверен в себе. Тогда и наметил его взять с собой. Предложил даже ему, чтобы выбрал себе напарника из земляков-станичников, который более проворен в ратном деле. Вот теперь и держал их подле себя. Вернее, подле ученых.
Без помех доехали до места стоянки, где уже стараниями Сакена начинал разгораться костер, отчего все вокруг казалось еще более черным.
— Поганое место, — ни к кому не обращаясь, но громко, чтобы слышал Богусловский, проговорил Васин, не торопясь спешиваться. — Мышеловка.
— Сам бы поискал лучше чего, — ответил один из дозорных, который еще несколько дней назад разведал это место. — Тут днем с огнем лучшего не сыщешь.
— Меня не посылали, — без упрека, просто констатируя факт, ответил Васин. И добавил: — Ну да ладно. Бог не выдаст — черт не съест.
— На бога надеяться не станем. Охранять будем себя, — возразил Богусловский. — Всю ночь по два человека. С «гочкисом».
Себе определил Богусловский самое трудное предрассветное время. Спал Михаил тревожно. Слышал, как сменялись часовые. Вот ушел к горловине Васин с напарником. Богусловский заставил себя расслабиться и уснуть на оставшиеся до смены три часа и уже стал засыпать, как услышал тихое ржание своего коня. Похоже, отвечал он собрату, находившемуся не так уж и далеко. Во всяком случае, не далее того расстояния, на которое хватает лошадиного слуха. Сон как рукой сняло. Михаил встал, подошел к своему коню, и догадка его подтвердилась: конь, который обычно встречал хозяина тихим, похожим на радостно журчащий ручеек ржанием, на этот раз даже не повернул головы. Уши коня строго нацеливались на выход из отвилка.
— Ты что? — спросил ласково Богусловский, поглаживая гриву.
Конь ткнулся лишь на миг в плечо хозяина и снова поднял голову и навострил уши. Стоял вкопанно, словно косячный жеребец на страже своего гарема, пока еще не понимая опасности, но уже чувствуя ее.
Прихватив карабин, Богусловский бесшумно зашагал к горловине. Щелкнул прицельной планкой, когда подошел поближе к наряду, услышал ответный щелчок и, определив место, заскользил сквозь темень туда.
Лег рядом с Васиным. Спросил тем тихим голосом, каким могут говорить пограничники: они слышат друг друга, а уже шагах в пяти их голоса совершенно не слышны.
— Ничего не заметил?
— Спешились справа по ущелью. Конь у них вашему ответил. Не конь ваш — проехали бы, глядишь. А теперь дело хуже…
— Много?
— В чулках, похоже. Мягко ступали. Не усек. Однако не мало.
Помолчали, слушая непроглядную темень. Тихо. Совершенно тихо. Усомниться даже можно, не показалось ли все. Но вот цепнул кто-то ножнами за камень. Совсем недалеко. Богусловский вздохнул облегченно. Все становилось на свои места. Правда, позиция не ахти какая, не поманеврируешь даже своими малыми силами, но все же лучше, чем в самом ущелье, где укрыть от пуль могут только уложенные кони.
«Не прав Васин. Сносное место…»
Словно вслух сказал Богусловский эти мысли, ибо Васин тут же возразил:
— Если не сыщем лаза наверх, пощелкают нас, что твоих куропаток.
Вот об этом Богусловский не подумал. И в самом деле, басмачи могут появиться над головой. За скалами они окажутся неуязвимыми, а их огонь будет предельно прицельным. Тоскливо сжалось сердце, но попытался Богусловский бросить себе спасательный круг: «В ущелье не легче бы сложилось».
Но мысль эта не спасательным кругом являлась, а соломинкой для утопающего. Приказал Васину:
— Идите спать. До утра, думаю, басмачи ничего предпринимать не станут.
— Нет! — совершенно непререкаемо ответил Васин. — Я не уйду.
Не стал Богусловский требовать, чтобы его распоряжение было выполнено. Промолчал.
До самого рассвета не донеслось из ущелья ни шороха, ни звука, но Васин не отпускал приклада «гочкиса», а Богусловский держал наготове карабин.
Едва лишь забрезжило, Васин шепнул:
— Пойду лаз искать. И побужу всех.
Вскоре все пограничники залегли, укрываясь камнями, у входа в расщелок, а Богусловский вернулся к лагерю, чтобы вместе с Васиным поискать место, где можно было бы подняться наверх. Но он застал Васина у лошадей. Унизывал тот ремень подсумками. Доложил:
— Нашел. Теперь вот поспешаю.
— Вдвоем, может?
— Вдвоем сподручней, конечно. Да где человека взять?
— Меня возьмите, — предложил Лектровский. — Имею навыки скалолазанья. К тому же и стрелять обучен. Нет, серьезно.
Васин и Богусловский посмотрели на Лектровского. Взгляд у того решительный. Держится уверенно. Не проситель, а предлагающий свою силу.
— Ладно, — согласился Васин. — Патронов набери. Да поживее.
Богусловскому показалось немыслимым взобраться почти по отвесной скале, но Васин ухватился за острый выступ, подтянулся, занес ногу вверх, уперев ее в такой же неприметный выступ, и, змеино перегнувшись, не то чтобы лег, а вроде бы зацепился боком за узенький карнизик, который теперь рассмотрел Богусловский, словно завиток улитки, бугрился диагонально по гранитной скале и, чем выше, тем становился шире.
Васин, передохнув самую малость, пополз ящерицей по карнизу.
«Молодчина — одно слово», — оценивал Богусловский, наблюдавший за каждым движением бывшего урядника.
Повторяя движения Васина, так же ловко распластал свое тело на карнизе и Лектровский. Пополз даже сноровистее Васина.
Уже больше половины проползли Васин и Лектровский, и хотя карниз там намного расширился и ползти стало легче, но оба заметно устали, потому чаще останавливались передохнуть…
Вырвался из тишины одинокий выстрел, Богусловский даже вздрогнул от неожиданности, настолько был поглощен наблюдением за Васиным и Лектровским, а Васина этот выстрел подстегнул, словно удар бича, — торопливо заработал он руками и ногами, забыв, казалось, о том, что с карниза совсем нетрудно сорваться. Заспешил и Лектровский, но не с таким жаром, Не понимал он всех возможных последствий этого первого выстрела.
Еще несколько минут продержалась тишина, но вот густо ударили карабины, а следом и «гочкис» заговорил торопливо языком смерти. Но Богусловский не побежал к горловине, где начался бой, он то смотрел, далеко ли еще ползти Васину, то обводил взглядом кромки окружающих расщелок скал, не появится ли где враг. Карабин держал наготове, патрон загнал в патронник.
Вот Васин дополз до верха, осмотрелся и, стремительно рванувшись вперед, исчез.
«Что это он?! — пронзил вопрос Богусловского. — Увидел кого?!»
И верно, не успел еще Лектровский доползти до верха, как там, куда исчез Васин, хлестнул выстрел, а ему ответило сразу несколько. Там тоже начинался бой. Еще более неравный, чем у горловины. А может, уже закончился?! Васин больше не стреляет. Сейчас появятся басмачи, первым скосят Лектровского, затем…
Сердце Михаила Богусловского сжалось от мысли, что произойдет затем.
Прошла вечность, прежде чем выстрел Васина сиял неимоверное напряжение Богусловского. Басмачи ответили, и Богусловский определил — пятеро. И тоже — не тюхи. Басмачи умели и метко стрелять, и ловко укрываться от пуль.
Подполз к кромке Лектровский. Приподнялся, чтобы снять из-за спины карабин, и тут же пуля прострелила ему плечо. Не упал Лектровский, он, похоже, не понял, что произошло, стащил карабин и только тогда, уже подражая Васину, перекатился через гребень и исчез…
А Васин в это время начал стрелять часто, не давал басмачам вести по Лектровскому прицельный огонь. К Богусловскому подошел Комарнин.
— Мой альпинистский опыт — стены недостроенного Екатерининского дворца у Царицынских прудов, но я не могу оставаться здесь. Я полезу.
— Благодарю. Возьмите йод и бинт.
Пока Комарнин готовился, бой наверху ослабел. Васин стрелял все так же редко. Лектровский палил почти беспрестанно, а ответные выстрелы редели заметно. Когда Комарнин подтянулся и лег на карниз, силы наверху сравнялись. Зато там, у горловины, ни «гочкис», ни карабины не смолкали, и Богусловский решил идти туда. Сразу же как Комарнин проползет самую узкую часть карниза.
Подошел профессор. Спросил:
— Куда меня определите? Альпинист из меня никудышный. Стало быть, дозвольте туда, где все? — и кивнул в сторону горловины.
— Бинтовать приходилось?
— Нет.
— Кашеварить?
— Нет.
— Кормить коней?
— Нет.
— Придется всему этому учиться. Причем — самоучкой. Начните с коней. Попоите их вначале, затем овса дадите. В торбах. Примерно фунта по три-четыре. Как съедят — сена. Тоже экономно. Ну, и кашу одновременно. Не пересыпьте крупы, она разваривается.
Перекинув через плечо две переметные сумки с патронами, зашагал к горловине, продолжая прислушиваться к перестрелке наверху и с радостью улавливая, что Васину с Лектровским противостоит только один басмач. Но вот умолк и он.
«Бог помог увидеть казака, — с теплым чувством думал о Васине Богусловский. — Без него — конец бы нам…»
Теперь ход боя вскоре изменится. Васин с Лектровским и Комарниным ударят по наседающим басмачам сверху и заставят их отступить.
Пограничники у горловины обрадовались и патронам и, особенно, известию, что Васин с молодыми учеными наверху. Они не отчаивались и прежде, им не так уж и редко приходилось иметь дело с многократно превосходящим по силе врагом, они понимали, что, пока не закончатся патроны, басмачи через горловину не пройдут, и только опасность сверху виделась им реальной угрозой. Теперь ее нет.
— Теперь-то чего не жить? — довольно комментировал известие пулеметчик, подсекая короткой очередью басмача, который хотел перебежать за новое укрытие, поближе к горловине. — Теперь-то жить можно! Теперь мы — господа.
Сверху ударили карабины. Один, Васина, — редко, два других начали посылать пули вдогонку друг другу. И словно смерч выхватывал из-за камней наступавших басмачей и уносил их под скалы. Басмачи рассчитывали поднять панику среди пограничников, пострелять их сверху и праздновать легкую победу, но оказались сами в трудном положении: сверху и от горловины доставали пули менее проворных. Однако до полусотни басмачей успели укрыться в безопасной, непростреливаемой зоне.
Да, это еще не победа. Пока что пути ни вперед, ни назад нет. Более того, басмачи станут теперь отвоевывать верх, а там всего три человека и только один из них по-настоящему боец. Но могут они вообще не наступать. Измором возьмут. Самим-то им что беспокоиться о прокорме лошадей и продуктах для себя, они могут сколько угодно осаждать пограничников. Но скорее всего, басмачи не станут сидеть сложа руки. Особенно ночью.
«Голубя пустить? — рассуждал мысленно Богусловский. — Нет, лучше посыльного отправить на Иныльчек. Вернее тут. Сакена пошлю…»
Посигналил Сакену, чтобы отполз тот в тыл, и сам тоже пополз следом. Когда достигли безопасного места, поднялся.
— Прошу тебя доставить донесение на Иныльчек, — начал было говорить Богусловский, но в это время от лагеря донеслись звонкие удары стремя о стремя, а затем громкий призывный крик профессора:
— Завтракать! Завтракать!
Богусловский даже улыбнулся. Словно косарей скликает повариха на стан. Он даже представил себе, как, закинув за спины карабины, зашагают неспешно пограничники к костру, а сверху поскользят по карнизу Васин, Лектровский с Комарниным.
— Ну, молодчина этот профессор. Ну, молодчина, — улыбаясь, говорил Богусловский, но Сакен оставался серьезным. И как бы отвечая Богусловскому, оценил призыв профессора по-своему:
— Умный человек такой, почему головы совсем нет?
Богусловский посерьезнел тоже. Ответил:
— Повоевал бы с наше, сам бы над собой смеялся.
— Зачем ему воевать? Ты воевать будешь. Я буду. Он воду пусть даст.
— Верно. Потому и прошу тебя добраться до Иныльчека. Садись на коня — и скачи. От огня басмачей прикроем.
— Нет, начальник. Ущельем нельзя. Скакать нельзя. Идти нельзя. Горы пойду. Назад немного — трещина есть.
— Далеко?
— Совсем близко. Теперь можно туда, басмача гонял Васин.
— Тогда так: позавтракай, с собой еды возьми — и в путь.
Профессор, встретивший их, весь сиял от удовлетворения самим собой. И хотя это казалось потешным, состояние его было вполне объяснимо: и каша у него получилась, и коням, напоив их, понадевал торбы с овсом. Но главное даже не в этом. Когда стал насыпать в торбы овес, увидел, что он пыльный, и можно было не обратить вовсе на это внимания, он же все торбы подержал в проточной воде. Пыль из овса вымыло, и помягче он стал. Сено тоже щедро смочил. Пусть отмякнет, пока лошади с овсом управляются, аппетитней станет. Он даже удивился, что краском не обратил внимания на его старательность, ни сена мокнущего не заметил, ни вкуса каши. Съел ее вроде бы по обязанности, потому что просто заставляет необходимость его это делать. Хотел даже профессор спросить: «Как моя первая в жизни каша?», но постеснялся. Ждал, не оценит ли краском. И обидно для него прозвучала просьба Богусловского:
— Приготовьте, пожалуйста, для Сакена полбулки хлеба и пару мясных консервов.
— Хорошо, — ответил профессор сдержанно. — Сейчас сделаю.
Сакен взял только одну банку да четвертушку хлеба. Сунул за пазуху и, не слушая никаких советов, сказал решительно:
— Пошли.
Щель, в которую нырнул Сакен, оказалась метрах в двадцати от горловины, и Богусловский с запоздалой тревожностью подумал, что басмачи вполне могли ночью просочиться туда.
«Засаду на ночь придется выставлять».
А днем по щели можно относить Васину и молодым ученым пищу. Раненого Лектровского снять. В общем, хорошо получилось и плохо. Хорошо, что не нужно теперь будет ползать по карнизу, а плохо, что ночью придется сразу всем не спать: двое наверху, двое в щели, трое в горловине. Не в счет только профессор. Пусть за конями смотрит, кашеварит да Лектровского лечит.
«Попоны нужно послать Васину. Днем могут поочередно спать», — определился окончательно Богусловский и немного успокоился.
Не все расчеты Богусловского исполнились. Лектровский не спустился вниз, а Комарнин взял на себя роль обеспечивающего. И за попонами спускался, и за обедом, и за ужином. Вот и удалось всем пограничникам поспать днем сравнительно хорошо.
Длинно тянулся день, но вот подкрались сумерки. Пора всем по своим местам. Коротать ночь, которая покажется еще более длинной.
Затаились в темноте пограничники. Не шевелятся даже. Не потому, что намерены совершенно схорониться от басмачей, а наоборот, чтобы услышать самый тихий шорох, который неминуем, если попытаются подкрасться басмачи к горловине или подняться вверх.
Тихо. Предельно тихо. Уже к полуночи время. Нервы уже не выдерживают. И вдруг — выстрел. Из щели. И вновь тишина.
«Отчего стреляли?! Вроде тихо все!» — думал Богусловский, еще более напрягая слух. И уловил. Вроде бы ветерком потянуло из ущелья. Но воздух неподвижен.
— Ракету!
Взвилась осветительная, и «гочкис» сразу же дал очередь по басмачам, метнувшимся призрачно почти у самой противоположной стены ущелья.
Богусловский сразу же разгадал замысел врага: частью сил перерезать ущелье слева, чтобы полностью блокировать пограничников. Усложнит это оборону, но ничего этому замыслу не противопоставишь. Единственное средство, которое может затруднить басмачам передвижение — это ракеты.
С разными интервалами, то одна за другой, то после продолжительного перерыва, взлетали в небо ракеты, озаряя тусклой желтизной ущелье, и если кто из басмачей не успевал нырнуть за камень, скрещивались на нем пули от горловины, из щели и сверху, от Васина.
Но как ни старались пограничники, басмачи все же исполнили задуманное. И самое неприятное было то, что к щели теперь нельзя было пробраться даже ползком, и силы пограничников оказались распыленными. Один путь для пополнения боеприпасами — карниз. Положение, как говорится, хуже не придумаешь.
Только лишь профессор, казалось, не понимал, что творится вокруг. С рассветом встал. Рассыпал по торбам и замочил овес, замочил сено, распотрошив тюк, и принялся разжигать костер. И вскоре заметался меж скал перемешанный со звоном стремян призывный крик:
— Завтракать! Завтракать!
Куда как нелепо. От горловины поочередно пограничники сходят, а остальные как? Сунулся было пограничник из щели, басмачи тут же открыли огонь.
«Придется по карнизу. Хотя бы один раз в день», — думал Богусловский, прикидывая, кто из оставшихся более ловок.
Никого не пришлось посылать Богусловскому. Верх отрядил своего посланца — Комарнина. Как раз в то время, когда подошла очередь идти на завтрак Богусловскому.
Вместе с профессором он наблюдал, как сползал вниз Комарнин, не зная, чем помочь молодому ученому, и только молил, чтобы у того не случилось неловкого движения. Вот уже Комарнин в конце карниза; вздохнули Богусловский с профессором облегченно, но, как оказалось, преждевременно. Лечь на карниз при подъеме было трудно, оторваться от него еще трудней. Комарнин никак не мог нащупать ногой упора, и положение становилось критическим: либо ползти обратно, либо падать.
— Лошадь! — крикнул профессор радостно, словно сделал великое открытие. Так, наверное, было выкрикнуто знаменитое — «Эврика!»
И подниматься с коня намного проще. Отчего сразу не открылась эта совершенно нехитрая реальность?
Всего одни сутки прошли с того времени, как вызвался Комарнин подняться вверх, а перед Богусловским стоял совсем иной человек. Вроде бы все то же самое: мясистые ноги, та же немужская рыхлость, но теперь отчего-то не замечалась женоподобность его фигуры — перед Богусловским стоял муж, уверенный в себе, но не красующийся своей уверенностью, словно ратные невзгоды, ратные труды его были делом привычным, обыденным. Оттого и заговорил краском с ученым языком по-военному строгим:
— Вместе с продуктами и огнеприпасами передайте наряду в щели, чтобы поднялся наверх. Сподручней будет бить басмачей, если попытаются атаковать. Вам же нужно передвинуться почти вплотную к горловине. Не исключено, что могут басмачи предпринять конную атаку. Ясно?
— Да. Ракетницу бы нам.
— Нет. Мал запас ракет. Почти половину этой ночью израсходовали.
— Не вековать же здесь? Подойдет помощь. Неразумно экономить…
— Разумно! — резко оборвал Комарнина Богусловский. — Очень разумно. И патроны тоже, кстати, беречь нелишне. Стрелять только прицельно. Я не знаю, когда подойдет помощь. Через час, через сутки, а может, через неделю.
Он не лукавил. Если Сакену по каким-либо причинам не удастся добраться до Иныльчека, хотя вроде бы туда рукой подать, то по сигналу голубей (отправлен был уже второй, для верности) помощь и в самом деле подоспеет лишь через неделю. Повторил еще раз:
— Рассчитывать свои силы нужно на долгую оборону. Днем спать поочередно, патроны и продукты экономить. Передайте это всем наверху. И еще учтите: к басмачам поддержка тоже может подойти.
— Хорошо. Передам. Будем все в точности исполнять.
Вроде бы спокойно ответил, но погрустнел взгляд. Встревожили его слова краскома. Очень встревожили. Оно и понятно — молодой, с большим будущим в науке, и вдруг… Надолго ли хватит сил противостоять басмачам, которых и без пополнения много?
Комарнину совершенно не хотелось погибать в этом глухом расщелке.
Не ускользнуло от Богусловского изменение, моментально совершившееся с Комарниным. Понял он и причину этого изменения. Сказал спокойно:
— Перспектива остаться здесь навечно и меня не устраивает. Да и никто, думаю, к этому не стремится. Но выход для нас один: победа. А она может свершиться только нашими руками. — Сделал паузу и повторил настойчиво: — Только нашими руками. Всех нас. Всех! И самое важное: нужно верить, что доживешь до победы. Верить и биться за эту веру.
Высказал все это Комарнину не только для его успокоения, но главное, чтобы сохранить полноценного бойца и без того в редком строю. Сам он вполне верил, что все обойдется, что проводник Сакен уже добрался до Иныльчека, и начальник заставы при любой, самой сложной, обстановке, десяток конников сможет выделить. А это — уже сила. Он понимал, что днем пограничники не станут атаковывать басмачей в ущелье, а дождутся ночи, чтобы ударить неожиданно. Он и поджидал ночь.
Но вот она наступила, басмачи начали наседать. Особенно упрямо лезли к щели, и Богусловский был доволен, что распорядился подняться пограничникам наверх, иначе бы их все равно смяли. А теперь так: в щели пусть с десяток накопится басмачей, но подниматься они могут только поодиночке, и тут преимущество пограничников явное.
Полез было один басмач по тропе вверх, но у самого верха два выстрела в упор сбросили его. Больше желающих не оказалось.
И все же щель в руках басмачей. До горловины оттуда им — один бросок. Как ни жаль ракет, а приходится частить. Зеленые в ход пускать. Вперемежку с осветительными.
Продержались ночь. Дождались неуместного, но вселяющего уверенность перестука стремян и призывного крика:
— Завтракать! Завтракать!
Перемочь теперь день. На следующую ночь наверняка подойдет помощь. Правда, теперь Богусловский не думал так, а заставлял себя так думать.
К обеду налетело в ущелье воронье. Не осмеливались садиться на убитых басмачей, кружились над ними, надоедливо горланя, словно собрались вместе десятки картавых и принялись тренироваться упрямо в произношении чистого «р». Устанет кружиться какой ворон, примостится на едва приметном выступе, но выдавливать свое «р» продолжает.
Появление воронья весьма озадачило Богусловского: ночью не вдруг поймешь, ворон ли пролетел, басмач ли пополз. А ракет не только осветительных, но и зеленых осталось всего ничего. Как сказал профессор, с гулькин нос. Выход один: стрелять туда, где возникает подозрительный шум. Патронов пока еще в достатке.
Так и поступали, когда ночь подошла. Басмачи же начали стрелять по вспышкам. Вот и гремел всю ночь настоящий бой. Только бестолковый. Потерь ни с той, ни с другой стороны не было. И вполне закономерно. Много ли проку от стрельбы в темень? Наступать же басмачи не наступали. Не спешили. Понимали, что вслед за ракетами кончатся у пограничников и патроны. Тогда голыми руками их можно брать.
Понимал это и Богусловский. От прежней уверенности у него не осталось и следа. Он уже корил себя, что не продублировал проводника Сакена. Утром намеревался отправить на Иныльчек Васина. Взамен ему послать наверх одного из тех, кто лежит сейчас рядом. Добровольца.
Забрезжил рассвет. И вдруг в перестрелку, ставшую уже привычной, вплелись новые выстрелы, и число их нарастало и нарастало. Били сверху по ущелью метрах в двухстах правее горловины. Богусловский обрадовался несказанно.
Вот и слева, над щелью, застрочил пулемет, а басмачи, укрывшиеся в ней, по-тараканьи стремительно улепетывали оттуда и неслись влево по ущелью. Богусловский сам лег за «гочкис» и принялся пускать басмачам вдогонку короткие очереди. И вдруг отсек очередь, словно речь на полуслове оборвал: увидел скачущих по ущелью пограничников.
«Сейчас повернете! — злобно подумал о басмачах Богусловский. — Подпущу поближе и попотчую!»
Но басмачи, увидев конников, побежали вперед еще быстрее. Словно врукопашную. И когда до сшибки оставались какие-то десятки метров, крутнули басмачи резко вправо и юркнули один за другим в боковой расщелок. Богусловскому не было видно его, и оттого ему показалось, что исчезли басмачи прямо в гранитной стене. Пограничники осадили коней, несколько бойцов спешилось и, остерегаясь, двинулось к расщелине. Не посмели стремительно кинуться вслед за басмачами, и верно поступили: оставили басмачи заслон.
Началась там вялая перестрелка, которая вскоре затихла — басмачи отступили в горы.
Справа по щели бой шел еще успешней. Вскоре басмачи там были частью побиты, частью пленены. Угрюмая кучка их, окруженная пограничниками, приближалась к горловине. Впереди конвоя шагал начальник заставы. Бодрился, но скрыть предельную усталость ему не удавалось.
Богусловский поднялся навстречу, начальник заставы вскинул руку к козырьку, чтобы начать рапорт, но в это время из расщелка донесся перестук стремян и призывный крик:
— Завтракать! Завтракать!
Вначале недоумение выразилось на лицах пограничников, затем улыбка, а когда из расщелка донеслось в третий раз: «Завтракать!», захохотали пограничники, не сдерживаясь.
Да и что им, оставшимся в живых после двухдневного боя с Келеке, который, не схитри пограничники и не замани его в ловушку, мог даже прорваться через границу, и после только что окончившегося боя, короткого, но тоже не бескровного, — что им было не смеяться весело, от всей души такому долгожданному приглашению, тем более что аппетит нагулялся у них волчий.
В лагере все было как обычно: лошади сосредоточенно опустошали торбы, очередная порция сена размачивалась, чтобы стать мягче и аппетитней, угли догоревшего костра ярко алели, а профессор встречал гостей с подчеркнутым радушием, скрывая за ним свою растерянность. Хотя он и сварил каши побольше, поняв по стрельбе, что подошла подмога, но на такое количество людей не рассчитывал. И чтобы сейчас накормить всех, ему нужно было сотворить чудо, подобное тому, какое совершил Иисус, накормив пятью хлебами всех страждущих. Непосильно простому смертному подобное, да от него никто этого и не требовал. Кашеварить мог каждый пограничник, было бы время.
Профессор остался не у дел. Он поначалу даже пытался помогать пограничникам, но его вежливо оттеснили, а когда он принялся снимать опустевшие торбы с конских морд и раздавать сено, уже хорошо напитавшееся водой, начальник заставы остановил его. Бесцеремонно. Спросил сердито:
— Все время мокрым сеном кормили?
— Да. Я и овес размачивал. Приспособился на всю ночь опускать торбы в воду.
— А что же они понурили головы от такой заботы?! — с явной издевкой спросил начальник заставы. — Мослы выпирать начали?!
— Видите ли… Лошадь, по моему разумению, рождена, чтобы скакать. Ничегонеделание ей противопоказано. Мучаются, вижу. Переминаются с ноги на ногу. Ложатся даже…
— Вы отравили их. Мокрое сено для лошади — смерть медленная. Задали вы, товарищ профессор, задачу.
— Я же как лучше, — растерянно ответил профессор. — Я же чтобы вкусней.
Начальник заставы больше не слушал профессора. Он крикнул двух пограничников, приказал нарезать в ущелье чия и, порубив его мелко, перемешать с овсом. Не проглотишь живоглотом такой корм, пожуешь прежде основательно.
— Неужели необратима моя ошибка? — сокрушался тем временем профессор. — Я же как лучше.
— Обойдется, думаю. Пару дней овсом с сечкой покормим и — трогаться можно. Галопом не побегут, но и не обезножеют на первой версте. А там, глядишь, и вовсе силу наберут. — И повернулся к подошедшему Богусловскому с вопросом: — Что ж не объяснили ученому?
— Да я и сам, признаться, не ведал, что сено мочить нельзя…
— Но казаки, те должны же были видеть. Не считаете возможным умышленное умолчание?
— До коней ли было? Не до них. А злого умысла? Не думаю…
— Вы знаете, — вмешался профессор, — кто-то спрашивал меня: «Мочите?» Я ответил: «Как видите». А он мне: «Ну-ну». И похоже, ухмылку на лице сдерживает.
— Кто, не помните?
— Я покажу.
Им оказался земляк Васина.
Профессора краскомы попросили больше никому об этом не говорить. Порешили, что дальше с собой Богусловский казака-перебежчика не возьмет.
Профессор успокоился и с аппетитом позавтракал. Впервые за эти дни беззаботно, не опасаясь, понравится или нет пограничникам приготовленная им еда, не станут ли они осуждать его неумелость. Он с гордостью за своих учеников слушал рассказ Васина об их смелости и мужестве, о выносливости — один пренебрег раною, второй добровольно вызвался на роль снабженца. Профессор даже немного жалел, что только он один не бился с басмачами. Но прошлого не вернешь, и как только он позавтракал, сразу же пошел к пленным, которые сидели поодаль в тесном кругу под охраной пограничников, чтобы поближе разглядеть врагов.
Какими представлял он себе басмачей? Он вряд ли мог ответить на этот вопрос. Одно было ему ясно: не таких, каких увидел. Лица их, за исключением нескольких, с явными признаками жестокосердия, весьма походили на лица тех, кто на митингах в кишлаках и аулах радостно аплодировал им, ученым. Только эти лица очень грустные. И одеты басмачи были в те же обычные для местного среднего люда одежды.
«Так кто они? Где первооснова, понудившая их взять в руки оружие?» — думал профессор, совершенно растерянный и совершенно не в состоянии остановить поток вопросов, один другого сложней…
Он понимал и принимал мотивы движения крестьян против помещиков, рабочих против фабрикантов и заводчиков, он был всецело на стороне трудового люда, расправившего в конце концов плечи, но то, что он сейчас увидел, никак не укладывалось в рамки его прежних пониманий, которые он уже привык считать истинными.
«У этих тоже нет земли, нет скота. Отчего же они подняли оружие против своих собратьев? Не все же они слепцы?»
Ни на один свой вопрос профессор ответить вот так, сразу, не мог. Он стоял истуканом, не в силах оторвать взгляда от понурых басмаческих лиц.
Появившись еще в ущелье перед плато, сомнение о необходимости всей этой экспедиции не покидало профессора, оно лишь затаилось на время, отступило перед бременем вдруг навалившихся забот, но теперь начало набирать силу.
Нет, он не попросил Богусловского повернуть назад. Он не в силах был этого сделать, ибо понимал, чем обернется подобное решение для Лектровского и Комарнина и что это наверняка расстроит его давнишнюю дружбу с их родителями. Его не устраивала подобная перспектива, он пошел на компромисс и, чтобы хоть немного оправдаться в своих же глазах, как только кони восстановили силы и экспедиция тронулась по маршруту, с величайшим рвением вел не только урочные, но и сверхурочные исследования, доводя порой себя до изнеможения. И без того не имевший лишнего веса, он превратился в сухопарого богомола.
Никому профессор не поведал своих мыслей. Всем виделась только его самоотверженность. Особенно она повлияла на Богусловского. Нет, тот еще не признал себя неправым в том, что противился экспедиции. Он и теперь продолжал считать ее преждевременной, но то, как мужественно вели себя в бою с басмачами и молодые ученые и профессор, и то, как они рьяно изучали ледники и водоразделы — все это не могло не изменить мнения Богусловского. «Одной славы ради на такое не пойдешь, — думал он. — Ими движет время…» Он даже сказал об этом ученым. Под самый конец пути.
Спускались они вниз с хребтов Заилийского Алатау по пойме реки. Осталось позади джайляу с частыми юртами чабанов и табунщиков, где экспедиция получала радушный кров, начались густые тугайные леса с буйным подлеском, и приходилось двигаться медленно, иной раз даже прорубаться через цепкие заросли облепихи, боярышника, шиповника и жимолости. Но даже улитка в конце концов добирается туда, куда стремится. Доползла и экспедиция до озера Иссык — места последней ночевки в горах.
Спешились на большой поляне, где речка шумно вбегала в озеро. Вечерело. По-горному яркое солнце щедро обсыпало южный склон, густо, будто до отказа, набитый разлапистым кленом, листья которого казались в лучах солнца серебристыми; между кленами впрессованно жались, как нежеланные гости за столом, розовостволые березы и седые осины. Воздух стоял недвижно, но листья осиновые дрожали зябко, словно детишки, вылезшие на солнцепек после непомерного купания, — глаз не оторвешь от этого буйно-веселого, изнеженного ярким светом леса. И озеро у этого берега тоже искрилось радушием. Дальше, к середине, оно становилось безразлично-синим, а к северному, крутому, ощетинившемуся гранитными клыками, меж которых росли хмурые вековые сосны, насупливалось. Потрясающий контраст.
Богусловский, раздевшись по пояс, подошел к воде, зачерпнул пригоршню, плеснул ее себе на потную грудь и даже вскрикнул от ожегшего холода.
— Не зря, видать, озеро горячим зовется, — с улыбкой проговорил Васин, который тоже подошел к воде, чтобы помыться. — Вмиг руки в шпоры заходят.
Интересное умозаключение. А Богусловский слышал легенду, вроде бы бросилась в это озеро любившая молодого джигита девушка, которую насильно сосватали за богатого старца. Потрясла соплеменников столь горячая любовь девушки, они и назвали озеро — Иссык. За ужином он пересказал эту легенду. Понравилась она всем. Лектровский даже записал ее себе в блокнот, восхищенно повторяя, что это — поэма, достойная пера Шекспира.
Но восторженность Лектровского и романтические мысли остальных разрушил Сакен. Пояснил спокойно:
— Давным-давно старики озеро Истыком звали. Как дверь. Пришел когда сюда, дальше путь на джайляу есть, открытый.
— Так это же прекрасно! Здесь мы и предложим открыть путь ледниковой воде. Каскад гидростанций даст свет, вода оживит мертвую степь!
Вот тогда Богусловский и признался в своей неправоте. Сказал откровенно:
— За то время, как мы с вами, я убедился вполне: вашими делами движет великая идея!
— Да! И только — да! — с пафосом ответил Лектровский. — Ради народного благополучия приемлемы любые лишения.
Профессор, сосредоточенно молчавший, еще более насупился, а Комарнин улыбнулся.
К исходу следующего дня они спустились в небольшой поселок — конечный пункт экспедиции. Ученым отсюда путь в Алма-Ату, пограничникам — в свой гарнизон. Экспедицию встретила еще на околице шумливая ребячья стая, а в центре поселка уже собрался весь народ. У Богусловского создалось такое впечатление, что здесь знали о времени прибытия экспедиции, но он ничего подозрительного в этом не усмотрел, а, наоборот, порадовался за ученых, о которых донес сюда «узун-кулак» — этот безотказнейший способ оповещения у казахов и в степи, и на джайляу. Но к удивлению Богусловского, профессор принялся настойчиво просить, чтобы митинг отменили.
Кто ж согласится с этим? Митинг состоялся. От ученых, однако, выступил только Лектровский. Пафосно выступил, зажигающе, и долго толпа аплодировала ему. Потом говорили местные. И каждый выступающий искрение, во всяком случае так казалось Богусловскому, благодарил ученых, называл их народными учеными. И удивлялся Богусловский, что профессор не рад этим добрым похвалам, а даже досадует.
Похлопала толпа последнему оратору, вскинули все собравшиеся вверх руки, голосуя за прочитанную резолюцию, председательствующий объявил уже о закрытии митинга, и тут из толпы донеслось громко:
— Подождите!
Богусловский заметил, что смутились устроители митинга, не для анализа заметил, а так, по пограничной привычке, взгляд ухватил, а память зафиксировала, — анализировать в тот момент не было ни времени, ни желания, ибо вслед за выкриком-просьбой на устланное коврами возвышение поднялись мужчины с яркими шелковыми халатами в руках и с подчеркнутой почтительностью надели их на профессора, на молодых ученых и на него, Богусловского. А дехкане неистово хлопали и разноголосо кричали «Ура!».
Богусловский ощутил хотя и мягкую, но заметную тяжесть халата, понял, что в полы его зашито что-то металлическое, хотел пощупать, но только протянул руку к поле, как тот, что надевал на него халат, моментально приподнял ее и принялся пояснять:
— Тут амулет. Пули. Их зашивают самым почтенным людям. Если пули в халате, они — твои. Другие теперь мимо пролетят.
Пощупал Богусловский. Верно, пули. Винтовочные. Улыбнулся наивности поверья. И только осталась в памяти зарубка о том, с какой поспешностью было сделано пояснение.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Богусловский вошел в кабинет Оккера, хотел было молвить обычное: «Слушаю вас, Владимир Васильевич», но начальник отряда, кивнув в сторону сидевшего за приставным столиком молодого краскома в мешковатой форме, что выдавало в нем совершенную непричастность к строевому командиру, сказал с сухой раздражительностью:
— Не я, а вот он, следователь, пригласил.
— Да, пригласил я, — подтвердил мешковатый краском мягко и доброжелательно. — Видите ли… — сделал паузу, словно оказался в затруднении, что сказать дальше, не обидев незнакомого человека, затем лишь, как бы подавляя свои сомнения, как бы насилуя свою собственную волю, прихлопнул ладонью по зеленому сукну столика и продолжил более решительно, но с той же доброжелательностью: — Поступим так… Посмотрим халат, а уж тогда, исходя из результатов обыска, начнем уточнения.
Ничего не понимая и пока еще вовсе не осознавая всей сложности своего положения, Богусловский переводил взгляд с насупившегося лица Владимира Васильевича на доброе, открытое лицо следователя. Стоял он посреди кабинета растерянно, похожий более не на начальника штаба отряда, а на недотепу-недоросля, ошарашенного какой-то новостью и пытающегося осмыслить ту новость.
Тягучую паузу прервал Оккер.
— Скрывал я от тебя, Михаил Семеонович, что следствие по твоей поездке с учеными началось. Давно началось… Скрывал оттого, что просили, — кивнул на следователя. — К тому же вполне надеялся на благоразумный исход: разберутся по чести и совести, тебя и трогать не станут.
Холод пополз к сердцу. Перехватило дыхание. Богусловский понял теперь причины столь неожиданных распоряжений Оккера о срочных выездах на границу, в комендатуры или на заставы, хотя он, как начальник штаба, не видел никакой необходимости в тех поездках, а тем более их срочности. Он только теперь понял причину того, почти неуловимого изменения в отношениях к нему подчиненных, по поводу которого недоумевал и первооснову которого искал в своем поведении, в своем отношении к работе; понял он теперь и причину откомандирования Васина в Алма-Ату, и то, отчего Васин, с кем свои отношения Богусловский считал вполне дружескими, не зашел попрощаться, чем весьма его тогда обидел, — теперь ему на многое открылись глаза, но он пока еще представлял свое положение всего лишь нелепым…
Следователь тем временем прервал Оккера. Мягко, но категорично:
— Прошу вас не информировать подследственного о ходе следствия. Очень настоятельно прошу.
Богусловский напружинился. Лицо следователя, вся его мешковатая фигура, его добренький голос вдруг стали для него омерзительными, ненавистными.
— Да как вы смеете?!
— Согласен, пока не вполне смею, — совершенно не меняя доброжелательности тона, ответил следователь. — Посмотрим халат, тогда. — И вдруг спросил резко: — Вы не распарывали его?! Не перепрятали золото?!
— Какое золото?! — невольно вырвалось у Богусловского, а память вмиг выхватила из недавнего прошлого и ту растерянность, какая вдруг возникла у устроителей митинга, когда поднялись на помост мужчины с халатами в руках; ту поспешность, с какой дано было пояснение на его, Богусловского, вопрос, отчего тяжелы полы халата; вспомнился и тот восторг, с каким Анна приняла известие о пулях-амулетах, — все это навалилось кучно, и ощутил наконец Богусловский опасность момента.
Усилием воли приглушил обиду и гнев, ибо, не видя за собой никакой вины, знал, что следователю нужны не эмоции, а убедительные доказательства невиновности.
— Халат мне преподнесен на митинге. В полы зашиты пули-амулеты. Для обережения от других, роковых пуль… Я сам их щупал.
— Если амулеты — дело, безусловно, примет иной оборот. — И вновь неожиданный и резкий вопрос: — Так вы, утверждаете, видели те пули?
— Пощупал. Там, на митинге. Потом коновод убрал в переметку. Дома Анна, жена, повесила со своими платьями. Подарок все же памятный…
— Ясно, — проговорил следователь, хотя по тону, каким было сказано это «ясно», было совершенно понятно, что он не верит Богусловскому. — Ясно, ясно…
И задумчиво забарабанил пальцами по сукну. Затем встрепенулся:
— Кого, товарищ Оккер, возьмем понятыми?
— Никого, кроме меня. Авторитет начальника штаба…
— Хорошо, — совершенно не стал перечить следователь. — Я согласен. — И Богусловскому: — Ведите нас.
Анна встретила гостей приветливо.
— Проходите, проходите. У меня как раз самовар готов. Сейчас и Лариса Карловна должна подойти.
— Результат осмотра халата решит вопрос, станем мы пить чай либо нет, — ответил Анне Павлантьевне следователь, вежливо кланяясь ей и вовсе, казалось, не замечая, как бледность вмиг изменила ее только что радостное, румяное лицо.
А Михаил попросил Анну:
— Ты иди к Владику. А то он проснуться может…
— Хорошо, — покорно ответила Анна, прошла в спальню, где стояла кроватка сына, и прикрыла дверь. На сына только глянула мельком, затем остановила взгляд на оставленной специально щелочке. Напряглась до предела, боясь вздохнуть, чтобы не помешать себе же услышать то, о чем говорят в гостиной.
А там водрузили на стол халат, следователь прощупал полы, хмыкнул многозначительно, затем принялся с величайшей аккуратностью отпарывать подкладку.
Замерло время. Замерло все вокруг. Только хрустят перекусываемые ножницами нитки, словно сухие ветки под неосторожным каблуком. Но вот просунул следователь пальцы в распоротую щель, вынул одну пулю, вторую, третью и — дальше уже не спешит. Понял, что кончились пули, начались червонцы, но выдерживает паузу, чтобы натянуть еще более нервы подследственного, до предела натянуть и тут же подмять его, лишить воли к сопротивлению.
— Хороша пуля! — с явной издевкой проговорил следователь, медленно вытянув и аккуратно положив на стол золотой червонец. — А вот еще! — торжествовал следователь, вытягивая следующий червонец, а за ним массивную печатку. — И вот еще!..
Для Богусловского все это казалось каким-то идиотским сном, хотя все отчетливее он осознавал трагизм своего положения.
«Кто и для чего это сделал?! Кто?! Для чего?!»
— Я вынужден вас арестовать. Обвинительное заключение вы получите в самое ближайшее время, — жестко, словно ему вовсе не свойственна была мягкость и доброта, проговорил следователь. Он диктовал условия: — Выделите, товарищ Оккер, соответствующее помещение, организуйте охрану!
— Прошу санкцию на арест, — едва сдерживая гнев, с таким же металлом в голосе заговорил Оккер. — В противном случае!..
— Не усугубляйте! — предупреждающе поднял палец следователь. — Я получил устное распоряжение моего начальника товарища Мэлова арестовать подследственного при положительном результате обыска! Доказательства налицо! Вот она — плата за предательство!
— Прежде за такое вызывали на дуэль! — встрепенувшись, резко оборвал следователя Богусловский. — А сейчас я попрошу одного: докажите мою виновность в чем-либо, тогда обвиняйте!
— Помолчи, Михаил, — мягко положив руку на плечо Богусловского, совершенно спокойно, как рассудительный старец, заговорил Оккер, и только ему было ведомо, какие усилия для этого потребовались. — У нас свой круг обязанностей, у следователя — иной. Он получил приказ и обязан его выполнить. Ты не гневи, Михаил Семеонович, его, а помоги ему. — Перекинул взгляд на следователя. — Я совершенно уверен, что мой начальник штаба — жертва ловко спланированной провокации. Именно эта версия должна лежать в основе следствия. Уверяю вас. А что касается ареста, то будем считать надежнейшим местом пребывания подследственного его дом. Ответственность полностью беру на себя.
Не сразу ответил следователь. Обвел взглядом комнату, словно прикидывая, надежны ли стены, затем пристально, словно впервые видел его, принялся изучать Богусловского и, наконец, поправив портупею, дрябло висевшую через плечо, и одернув гимнастерку, выдавил с явным насилием над собой:
— Хорошо. Извольте письменное поручительство.
— И еще одна просьба, — не меняя тона, словно его не обрадовало несказанно согласие следователя на домашний арест, осмелел Оккер. — Позвольте ознакомить подследственного хотя бы с сутью обвинения. Уверяю вас, дело от этого выиграет.
— Странная просьба, — недоуменно пожал плечами следователь. — Выходит, не интересовался, что зашито, не ведал, что делается вокруг. Его, как своего подчиненного, вы могли не вводить в курс событий, но как человека, коему обязаны если не всем, то почти всем… Не воспринимаю.
Михаил вновь встрепенулся, с его уст уже готова была сорваться резкая отповедь, но Оккер опередил его:
— Михаил, прошу тебя. Не вызывай ответных стрел. — И следователю: — Все логично. Я, однако же, не говорил о начале следствия, чтобы не расстраивать попусту. Считал: отметется напраслина. А халат? До него ли начальнику штаба отряда, когда граница бурлит?
— Позвольте усомниться и в этом, — с ехидной вежливостью прервал Оккера следователь. — Неужели вы не обратили внимания на лицо жены… — запнулся, не зная, как назвать Богусловского, товарищем либо гражданином, но нашелся, — краскома? Отчего бы это? Не смогла совладать с собой?
— Давайте у нее у самой узнаем причину. Позови, Михаил Семеонович.
— Нет-нет. Сделаю я это сам. Она — Анна Павлантьевна, если мне не изменяет память?
Через неплотно прикрытую дверь Анна слышала почти все, о чем говорили мужчины. Сын спал, не мешая ей. Она, машинально покачивая кроватку, судорожно искала ответ на то, как ей вести себя со следователем. Дело в том, что она давно уже знала, что в поле халата не пули. Не раз и не два она, прощупывая полы халата, пыталась убедить себя, что не перстни там, не монеты, по размеру очень похожие на червонцы, а что-то другое, не ценное, но ритуальное. Обнаружила она, что в полах халата не пули, когда демонстрировала его своеобычную красоту Ларисе Карловне. Оценили женщины и мастерство шелковых дел мастеров; и ту гармонию, которая создавалась сочетанием пышущих жаром полос с холодными, почти снежными; и изумительного орнамента тесьму, которой были отделаны ворот и рукава, — все приводило их в восторг, казалось им экзотичным…
«— И амулеты вшиты, — говорила Ларисе Карловне с восторгом Анна, приподнимая полу и прощупывая ее пальцами. — Утяжеляют халат, не дают ему топорщиться и, важнее всего, надежду вселяют владельцу, что минет его роковая смертельная пуля. Здесь она находится…»
И примолкла, почувствовала пальцами, что за подкладкой перстень. Но миг лишь длилась ее растерянность. Прошлась по комнате, вернулась к зеркалу, крутнулась еще раз, любуясь своей фигурой, гибкость которой халат как бы высветил, проявил, и молвила с прежним восторгом:
«— Прелесть, что и говорить».
Через малое время сняла халат и, повесив его в плательный шкаф, позвала гостью в столовую выпить по чашечке кофе.
Анна не торопила время, разговор у них шел обычный, какие ведут не занятые службой женщины, чтобы скоротать часок-другой, но, как только Лариса Карловна ушла готовить ужин, Анна тут же поспешила к шкафу.
Да, в полах были не пули, и она решила в тот же вечер рассказать о своем открытии Михаилу, но тот зашел лишь на минутку домой: на границе готовились встречать банду, и ему предстояло поспешить туда. Анна не посмела расстраивать его перед возможным боем. Лишь сказала свое обычное:
«— Храни тебя бог!»
И когда вернулся Михаил, пожалела его покойный отдых. Потом и вовсе убедила себя, что поступает верно, сохраняя в тайне свое открытие. Знала, что не суеверен Михаил, но не могла представить, что пули-амулеты вовсе его не затронули. По-доброму вспоминает, предполагала, о них перед каждым боем, безопасней себя чувствует. И себе не хотела признаться, что кривит душой, что главная причина ее скрытничанья в предчувствии чего-то недоброго, в стремлении предельно отдалить это недоброе, а возможно, и вовсе избежать его.
Как казнилась она сейчас, как гневалась на свое малодушие!
«Скажу все, как было. Всю правду. Миша же ничего не крал!»
Когда следователь позвал ее в гостиную, она была готова спокойно отвечать на все вопросы, но, как только глянула на подавленного столь неожиданным и нелепым обвинением Михаила, сердце ее сжалось, она с еще большей остротой почувствовала во всем этом свою вину.
— Извини, Миша, меня. Я знала, что в халате не пули. Только все не решалась…
— Анна! Что же ты натворила?!
Столько неподдельной горести было в том упреке, и так упрек подействовал на Анну, что она покачнулась и, не поддержи ее следователь, рухнула бы на ковер.
— Скорее нашатырный спирт и воду, — отстраняя кинувшегося к своей жене Богусловского, потребовал следователь и заботливо усадил Анну Павлантьевну в кресло. — Поспешите же!
Следователь все делал сам, и виски потер ваткой, смоченной нашатырным спиртом, и из флакончика дал понюхать — Анна пришла в себя, их взгляды встретились. В одном — отчаянность, в другом — искренняя встревоженность.
— Повремените с вопросами, — попросила Анна. — Соберусь с силами, тогда уж…
— Вы зря казните себя, — с мягкой заботливостью прервал ее следователь. — Тем, что вы не уведомили мужа о своем открытии, вы, как ни парадоксально, помогли ему. Да, да… Ему, чтобы оправдаться, логичней самому заявить о взятке. Тем более что деяние, за что дана взятка, не совершено. И если я не свидетель великолепной игры. Впрочем, неподдельная искренность — не удел комедиантов…
Подошел к столу, поставил флакончик с нашатырным спиртом, но так и не отнял от него руку, словно забыл, где он и что происходит вокруг.
Прошло несколько непомерно тягостных минут, прежде чем следователь заговорил. Нет, он ни к кому не обращался, он стал высказывать свои мысли вслух и для самого себя, внеся еще большее смятение в сознание Анны и удивив Богусловского, но более всего Оккера.
— Нет, интуиция — миф. Тем более интуиция иного лица. Подследственный не виновен — вот первая версия следователя. Первооснова его работы. Придется все начинать с самого начала. — Оторвал взгляд от флакончика и перевел его на Оккера: — Вы просили довести до подследственного суть обвинения. Я сделаю это сам. Рискую весьма, ибо мы, по существу, совершенно незнакомые люди, и я вверяю себя вашей порядочности. Так вот… Получен донос, что краском Богусловский, имея сговор с белоэмиграцией, готовил пленение или уничтожение ученых. Их путь специально оповещался с помощью митингов во всех населенных пунктах. Экспедиция была оставлена без должной охраны, оказалась в ловушке, специально облюбованной загодя, и, чтобы лишить всякой возможности прорваться из этой ловушки, лошадей ухищренно отравливали. Помешал злодеянию бывший урядник Васин да джигит Сакен. Последний, вопреки приказу скакать по ущелью на лошади, что привело бы его к непременной гибели, избрал путь тайный и безопасный…
— Какая нелепица! — воскликнул Богусловский, не дослушав следователя до конца. — Какая дикая ложь! Кому она нужна?! Кому? Не я ли настаивал на изменении маршрута? Да я вообще считал экспедицию затеей весьма несвоевременной…
— Это тоже вменяется вам в вину, как демагогический прием для своего будущего алиби. Впрочем, — остановил сам себя следователь, — у нас еще будет время обо всем переговорить. А сейчас я откланиваюсь. Продолжайте, Михаил Семеонович, исполнять свои обязанности, — с подчеркнутой решимостью закончил следователь. — Пока я не вижу мотивов для отстранения и тем более для ареста…
Воспрянули духом Богусловские, да и Оккеры тоже. Следователь их вовсе не тревожил, он то уезжал на заставы, то возвращался и многие часы проводил в беседах не только с красноармейцами, которые участвовали в экспедиции, но и со штабными краскомами, бывал в райкоме и райисполкоме, а затем, вовсе уединившись в отведенном ему кабинете, писал до полуночи, оформляя протокольно все дневные разговоры. Он осунулся, форма топорщилась на нем, словно неприглаженные волосы, портупея обвисло лежала на плече, придавая форме еще большую неряшливость; об обедах и ужинах следователь забывал и изголодался бы вовсе, если бы не Оккер. В урочное время он либо просил дежурного пригласить следователя в столовую, либо делал это сам. Надеялся на возможную во время трапезы благодушную откровенность. Увы, следователь вместе с заливным языком, казалось, проглатывал и свой. Нет, они не молчали за столом, они говорили о многом, особенно о своей Москве, о Марьиной роще, где родился и вырос следователь; о Красной Пресне, где вырос и мужал Оккер; вспоминали были и небылицы о Гиляровском, который любил пьяные кабаки и забегаловки, которыми обильны были и Марьина роща, и улочки и переулки, лепившиеся к Рижскому вокзалу. Оккер охотно поддерживал разговор о родном городе, хотя это в данный момент его вовсе не занимало; он ждал, не расскажет ли следователь, к какому выводу пришел он по делу Богусловского, но тот об этом помалкивал. Расспрашивать же тех, с кем беседовал следователь, Оккер не решался, вот и оставался в неведении, терзался тем, что не может повлиять на ход следствия, хотя бы чем-либо помочь своему начальнику штаба, своему доброму товарищу.
Он уже давно написал письмо профессору, а следом и его ученикам Комарнину и Лектровскому, но никто из них пока еще не ответил, и Оккер был в полном неведении, станут ли они хлопотать о своем спасителе или отмахнутся. Если не пожелают утруждать себя, то надежда только одна — следователь. На него нужно влиять, его убеждать. Увы, следователь не делился с Оккером своими мыслями. И только один раз он чуточку открылся. Разговор за ужином повернулся от обычных московских анекдотов о сильных мира сего на тему извечного соперничества обывателей двух российских столиц за лидерство в модах и нравах. Следователь, сторонник, естественно, как москвич, московского во всем начала, пафосно молвил:
— Москвич — всегда москвич. Возьмите Богусловских. Сама искренность! Она не может не покорить. Даже недруга. А уверенность в себе? И это понятно — они дорожат честью.
— Богусловские — ленинградцы, — возразил Оккер, сам не отдавая себе отчета, для чего это сделал. Но поздно. Слово — не воробей.
— Странно, — с совершенно несвойственной царившему за столом настроению, задумчиво протянул следователь. — Странно… Впрочем, она не одна. Много странностей в деле. Чувствую: сфабриковано обвинение. Только это доказать следует. Найти первовиновника. Ой как не просто. Ничего, однако, найду. Распутаю.
Не удержался Оккер, чтобы не порадовать Михаила Богусловского. А то извелся, бедняга, хотя и крепится, работает с неослабевающим старанием, но избегает совершенно людных собраний, а улыбка на лице не появляется даже дома, хотя Анна, сама убитая горем, всячески стремится казаться не очень обеспокоенной за будущее семьи, часто принимается вспоминать смешные истории, с ними же происходившие. Хмур Михаил, вроде бы от роду бирюк бирюком.
Радость и в самом деле несказанная в семье Богусловских от такого известия. Праздничный стол накрыт, Оккеры приглашены. Хотя, собственно, чему радоваться? Оклеветали и оскорбили ни за что ни про что, внесли смуту в добрые преданные сердца, заставили терзаться совершенно честных людей и вот, наконец, одумались. Не вздыхать бы облегченно, а с еще большим гневом, с еще большей решительностью осудить факт насилия, все предпринять, чтобы вывести на чистую воду виновника, но честный и добрый по натуре своей человек так уж устроен: прощает быстро и безоглядно, не думая о том, что потакает тем самым злу и насилию. Да, он признает мудрость: клин клином вышибают, но в каждой житейской ситуации отступает, иногда даже жалея того, кто поступил с ним несправедливо. Так и сейчас Богусловские вовсе не осуждали следователя, а жалели его. Особенно Анна.
— Настроили его. Убедили. Неопытен, видно. Податлив к тому же.
— Верно. Чья-то рука направила.
Но и о той руке говорили в тот вечер беззлобно, не как о вражеской, роковой, а как о заблуждающейся. В общем, миновала вроде бы беда, вот и ладно. Можно и дальше жить спокойно, делать свое дело безоглядно.
Благодушно прошел вечер, благодушно начался и новый день, и оттого полученное к полудню повеление Мэлова арестовать и доставить немедленно Богусловского в Алма-Ату было совершенно неожиданным, подействовало совершенно угнетающе и на Михаила, и, особенно, на Анну.
Никакого просвета впереди. Никакой надежды на добрый исход дела. Они не говорили друг другу самого главного, ибо боялись признаться даже себе, что Михаилу трудно будет полностью снять с себя все подозрения, раз женат он на сестре белоэмигранта. Причем не из пешечного ряда.
В то время когда Анна собирала Михаила в дорогу, на этот раз неведомую и страшную, отчего никак не могла определить, что ему нужно и важно взять, вновь и вновь меняя содержимое переметных сумок, а Михаил передавал дела своему помощнику, — в то самое время следователь по телеграфу требовал от Мэлова отмены распоряжения, пытаясь убедить своего начальника, что обвинен Богусловский ошибочно. Мэлов, однако, стоял на своем, и в конце концов они пришли к компромиссу: выезд отложить на несколько дней, пока следователь не прояснит еще один неясный факт в деле. Назвать его следователь, несмотря на настойчивость Мэлова, отказался, ссылаясь на то, что разглашение несвоевременно, а стопроцентная тайна их переговоров не гарантирована.
Отсрочка эта обрадовала Оккера, так как он все же надеялся на ответ кого-либо из ученых, которым написал уже по второму письму, но Богусловских разочаровала.
— К одному бы берегу, — с грустной отрешенностью прокомментировал Михаил сообщение о переносе срока ареста, а когда сказал об этом Анне, она высказалась примерно в том же духе.
Не предполагали они, что каждый день отсрочки идет во благо им и что только благодаря упрямству следователя не придется просидеть в тюрьме Богусловскому и одних суток. Только ведь как сказывается: не угадаешь пива на сусле.
Лишь неделю спустя двинулись в путь. Сопровождающих, десяток конников, Богусловский отбирал сам, но даже и им назначил ложное время выезда — послеобеденное. Но едва забрезжил рассвет, поднял их по тревоге (следователю была известна предосторожность, и он собрался загодя), и выехал небольшой отряд из гарнизона без лишнего шума. И этого Богусловский посчитал недостаточным, он дважды резко менял маршрут. Следователь пытался было отговорить Богусловского от чрезмерной, на его взгляд, осторожности, но Михаил рубанул резко:
— Я не намерен рисковать ни своей жизнью, ни, особенно, вашей!
— Думаете, большая вероятность засады?
— Она возможна. Но я иного опасаюсь: одиночного стрелка. Случись с вами что, кто поверит, что непричастен я? Извольте потому беспрекословно подчиняться.
Открытой степью весь день, до самой темноты, вел отряд Богусловский, затем круто повернул вправо и уже в полной темноте увел отряд в приречные тугаи. Утром — снова в степь. Утомительную, без тени, без воды…
Еще одна бессонная ночь в тугаях, еще один опаленный солнцем день, и только затемно, обойдя город с севера, въехал отряд в Алма-Ату и направился через центр в крепость, вопреки тому что следователь предложил вначале поехать в управление, а дальше поступать в соответствии с полученными распоряжениями.
— Не настаивайте, — тверд был в своем решении Богусловский. — Только утром доложите. Вас я сейчас от себя не отпущу. Не могу, поймите.
— Это уже насилие, — осерчал следователь, который предвкушал уже уютный домашний ужин и мысленно нежился в мягкой постели…
— Расценивайте, как вам будет угодно. Но я хочу исключить любую случайность.
— Утром я вынужден буду конвоировать вас по всем правилам.
— Лучше час позора, чем вечное бесчестие. И потом, случись с вами что, смогу ли я не казнить себя?
Возможно, лишними были все эти предосторожности, но когда обожжешься на молоке, станешь дуть и на воду. Так Богусловский думал: если рассчитали время возвращения экспедиции, хотя то предприятие было весьма и весьма трудное, то определить, когда следователь появится дома — пустячное дело. А Богусловский уверился, что самому ему не причинят зла, случись даже встреча с засадой, а вот следователю несдобровать. Сразу двух зайцев убьют: уберут человека, пытающегося познать истину и, возможно, уже имеющего какие-то доказательства, и окончательно запутают сфабрикованное дело, чтобы уж никаких сомнений в виновности его, Богусловского, не осталось.
— Не рекомендую и завтра ночевать дома. Настоятельно не рекомендую… Впрочем, не мне вас учить.
— Да, вы правы. Спасибо за совет.
До крепости они добрались без происшествий, скоротали ночь каждый со своими думами и заботами, а утром двинулись в управление. Там их ждали. Еще вчера. Дежуривший по управлению кадровик изнервничался. Несколько раз справлялся у него Мэлов, не прибыл ли арестованный, и всякий раз напоминал, чтобы немедленно его переправили в тюрьму. И понятно поэтому, что дежурный не дал даже всадникам спешиться.
— Сразу, без остановки, — по назначению, — повелел он следователю. — Немедленно.
На Богусловского, с кем не единожды встречался и в отряде, и в Алма-Ате и кого считал толковым и перспективным краскомом, даже не взглянул. Объяснимо это: оскорблена вера, нанесен по его престижу удар, ибо он настойчиво предлагал доверить хотя и молодому, но мыслящему и организованному краскому пограничный отряд. Верхоглядство, выходит, допущено в изучении кадров. А за это и спросить могут. По большому счету. Вот и строжился, себя оправдывал. Вот и осек следователя, который было возразил:
— Предлагаю прежде доложить начальнику войск округа. Возможно…
— Доложите, когда сдадите арестованного! К тому же начальник войск еще не прибыл. Впрочем, ваше право оставаться. Арестованного отконвоирует мой помощник.
— Нет-нет! Я сам.
— Вот и прекрасно.
Когда миновали половину пути, следователь, возглавлявший конвой, осадил коня и пристроился к Богусловскому.
— Вы поступили мудро, оставив меня возле себя. К заключению этому я не сразу пришел. Осерчал вначале. Осерчал, но подчинился. Теперь, прошу вас, примите мой совет: никакого даже намека на попытку сбежать. Не подходите близко к двери камеры, тем более не пытайтесь стучать в нее. Когда станут сопровождать на допросы, липните к конвоирам.
— Спасибо, — ответил с искренней благодарностью Богусловский. — Спасибо. Я тоже думал об этом. Однако же если с вами и теперь что-либо случится, мне все равно несдобровать, как бы я ни остерегался. Прошу поэтому, наведайтесь домой днем, ночью же останьтесь на службе… Ну, а теперь давайте пожелаем друг другу мужества! — и протянул следователю руку.
Да, оно им было просто необходимо. Каждому свое мужество. Следователю, чтобы отстоять свою точку зрения, Богусловскому, чтобы с видимым спокойствием принять все предстоящие унизительные процедуры приема, которые совершенно не унизительны людям нечестным, падшим, даже совершенно необходимые по отношению к ним, но которые оскорбительны для честных, попавших в тюрьму по недоразумению.
Но откуда знать тюремному начальству, у кого что на уме и в сердце, да и забота у них одна — предотвратить возможный побег.
После формальностей приема отвели Богусловского в одиночную камеру. Захлопнулась обитая железом дверь, змеино протиснулся засов в проушины, мягко процокал ключ в замке, и сдавила тоска неуемная сердце краскома. С чего бы, казалось? И смерть видел в упор, порой наверняка зная о встречах с ней, а такого не приходилось испытывать. Поначалу Богусловский даже пытался подтрунивать над своей тоской, но она от этого не уменьшалась, а, напротив, подминала мысли, завладевала ими и в конце концов праздновала окончательную победу.
Машинально он теперь ходил взад и вперед, от окна до двери, вовсе не замечая ни грязности стен, ни совершенно запыленных стекол высокого окна в жесткой паутине ржавых прутьев, не ощущая тухлости воздуха, настоянного на пыли и грязи, — он, теперь только в полной мере осознавший свое положение, пытался понять, отчего такое могло случиться. Но думал он скорее не о себе, он вроде бы со стороны наблюдал свою жизнь, как обобщенную, сторонним взглядом оценивал поступки свои, искал хотя бы один из них, который мог бы вызвать недоверие к нему новой власти, но не находил. В мыслях он был не безгрешен, особенно когда нижние чины предложили ему командовать ими: прикидывал, взвешивал, приглядывался. Но он же — человек. Это и о нем сказано, что ищет человек, где лучше. А тут — судьба России на весах к тому же. О сомнениях тех, однако же, знал лишь он один. С отцом даже ими не делился. Терзался сомнениями и после штурма Зимнего, когда видел в Москве толпы безработных и длинные очереди за хлебом, когда был свидетелем разгула анархистской вольницы, с которой, ему представлялось, не в силах была совладать новая власть, и столь же страшного разгула контрреволюции, — он сомневался в силе новой власти, служению которой себя посвятил, но сомнения те не препятствовали ему поступать так, как требовал от него долг патриота.
И вдруг его будто кипятком ошпарили. И кипятком этим послужили пересказанные Оккером слова казаха-пастуха: «…хорошая власть. Только не джигитова сила у нее…» И впрямь, если навет может стать причиной ареста человека, так искрение отдающего свои силы и знания стране своей, где же у нее тогда сила? Отчего такое происходит?
Нет, сейчас он не мог найти ответа, он найдет его потом, когда еще раз судьба преподнесет ему столь же нелепое и столь же суровое испытание, а опыт жизни будет значимей. Теперь же он мерил шагами узкую и не очень длинную одиночку, пытаясь безуспешно понять, отчего могла случиться такая жестокая несправедливость?
Принесли обед. Не с большим аппетитом, но съел все. И вновь зашагал маятником в межстенье, не ощущая времени, не делая вовсе перерыва, как беспрерывны были его тоска и его грустные мысли.
Остановил его, напружинил в предчувствии чего-то чрезвычайного скрежет отпираемого замка.
«На допрос?! На ночь глядя?!»
Как же удивился Богусловский, увидев на пороге следователя. Не всего, а лицо его, веселое, разбрызгивающее радость, а затем руки, на которых лежало его, Богусловского, снаряжение: потертый ремень и портупея, шашка, не с модного ковра снятая, маузер — все его, родное, ловкое к руке в бою, но непонятно отчего появившееся здесь…
— Сейчас едем ко мне, — весело, вовсе не скрывая своей веселости, заговорил следователь, — а в восемь ноль-ноль завтра мы обязаны быть у начальника войск округа.
— Выходит, я свободен?! — еще не веря счастью, боясь спугнуть его, поэтому несмело спросил Богусловский. — Либо?..
— Никаких либо! Вот оружие. По коням и — ко мне. В гости. И никаких, слышите, никаких возражений.
Привычной тяжестью давит на плечи портупея, малиново позванивают шпоры, лаская слух; ножны шашки гладят ногу до костяной белости отполированным боком — все родное, неотделимое от него, Богусловского, вновь на своих местах. Грудь гордо расправлена, дышится глубоко, хотя и в коридоре воздух застойностью своей мало чем отличался от камерного.
Рад Богусловский, что сняты с него вериги бесчестия, но и любопытство разбирает, как удалось следователю за столь короткое время отстоять свою точку зрения. Даже не предполагал Богусловский, что иные силы могли повлиять на ход дела. Он считал своим ангелом-спасителем следователя и ждал от него подробного рассказа о проведенных им баталиях, уже заранее предвкушая то волнение, какое вызовет рассказ; но следователя, казалось, вовсе не интересовало душевное состояние Богусловского, он рад был чему-то своему, берег ту радость, лелеял ее.
«Больше меня радуется за меня. Искренний человек», — подумал Богусловский, совершенно ошибаясь и на этот раз.
Раскрылась истина Богусловскому лишь на следующее утро в кабинете начальника войск округа.
Два краскома сидели рядом в массивных кожаных креслах, и начальник войск с мягкой иронией вопрошал:
— На весь свет обиделся, когда заперли?
— Не комаринского же мне было отплясывать?
— Верно оно верно, но… Жизнь, дорогой мой краском, не поле. На нем и то о колдобину можно споткнуться. А жизнь?! — И тут же увел от философских далей разговор, приземлил его. — Ну а следователь молодчина. Не побоялся возможности вслед за тобой отправиться в камеру. У него больше эмоций, у Мэлова — факты. Да такие факты, дорогой мой краском! Я, правда, сомневался в их натуральности, но что мог поделать? Не подчинены мне следственные органы. Не ведаю, чем бы все кончилось, не вмешайся Москва. Дело велено закрыть. К тому же и Мэлов, который заварил всю кашу, отозван в Москву. В другой округ переводят. Профессора благодари. Решающее слово сказал.
— С него бы и начать, — сделал запоздалое открытие для себя Богусловский. — Давно бы ему сообщить надлежало.
— Сообщили. Оккер сообщил. Как только узнал о начале следствия. Не вдруг, получается, и профессору поверили. — И совершенно без паузы круто повернул разговор: — Думаю разделить вас с Оккером. Боюсь, мешать начнут службе ваши почти родственные отношения…
— У вас есть претензии к организации охраны границы? К обучению пограничников? — сухо, вовсе не скрывая недоумения, спросил Богусловский. — Если есть, готов выслушать и доложить начальнику отряда. По моему разумению, работа краскомов определяется делом. И только делом.
— Что ж, мысль верная. С ней не поспоришь.
Начальник войск округа встал, давая понять, что прием окончен. Поднялся и Богусловский.
— Разрешите отбыть к месту службы?
— Отбыть разрешаю, — кивнул начальник войск, — только, возможно, денек, а то и пару пообщайтесь с отделами и службами. Вопросов, наверное, пруд пруди?
— Не без того. Только ждут меня дома. Не думаю, чтобы жена моя безмятежно спала ночами…
Начальник войск хлопнул себя по лбу ладонью и, круто развернувшись, поднял телефонную трубку.
— Жаркент. Квартиру начальника штаба. Быстро! — хотя знал, что линия ему всегда дается первоочередно, без задержки, для чего обрубается разговор любых окружных начальников.
Трубку передал Богусловскому.
Долго, очень долго с раздражающей беспечностью зуммерила трубка. Ей что до буйной нетерпеливости человеческой. У нее души нет.
— Алло, — наконец прорвалось сквозь треск и шипение. — Слушаю вас.
Беспросветно-горестный голос. Словно разверзлась уже перед Анной могила и нет, кроме нее, ничего впереди. Ни одного лучика надежды.
— Здравствуй, Анна. Все у меня в порядке. Дома я буду через два дня.
Молчит трубка. Потрескивает только.
— Анна! Анна?!
— Все в порядке, Миша. Жду.
Как он казнил себя, что послушался следователя и не поехал сразу после освобождения из тюрьмы к дежурному, не позвонил Анне.
«Она же не знает, что вас арестовывали. И потом, до разговора с начальником войск не рекомендую. Настоятельно не рекомендую».
Он не решился ослушаться следователя, так много сделавшего ему доброго. Верно, возможно, поступил, но Анне-то каково было в неведении провести еще одну ночь. Вчера не очень об этом серьезно думалось, радость захлестнула, чувство вновь обретенной свободы оттеснило все на второй план. А сегодня…
— Ты извини, что не звонил. Объясню дома.
— Хорошо.
Нет, не хватило его на два дня, какие отпустил ему начальник войск округа. Все, что ему необходимо было сделать, он делал с лихорадочной поспешностью, да и понимание полное встречал во всех кабинетах: ему шли навстречу по всем вопросам. Поначалу это немного удивляло Богусловского, но потом, поразмыслив, он верно оценил ситуацию (даже вовсе не причастные к случившемуся злу чувствовали себя виновными и старались откупиться содеянным добром) и стал ею успешно пользоваться. И получилось так, что до конца рабочего дня еще оставалось время, а он уже мог без зазрения совести отправляться домой.
Так он и поступил. Доложил дежурному о своем намерении и направился к выходу, чтобы на крыльце ждать коновода, и тут столкнулся с тем самым кадровиком, который с возмутившей Богусловского поспешностью торопил, как заклятого врага, с отправкой в тюрьму.
Совсем иной человек на пути. Сама доброта. Само сочувствие. А лицо — как пасхальное яичко, будто его самого только что выпустили из одиночной камеры. Протягивает руку, спеша поздравить с благополучным исходом неприятного дела.
— Руки я вам, товарищ краском, не подам, — приняв стойку «смирно», с металлом в голосе ответил Богусловский. — И слово «товарищ» понимайте как дань принятой в Красной Армии форме обращения. Честь имею.
И пошел прямо, словно никого не было в коридоре, и, не отшатнись кадровик прытко, прошагал бы Богусловский сквозь него, как через пустоту. Совершенно не думал в тот момент Богусловский, что обретает неумолимого врага и что много усилий тот предпримет, чтобы не пустить вверх по служебной лестнице способного и умелого краскома. До тех самых пор, пока не переведут его в другой округ.
Вот так часто и получается: за свое бесчестие, за свою трусость, за свою ошибку человек мстит другому. Одуматься бы, на себя поглядеть бы со стороны, переосмыслить себя, так нет, упрямей козла упрямого.
В этом, именно в этом и малое, и великое зло людское.
Только не до этого умозаключения сейчас Богусловскому, он полон благородного презрения к хамелеону и торопится покинуть эти каменные стены, где не только уютно устроился хамелеон, но и процветает, решает судьбы краскомов.
С каким удовольствием взял он поводья из рук вскорости подскакавшего к управлению коновода, потрепал гриву своего любимого коня, и тот ткнулся преданно в плечо и тихо заржал, переполненный радостью встречи с хозяином.
— Тосковал он. Вроде знал все, — пояснил коновод. — Лошадь вроде бы, какое понятие имеет, а смотри ты — чувствует.
— Теперь все позади, — прижавшись щекой к щеке верного коня, вздохнул Богусловский. — Теперь снова вместе.
Ловко вспрыгнул в седло и подобрал поводья, успокаивая одновременно:
— Не горячись. Путь изряден.
И поглаживал по шелковистой шее, выгнутой колесом.
Путь и в самом деле не близок. С ночевкой. К тому же Богусловский намерился заехать в тот самый поселок под горами, где дарили ему халат. Это удлиняло путь еще на десяток километров, но ему очень хотелось спросить председателя сельсовета, откуда появились халаты для участников экспедиции и отчего, когда о подарках объявили, многих на трибуне это озадачило. Да, Богусловский все тогда заметил. Все. И уж не раз костил себя всячески за тот необузданный восторг, что затмил реальность.
Откуда было знать ему, что те, дарившие, не расседлали коней, а кони их стояли сразу же за первым домом, что задание они имели точное: попытается Богусловский прощупать закладку в полах — в упор его. А пока поймут митингующие, что произошло, кони понесут подосланных Мэловым людей в ущелье, где взять их будет не так-то легко.
Восторженность ребячья спасла, выходит, жизнь Михаилу. Да и не только, видимо, ему одному.
Разве знает человек, что ждет его впереди и какой из поступков более разумен? Слишком было бы легко жить тогда. И, наверное, неинтересно.
Вел свой небольшой отряд Богусловский переменным аллюром, какой положен в долгом пути, а мысли его диссонировали с размеренностью движения, они никак не хотели мириться с тем, что произошло с ним, никак не могли оправдать случившегося. Забывался Михаил Богусловский только на привалах. Не мог он не поддаться настроению бойцов, которые не скрывали вовсе радости, что возвращаются домой со своим командиром, что не пришлось им оставить его в злых руках в Алма-Ате. Они выказывали, причем совершенно откровенно, знаки внимания, угадывали любое его желание, и выходило, будто не командир он, а отданный на попечение ребенок неумелым, но старательным нянькам.
Но стоило ему сесть на коня, как устремленность его мыслей вновь обретала прежнюю направленность. А чем ближе подъезжали пограничники к селению, где положен был первый шаг злодейского марафона, тем больше он думал о предстоящем в сельсовете разговоре. Он даже лелеял надежду, что ухватится за ниточку, которая позволит распутать сплетенную вокруг него паутину зла.
Увы, разговора с председателем не получилось. Да, он встретил приветливо; он даже предлагал провести митинг, чтобы знали люди, как многолик и коварен враг; но он становился совершенно беспонятливым, когда Богусловский пытался выяснить, откуда появились на трибуне люди с халатами и кто они.
— Молва говорит разное.
— Но вам-то известен был порядок прохождения митинга?
— Очень известный.
— Халаты намечалось нам дарить?
— Зачем намечалось? Не намечалось.
— Отчего же не воспротивились устроители митинга?
— Дарить разве плохо?
— Но вы же не знали тех людей? Или знали?
— Не знали. Говорят, чужие они, не наши…
Вот так. Молва… Говорят… А сам он, проживший в этих местах всю жизнь, разве не знает, свои они либо чужие. Выходит, великая правда в том: свой глаз лучше родного брата, а своя рубашка к телу ближе.
Конец первой книги
ПОЯСНЕНИЯ к словам из текста романа
Али — двоюродный брат мусульманского пророка Мухаммеда. Восстал против халифа Османа в 656 году, но после захвата власти был зарублен противниками при выходе из мечети Куфе (Ирак). Ему поклоняются шииты.
Аят (араб.) — часть главы корана.
Баурсаки (казах.) — печеное на бараньем сале тесто. Может долго храниться.
Буза (казах.) — легкий хмельной напиток из проса.
Дастархан (казах.) — скатерть, накрываемая на праздничный стол.
Дервиш (перс.) — мусульманский нищенствующий монах.
Дервиш-суфия — мусульманский нищенствующий монах, отличающийся особым аскетизмом и религиозным фанатизмом.
Джуда (узб.) — дерево, плоды которого напоминают фисташки.
Елтыш (забайкальск. говор) — чурбан, толстая чурка.
Закят (араб.) — обязательный налог, взимаемый с мусульманина служителями культа натурой.
Имам-хатыб (араб.) — высшее духовное лицо в соборной мечети.
Камча (казах.) — нагайка, плеть.
Кеса (казах.) — большая пиала для кумыса.
Курбан-байрам (тюрк.) — большой праздник у мусульман. В этот день они приносят в жертву баранов.
Курт (казах.) — сушеный творог.
Кяфир (араб.) — все, кто не исповедует ислам.
Мазар (узб.) — святое место у мусульман, как правило — могилы святых.
Мандрык (забайкальск. говор) — пешеходная труднопроходимая тропа в глухой тайге.
Мата (узб.) — домотканная одежда из хлопка.
Мимбар (араб.) — кафедра для проповеди в мечети.
Музакир (араб.) — проповедник-доброволец.
Муфтий (араб.) — высшее духовное лицо в суннитской ветви ислама.
Муэдзин (араб.) — служитель мечети, призывающий верующих мусульман на молитву.
Облеток (забайкальск. говор) — начинающий летать птенец.
Отура (забайкальск. говор) — след кабана.
Позалук (забайкальск. говор) — тайник.
Пежух (забайкальск. говор) — изголодавшийся волк.
Рамадан (араб.) — девятый месяц по лунному календарю. Распространен преимущественно в странах ислама.
Садака (араб.) — добровольное даяние в пользу мечети или духовного лица.
Сандал (узб.) — низкий стол с углублением под ним. В холодное время в углубление кладут горячие угли и накрывают стол одеялом, под которое подсовываются ноги.
Сурпа (казах.) — наваристый мясной бульон.
Тахарат (араб.) — ритуал омовения, предшествующий молитве.
Тора — древний город на Ближнем Востоке.
Узун-кулак (казах.) — быстрая передача новостей в степи от юрты к юрте.
Улема (араб.) — богослов.
Факир (араб.) — авторитетный богослов-юрист.
Фатиха (араб.) — религиозный обряд у мусульман, при котором вымаливается благословение перед началом какой-либо работы.
Xаджия (араб.) — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку и Медину.
Чапан (казах.) — род верхней одежды из овечьей шерсти.
Шала (узб.) — шелуха, остающаяся после обработки рисовых зерен.
Хауз (узб.) — небольшой водоем, который служит для омовения и хозяйственных нужд.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Дастархан (казах.) — скатерть, накрываемая на праздничный стол.
(обратно)2
Буза (казах.) — легкий хмельной напиток из проса.
(обратно)3
Камча (казах.) — нагайка, плеть.
(обратно)4
Облеток (забайкальск. говор) — начинающий летать птенец.
(обратно)5
Пежух (забайкальск. говор) — изголодавшийся волк.
(обратно)6
Сандал (узб.) — низкий стол с углублением под ним. В холодное время в углубление кладут горячие угли и накрывают стол одеялом, под которое подсовываются ноги.
(обратно)7
Мимбар (араб.) — кафедра для проповеди в мечети.
(обратно)8
Аят (араб.) — часть главы корана.
(обратно)9
Имам-хатыб (араб.) — высшее духовное лицо в соборной мечети.
(обратно)10
Муфтий (араб.) — высшее духовное лицо в суннитской ветви ислама.
(обратно)11
Закят (араб.) — обязательный налог, взимаемый с мусульманина служителями культа натурой.
(обратно)12
Садака (араб.) — добровольное даяние в пользу мечети или духовного лица.
(обратно)13
Xаджия (араб.) — мусульманин, совершивший паломничество в Мекку и Медину.
(обратно)14
Шала (узб.) — шелуха, остающаяся после обработки рисовых зерен.
(обратно)15
Муэдзин (араб.) — служитель мечети, призывающий верующих мусульман на молитву.
(обратно)16
Фатиха (араб.) — религиозный обряд у мусульман, при котором вымаливается благословение перед началом какой-либо работы.
(обратно)17
Али — двоюродный брат мусульманского пророка Мухаммеда. Восстал против халифа Османа в 656 году, но после захвата власти был зарублен противниками при выходе из мечети Куфе (Ирак). Ему поклоняются шииты.
(обратно)18
Улема (араб.) — богослов.
(обратно)19
Тора — древний город на Ближнем Востоке.
(обратно)20
Сурпа (казах.) — наваристый мясной бульон.
(обратно)21
Дервиш (перс.) — мусульманский нищенствующий монах.
(обратно)22
Чапан (казах.) — род верхней одежды из овечьей шерсти.
(обратно)23
Дервиш-суфия — мусульманский нищенствующий монах, отличающийся особым аскетизмом и религиозным фанатизмом.
(обратно)24
Елтыш (забайкальск. говор) — чурбан, толстая чурка.
(обратно)25
Курбан-байрам (тюрк.) — большой праздник у мусульман. В этот день они приносят в жертву баранов.
(обратно)26
Мазар (узб.) — святое место у мусульман, как правило — могилы святых.
(обратно)27
Рамадан (араб.) — девятый месяц по лунному календарю. Распространен преимущественно в странах ислама.
(обратно)28
Мата (узб.) — домотканная одежда из хлопка.
(обратно)29
Тахарат (араб.) — ритуал омовения, предшествующий молитве.
(обратно)30
Кяфир (араб.) — все, кто не исповедует ислам.
(обратно)31
Хауз (узб.) — небольшой водоем, который служит для омовения и хозяйственных нужд.
(обратно)32
Джуда (узб.) — дерево, плоды которого напоминают фисташки.
(обратно)33
Мандрык (забайкальск. говор) — пешеходная труднопроходимая тропа в глухой тайге.
(обратно)34
Отура (забайкальск. говор) — след кабана.
(обратно)35
Позалук (забайкальск. говор) — тайник.
(обратно)36
Баурсаки (казах.) — печеное на бараньем сале тесто. Может долго храниться.
(обратно)37
Курт (казах.) — сушеный творог.
(обратно)38
Узун-кулак (казах.) — быстрая передача новостей в степи от юрты к юрте.
(обратно)39
Кеса (казах.) — большая пиала для кумыса.
(обратно)
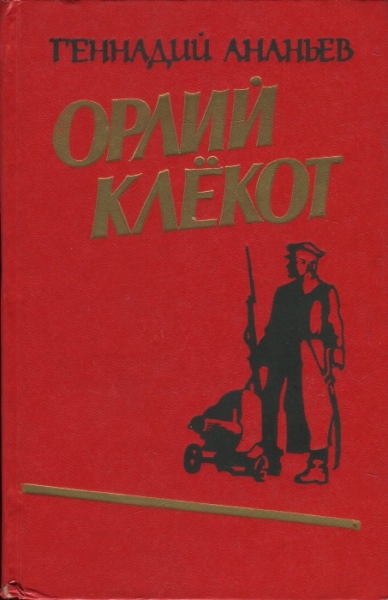

![Иосиф Грозный [историко-художественное исследование]](https://www.4italka.su/images/articles/529788/primary-medium.jpg)


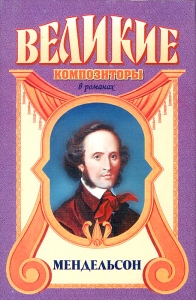

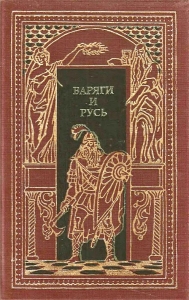
Комментарии к книге «Орлий клёкот. Книга первая», Геннадий Андреевич Ананьев
Всего 0 комментариев