Сергей Цейтлин Закат над лагуной Встречи великого князя Павла Петровича Романова с венецианским авантюристом Джакомо Казановой Каприччо
© С. Цейтлин, 2016
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2016
Автор выражает благодарность Марино Дзорци за бесценные советы и помощь при написании этого романа.
1
Влажным утром 18 января 1782 г. (по григорианскому календарю), пока на поверхности Бачино ди Сан-Марко еще не совсем рассеялась густая светло-серая дымка, к набережной Скьявони приближался на веслах небольшой двухмачтовый галиот с овальным корпусом и маленьким, даже несколько приплюснутым носом[1].
У передней мачты стояли две фигуры: одна невысокая, стройная, в щегольском зимнем плаще и черной треуголке; другая повыше, пухловатая, в меховом головном уборе и плотно укутанная в длинную шубу. Они стояли неподвижно, словно статуи, застыв в безвременности, но не от холода, а от пронзительной красоты, которая открывалась перед ними. Вокруг судна живо и радостно качалось бесчисленное количество ярко украшенных шлюпок, гондол и пеот[2], торжественно приветствуя долгожданных гостей. Над крышами прибрежных палаццо к бледно-голубому небу стремился огромный зеленый пирамидальный шпиль, а на самой верхушке золотой ангел ловил слабые лучи восходящего солнца.
Как только галиот причалил к пристани, на палубе засуетился экипаж, вынося из каюты саквояжи, сумки и сундучки – короче, все, что обычно составляет багаж богатой сановной пары, путешествующей далеко от родины. С правого борта моряки спустили к причалу деревянные сходни, и когда пара со скрытым нетерпением подошла к борту, на набережной прозвучали звонкие аплодисменты.
Но двое долго не спускались на пристань. Восторг, который они испытывали, не позволял им вести себя свободно и решительно. Терпкий, соленый воздух игриво щекотал их лица. Легкий прибой плескался среди тинистых свай, добегая до ног ликующей публики. Громкие приветственные возгласы, раздающиеся на всех европейских языках, сливались с острыми криками чаек, кружащихся над галиотом. Птицы парили высоко над мачтами, дерзко тянулись выше и выше, а потом застывали в полете и, расправив крылья, медленно и самоуверенно планировали к воде.
Наконец из толпы вышел плечистый господин средних лет в тяжелой широкой карминной тоге, длинном белом парике и красной биретте. Он подошел к сходням, снял свой головной убор и, поклонившись, представился доброжелательным бархатным голосом:
– Je m’appelle Francesco Pesaro. Bienvenus à Venise, Monsieur le Comte et Madame la Comtesse du Nord![3]
Был момент напряженной тишины. Венецианцы с волнением смотрели на гостей, надеясь произвести на них положительное впечатление. Граф сделал шаг вперед, и неожиданно тоже снял свою треуголку, и поклонился великому городу:
– L’onore è tutto nostro, Serenissimi Signori![4]
Опять венецианцы взорвались аплодисментами, радуясь, что граф к ним обращается на их родном языке.
Граф с графиней сошли на сушу, и синьор Пезаро представил им свою полную рыжеволосую сестру Лауру, сопровождающую брата-холостяка на всех официальных приемах. Пезаро также представил паре своего самого близкого друга и коллегу синьора Джованни Гримани, занимающего должность Savio della Terraferma, то есть мудреца Материковой области.
Пока гости здоровались и обменивались комплиментами со знатными венецианцами, к пристани причалил еще один галиот, из которого сразу же выпрыгнули несколько лихих офицеров высокого ранга, но невысокого – как и сам граф – роста.
– Voila ma suite![5] – воскликнул граф.
На палубу медленно вышли три высокие дамы в соболиных шубах изысканного фасона. Не оглядываясь, они осторожно подступили к борту и остановили строгие взоры на копошащейся на набережной толпе.
– Боже, какие красавицы! – прошептал один венецианец другому.
– Мне кажется, что я Парис. Но я не знаю, какую богиню выбрать! – ответил второй.
Офицеры поторопились к сходням и помогли дамам спуститься на сушу. Все это время не только венецианские мужчины, но и все венецианки не могли отвести глаз от этих трех иноземок, из мглы явившихся на их остров. Редко кто в Венеции встречал подобную красоту. Все в них было необычным: гладкая кожа, белая, как истрийский мрамор; радужки глаз, будто тающий иней, у одной – карие, у второй – зеленые, у третьей – лазоревые; осанка – горделивая, но сдержанная. Дамы чувствовали на себе любопытные, пристальные взгляды окружающих, но никак не реагировали. Они спокойно сели в узорчатый фельце[6] предоставленной им гондолы, и длинное черное судно, развернувшись, ровно поплыло по направлению к гостинице в сопровождении парадных шлюпок и пеот.
Впереди два коренастых гондольера ритмично продвигали гондолу, в которой сидели граф с графиней и синьор Пезаро с сестрой. Граф мало разговаривал. В отличие от своей супруги, которая усердно обсуждала последние французские моды с синьорой Лаурой, он предпочитал наслаждаться своими первыми впечатлениями о городе. Он постоянно выглядывал из окон фельце, любуясь, как счастливейший ребенок, загадочной живописностью бухты, а потом роскошными фасадами грандиозных палаццо, обрамляющих извилистый Большой канал. Синьор Пезаро старался вообразить ту далекую страну, из которой прибыли гости. Она ему казалась такой своеобразной и самобытной, что он даже не знал, как начать о ней разговор. Он никогда не встречал никого с того края земли, лишь изредка он слышал какие-то обобщенные мнения о том народе, сложившиеся у европейских дипломатов.
Однако граф дю Нор ему сразу понравился. Ему понравились чистосердечие и искренняя любознательность графа. Его очаровала спонтанная, даже инфантильная восторженность иностранца, особенно когда он высовывал из фельце свою маленькую голову и вдыхал прохладную влагу. Пезаро внимательно изучал черты молодого лица: его открытый высокий лоб, живые чуткие глаза, изящно причесанные светлые брови и милый приподнятый кончик носа. «Сколько же ему лет? – подумал Пезаро. – Двадцать шесть, двадцать восемь? Максимум тридцать? Ему все у нас кажется сказкой. Но так и должно быть. Все форестьеры у нас ощущают себя будто в сказке…»
Гондолы причалили к гостинице Леон Бьянко, расположенной в самом старом палаццо на Большом канале Ка'да Мосто, принадлежавшем в XV веке известному мореплавателю Алозию да Мосто. В ярко освещенном византийском вестибюле синьора Лаура рассказала гостям, что первые два этажа палаццо были построены в конце XII века, а два верхних добавлены в XVII в.
– С'est incroyable![7] – протяжно произнес граф, с открытым ртом рассматривая сверкающие муранские люстры.
Синьор Пезаро и его сестра тепло простились с супругами, пригласив их, разумеется, со всей свитой на бал, организованный в их честь в Казино де Филармоничи на площади Сан-Марко.
* * *
Проводив сестру домой, Пезаро тут же повелел своим гондольерам доставить его во Дворец дожей на заседание Совета десяти[8].
По закону каждый венецианский чиновник был обязан доложить о любой, даже о самой случайной и незначительной, встрече с иностранным лицом. Даже Франческо Пезаро, занимающий важнейший пост прокуратора Сан-Марко (чин, по престижу уступающий только чину самого дожа), должен был отчитываться перед этим органом. Однако визит графа дю Нор долго и тщательно готовился во всех инстанциях Венецианского государства, так что Пезаро явился перед Советом не объясняться, а только рассказать о ходе дела. И поскольку речь шла не просто об очередном торжественном приеме кого-то из европейской знати, а о чем-то гораздо более важном, то Пезаро знал, что каждое его слово будет рассматриваться с особой серьезностью.
– Ну что? – машинально спросил гладкокожий семидесятидвухлетний дож Паоло Реньер, не дождавшись, пока Пезаро сядет напротив.
– Вроде все прошло хорошо, – ответил Пезаро, заметив, что остальные члены Совета смотрели на него ястребиными взглядами.
Зал Совета десяти находился на втором этаже Дворца дожей, между Золотой лестницей и Залом компаса. Он был сырым и печально-тусклым, несмотря на большие окна, пышную золотистую резьбу и красочные картины, украшающие потолок и стены. Окна выходили на Дворцовый канал и на мост-туннель, соединяющий Дворец со зданием на противоположной стороне канала, в котором размещались городские тюрьмы.
– Он что-нибудь сказал? – сухо продолжал Реньер, постоянно щурясь из-под своего корно[9].
– Нет, но, по-моему, он все понимает.
– Как он себя вел?
– Непосредственно. Искренно.
– Про соседей не спрашивал?
– Ему это даже в голову не приходило.
– Сколько они у нас пробудут?
– Восемь-девять дней. До двадцать шестого, по-моему.
– Потом куда?
– На юг.
– Прием понравился?
– По-моему, да.
– Он вам что-нибудь подарил?
– Нет.
– А сестре Вашей?
– Ничего.
– Как вы считаете, какие у него намерения? – хриплым голосом спросил один пожилой член Совета.
– Пока трудно сказать. Но мне кажется, он думает о том же, о чем думаем и мы.
– Вы ему, конечно, ни на что не намекали? – поинтересовался другой советник, сидящий на самом краю скамьи.
– Боже упаси! – повернулся к нему Пезаро. – Нет, все идет по плану. Сегодня вечером гости будут ужинать у меня, в Казино.
– Отлично, – кивнул Реньер.
– А Дураццо? – настороженно спросил Пезаро. – Он уже, конечно, дал о себе знать?
Члены Совета вздрогнули.
– Пока нет, – сосредоточенно ответил Реньер. – Но он в курсе событий и рано или поздно тут появится, если что-то заподозрит. В этом я не сомневаюсь.
– Может быть, стоит его тоже пригласить на банкет? – деликатно предложил Пезаро. – На бал-то он придет. Но, может, стоит пригласить и на банкет. По крайней мере ради приличия.
– Не надо. Он сам всплывет на поверхность, когда ему что-то понадобится. Ведь банкет ваш не имеет никакого дипломатического оттенка.
– Пожалуй, да. Однако в последнее время Дураццо все более и более лезет в чужую тарелку. И чем меньше ему накладываешь, тем больше он потом у тебя отбирает.
– Я знаю, Франческо, я знаю.
– Австрия все равно обо всем догадывается. Даже если мы…
– Не надо спешить, дорогой. Не надо. Сначала нам нужно прозондировать почву, посмотреть, какая реакция будет у… графа, – Реньер сделал акцент на этом титуле.
– Реакция у него будет положительная. А вот у Австрии…
– Да не волнуйтесь Вы об Австрии, Франческо! – Реньер пытался успокоить плечистого прокуратора. – Самое главное на сей момент – это создать нашим гостям хорошее настроение, пробудить в них благосклонность к Венеции. Поразвлекать их, полакомить. Побаловать, если надо. Вы же знаете, как это делается. Вы же специалист.
– Ну да, – Пезаро видел, как все члены Совета ему улыбались.
– А потом, когда Вы почувствуете их дружелюбие, то тогда можно отвести графа в сторону и вежливо намекнуть на нашу небольшую задумку.
– Да. Может быть, так будет лучше, – Пезаро встал и повернулся к выходу.
– Только, Франческо, я вас умоляю, – неровным голосом сказал Реньер, провожая Пезаро к дверям, – я Вас умоляю… позаботьтесь, чтобы никто в вашем окружении, кроме самых, самых приближенных, разумеется, не узнал, кого на самом деле мы тут принимаем.
– Не волнуйтесь, мой дорогой дож, – уверенно ответил Пезаро. – Все уже предусмотрено. Статус инкогнито наших гостей непроницаем!
– Я бы не хотел, чтобы получилось как тогда, с идиотом Мочениго и испанским инфантом. Я бы не хотел… да никто бы не хотел… первым делом сами гости, как вы понимаете. Не дай бог, Франческо, не дай бог, вся Европа узнает, что в Венецию прибыл престолонаследник Российской империи, великий князь Павел Романов!
2
– Если я не ошибаюсь, она чуть трапециобразна, – определил граф дю Нор, стоя у окна в банкетном зале Казино де Филармоничи, в здании Старых Прокураций, с умилением взирая вниз, на площадь Сан-Марко.
– Вы совершенно правы, Ваше Сиятельство! – энергично ответил прокуратор Пезаро.
Титулование «Ваше Сиятельство», конечно, резало слух цесаревичу, привыкшему, чтобы к нему обращались принятым «Ваше Императорское Высочество». Но так как он приехал в Венецию инкогнито, в качестве графа, то ему пришлось привыкать и к соответственному титулованию, которое было, увы, ниже титулования Пезаро (в Венецианской Республике все патриции имели право избираться на высшую государственную должность дожа, следовательно, их титул соответствовал российскому «князь» или западноевропейскому «принц»).
Разговор шел на французском, на котором цесаревич редко говорил, потому что с женой Марией Федоровной, урожденной прусской принцессой фон Вюртемберг, с друзьями офицерами, да порой и с матушкой-императрицей он предпочитал разговаривать на любимом немецком – на языке порядка, Канта и военного дела. Только тогда, когда речь заходила о Вольтере и об энциклопедистах, цесаревич слегка наклонял голову набок, засасывал щеки и, скользнув язычком по небу, нырял в фонтан французской лексики.
– Я не знал, что на площади, рядом с кампанилой стоит Триумфальная арка, – удивился он. – Да и амфитеатр тоже неожиданное явление.
– Не только, мой искушенный наблюдатель, не только. Этот деревянный двухэтажный теремок, который вы видите справа, загораживающий церковь Сан-Джеминьяно, тоже был построен в вашу честь!
– Неужели?
– О, да!
– А что будет в амфитеатре? – прямодушно полюбопытствовал цесаревич, взглянув на Пезаро как избалованный, нетерпеливый мальчик, которому отец обещает новую игрушку. – То есть… гм-гм-гм… я бы хотел осведомиться, для каких мероприятий используется сей гениальнейший плод архитектурной фантазии?
– Сейчас, виноват, не могу Вам сказать. Но я вас уверяю, когда наступит положенный час, зрелище, которого Вы с супругой будете свидетелями, не оставит Вас равнодушными. Но давайте вернемся к столу, Ваше Сиятельство.
Стол был небольшим: по меркам Венецианского государства он, можно сказать, даже был интимным – на сорок человек. Подавали все, что водится в Адриатике и в землях Северной Италии: сарды ин саор[10]; нежнейшие грансеолы[11]; омары, приготовленные на пару; запеченный окунь с восточными специями; тюрбо в расплавленном с петрушкой масле; пюре из вяленой трески, отваренной в молоке; каракатицы, поджаренные в собственных чернилах; ризотто из лангустов и кальмаров и ризотто из белых грибов; тонко нарезанное прошутто Сан-Даниэле; запеченные гусь и кролик с мостардой[12] и подливкой из сухого красного вина. Просекко, Соаве и Каберне лились каскадами.
Русские офицеры были одеты в атласные мундиры, на которых эполеты и звездообразные ордена сияли ярче самых драгоценных камней, украшающих зальные канделябры и жирандоли. С потолка громадные хрустальные люстры спускались к столу, как якоря на пир морских богов в глубине океана. Гул стоял такой, что все голуби от страха слетели с наружных подоконников и переместились на противоположную сторону площади, на балюстрады Новых Прокураций.
Днем к цесаревичу присоединились его самые близкие товарищи: гофмейстер генерал-аншеф граф Николай Иванович Салтыков с супругой и граф Александр Борисович Куракин, агамист. Последний был ровесником престолонаследника и своим шальным поведением имел на него влияние, которое не всегда встречало одобрение у императрицы. Граф Салтыков, добропорядочный государственный муж, воевавший в Семилетней и в Русско-турецкой войнах, наоборот, вызывал у Екатерины глубокое почтение, за что ему было поручено присматривать за придворными, да и вообще за общим порядком путешествия.
Молодые русские дамы – жены высокопоставленных офицеров и незамужние фрейлины Марии Федоровны – были наряжены в разноцветные парчовые платья с узкими лифами и глубокими вырезами. Кожа их была настолько свежа и чиста, что они не нуждались в пудре – лишь тонкий слой розовой помады и румянец, вспыхивающий всякий раз, когда они ловили на себе взгляды венецианских мужчин, подчеркивали их нежные лица. Волосы их были зачесаны в букли, а у некоторых украшены кружевом или жемчугом, и шелковые ленты, завязанные бантом, ласкали их тонкие шеи.
Прокуратор Пезаро собрал Коллегию мудрецов. Расфранченные островитяне в коротких напудренных париках и в бархатных, отделанных бриллиантами жюстокорах внимательно прислушивались к рассказам гостей, стараясь представить русскую природу, ее стихии. Они пытались разгадать, каким чудом спустя всего восемьдесят лет после основания Санкт-Петербурга эта далекая, отсталая, никого не интересующая страна сумела высечь для себя такую уважаемую нишу среди ведущих мировых держав.
– С какой храбростью, с каким дерзновением ваш великий Суворов брал Козлуджи! – воодушевленно рассуждал синьор Бембо, мудрец обороны. – Это же был решающий удар по туркам. С того сражения они больше не поднимались! Да, давно военное искусство не имело такого стратега, давно Европа не ведала таких побед!
– Ваши добрые слова глубоко растрогали бы Александра Васильевича, если бы он сидел среди нас сейчас, – с поклоном ответил светлоглазый граф Салтыков. – К сожалению, наш генерал не смог приехать с нами. Он назначен военным губернатором Крыма.
– Англичане его сравнивают с Юлием Цезарем!
– Что Вы говорите! – Салтыков не мог этому поверить.
– Да-да. А маршал Ришелье считает, что нрав Суворова похлеще даже нрава самого «короля-Солнце». Это не я выдумал, господа. Это наш посол в Париже нам сообщил. Все дворы Европы ждут не дождутся, чтобы принять вашего генерала, – сказал мудрец Гримани.
– Вот это да! А он на самом деле такой скромный.
– Дни Османской империи сочтены! – изрек кто-то из венецианцев.
– Да никто не собирается их трогать, – улыбнулся Салтыков.
– Да ладно, граф.
– Нет, правда, друзья. Нам просто ноги хотелось помочить в теплом Черном море. Наше Балтийское-то такое холодное. Пятки мерзнут.
– Аха-ха-ха-ха! – венецианцы заливались смехом.
– Это правда, что у вас в России температура зимой падает до минус тридцати градусов? – спросила Лаура Пезаро.
– Нет, неправда, светлейшая синьора, – усмехнулся граф Куракин. – Температура у нас доходит до минус сорока градусов. А иногда и ниже.
– Аха-ха-ха-ха!
– Салюте!
– За будущие победы! – крикнул мудрец официальных церемоний, поднимая бокал.
– За светлое будущее Российской империи! – произнес Гримани.
После долгого молчания Салтыков вытер салфеткой губы и задумчиво сказал:
– А вы знаете, господа, что победа – это враг войны? Это сказал сам Суворов.
На мудреца Бембо, сидящего рядом с Салтыковым, эти слова как-то странно подействовали. Он тоже задумался, даже чуть нахмурился.
– Как это понять, Ваше Сиятельство? – спросил Бембо.
– Не знаю, что точно имел в виду полководец. Можно только предположить, что истинный солдат, воюющий всю жизнь за свое отечество, за свою историю, уже герой, уже победитель, независимо от победы или поражения на поле битвы. Вера в себя, в свой народ, это и есть самый великий триумф. Но часто, когда мы увлекаемся военными победами, мы это забываем.
– Браво! Браво! – захлопали венецианцы.
– Дорогие друзья! – привстал цесаревич с полным бокалом пенистого просекко. – Сколько же можно про войну? Ну сколько же можно?! Мы находимся в Светлейшей Венецианской Республике, в самой мирной, самой дружелюбной стране в мире. Уже больше шестидесяти лет королева Адриатики не держит меч в руках, избрав путь нейтралитета. Неужели мы будем весь вечер толковать о войне? Я предлагаю лучше выпить за ее мудрость, за ее выдержанность, за ее необыкновенный дипломатический дар! Вот где настоящий триумф! Салюте!
– Салюте!
– Королева без меча – это не королева, а служанка, – прошептал Бембо Салтыкову на ухо.
– А сейчас, дамы и господа, – громко объявил прокуратор Пезаро, почувствовав, что гости нуждаются в новом глотке веселья, – я бы хотел вас пригласить в соседний зал, где вас ждут музыка, танцы и очаровательная публика.
* * *
Когда отворили двери и русские вошли в импозантный бальный зал, их встретила оглушительная волна оваций. Тотчас заиграл оркестр, расположенный на ярусах, и со всех сторон раздались хлопки открывающихся бутылок шампанского. Но графа с графиней поразили не ослепительная декорация зала и не живая музыка, а то, что лица всех двухсот с лишним гостей были скрыты под масками.
– В Венеции сейчас карнавал! – отметила Лаура Пезаро. – Однако я вас предупреждаю, маски у нас носят не только во время карнавала. Они являются традиционной частью одежды.
Русским преподнесли на выбор разнообразные маски. Граф дю Нор выбрал разноцветную маску Арлекина, графиня взяла черную Моретту; Салтыков захотел изобразить Панталоне, а Куракин, предчувствуя, что вечер будет непростым, решил стать Доктором чумы, с длинным клювом.
– Ваше Сиятельство, – подошел Пезаро, – разрешите представить Вам нашего выдающегося драматурга Карло Гоцци.
Гоцци отвел в сторону свою маску на ручке и поклонился. Он был уже немолод, но его гладкое милое лицо излучало юношескую бодрость.
– О, Маэстро! – граф принял гордую позу. – Мы очень любим комедию дель арте.
– Какая честь, Ваше Сиятельство.
– Еще как! Импровизация – это наука, это изучение природы человеческой.
– Конечно!
– И я абсолютно с Вами согласен – новая драматургия пуста и неуклюжа по сравнению с комедией масок. Вы работаете с элементами бытия, вы извлекаете квинтэссенцию человека, а новая драматургия лишь показывает его наружность, его внешние условия.
Цесаревич любил философствовать с иностранцами.
– Очень Вам признателен, Ваше Сиятельство. Но, к сожалению, публику все больше и больше привлекают новые течения.
– Сегодня привлекают эти течения, завтра будут привлекать другие. А Ваши фьябы[13] останутся вечными. К ним будут возвращаться и возвращаться. Они мифологичны!
– Да! – Гоцци был в восторге. – Вы меня так понимаете, граф. Вы в трех предложениях изложили больше, чем мне удалось за двадцать лет споров и публикаций на эту тему.
– А это, Ваше Сиятельство, – Пезаро продолжал представлять гостей, – мадам Изабелла Теотоки-Марин, супруга капитана Марина.
Граф замер, и графиня это заметила. Перед ним стояла, сняв свою пушистую маску, живое воплощение средиземноморской красоты: смуглая, с длинными темными кудрявыми волосами и большими черными глазами, молодая дама. Она избегала глаз графини. Граф видел, но старался не присматриваться, как грудь ее вздымалось в декольте. Целуя ей руку, он услышал слабый лавандовый аромат ее духов, и у него мурашки пробежали по спине, когда он взглядом смерил ее пышные формы.
– Жена моя – коренная гречанка, – сказал капитан Марин. – Мы поженились, когда я служил на венецианском острове Корфу.
– Ну, конечно, Греция! Там же все началось! Вся Европа! – граф не мог свести глаз с коралловых губ Изабеллы, и в тоже время чувствовал, как графиня дергала его за локоть.
– Изабелла держит литературный салон, тут у нас, прямо в палаццо, – сказал ее муж. – Она много читает.
Усатый капитан Марин выглядел узколобым офицером, и все русские определили, что его русалочка скоро нырнет обратно в море.
– И кого Вы там читаете, мадам, в Ваших Салониках? – деликатно спросил граф, не зная, на какой части ее тела остановить глаза.
– Простите, где, Ваше Сиятельство? – сконфуженно спросила Изабелла.
– В… – граф понял, что сказал что-то не то и слегка опешил, увидев, как уставилась на него вся его свита, – в… я имею в виду, в Вашем Соломинке?
– Где?
– То есть… в Вашем салоне литературном! – граф выпрямил спину.
– Мы читаем Гете, и Ларошфуко, и Шекспира.
– И что Вы скажете по поводу юного Вертера?
– Какая трагическая судьба! Как же можно отвергать такого чистого, тонкого, пылкого юношу?! – ответила Изабелла, прикусывая нижнюю губу.
– Ваше Сиятельство, – Пезаро появился в поле зрения графа, таким образом, отвлекая его от Изабеллы. – С нетерпением хочу Вам представить восходящую звезду европейской скульптуры, нашего дорогого Антонио Канову.
Графу пришлось сосредоточиться на молодом человеке, искавшем его внимания.
– О, ваятель! Интересно, очень интересно!
– Не просто ваятель, а ведущий экспонент неоклассицизма. Одухотворитель мрамора! Образец чистоты! Кульминация идеализма!
– Очень интересно, очень интересно, – продолжал граф, одним глазом следя за ускользающей Изабеллой.
– Это правда, Ваше Сиятельство, что вашу столицу все называют Балтийской Венецией? – спросил утонченный темноглазый красавец. – Это так?
– Ну… что-то общее есть, несомненно. Однако я еще не понял, что именно.
– Я представляю серо-розовую гранитную набережную на фоне блекло-голубого летнего, не темнеющего ночью неба. Должно быть, дивное зрелище!
– У Вас отличное воображение, мой друг. Вот мы скоро собираемся строить дворец подле столицы, именно в вашем стиле. Я уже видел эскизы. Мне кажется, ваши изящные скульптуры очень бы подошли для интерьера этого дворца. Правда, дорогая? – граф обратился к супруге, которая охотно ему кивнула. – Вы бы не смогли исполнить пару заказов? С разрешения нашего почтеннейшего прокуратора, разумеется.
– Превосходная идея! – одновременно воскликнули Пезаро и Канова.
– Может быть, ваши работы на какие-нибудь древнегреческие мотивы могли бы… я имею в виду… – глаза графа блуждали по залу.
Все больше и больше гостей подходило знакомиться с графом и графиней дю Нор, признаваясь, что они знали Россию поверхностно, только по книгам. Графская свита тоже наслаждалась вниманием галантных венецианцев, и граф Куракин, опустошив бокал шампанского и закусив душистым трюфелем, уже приглашал известную писательницу, овдовевшую графиню Орсини ди Розенберг, станцевать коротенький менуэт. Пезаро чувствовал, что русские постепенно забывали, что они иностранцы в чужом городе и что та прозрачная стена, которая обычно препятствует сближению приезжих с местными, быстро распадалась. И это его очень радовало.
Вдруг перед графом дю Нор появилась высокая фигура в черном табарро, трикорно и в белой ларве[14], правой рукой опираясь на трость с серебристым набалдашником.
– Позвольте представиться, Ваше Императорское Высочество, – глубоким баритоном произнесла фигура на русском языке, грозно возвышаясь над графом, как кампанила Сан-Марко.
Граф окаменел от ужаса. Никто не должен был так обращаться к нему; никто не должен был знать, что он великий князь Всероссийский. Страшным было также и то, что этот неизвестный человек говорил по-русски, дерзко, вызывающе, не удосужившись даже снять свою маску, как до него это делали все остальные гости, знакомясь с графом. Ведь никто из венецианцев пока не говорил с ним по-русски. Граф молчал, и публика почувствовала что-то неладное. Пезаро заметался, не поняв, к счастью, как и все венецианцы, что к русскому гостью обратились, как обращаются к великому князю. Музыканты мгновенно прекратили играть. Воцарилась длинная, пронзительная тишина. Русские офицеры, опасаясь покушения на цесаревича, бросились его защищать. Но тут престолонаследник, набравшись смелости, раздвинул своих защитников, вышел из круга охраны и подошел к человеку в черном.
– Как Вас зовут, милостивый государь мой? – спросил он по-русски спокойным тоном.
Человек наконец снял свою бауту[15], и граф увидел тощее усталое лицо цвета золы с темными проникновенными глазами, орлиным носом, осунувшимися щеками и тонкими, высохшими губами. Мужчине было лет под шестьдесят, но, несмотря на свой поблекший вид, он еще обладал немалой силой. У него были крепкие ноги и массивная грудь, на который сиял орден Золотой шпоры. Придерживая одной рукой свой серый парик, он выставил правую ногу и низко поклонился, треуголкой коснувшись кончика блестящей туфли.
– Ваш покорнейший слуга, Джакомо Джироламо Казанова.
3
– Казанова? – граф задумался, рассматривая мальтийский крест на груди венецианца. – И откуда Вы так хорошо говорите по-русски?
– Хорошо? – Казанова зажмурился.
– Очень даже.
Казанова долго молчал, что-то прикидывая в уме, а потом сказал по-французски:
– Простите, Ваше Сиятельство. Это единственное предложение, которое я помню на русском языке.
На лице высокого венецианца засияла неотразимая улыбка, и напряжение замершей публики развеялось. Граф понял, что Казанова ловко придумал тот словесный трюк, зная, что никто из местных жителей не говорит по-русски. Пезаро, вздохнув с облегчением, подошел поближе к Казанове, чтобы услышать, о чем идет речь.
– Вы сказали, «помните»? – граф тоже перешел на французский. – Значит, Вы когда-то знали русский язык?
– О, нет. К сожалению, я так и не смог выучить ваш замечательный язык. Однако это предложение я помню отлично, потому что именно с ним я имел честь обратиться к Вам в Санкт-Петербурге ровно 17 лет назад.
– Что?! – граф изумился, как и все русские, снявшие свои маски и вытаращившие глаза. – Вы были в России?
Венецианцы тоже приблизились к Казанове из любопытства.
– Не только побывал, Ваше Сиятельство, но и имел честь общаться с выдающимися представителями вашего общества.
– Что Вы говорите?
– Да-да. Я прекрасно помню барона Лефорта – сына знаменитого адмирала, служившего при Петре Великом. Я помню министра Григория Николаевича Теплова, а также князя Николая Васильевича Репнина – полномочного посла в Польше.
– О!
– А еще я помню обер-шталмейстера Льва Нарышкина, отличного охотника. И как можно забыть великолепную княгиню Дашкову, наизусть знавшую все произведения Монтескье. И, надеюсь, Вы простите мою нескромность, я пользовался симпатией великого графа Алексея Григорьевича Орлова, которого встретил вновь в 1770 году, когда его флотилия стояла в Ливорно у Тосканского побережья.
– Неужели? – цесаревич прищурил глаза, рассматривая густые брови своего собеседника.
– И, конечно, Ваше Сиятельство, я никогда не забуду милейшего, умнейшего графа Никиту Ивановича Панина.
Цесаревич опять застыл в испуге, но по добродушно-лукавой улыбке Казановы понял, что тот продолжает тайно иронизировать над его статусом инкогнито. Никита Иванович Панин когда-то был наставником цесаревича и употреблял самые строгие меры для его воспитания, настолько строгие, что юный престолонаследник иногда боялся произнести слово без позволения своего воспитателя. Но никто в зале, кроме, пожалуй, Салтыкова, этого не знал, и графу понравилась та обаятельная смелость, с которой Казанова пытался завоевать сердца русских гостей.
– Очень интересно. И что Вы еще нам можете рассказать?
– Именно граф Панин представил меня великой самодержице.
– Да что вы!
– Это было осенью 65-го, незадолго до моего отъезда, в Дворцовом саду Царского села, под чудным безоблачным русским небом.
– И о чем Вы с ней, если не секрет, разговаривали под тем… безоблачным небом?
Русские внимательно смотрели на Казанову. Салтыков и Куракин изучали каждый его слог. Мария Федоровна и ее фрейлины не могли поверить, как искусно и храбро Казанова разговаривает с цесаревичем.
– Сначала августейшая императрица поддержала мое мнение по поводу статуй, стоявших в саду.
– А именно?
– Ну, Ваше Сиятельство, как Вам сказать, мне они показались какими-то громоздкими, грубыми, не соответствующими грациозной осанке самой скипетроносицы.
– Да, согласен. Это проблему мы уже решили, – цесаревич посмотрел на Антонио Канову. – А потом?
– А потом мы заговорили о разницах в наших календарях. Я старался понять, почему Россия все еще живет по старому стилю. И тут величайшая царица проявила свою бесподобную мудрость, сказав, что ей не было бы так легко провести календарную реформу, как это было папе Григорию в XVI веке, потому что православная церковь все еще очень привязана к своим древним обычаям. Ведь в те одиннадцать дней, которые ей пришлось бы вычеркнуть из календаря, русские чествуют множество святых. Все европейские государства, сказала она, имеют свои обычаи, от которых было бы очень больно отказаться, в том числе и Венеция. В Венеции, например, год до сих пор начинается, даже по григорианскому календарю, с 1 марта. Это же не мешает Венеции взаимодействовать с другими странами.
– Нет, конечно, – подтвердил граф.
– Более того, Ее Императорское Величество знала, что в Венеции день начинается после заката.
– Простите? – поднял брови граф Куракин.
– Certamente.
– А как же Вы тогда…
– Это и есть то уважение к древним традициям, на котором настаивала императрица. Таким образом, она меня убедила, что, пока общество живет определенными обычаями, ни в коем случае их нельзя искоренять, даже если они являются чуть старомодными.
– Виноват, не понял, – с недоумением признался Куракин. – Вы хотите сказать, что сейчас день? А днем будет ночь?
– Нет, сейчас ночь. Общий день начинается, когда начинается ночь. А сейчас ночь, и какая глубокая!
– Ничего не понимаю, – Куракин взглянул на длинный клюв своей маски. – То есть как… то есть, когда же вы тогда, позвольте спросить, спите тут в Венеции?
– О, в Венеции так весело, что у нас нет времени спать! – Казанова попросил бокал шампанского.
Зная непредсказуемый характер Казановы, Пезаро опять заволновался, что тот ляпнет что-нибудь неблагоразумное. Но когда он увидел, с каким глубоким интересом русские прислушиваются к рассказам Казановы, он приятно удивился, и волнения его исчезли. Глаза Марии Федоровны безустанно моргали, и ее пухленькие щечки покрылись краской. Граф дю Нор тоже попросил бокал шипучки, пока Салтыков тщательно объяснял что-то на ухо озадаченному Куракину, как учитель нерадивому ученику.
– А что Вы еще видели в России? – с любопытством спросила графиня дю Нор.
– Я помню, как в начале лета никто ночью свечей не зажигал, поскольку небо оставалось светлым, и, чтобы понять, наступила ли ночь, из Петропавловской крепости раздавался пушечный выстрел.
– Изумительно! – крикнул Канова, высовываясь из толпы.
– Я помню, – продолжал Казанова, – как однажды зимой, и какой зимой, мои изнеженные венецианские ушки аж окостенели, один поп крестил младенца в ледяной Неве. Во льду прорубили дыру, и поп, держа младенца, как Ахилла, за пятку, макал его в реку.
– Ах! – вскрикнул кто-то из венецианцев.
– Да, детей у нас рано закаляют, – сказал Салтыков.
– А потом я помню Москву. Aх… красавица Москва! Сколько церквей! Сколько колоколов! И все неподвижны. То есть, когда они звонят, они не качаются, как у нас, – глаза Казановы зажглись от воспоминаний. – О, Москва! Вот это настоящая Русь! Сколько щедрости, сколько набожности, сколько глубины человеческой! И сколько соперничества, Ваше Сиятельство, между москвичами и петербуржцами.
– Да, да, к сожалению, это есть, – вздохнул граф дю Нор.
– Ничего, ничего. От диалектики страна только богаче становится.
– Тоже верно.
– А какие чудесные ваши православные службы! Я целыми днями стоял в московских церквях. В буквальном смысле.
– Ха-ха-ха! – засмеялись русские.
– Нет, так и надо. Так и надо. Перед Богом надо чуть поднатужиться. Мы, католики, уж слишком удобно располагаемся на наших скамьях. Уж слишком снисходителен наш Папа Римский.
– А Вы не можете объяснить, Ваше Благородие, – педантично спросила жена Салтыкова, поняв по чрезмерной услужливости Казановы, что титул его был ниже графского, – почему католики крестятся слева направо?
Венецианцы и русские посмотрели друг на друга с живым интересом.
– Это очень просто, сударыня, – Казанова повертел своей тростью, довольный титулованием, с которым к нему обратилась русская графиня. – Дело тут лингвистическое. Как все знают, православная литургия – это греческая литургия. Вы креститесь, произнося греческие слова «агион пневма», а мы латинские «спиритус санктус». У вас сначала ставится прилагательное «святой», а потом существительное «дух». А у нас наоборот: сначала существительное, а потом прилагательное. Следовательно, и порядок крестного знамения вы начинаете с правого плеча и переходите на левое, а мы с левого на правое, то есть, вы идете с востока на запад, а мы с запада на восток.
– Браво! – захлопала графиня дю Нор.
– А почему именно левое плечо, – занудно упорствовала жена Салтыкова, – отождествляется с духом, а правое – с его атрибутом?
– Отличный вопрос! – Казанова взмахнул плащом. – Однако не смею разглашать такие глубокие теологические тайны. Лучше спросить батюшку Феодосия, настоятеля Греческой православной церкви Святого Георгия, тут у нас, в сестьере Кастелло.
– Православная церковь? – заинтересовался граф дю Нор. – У вас есть православная церковь?
– Да. Основана в XVI веке греками, чьи предки бежали из Константинополя после его захвата турками. Если Ваше Сиятельство изволит, завтра можно подгондолить к утрене.
– Отменная идея, синьор Казанова! И если нам позволит наш почтеннейший прокуратор, то я хотел бы попросить Вас возглавить нашу экскурсию.
Цесаревич не только начал питать симпатию к этому красноречивому и эксцентричному венецианцу, он также понимал, что такую лисицу, как Казанова, лучше держать поближе к себе, чем подальше. А то черт знает какой номер он, обидевшись, может выкинуть.
– Конечно, – со скрытой неуверенностью ответил Пезаро, с укоризной поглядывая на Казанову, который, прекрасно уразумев характер этого взгляда, ответил Пезаро саркастической улыбкой.
– Ничего не понимаю, – прошептал Куракин Салтыкову, слегка пошатываясь и клювом маски почесывая свой затылок.
– Я приму Ваше предложение, Ваше Сиятельство, но только при одном условии, – твердо и торжественно сказал Казанова.
– Условие? – насторожился цесаревич. – Какое же это условие?
– Я приму Ваше предложение, только если Вы представите меня этим трем восхитительным грациям, скрывающимся за спиной вашей супруги.
Венецианцы сделали шаг вперед, поближе к русским. Антонио Канова искал самый выгодный ракурс, чтобы лучше понять, о каких именно грациях говорил Казанова, поскольку в графской свите пребывало пять-шесть дам. У схватившегося за голову Мудреца Гримани глаза полезли на лоб.
– А… эти грации, – граф дю Нор неохотно повернулся к трем девушкам, мягко, но самоуверенно улыбавшимся позади графини.
Островитяне зашептались, и скоро выяснилось, что грации, о которых говорил Казанова, были те три дамы в черных соболях, гордо сошедшие с причалившего судна минувшим утром. Венецианские мужчины тут же поправили свои парики, а женщины вытащили лорнеты. Даже музыканты спустились с ярусов и прошаркали в сторону русских. Зал горел нетерпением услышать голоса этих трех молодых красавиц.
– Перед тем как я Вас им представлю, синьор Казанова, разрешите сначала представить вам гофмейстерину графиню Анну Юлиану Бенкендорф, супругу графа Христофора Ивановича. Мадам Бенкендорф заведует фрейлинским штатом.
– Аншанте, мадам, – Казанова осторожно поцеловал ей руку, стараясь не всматриваться в ее суровое, неулыбчивое лицо.
– А тут, да, хм-м… – промямлил цесаревич, важно поглядывая на трех красавиц. – Эти три грации – выпускницы Смольного института благородных девиц, основанного самой императрицей сразу после вступления на престол. Начиная слева, – он подвел к ним Казанову, – мадемуазель Екатерина Ивановна Нелидова, дочь поручика графа Ивана Дмитриевича Нелидова.
– Аншанте, мадемуазель, – Казанова поцеловал ей руку, наблюдая, как она переводила взгляд то на него, то на цесаревича.
– А это мадам Наталья Семеновна Борщова, супруга статского советника графа Клавдия Семеновича Мусина-Пушкина.
– Аншанте, мадам, – Казанова губами коснулся руки второй дамы, чей непроницаемый взор устремился ввысь.
– Наши выпускницы окончили институт с отличием, синьор Казанова, с золотой медалью первой величины.
– Я не сомневаюсь, Ваше Сиятельство. Вся Европа знает об этом первоклассном учебном заведении.
– В него поступают девушки не старше шестилетнего возраста и остаются там как минимум двенадцать лет. И родители не имеют права ни под каким предлогом забирать своих дочерей из института до истечения срока.
– Какая строгость, Ваше Сиятельство!
– Но в институте учатся не только дворянские девушки. Через год после его основания императрица решила открыть отделение и для девиц из мещанских семей. Потому что знания, считает императрица, должны распространяться по всем сословиям общества.
– Я с вами абсолютно согласен, Ваше Сиятельство. По всем сословиям! – Казанова повернулся и томно улыбнулся всем присутствующим венецианкам.
– Дать всем своим гражданам образование – это долг государя!
– Конечно!
– Вот так, мой дорогой синьор Казанова.
– Да.
– Вот так…
– И…
– Что?
Казанова заметил, что граф тянул представление третьей девушки, уж слишком увлекшись описанием института.
– А…
– Простите?
– То есть…
– Не понял.
– Ну, а как же…
– Ах! Да-да-да. Наша третья выпускница. Это мадемуазель Александра Алексеевна Снежинская, дочь великого петербуржского ученого, барона Алексея Николаевича Снежинского.
– Аншанте, мадемуазель, – Казанова взял руку Александры, но долго не прикасался к ней губами, рассматривая ее смышленые лазоревые глаза.
Ее блондинистые локоны падали почти до плеч, окаймляя высокие скулы. Носик – тонкий, пикантный, изваянный до совершенства – порождал ощущение невинного детского ликования, а полные розовые губы говорили о чувственной щедрости ее натуры. Вдыхая нежную свежесть ее расцветающей плоти и изучая ее горящий, пытливый взгляд, Казанова почувствовал смутную волну ностальгии, бьющуюся в груди, уносящую его в далекое море своей молодости. Потеряв ощущение почвы под ногами, он застыл, и на секунду ему стало стыдно и страшно: стыдно, потому что он глупо изображал из себя того человека, которым уже давно не являлся; страшно, потому что он наконец почувствовал, как никогда раньше, свои иссыхающие, черствеющие годы, стремящиеся все быстрее и быстрее в безотрадную, глухую тьму.
– Месье? – деликатно сказала Александра, не понимая, почему Казанова все еще держал, не поцеловав, ее руку.
– Мадемуазель, – Казанова наконец отпустил руку и повернулся к графу дю Нор.
Все в зале видели, что Казанова не коснулся губами руки третьей грации, а только сделал жест поцелуя. Венецианки зашушукались. Графская свита зашуршала в недоумении. Нелидова и Борщева засуетились вокруг Александры, поняв, что она произвела на Казанову особое впечатление.
– А почему стало так тихо, уважаемый прокуратор? – громко и триумфально обратился к Пезаро граф дю Нор. – Где же музыка?
Пезаро тут же рукой дал команду музыкантам. Те быстро вернулись на свои места и заиграли менуэт. Мелодия полилась бойко и звучно. Публика рассеялась. Снова захлопали пробки шампанского. Бокалы запенились. Все вновь надели свои маски и образовали танцевальный круг в середине зала. Обрадовавшись, что все обошлось без шероховатостей, Пезаро повел графа и графиню дю Нор к этому открывающемуся для них кругу.
– Wollen wir ein wenig tanzen, meine Liebste?[16] – спросил граф супругу.
Белая ларва исчезла в толпе.
4
Церковь Сан-Джорджо деи Гречи находилась в сестьере Кастелло, считающимся самым древним районом города. В начале Чинквеченто папа Лев Х, стараясь объединить западное и восточное христианство, разрешил грекам, бежавшими из покоренной турками Византии в Венецию, сохранить православный обряд и построить себе там храм. Возвели они его недалеко от церкви Сан-Заккария, хранящей мощи святого Захария, отца Иоанна Крестителя.
День оказался сырым и серым. Тучи висели низко, и стоячий воздух погружал город в вялый сон. Темная роза узкого фасада деи Гречи смотрела на изящную белую колокольню, которая слегка наклонялась к каналу. Русские гости, как и все прихожане, посещающие святилище в первый раз, побаивались стоять возле нее, ибо им казалось, что тяготеющее к воде строение могло в любой момент рухнуть вниз.
– Поправьте меня, если я ошибаюсь, Ваше Сиятельство, но, по-моему, Византия очень повлияла на историю России? – спросил прокуратор Пезаро, когда все вышли из церкви, ласково распростившись с брюшковатым кудрявым настоятелем, батюшкой Феодосием.
– О, еще как, Ваше Высочество! Византия – это наш фундамент!
– Как и для Венеции.
– Правда?
– Да. Ведь в первое время своего существования, а именно в VI веке, когда византийский император Юстиниан отвоевал большую часть италийского полуострова у остготов, то, что мы сегодня зовем Венецией, вошло в общую территорию Византийской империи. Даже спустя двести лет, после того как венецианцы основали свое автономное государство, эта маленькая, новорожденная нация оставалась предана великой империи и долго от нее зависела.
– Но ведь вы же разгромили и разорили наш православный Константинополь во время Четвертого крестового похода! – рявкнула графиня Салтыкова с такой неудержанной желчью, что аж сама покраснела от неожиданного порыва эмоций.
– Дорогая, ну что ты так, – супруг неуклюже обнял ее, стесняясь перед венецианцами. – Простите ее, господа. Ради бога. Голубка моя очень плохо переносит эту погоду.
– О, просить прощения вовсе не нужно, граф Салтыков, – в разговор вступил Казанова, тростью отгоняя назойливых голубей. – Уж слишком много недоразумений существует вокруг этого эпизода. В первую очередь я хочу всем напомнить, что до великой схизмы 1054 года христианство было единым, несмотря на греческие обряды на Востоке и латинские на Западе. Конфликт касался лишь верхов римского и константинопольского духовенства, а не простых верующих.
– Венеция, кстати, всегда проводила четкую границу между сферой религиозной и сферой политической, – добавил Пезаро.
– А во-вторых, – Казанова выпрямил хвостик своего парика, ведя делегацию по узкой Салита Гречи, – Четвертый крестовый поход, возглавляемый дожем Энрико Дандоло в 1204 году, вовсе не имел цель разрушить Константинополь. Первоначальная цель крестоносцев была освободить Иерусалим от мусульман. Эта трагедия произошла случайно, она была последствием внутреннего переворота. Латинцев попросили вернуть низложенного императора на престол, обещая, разумеется, приличное вознаграждение. К несчастью, после того как латинцы выполнили свои обязательства, византийцы не сдержали свое обещание и не дали латинцам то, что им полагалось. Только тогда те начали брать, не спрашивая.
– Интересно. Очень интересно, – сказал цесаревич, не ожидая от Казановы такой эрудиции.
Пезаро тоже посмотрел на своего соотечественника с удивлением.
– Но дело никогда не шло о религии.
– Я не сомневаюсь, – сказал граф Куракин. – Венеция считается самой толерантной державой в мире.
– Венеция старается развивать отношения с представителями всех конфессий, – отметил Пезаро, опережая Казанову. – Мы убеждены, что Бог после сотворения мира решил его оставить свободным, не вмешиваясь в течение земных событий.
– Деизм! – обрадовался цесаревич, заметив с моста, как постепенно начинали концентрироваться водяные пары. – У нас Ломоносов был деистом. О, феноменальная натура! Равных ему нет. Как же его потом Синод достал за это вольнодумство.
– Да, но, к счастью, ваши монархи, – сказал Пезаро, – по крайней мере нынешняя императрица, являются просвещенными монархами и знают, где должно кончаться влияния церкви.
– Несомненно, просвещенная монархия – это наилучший политический строй. Я не люблю никакую гомогенизацию, предпочитая, чтобы сливки поднимались ввысь! – по-ребячьи улыбнулся Казанова, наблюдая реакцию дам. – Но, к сожалению, не все монархи будут просвещенными.
– Почему?
– Потому что человек не слушает то, что говорит ему его разум. Он поступает так, как диктует ему совокупность его эмоций – его душа. А в этой области, разумеется, мы все очень разные.
– Не знаю, синьор Казанова, не знаю, – цесаревич спустился с моста, но одну ногу оставил на нижней ступени. – По-моему, разум учит человека быть порядочным, внимательным, он побуждает его к гражданской ответственности.
– О, если было бы так, Ваше Сиятельство. Если было бы так…
– Так и есть.
– Вы сейчас сказали, «учит человека быть порядочным».
– А разве нет?
– Это тот же самый разговор, который я когда-то вел с месье Вольтером.
– Что?! – восторженно вскрикнули русские.
– Это тот же самый разговор, – повторил Казанова, насторожившись, – который я когда-то вел с месье Вольтером.
– Что?! – воскликнули гости еще громче.
Казанова попятился назад, испугавшись и не поняв, почему вся русская делегация вдруг хлынула на него и прижала к парапету так, что он едва не перевернулся и не упал в канал.
– Я не понял… простите… я что-то не то сказал?
Русские, особенно дамы, пожирали его выпученными глазами. Даже Пезаро испугался этого внезапного возбуждения.
– Вы… Вы… Вы знали Вольтера? – спросил маленький цесаревич, проталкиваясь вперед из свиты. – Франсуа Мари Аруэ?
– Да.
– Это же… это же… просто невероятно! – томно вздохнула к небу мадемуазель Нелидова.
– О, Кандид, мое очарование! – млела мадам Борщова.
– То есть… то есть вы его видели? – растерялся Куракин. – Воочию?
– Да, граф, – Казанова перевел дух.
– Не может быть. Просто не может быть, – качала головой графиня дю Нор.
– Клянусь вам, господа.
– Ну-ну, расскажите тогда, – цесаревич чуть не подпрыгнул, не зная, куда девать свои руки. – Где же это было? В Париже? В Лондоне? Или, может быть, месье Вольтер побывал в Венеции? Поделитесь. Avanti![17]
– Нет, это было в Швейцарии, в его имении под названием Отрадное. Мы толковали о разуме, о суеверии, обо всем противоречивом в человеческой натуре.
– Вы не представляете, синьор Казанова, что значит Вольтер для России, – призналась мадам Борщова. – Наша императрица с ним вела переписку до самой его смерти. Она только что купила его библиотеку. Семь тысяч книг нам доставили в Петербург. Семь тысяч!
– И… и… что же он сказал вам? – Нелидова чуть не обняла Казанову от восхищения.
– Ну, в двух словах, месье Вольтер считал, что, если человек освободится от всех своих предрассудков и предубеждений, если он увидит логическую связь между мировыми явлениями, он сможет построить счастливое и справедливое общество.
– Это же весьма положительно, – сказал цесаревич. – Сколько ошибок совершает человек именно потому, что он что-то до конца не знает или не понимает.
– Несомненно, Ваше Сиятельство. Знания, безусловно, помогают человеку лучше организовать свою среду, улучшить свой быт. Но помогают ли они ему улучшить самого себя? Вот тут я не уверен.
– А почему же и нет? – спросил Салтыков.
– До какой степени влияют знания на нашу натуру? Могут ли знания поменять ту совокупность наших эмоций? А нравственность? Я думаю, что знания человека не способны воздействовать на его нравственный склад. Ведь сколько примеров мы видим в истории, когда люди и общества самых, казалось бы, поразительных нравственных убеждений, совершали в прямом или косвенном смысле преступления против человека, против его свободы, достоинства и жизни. Почему? Потому что мораль, постигнутая разумом, в тот момент не смогла удержать порыв страстей, не смогла остановить экстремальную необходимость удовлетворить человеческое желание.
Цесаревич видел, как туман все гуще и гуще скапливается вокруг моста.
– И что сказал Вольтер? Что сказал Вольтер? – Нелидова кипела от нетерпения.
Но Казанова взглянул не на нее, а на Александру, чье лицо розовело от холодного воздуха.
– Вольтер, несмотря на свои несравненные философские проникновения и на благородное стремление защитить права людей, как-то не понимал, что наш характер и наши убеждения основываются не на знаниях, приобретенных чтением, учениями и рациональным мышлением, а на нашем самоощущении, сформированном частично нашим врожденным умственным складом, частично – жизненными обстоятельствами.
– То есть вы с ним спорили? – взволновалась графиня Салтыкова, надеясь отыскать какую-нибудь интригу в рассказах Казановы.
– Еще как, сударыня! Мы всю деревню разбудили!
– Ах! – русские женщины руками прикрыли свои рты.
– Я ему хотел доказать, что рациональная сторона нашего сознания бессильна против иррациональной. Сколько образования не предоставляй уму, человек все равно будет действовать по своим внутренним убеждениям. Скажи верующему, что Бога нет, что Он лишь плод нашей отчаянной фантазии, тот все равно будет веровать в Бога, потому что ему надо веровать. А скажи атеисту, что, даже если разумом мы не можем понять Бога, это не значит, что Его нет, тот все равно будет отрицать существование Бога. Ведь убеждение атеиста состоит в том, что то, что нельзя понять умом, не может существовать. Но это же тоже вера: атеист тоже не в силах доказать, что то, что умом не понять, не существует.
– И кто победил в вашем споре? – тряслась Нелидова.
– О, мадемуазель, джентльмены не спорят, чтобы побеждать. Сам Вольтер говорил: «Может быть, я не согласен с вашим мнением, но я буду бороться до гробовой доски, чтобы вы имели право его высказать».
– Он также сказал, что если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать, – печально отметил граф Салтыков. – И это, господа, очень пугает.
Компания спустилась с моста и сквозь сгущающийся туман направилась в сторону Арсенала. Цесаревич заметил, как спокойно и непринужденно прокуратор Пезаро, занимающий второй по важности чин в Светлейшей Республике, шел по простонародному кварталу. Его сопровождало всего два охранника, и то они шли где-то в задней части процессии, не очень волнуясь о его безопасности. Деловитые резвые горожане останавливались и кланялись Пезаро, который отвечал простыми жестами признательности и благожелательности. Русские поражались этой межсословной близости. Как так можно, думали они, что такой высокопоставленный представитель государства так неформально ведет себя с народом?
После нескольких шагов цесаревич очутился в плотном тумане, не видя ничего, кроме белого густого пара.
– А куда, собственно говоря, – спросил он, – мы направляемся, Ваше Высочество?
– К Арсеналу, Ваше Сиятельство, – непонятно откуда раздался голос прокуратора. – Мы хотим Вам показать, где строится наш флот.
– Где я? – крикнул кто-то.
– Я ничего не вижу! – добавил другой голос.
– Не волнуйтесь, дамы и господа, – Пезаро утешал гостей. – Туман сейчас рассеется.
– Я боюсь! Где все?
– Пожалуйста, не бойтесь, мадам.
– Ого!
– Incroyable!
– Venezia, ti amo![18]
– Мне страшно!
– Все будет хорошо.
– Боже, какая красота!
– Как во сне!
– Ничего не видно. Ничего!
– Ой!
– Пашонок, wo bist Du?[19]
– Цыц!
– Ваше Сиятельство, это Вы?
– Это Куракин.
– Ужас! Как отсюда выйти?
– Да зачем выходить?
– А Арсенал еще далеко?
– Ну, как Вам сказать…
– Я хочу в гостиницу.
– Сейчас, моя милая, сейчас. Не бойся.
– Вот это да…
Казанова случайно стукнулся головой, входя в низкую арку и сразу понял, где он находится: в соттопортего деи Прети. В конце длинного, удушливого пространства стало светлее. Наклонив голову, он пошел туда, зная, что выйдя из этого соттопортего и завернув направо, окажется на кампо Брагора. Он вышел и сквозь редеющий пар увидел лицо. Женское лицо. Лицо Александры. Она была одна. Его охватило замешательство. Он оцепенел. Она поняла, что он опять комплексует, и он понял, что она это видит. Она улыбнулась.
– А как вы тут оказались, мадемуазель?
– Не знаю.
– Не беспокойтесь. Туман сейчас пройдет.
Он сделал шаг вперед, не зная, какое расстояние лучше установить между ними.
– Я не беспокоюсь, месье.
На лице у нее мелькнул след блаженства. Казанова подошел поближе, стараясь не опираться на трость, чтобы не показаться слишком старым.
– Мне нравится эта погода, месье.
– Правда?
– Очень даже.
Она любовалась его смущенными глазами, пока где-то, далеко, не понятно откуда, продолжали звучать возгласы затерявшейся свиты.
– Даже вся эта сырость и влага?
Казанова не помнил, когда в последний раз он так близко стоял перед молодой красавицей – ей было всего двадцать два, максимум двадцать три года.
– Мне хорошо в вашем городе, – она крепко прижала муфту к шубе.
Клубки серого пара проплывали между ними, окутывая их лица. Сверху захлопнулись ставни и беззвучно пролетела чайка, сложив свои мощные крылья. Ощущение таинственного уединения нарастало в них обоих. У Казановы стал заплетаться язык и сильно забилось сердце. Он старался не всматриваться в ее глаза. Но не мог. Несмотря на холод и туман, в них он видел голубое солнечное небо.
– Как бы я хотела заблудиться здесь. И никогда больше не выйти. Я никогда так легко, так свободно не чувствовала себя, как сейчас.
– Да, как ни парадоксально, в тумане все становится ясно.
– Ясно?
– Ну… как сказать… все как-то сгущается, пространство между предметами заполняется. Вещи сливаются.
– Туман как соединяющая сила? – она сказала тихо, скорее про себя, чем вслух.
– Именно так, – Казанова тростью рисовал в тумане контуры каких-то непонятных фигур.
– Все есть вода, как некогда сказал Фалес? – промолвила она.
– Пожалуй, да.
«Неплохо барышня знает древнегреческих философов», – подумал он.
– Особенно в Венеции. Сверху – водяной газ, снизу – жидкость.
– А иногда бухта замерзает, и по ледяной тверди можно от Дворца дожей дойти до церкви Сан-Джорджо Маджоре, или даже до Джудеки.
Казанова приближался все ближе и ближе, тростью пронзая клубы вязкого пара, любуясь голубизной ее глаз.
– Нет ничего подобного на свете, месье. Ваш город исключителен…
Казанова мог бы то же самое сказать про Александру, и, может, лет десять назад сказал бы. Но сейчас эти слова были бы шаблонными. И чем больше он думал, какой комплимент сделать этой девушке, чтобы расположить ее к себе, все возможные фразы ему казались банальными и бессмысленными.
– Все столицы прелестны по-своему, – продолжала Александра, – у всех есть памятники и архитектурные шедевры. Но ваша – она не только столица, не только город. Она и есть памятник, памятник самой себе.
– Мадемуазель, если бы Вы знали, как я хочу… как я хочу увековечить этот миг.
Она посмотрела на него.
– А Вы правда знали месье Вольтера? – спросила Александра, взирая на Казанову, как первые христиане взирали на апостола Петра.
– Ну… да.
Однако в данный момент Вольтер ему был до фонаря, и ему было странно чувствовать себя объектом такого глубокого почтения.
– Я прочла все его произведения.
– Чьи?
– Вольтера!
– А, да-да, конечно.
– Он самый важный мыслитель нашего века.
– Несомненно.
Александре было уютно с этим немолодым чудаковатым человеком. Его осунувшееся лицо и рафинированные манеры говорили ей, что он много повидал на своем веку. Ей даже казалось, что она уже знает его много-много лет, что он ей близок в каком-то родственном смысле этого слова. Его темные южные глаза не переставали изучать ее лицо, обласканное туманной вуалью. И ей нравилось, как он ее изучает – как углубленный в свои мысли ученый, только что открывший новое восхитительное природное явление, явление, по красоте превосходящее все на свете.
– Однако Вы с ним не согласны, месье Казанова?
– Не знаю. Я считаю, что есть определенные черты человеческой природы, которые нельзя изменить. Как бы сильно мы ни старались. Но общественные порядки… да, общественные порядки можно изменить, и нужно, если необходимо. Я так думаю.
– Но как можно это сделать, если тем, кто хочет изменить эти порядки, запрещают выражать свое мнение? – сказала Александра грустным умоляющим голосом.
– Это верно, – Казанова заметил, как свет в ее глазах исчез.
– Если растаптывают их идею справедливости? Если при малейшем несогласии с властью их лишают чести, пугают и заставляют молчать? Как им идти дальше?
– Да, тогда становится тяжело.
– Становится невыносимо, – сказала она категорически.
– Вольтер шел.
– Есть люди, которых запугивали сильнее, чем запугали его, и которые не имеют привилегий, которые имел он.
Ее лицо окаменело.
– Это тоже верно, – Казанова вздохнул, зная, что она права.
– Как же можно идти дальше тогда? Как? – она опустила голову в раздумье.
– Зависит от человека.
– Вы бы продолжали выражать свое мнение? – она взглянула на него, как будто надеясь, что он скажет «да».
– Когда я был молод – да. Сейчас – не знаю.
– Почему?
– Мы сильнее, когда мы молоды.
– Физически – да. Но нравственная сила не зависит от возраста.
– Когда мы молоды нам кажется, что ничего не сможет сломить нашу волю, что никто не сможет отнять нашу личную свободу.
– Сломать человека ничего не стоит, – промолвила она безнадежно. – Ничего не стоит.
Видя, как она уставилась на какой-то предмет за его спиной, он предположил, что она говорит о ком-то конкретно.
– Пожалуй.
– Государство может…
– Мадемуазель Снежинская! – громко прозвучал суровый гортанный женский голос.
Казанова и Александра повернулись и увидели рядом квадратную сухокожую женщину средних лет со сжатыми губами. Это была гофмейстерина фон Бенкендорф.
– Гофмейстерина, я… я…
– Не отставайте от свиты, мадмуазель Снежинская. Мы же Вас ждем!
– Простите пожалуйста, мадам Гофмейстерина, – робко ответила Александра. – Я просто… тут… иду, иду.
Дамы поспешили в сторону кампо, оставляя Казанову тростью нащупывать себе опору.
5
Вечером театр Сан-Бенедетто наполнился роскошной, страстно флиртующей публикой в масках. Уже был месяц как карнавал окутал лагуну своей таинственной аурой, и, казалось, что для венецианцев это праздничное состояние было более естественным, чем нормальная, повседневная жизнь, которую они вели в остальные девять месяцев года. Вот-вот должна была начаться опера «Орфей»: оркестр настраивал инструменты и за кулисами чувствовалось волнение певцов.
Граф и графиня дю Нор со свитой сидели в главной ложе дожа, зачарованные живостью и пластикой собравшихся венецианцев. Позади них сидели прокуратор Пезаро с сестрой, без масок – как и все русские, а глубже, у самого края ложи, скованно ерзал синьор Казанова.
Казанова жалел, что цесаревич его пригласил в свою ложу. Ему было неудобно – он чувствовал себя старым и лишним среди этой красивой молодежи. Даже прокуратор Пезаро был моложе его – на пятнадцать лет. Лишь одного гофмейстера Салтыкова можно было причислить к этой степенной возрастной категории мужчин, в которую входил Казанова. Однако гофмейстер еще был совершенно в соку. Он был на высоте своей карьеры, хозяином своей судьбы. А Казанова? Непонятно что в лучшем случае. Зачем даже сравнивать?
Когда раздались первые трубные ноты, Казанова вжал голову в плечи. Он угрызался совестью из-за того, что тогда, на балу, начал фасонить перед цесаревичем, что ему навязался. Сколько раз он говорил себе, что ему больше нельзя так высоко метить, что он должен держаться скромнее, незаметнее. Его положение требовало сдержанности, он это знал. Он знал, что никому больше не нужны его выкрутасы, его светские фокусы. Таким поведением он только рисковал пасть еще ниже. Он был уже не тем человеком, которым был когда-то. Его вулкан потух. Уже пять лет на него никто не обращал внимание. Он превратился в серого, посредственного службиста, в тупое звено политического истеблишмента, того самого, которому, как ни парадоксально, он в юности противостоял своим распутным, скандальным поведением. Но сейчас надо было выживать, ему нужен был доход. Поэтому он слился с этой заурядной канцелярской пылью. Он ко всему привык и со всем смирился, лишь бы жить спокойно в своей любимой Венеции, лишь бы больше не возникали неприятности. Или нет? Или все это был самообман, и он никогда, ни на миг не привыкал к своему нынешнему положению? Быть может, в нем вовсе и не потух тот вулкан, и лава в любой момент могла извергнуться?
– Tranquillo, Giacomo, tranquillo[20], – говорил себе Казанова.
Услышав сладостную женскую арию, его глаза разыскали среди русской свиты то завораживающее лицо, которым, он знал, он не должен любоваться. Но он не мог не любоваться. Сжимаясь, сгибаясь в кресле, он никак не мог оторвать глаз от этой девушки. Остальные две «грации» его ничем не привлекали – ни внешностью, ни манерами. А Александра его пленила. Невинно, но непреодолимо. Ее тонкая шея, извилистые локоны и идеальный профиль – все было как из сказки, как у феи, являвшейся ему в его детских снах. С каждым крещендо музыки он чувствовал собственное сердцебиение. Ему стало душно, колени ослабли. Все поплыло перед глазами. «Ну почему это происходит? – думал он. – Почему сейчас, когда все уже пройдено, пережито, закопано в прошлом. Хватит!» Он должен был отвлечься, он должен был вычеркнуть лицо Александры из своего сознания. Но как это сделать? Он же не мог просто встать и выйти из ложи в кулуары? Это было бы неприлично. Смотреть в другую сторону? Невозможно – тяготение было слишком сильное. Что оставалось? Оставалось вообразить другой объект, другое лицо, другую женщину. Но кого? Свою Кеккину? Смешно, бесполезно. Лицо Кеккины было абсолютно заурядно перед лицом Александры. Лицо матери? Тоже сложно. Мать ушла из жизни несколько лет назад. Так кого же? Надо было вспомнить самую прекрасную, самую потрясающую женщину, которая глубже всех проникла в его душу и возвела его до апогея блаженства. Ну кто? Он вспоминал: Лукреция в Риме? Нет, слишком самоотверженна, без плотского начала. Эсмеральда в Барселоне? No, solamente fuego y nada mas[21]. Шарпиньон в Лондоне? Slut![22] На ком тогда можно было зафиксировать мысль? Федерика? Нет. Константина? Доминик? Генриетта? Да! Генриетта! Конечно же, Генриетта! Ma joie! Ma vie![23] Самая-самая непревзойденная! Где же ты сейчас, где? Кому ты даришь свои поцелуи зефирные? Кому ты сейчас открываешь свою грудь веснушчатую? Боже мой! Да, смотри на меня. Да, вот так. Дай мне представить тебя, дай мне нырнуть в море воспоминаний. Ты помнишь лес возле Пармы? Ты помнишь, как мы бежали? Как ты меня использовала? В хорошем смысле этого слова, конечно. Было бабье лето. Повсюду кружились сухие желто-оранжевые листья. Лес молчал. Сквозь деревья вливались лучи света. Свежий осенний воздух наполнял наше дыхание. Ты распустила свои волосы, и мы легли на прохладную землю. Помнишь? Тело твое было теплым, и ты крепко прижала меня к себе и сказала, чтобы я поскорее тебя забыл. А у меня внутри все кровью обливалось, и слезы мои падали на твою горячую, дрожащую грудь. Я ничего тогда не понимал в жизни, ничего тогда не знал. Я только чувствовал, как вздымалась твоя грудь, как твои зеленые глаза меня уносили непонятно куда. Потом стемнело. В лесу было страшно. А мы продолжали там лежать: ты – подо мной, я – в тебе. И ты шептала, схватив мои руки: «Не вставай, не вставай. Только забудь, забудь». А я тебе верил, верил твоим изумрудным глазам. Все, что ты мне, дураку, говорила, было заветное. Каждое твое слово, каждый твой взгляд был для меня откровением. Каждое твое…
– Синьор Казанова, ну что Вы скажете?
– Каждое…
– Синьор Казанова? Вам понравились первые два акта?
Казанова понял, что к нему кто-то обращается. И это была не Генриетта. Это был маленький курносый человечек.
– Конечно, Ваше Сиятельство, – Казанова полностью вытряс из головы мысли о Генриетте и сосредоточился на лице цесаревича. – Превосходные голоса, млеющие интонации, особенно интонации кастрата, исполняющего роль Посланницы. Весьма оригинальная аранжировка также, а именно использование трех клавесинов вместо двух, как это указал Монтеверди в партитуре.
– Я абсолютно с вами согласен! Вы просто прочли мои мысли!
Все вышли из ложи и направились в фойе выпить шампанского. Казанова смешался с кутящими венецианскими вельможами, держась подальше от графской свиты, а также от прокуратора Пезаро, который, глядя на него, постоянно хмурился. Он понимал, чем Пезаро был недоволен: цесаревич уделял Казанове слишком много внимания. Пезаро руководил общим визитом цесаревича, но Казанове уже удалось завладеть его интересом и заинтриговать его своей личностью. Он даже стал каким-то авторитетом для цесаревича. Конечно, Пезаро был рад, что русские гости получают удовольствие от венецианского общества и что все вроде соответствовало продуманной программе. Однако постоянное присутствие такого типа, как Казанова, вовсе не входило в планы Пезаро, и он продолжал волноваться, что Казанова каким-нибудь образом сорвет эту программу.
Будучи в ложе, как только Казанова услышал вступительные ноты третьего акта, что-то заставило его взглянуть налево, на первый ярус, а именно на ложу, находящуюся над сценой. В ней сидела не синьора Виттория Лоредан в синей перистой маске и красном платье, как это было во время первых двух актов, а синьора Джузеппина Морозини из прихода Сан-Сильвестро, в черном платье и белой лунообразной маске. Казанова сразу же посмотрел на противоположную ложу, с правой стороны театра, и заметил, что она была пуста. Во время первых двух актов в ней сидел монсеньор Гаетано Асколи, секретарь папского нунция в Венеции. «Это обстоятельство, лучше сказать, совпадение, было неслучайным» —, подумал Казанова. Он уже давно знал, что между этими двумя персонами развивается нежное чувство, и порой синьора Лоредан это отнюдь не скрывала, что вызывало раздражение у молодого Асколи, который, будучи ватиканским функционером, должен был держаться скромно и даже по возможности быть невидимым.
Казанова встал, извинился перед всеми и вышел в кулуар. Из внутреннего кармана своего бархатного жюстокора он достал черную ларву, оглянулся вокруг, надел маску и ринулся к лестнице, по которой быстро, но бесшумно, спустился на первый этаж. Там он подошел к ложе, в которой должна была сидеть мадам Лоредан, тихо приоткрыл дверь и, убедившись, что ее там нет, пустился разыскивать ее по театру. Проходя мимо всех чуланов, прислоняя ухо к дверям, он старался услышать знакомые звуки, которые выдали бы сладострастную пару. Но на первом этаже все было пусто и беззвучно. Он поднялся на второй этаж и, несмотря на то что было бы очень рискованно предаваться похоти на этаже, на котором была расположена дожеская ложа, Казанова все равно проверил все закоулки, кладовки и дополнительные каморки около фойе. Все было пусто. Он поднялся на третий этаж и столкнулся с мужчиной, спускавшимся с четвертого этажа. Мужчина был в темной маске Пулчинеллы. Господа друг другу поклонились, и мужчина отправился дальше в свою ложу. Казанова тайком проверил все чуланы на левой стороне третьего этажа и, вернувшись в центр, к лестнице, заметил, что правая сторона коридора была плохо освещена, даже как-то ненормально, потому что люстра в конце кулуаров была потушена, и свечи в жирандолях тоже не горели. Приближаясь к дальней, темной части кулуара, Казанова слышал, как музыка в театре усиливалась, как голоса переливались и сплетались, и это ему мешало прислушиваться к другим звукам. Он сосредоточено шел дальше и дальше, до темного конца кулуара, в которых уже почти не было видно ни ковра на полу, ни дверей по сторонам, ни картин на стенах. Вдруг в том малейшем свете, который смутно освещал позолоченные картинные рамы и рукоятки дверей, он увидел, как дернулась дверь: быстро приоткрылась и закрылась, как будто ее кто-то случайно толкнул изнутри. На цыпочках он приблизился к тому, последнему, чулану, и, как только музыка чуть затихла, ему удалось различить человеческий звук. Как мышь, он прокрался к двери и подслушал, как глубокое, приглушенное женское стенание тянулось и замирало, тянулось и замирало. В щелке был виден свет свечи. «Очевидно, актеры не могли не смотреть друг на друга в этой тесной мизансцене», – подумал Казанова. Он подошел поближе и, прижав к щелке глаз, увидел синьору Лоредан, сидевшую в маске на стуле с раздвинутыми ногами, между которыми рьяно работала голова ватиканского функционера.
* * *
Было уже за полночь, когда Казанова в табарро и черной ларве шел быстрым шагом по безлюдной площади Сан-Марко. Полная луна мутно сияла в беззвездном небе, и слабый свет угасающих фонарей еле-еле освещал аркады. Пройдя мимо амфитеатра, а затем под Старыми Прокурациами, он перешел мостик и проследовал по узкой калле до небольшого кампо Русоло. Там он вытащил из плаща конверт и оглянулся вокруг. Никого нигде не было. Кампо и смежный канал Орсеоло обволакивала промозглая тишина. Слышны были лишь стуки качающихся привязанных к сваям гондол и тихое плескание воды, слегка переливающейся на камень.
Казанова стрельнул глазами на морду железного льва, выступающую из стены дома, стоящего рядом с церковью Сан-Галло. Приподняв воротник своего табарро, он подошел к зверю и бросил конверт в раскрытую пасть.
6
На следующий день туман еще продолжал капризничать, то обещая голубые просветы, понемногу рассеиваясь, то неумолимо сбиваясь обратно в темные раздувающиеся сгустки. На площади Сан-Марко людей было мало, а когда слышалась человеческая речь, улавливались в основном иностранные языки, в частности английский и немецкий, которые венецианцы всегда считали жесткими, топорными, неэмоциональными, не способными выразить их средиземноморскую чувственность.
Именно на этом плоском немецком и разговаривали двое элегантных господ, решительно и целенаправленно шагая мимо дремлющей базилики к Дворцу дожей. Один был очень степенный, с гордой осанкой и хорошо откормленный, второй – помоложе, более прыткий, в очках с тонкой оправой. У Порта делла Карта их радушно, но без особой торжественности встретили сенаторы Джанмарко Каттарини и Себастиано Бон, и четверо мужчин быстро зашли в старинный дворец. Перейдя дворик и поднимаясь по лестнице Гигантов, гости остановили глаза на пенисто-волосатой голове статуи Нептуна, и старший из них понурил голову, скрывая гримасу. Внутри здания он, стремясь вверх по Золотой лестнице, дал сенаторам понять по своей непривычной замкнутости, что весьма недоволен и что визит его дожу будет кратким и безапелляционным (чего, в сущности, сенаторы и ожидали). В зале Антиколледжо сенаторы формально распрощались с гостями и оставили их с высоким герольдом, который открыл дверь в зал Колледжо, сделал шаг вперед, сильно стукнул по полу алебардой и громко провозгласил:
– Посол Священной Римской империи Его Сиятельство, граф Джакомо Дураццо!
Дураццо направился к дожу, пока его атташе сердито скалился на герольда из-за того, что протокол не обязывал того представлять посольских помощников. Поднимаясь на деревянный помост, Дураццо взял руку дожа и поцеловал рукав его пурпурной мантии (дож Паоло Реньер презирал этот обычай, ибо чувствовал себя наряженным младенцем, которого все взрослые ждут не дождутся чмокнуть).
– Светлейший принц, – поздоровался Дураццо мягким, но сдержанным тоном. – Ваши Превосходительства, – он поклонился всем мудрецам и советникам Синьории, сидевшими по обе стороны от дожа.
– Располагайтесь, мой друг, – Реньер указал на кресло, стоявшее возле его трона. – Располагайтесь.
Посол сел, потупил глаза и вздохнул. Дож, как и его коллеги, не мог понять, почему Дураццо и его атташе, сидевший на стуле позади него, не оставили свои пальто у камердинера при входе, как обычно, а предпочли держать их в руках.
– Вам же так неудобно, Ваше Сиятельство, – сказал Реньер. – Пальто можно оставить у входа.
– Напротив, мой любезный дож. Мне так гораздо лучше. Может быть, Вы не заметили, но я в последнее время чувствую какой-то странный, не совсем понятный ветерок, веющий с севера, – ответил румяный круглощекий посол, закинув ногу на ногу.
– А, вы имеете в виду графа дю Нор?
Реньер так и знал, что Дураццо сразу обратится к этой теме, не подступая деликатно к разговору умной преамбулой, как это делают тонкие выдержанные послы. Венецианцы вообще не переносили Дураццо. Они не понимали, какого черта именно он был назначен послом Священной Римской империи! У него не было никакой политической подготовки, никакой дипломатической изощренности. В диалоге он был прям и порой даже грубоват. Да, он был образованным человеком, потомком крупнейшей генуэзской династии, братом бывшего генуэзского дожа.
Его уважали как знатока итальянской оперы, как щедрого покровителя европейских драматургов и композиторов. Но на дипломатическом поприще Дураццо в глазах венецианцев стоял далеко не в первом ряду, очень далеко.
– Да. Я имею в виду графа дю Нор, – ответил посол.
– А что именно вас беспокоит?
Реньер, конечно, знал, что беспокоило Австрию, и прекрасно понимал, что именно этот вопрос пришел выяснять Дураццо. Но он решил это уточнить – не для того, чтобы убедиться в правоте своей интуиции, а для того, чтобы слегка запутать посла.
– Его Императорское Величество обеспокоено чрезмерным вниманием, которое Венеция уделяет русскому цесаревичу Павлу Петровичу Романову.
– Правда?
– Да. Он считает, что Вы должны разъяснить положение Венеции по отношению к России.
– Я Вас не понимаю, Ваше Сиятельство. Ведь Вы же присутствуете на всех балах, на всех торжествах. Мы от вашего посольства ничего не скрываем. Если Вы хотите, я Вас приглашу на заседание Большего Совета, на котором будет присутствовать цесаревич.
– Благодарствуйте.
– Более того, как Вам известно, великокняжеская чета до прибытия в Венецию встретилась с Его Императорским Величеством в Вене, где был решен вопрос о бракосочетании племянника императора с младшей сестрой великой княгини, таким образам только укрепляя дружбу между двумя коронами. Великий князь с супругой даже отменили поездку в Пруссию, зная, что это сильно опечалило бы императора. Я уже не говорю о формальном союзе, заключенным между Россией и Австрией в мае 1781 года. Неужели Вы думаете, мой благороднейший друг, что Венеция стремится обойти Священную Римскую империю и заключить некий тайный, закулисный договор с Россией?
Именно этого закулисного договора император Иосиф II и опасался. С первого дня на престоле он считал, что Австрии не хватает свободного выхода к морю. У нее не было крупных полноценных портов, и это ее ставило в зависимое положение от Венеции, которая, несмотря на свое дряхлеющее состояние, продолжала доминировать в Северной Адриатике. Венецианский полуостров Истрия и Далматское побережье были важными стратегическими точками не только в военном смысле, но и в коммерческом, и именно они и являлись объектами австрийских притязаний. Однако Иосиф II, будучи австрийским эрцгерцогом и императором Священного Рима, четко понимал, что Австрия, как и все государства Центральной и Восточной Европы, не могла шага сделать без предварительной консультации с Екатериной II. Следовательно, тесное сближение Венеции и Санкт-Петербурга, несомненно, остановило бы австрийские амбиции расширить границы до Северной Адриатики, поскольку такого расширения Екатерина не позволила бы.
– Ваше Светлейшее Величество, – Дураццо погрузил свой двойной подбородок в кружевную манишку. – Вам, как и всем в Европе, давно известен «греческий проект» Екатерины. Все знают, что императрица лелеет желание отвоевать Анатолию у турков и восстановить на ее месте империю Греческую, православную. Недаром она назвала своего внука Константином. Он и станет новым императором.
У дожа засверкали глаза, и он кивнул головой, давая Дураццо понять, что Венеция в курсе этих слухов.
– Но причем здесь Венеция, граф? – спросил он. – Я думаю, если бы Екатерине понадобилась помощь, чтобы достичь этой цели, она в первую очередь обратилась бы к Его Величеству, что в принципе и является основой вашего договора. Она бы обратилась к императору не только, чтобы получить военную поддержку, но и потому, что глубоко ценит и чтит Его Величество и является, как всем известно, его самым близким другом.
Дураццо, естественно, никак не мог доказать, что Венеция желала вступить в тесные тайные отношения с Россией и таким образом не только помочь ей на турецком фронте, но и предоставить ей платформу для усиления ее авторитета в Центральной Европе. Он только мог предупредить дожа, строго предупредить, что такие «секретные» отношения приведут к печальным последствиям для крылатого льва.
– Его Императорское Величество вовсе не сомневается в дружбе и уважении Екатерины Великой, – сказал Дураццо. – Тут даже и речи не может быть о каком-то разногласии между монархами. Однако, как вы понимаете, мой светлейший дож, при дворе русской самодержцы существуют элементы, которые хотели бы испортить и подорвать эту дружбу ради других целей. И Екатерине еще не удалось полностью остановить их влияние на престолонаследника Павла Петровича.
– Кто именно, Ваше Сиятельство?
– Граф Никита Иванович Панин, бывший наставник юного цесаревича, а ныне его самый близкий советник.
– Панин? Автор «Северного аккорда»?
– Да. Тот самый.
«Северным аккордом» был союз между Россией, Пруссией и Швецией, направленный против Габсбургской Австрии после окончания Семилетней войны во второй половине 1760-х годов. В сущности он был оборонительным союзом, но тем не менее не позволял Австрии спать спокойно, поскольку укреплял положение ее архиврага – Пруссии. Несмотря на то что в середине 1770-х годов «аккорд» был еще в силе, его постепенно начинали затмевать русские интересы на Кавказе и на Черном море. Именно эти интересы побудили Екатерину заключить официальный союз с Иосифом в 1781 году, чтобы защитить друг друга в случае войны с Османской империей.
– «Северный аккорд» нынче не имеет никакого веса, – сказал дож.
– «Аккорд» – нет, но Панин – да, – решительно ответил Дураццо, поглядывая на всех членов коллегии.
– Не может быть, граф. Уже год как Панин находится в отставке.
– Нет, в сентябре он вернулся в Петербург и пытался отговорить великих князей от путешествия в Европу. Вопреки желанию самой императрицы! Вы представляете это, мой светлейший дож?
– Но они же приехали после всего. Значит никакого влияния Панин больше на Павла не имеет.
– Не совсем так.
– Князь даже не поехал в Пруссию навестить великого Фридриха, своего кумира. Это должно Вам говорить о его солидарности с австрийской короной.
– Ваше Величество, Вы же знаете историю бедного цесаревича. Вы же знаете, как поступила его мать с его отцом, отняв у прямого наследника положенный ему престол, категорично лишив его участия в государственных решениях. Вы же понимаете, какие чувства, следовательно, питает этот молодой обиженный наследник к своей матери-узурпаторше и какие слухи распространяются по всей Европе?
Реньер знал, что Дураццо придумает любой предлог, даже самый нереальный, чтобы потребовать от Венеции не сближаться с Россией. Каким бы плоским и прямолинейным он ни был, он никогда бы прямо не сказал, разумеется, что Австрии нужна слабая беззащитная Венеция.
– Ваше Сиятельство, – спокойно ответил Реньер, – при чем тут Венеция? Почему вы считаете, что маленькая, уже давно невлиятельная Венеция может как-то подействовать на внутреннюю политику могучей России? Зачем нам провоцировать наших соседей? Зачем нам рисковать тем миром, который мы с трудом установили шестьдесят лет назад?
Собеседники внимательно изучали друг друга. У дожа лицо было невозмутимое, как гладкая поверхность Бачино Сан-Марко в ясный безветренный день. Своей твердой, благожелательной полуулыбкой он говорил Дураццо, что какой бы маленькой Венеция ни являлась, она никому никогда не пожертвует своим суверенитетом. И Дураццо понимал, что на данном этапе не было смысла усложнять отношения с Лагуной, тем паче что доказательств о «секретной» дружбе между Венецией и Россией он не имел.
– Я просто хочу сказать, мой светлейший дож, что Россия сегодня находится в переходном периоде. Вы сами только что отметили, что она недавно перешла от одного союза к другому. Каким бы убедительным ее внешний курс ни казался нам всем здесь в Европе, ее внутренний склад еще не достиг той стабильности, которая могла бы вызвать наше доверие, то есть наше полное, непоколебимое доверие.
– Я согласен, Ваше Сиятельство.
– Следовательно, Его Императорское Величество хотел бы любезно попросить Венецию не поощрять никакие раздоры при русском дворе.
– Боже упаси, mein Graf!
– Его Императорское Величество это просит не потому, что не желает видеть дружеские отношения между Светлейшей Республикой и Россией, а потому, что считает, что, перед тем как Россия начнет бросать свои якоря в Средиземное море, она сначала должна четко показать, кто у нее будет стоять у кормила.
«О, скудоум! – подумал Реньер. – Как же не стыдно императору иметь такого дебила в послах? То он разыгрывает какую-то гнусную пьесу с пальто в руках, то он мечется, не знает, под каким предлогом предъявить мне свои претензии, то под конец прячется за лживой политичностью. И еще какого поэта из себя корчит: „Бросать якоря в Средиземное море, стоять у кормила“! Русские флотилии уже десять лет назад стояли у Ливорно! Где ты был, балда бесхребетная? Перед европейскими тронами подхалюзничал? На что только и способна твоя Генуя паршивая!»
Реньер посмотрел на всех членов Синьории, пристально следивших за развитием аудиенции. Глядя на картины на стенах зала, изображающие великую битву при Лепанто, он на секунду представил Дворец дожей лет триста назад, когда королева Адриатики находилась в апогее своей славы и силы, когда все дворы Европы и Леванта дрожали, услышав ее имя. Он представил, как послы заходили в Зал Коллегии с поджатыми хвостами и боялись не так язык повернуть. Тогда никто бы не посмел потребовать что-нибудь от венецианского дожа. Да, вот тогда Венеция была настоящей империей! А сейчас что? Жалкая заложница своего презренного нейтралитета, того самого нейтралитета, которым другие страны рано или поздно воспользуются, чтобы отнять у нее последние клочки ее уменьшающейся территории. Включая Австрию. Первым делом – Австрия! Нет, мой дорогой посол, Вы нам не будете диктовать, как нам принимать наших гостей. Мы сами решим, что нам выгоднее.
– Конечно, Ваше Сиятельство. Мы прекрасно понимаем взволнованность Его Императорского Величества, – Реньер встал со своего трона, улыбнулся и протянул Дураццо руку. – Если император так желает, мы воздержимся от излишнего сближения с Россией.
7
Позже, пока цесаревич слушал темпераментные обсуждения членов Большого совета во Дворце дожей и любовался картиной великого Тинторетто «Рай», покрывающей всю восточную стену зала, на верхнем этаже, в небольшом и темном кабинете трое самых таинственных функционеров Венецианского государства тихо рассматривали доносы одного высокого немолодого конфидента. Эти три чиновника всегда сидели спинами к окну, и на закате их лица оставались силуэтами. Никто в Венеции не знал их имена, а те сотрудники дворца, которые знали, не имели права их произносить ни на службе, ни на улице. Главного из них, носившего алую тогу, называли Красный. Его избирала Синьория. Двое сослуживцев – Черные – назначались Советом десяти. Триада всегда появлялась на службе первой и уходила последней, под ночным небом.
– Мы не удовлетворены Вашими последними доносами, – прозвучал гнусавый голос Красного. – Следовательно, мы не сможем Вас за них вознаградить.
– Чем именно, Ваше Высокопревосходительство?
– Они неточны.
– Но п-п-почему же? Я же… Я же… – конфидент заерзал на стуле.
– Вы в них заблуждаетесь. И в первом, и во втором.
– Не может быть.
– В первом доносе, датированном 3 января 1782 года, вы пишите: «Французский либреттист Жан Пюго, проживающий на кампо Сан-Поло, имеет среди своих книг сборник скабрезных и безнравственных стихотворений во французском переводе запрещенного Венецианским трибуналом поэта Джорджо Баффо. Эта книга позволяет месье Пюго развращать и портить самую чистую и многообещающую молодежь Светлейшей Республики и все подрастающие поколения вообще. Книга называется „Канал желания“». Посмотрите сами.
Красный передал бумагу своему секретарю, который в свою очередь передал ее конфиденту. Тот перечитал донос.
– Да, так и есть. Но что вы здесь находите неточным, Ваше Высокопревосходительство?
– Мы разговаривали с месье Пюго и прочитали книгу «Канал желания».
– И?
– Дело в том, что автор книги нигде не указан. Даже намека на него нет.
– А чьи же эти стихи тогда?
– Месье Пюго говорит, что они его.
– Ваше Высокопревосходительство, – конфидент несознательно почесал кончик своего орлиного носа, – любой венецианец, знающий стихи Джорджо Баффо и владеющий французским языком, сразу поймет, что он читает Баффо в переводе. Тут даже сомневаться не надо в идентичности автора.
– Мы не согласны. Мы сравнили французский текст с оригинальными конфискованными рукописями, хранящимися в нашем архиве, и после тщательного анализа определили, что французский текст не соответствует поэзии Джорджо Баффо. Книга «Канал желания» была написана французским либреттистом.
– Но ведь…
– Следовательно, мы не можем привлечь месье Пюго к уголовной ответственности. По закону в Венеции запрещаются только определенные авторы. Его книга не входит в эту статью.
– Но книга же безнравственная!
– Мы согласны. И мы жестко предупредили автора не распространять ее.
– Но он же читает эти стихи юношам, Ваше Высокопревосходительство. Юношам!
– Вы это видели?
– Я это знаю.
– Каким образом вы получили эту информацию?
– Мне сказали.
– Кто?
– Я это слышал.
– От кого?
– Поверьте мне.
– Видите ли, «слышать» для нас недостаточно.
– Все, что я говорю, – правда.
– Недостаточно. Нам нужны конкретные доказательства. Следующий донос…
Конфидент выпрямил спину, изучая силуэт Красного, который достал другой лист бумаги.
– …Вы пишите: «Вечером, 19 января 1782 года, в театре Сан-Бенедетто, во время оперы „Орфей“, на третьем ярусе, в самом последнем чулане правого кулуара, секретарь папского нунция в Венеции монсеньор Гаетано Асколи занимался самым пошлым, распущенным и непристойным для светлейшего общества актом с синьорой Витторией Лоредан, вдовой генерала Марино Лоредан».
– Да, так и было, Ваше Высокопревосходительство. Это я видел собственными глазами.
– В этом я не сомневаюсь. Ваш донос не первый, описывающий лицемерное поведение монсеньора Асколи. И мы приветствуем Ваши попытки разоблачать ватиканских чиновников. Однако тут есть одна маленькая неточность.
– Неточность? Не может быть! Это были они! Я уверен. Я могу Вам дать в качестве свидетелей имена тех, кто сидели с ними в ложах во время первого акта. Это были они, Ваше Высокопревосходительство. Клянусь Вам!
– Дело в том, что монсеньор Асколи больше не является секретарем папского нунция в Венеции.
– Что?!
– В конце декабря он был назначен ауксилиарным епископом Неаполя.
– Как?
– Вот почему мы не сможем вознаградить Ваш труд. Вы это должны были знать.
– Но может быть… может быть, хотя бы половину. Ведь занятие на самом деле было непристойным.
– С этим мы согласны. Но как Вы знаете, мы платим только тогда, когда донос приводит к конкретному результату. А тут результата никакого не может быть. Венеция не может позволить себе провоцировать Бурбонов.
– Чуть-чуть, хотя бы за мои расходы.
– Какие расходы? Билет в театр Вам не надо было покупать – Вас пригласил граф дю Нор. И еще в свою ложу при этом.
– Но я же не могу жить на… то есть… Давайте договоримся, Ваше Высокопревосходительство. Давайте вернемся к старому договору, то есть к полной ставке. Я готов снизить месячный оклад, даже на двадцать пять процентов. Но чтобы быть в штате. Чтобы была хоть какая-то стабильность. Вы понимаете? Я Вас искренно прошу. Я Вам даю слово, что доносы мои будут полноценны.
– К сожалению, нет.
– Ради бога, Ваше Высокопревосходительство, – конфидент чуть не встал на колени.
– Кстати, еще одно дело.
– Какое, Ваше Высокопревосходительство? – конфидент обнадежился, будучи готов выполнить любое поручение, лишь бы за него заплатили.
– Синьория Вас просит больше не общаться с русскими.
– Не понимаю?
– Очень просто. Если граф дю Нор будет Вас приглашать куда-нибудь, отказывайтесь. И не только граф дю Нор. Вам также запрещается общаться с членами его свиты.
– Но я же не принадлежу к патрицианскому сословию, которому закон не разрешает знаться с иностранными дипломатами. И граф дю Нор не приехал в Венецию в качестве дипломата.
– Неважно. В данном случае всем конфидентам запрещается общаться с русскими.
– Я могу спросить, почему было принято это решение?
– Я не буду повторяться.
Конфидент не знал, что еще сказать. Его зрение затуманилось. В кабинете и так было темно. Люстры не было, по сторонам на мрачных стенах слабо горели две кривые свечи, и конфидент заметил, как тьма постепенно поглощает профили инквизиторов.
– Но Ваше Высокопревосходительство? – вымолвил он робким голосом.
– Ступайте.
Конфидент растерянно встал, поклонился и, не торопясь, пошатываясь, удалился из зала.
Выйдя из дворца на набережную, он устало посмотрел на остров Сан-Джорджо Маджоре на противоположной стороне бухты. Огненное солнце, заходящее за церковью, бросало последние лучи на рябь свинцовой воды. Тонкий слой хлопчатых облаков лежал на зеленом шпиле, и воздух наконец был живым и чистым. Но все же какой-то странной под этим сумрачным покровом казалась ему церковь. Он сосредоточил взгляд и вместо острова со стройной красной колокольней и белым палладианским фасадом увидел остров с высоким золотистым шпилем на желтой барочной колокольне, загороженной низкой прибрежной куртиной с множеством амбразур.
* * *
Вечером в Казино Джанкарло Гримани играли в фараона. Хозяин дома держал банк. Ставки были мелкие – играли просто так, чтобы скоротать время. Собрались обычные игроки: Казанова, его старый друг Пьетро Антонио Дзагури, восьмидесятилетний барнаботто[24] Альвизе Молин и драматург Карло Гоцци. Остальные гости, разбросанные по всему пьяно нобиле[25], развлекались обычными салонными беседами, ароматным глинтвейном и приторной щедростью навязчивых куртизанок.
– А вы заметили, господа, что наш Джакометто что-то слишком серьезно сегодня играет? – хихикал толстый краснощекий Гримани с бородавкой на подбородке, тасуя карты своими жирными пальцами. – У меня такое впечатление, что его интересует только одна победа. Где же его чувство чистого азарта?
Джанкарло Гримани знал Казанову с детства. Его отец, сенатор Микеле Гримани, был покровителем театра Сан-Самуэле, в котором работал отец Казановы, Гаетано, а затем и его мать Дзанетта, впоследствии прославившаяся во многих столицах Европы. Гаетано ушел из жизни когда Казанове было всего восемь лет, успев на одре попросить Микеле Гримани позаботиться о судьбе его жены и шестерых детей. Джакомо и Джанкарло, разумеется, росли совершенно разными: Джакомо был хилым, чувствительным, неуверенным в себе и в своем будущем; Джанкарло превратился в ленивого, избалованного повесу, прозябая дни и ночи в театральных уборных Сан-Самуэле и других театров, принадлежащих его семье. Казанова никогда особенно не тяготел к общению с Джанкарло. Между ними порой даже ощущался какой-то затаенный антагонизм. Однако благодарность, которую Казанова испытывал к Микеле Гримани за то, что тот сдержал слово и не дал Дзанетте с детьми умереть с голоду и даже продвигал ее актерскую карьеру, вынуждала его периодически сталкиваться с Джанкарло.
– Одно другому не мешает, – тихо ответил Казанова, осторожно делая ставку.
Гримани на самом деле был прав: Казанова сейчас играл исключительно с надеждой на выигрыш. Он нуждался в деньгах. Единственным его доходом были шесть месячных цехинов, которые после смерти оставил ему один из его бывших покровителей Марко Барбаро. В качестве конфидента он больше ничего не получал – ни месячного оклада, ни сдельной оплаты. Его вторая должность – секретарь генуэзского маркиза Карло Спинолы – за полгода дала ему лишь девять дукатов, что было почти в два раза меньше одной месячной зарплаты, полученной от инквизиторов. О его литературных трудах вообще говорить было нечего: за всю жизнь они ни одного сольдо ему не принесли. Платья, шитые Кеккиной, продавались с трудом за какие-то гроши. А одалживать деньги, как он это раньше делал у преданного ему Дзагури, было стыдно, ибо он знал, с каким трудом их возвращал.
– Если бы я держал банк, я бы тоже мог позволить себе играть беспечно, – заявил Молин, приглаживая свои седые волосы.
– Что? Держать банк? Да у вас бы сквозь пальцы все утекло, – продолжал хихикать Гримани. – Транжира!
– Оставьте его, Джанкарло, – заступился за Молина зеленоглазый Дзагури.
– Вы ошибаетесь, мессер Гримани, – вежливо сказал Молин. – Наше положение – это не моя вина и не вина моих предков. Если бы Ваша семья потеряла свои земли на Крите, она бы тоже потерпела крах.
– Тогда не надо было одним скотоводством заниматься, – Гримани одним глазом искал себе куртизанку. – И не надо все на Морозини[26] сваливать. Он был вынужден сдаться туркам.
– Морозини никто не обвиняет, мессер Гримани.
– Надо было родине служить.
– Родине служить? – усмехнулся Дзагури. – Уж кто бы говорил!
Все в Венеции, конечно, уважали фамилию Гримани, давшую Светлейшей Республике трех дожей, четырех аквилейских патриархов и уйму адмиралов и других высокопоставленных государственных деятелей. Однако, глядя на Джанкарло, никто бы не сказал, что он происходил из такой важной, патриотической семьи. Культа отечества в нем и капли не было – его алтарь стоял совсем в другой капелле.
– А как тебя зовут, дорогуша? – Гримани обратил внимание на молодую светловолосую куртизанку, одиноко блуждающую по залу.
– Нана.
– Иди посиди-ка у меня на коленях, Наночка.
– О нет! После того, что вы сделали с Элизой, нет, спасибо!
– Что я сделал? Она сама доигралась, тигрушка.
– Семерка! Моя! – обрадовался Дзагури.
– Чего? – Гримани проверил выигрышную карту.
– О, поздравляю, удачная ставка, – отметил длинноносый Гоцци. – Мне бы Ваше везение.
– Вы имеете в виду в картах? – ехидно улыбнулся банкомет, записывая проигрыш.
Гоцци понял, что тот намекал на неуспех его последних пьес.
– Я могу поспорить на весь банк, мессер Гримани, что вы за всю жизнь ни одной моей пьесы не видели на сцене и даже не читали.
– И Вы бы выиграли, маэстро.
– Тогда я вам завтра оставлю в театре два билета на премьеру. Приходите с кем-нибудь. Если, конечно, у Вас есть друзья.
– На премьеру, к сожалению, не смогу. Но на второе представление обязательно приду. Если, конечно, оно состоится.
– А я считаю, что мессер Гоцци – самый талантливый драматург нашей республики, – гордо вставил Молин.
– Благодарствуйте.
– Внутриклассовая солидарность, – фыркнул Гримани, метая карту.
Гоцци тоже происходил из барнаботти, однако в какой-то момент своей карьеры нажил неплохое состояние своими популярными пьесами.
– Называйте это как хотите, – продолжал Молин, с ностальгией поглядывая на пару взъерошенных полуобнаженных женщин, смеющихся на плюшевой оттоманке, – но не забывайте, что Ваши театры когда-то очень преуспевали, благодаря труду мессера Гоцци.
Официанты наполнили всем игрокам бокалы.
– Наночка, иди сюда, я тебе монетку хорошую дам, – сказал Гримани, протягивая ей руку и замечая, как старик Молин томится в нежных воспоминаниях.
– Я боюсь, монеток у Вас на меня не хватит, – ответила Нана, облокачиваясь на каминную полку, пальчиками пробегая по серпентинному мрамору.
– Не задирай нос, лапонька. Еще не вечер, – Гримани хлебнул из своего бокала. – А вот почему же наш великий шевалье все молчит? Небось, сейчас колдует над столом, думает, каким образом из своего последнего дуката сделать сто.
– Не беспокойтесь, – ответил Казанова. – Моя тишина рано или поздно прервется.
Все посмотрели на Казанову и увидели, что, несмотря на постоянные проигрыши, он упорно продолжал делать ставки.
– Я надеюсь, это будет скоро, пока Вы своим философским камнем еще не превратили меня в мальчика.
Гости улыбнулись, поняв, что Гримани намекал на известную историю, рассказанную самим Казановой, в которой некогда в Париже ему удалось заставить старую маркизу д'Юрфе поверить в его оккультные силы, способные превратить ее в юношу.
– Человеку нужна иллюзия, – жмурился Казанова. – Так легче живется. Вы же верите в свое имя.
– В мое имя? – удивился Гримани. – Как это понять?
– Вы же верите, что вы Гримани.
Гримани омрачился, а потом искусственно засмеялся.
– Что я Гримани? Вот это оригинально. А кем же я должен быть, дорогой, Монтесумой?
Казанова на него посмотрел искоса.
– Я слышала, что тут дукаты раздают, – сказала одна немолодая черноволосая куртизанка, своей пышной, выливающейся из корсета грудью прилипая к Гримани.
– О нет, Флавия, душа моя. Сегодня я хочу вкусить новые плоды.
– О, чего бы я не дал сейчас, чтобы опять быть юношей, – вслух мечтал Молин. – Чего бы я не дал, чтобы суметь переплыть нашу бухту. Как обидно сейчас стоять у берега, смотреть на волнистую поверхность и знать, что никогда ты больше в воду не войдешь. Вы представляете, господа, какое это издевательство? Аж кости сжимаются.
У Молина кадык в горле задрожал. Флавия обняла его за вялую щетинистую шею.
– А я нет, – сказал Дзагури. – Юность – это пучина, из которой берега ни видать. Я предпочитаю сушу.
– Суша не поможет, к сожалению, – засмеялся Гримани. – Вы же видите, господа, как в последнее время на наших погостах трупы всплывают при малейшей «акве альте». Аха-ха-ха.
– Дурак! – вскрикнула Флавия.
– Самый лучший возраст – это тот, в котором мы не считаем наши годы, – сказал Гоцци.
– То есть тогда, когда нас нет? – спросил Гримани и, заметив, что больше никто не понтирует, продекламировал:
Блажен, кто в сладком веке тихонько родился. Блаженней тот, кто никогда вообще не появился.– Нет, мессер Гримани. Жить надо, – серьезно сказал Молин.
– Ладно, эта пустая метафизика ни к чему нас не приведет. Если никто больше не понтирует, господа, я предлагаю завершить нашу игру и заняться более существенными делами, – Гримани взволновался, заметив, что Нана куда-то исчезла.
– Я пас, – сказал Дзагури.
– Я тоже, – одновременно вздохнули Гоцци и Молин.
– А я еще не закончил, – твердо произнес Казанова, почесывая ногтями стол.
– Вы? – удивился Гримани. – Вам не кажется, что сегодня не Ваш день?
– Как Вы сами только что сказали, еще не вечер, – Казанова напряженно посмотрел на банкомета.
– Ваш взгляд меня беспокоит, мой друг. Последний раз, когда Вы так на меня смотрели, Вы мне проиграли приличную сумму.
– Так почему же Вы тогда беспокоитесь?
– Потому что мой кредит Вам не неограничен.
– Все знают, что я долги отдаю.
Игроки за столом кивнули.
– Честь – это одно, но ваше положение – это совсем другое. Из чести серебро не чеканят.
– Будьте любезны, стасуйте карты.
Гости в зале поднялись с диванов и окружили стол. Куртизанки повисли на мужских плечах. За ними встали официанты с горевшими трехсвечниками. Дзагури, Гоцци и Молин тревожно взглянули на Казанову.
– Джакомо, может быть, не надо горячиться, а? – мягко предложил Дзагури, который знал, что, когда Казанова играл один на один с банком, он делал немалые ставки. – Ведь ты же знаешь, что лучше…
– Пьетро, не беспокойся, я не забыл про наш…
– Я не об этом! Про это ты можешь забыть! Я сейчас думаю о Франческе. Понимаешь?
– Так, мы играем? – Казанова настаивал, не внимая словам Дзагури и пронизывая Гримани своим тяжелым нетерпеливым взором.
– Хорошо, Джакомо. Мы играем, – спокойно ответил Гримани, тасуя колоду. – Но я Вас предупреждаю: я не буду метать на Ваши кабалистические обещания, как в прошлый раз. Извольте показать мне настоящие скеи![27]
Казанова положил шесть цехинов на десятку. Дзагури сморщился, уже давно заметив, что Казанове весь вечер не везло. Он прекрасно знал положение своего друга. Он знал, что одна трехмесячная квартплата Казановы составляла девяносто шесть лир, что равнялось почти пяти цехинам, и что, кроме себя, ему надо было кормить и одевать Франческу, ее мать, сестру и больного брата и покупать последнему лекарства.
Гримани стал метать. Направо легла четвертка, налево валет. Гримани метал дальше. Направо выпала девятка, налево дама. Талия продолжалась. Направо банкомет положил короля, налево… десятку.
– Voila! – вскрикнул Казанова.
– Je suis très content, mon cher[28], – Гримани улыбнулся.
Он взял шесть цехинов и дал их понтеру. Казанова их поставил вместе со своими шестью на валета.
– Двенадцать цехинов на валет? – уточнил банкомет.
– Да.
– С новой тальей?
– Нет, закончим эту.
– Воздержись, пока находишься в выигрыше, – посоветовал Дзагури Казанове.
Гримани метнул следующую пару: справа туз, слева король. Потом еще одну: справа туз, слева пятерка. Еще одну: справа валет, слева валет.
– Ровно, – он сказал без эмоций, забирая себе шесть цехинов.
Казанова посмотрел на колоду, а потом на Дзагури, который умоляющими глазами просил его остановиться. В зале царила тишина.
– Еще, – сказал Казанова, добавляя восемь цехинов к шести лежащим на столе и ставя общую сумму на даму.
Он знал, что для Гримани эта сумма была ничтожной. В далеком прошлом для него самого она была бы абсурдной, поскольку он когда-то свободно ставил и в десять, и в пятьдесят, а однажды даже и в сто раз больше.
– Четырнадцать цехинов на даму?
– Да.
– Отлично.
У Дзагури глаза выкатились на лоб.
– Только с новой тальей, – попросил Казанова.
– Как скажете.
Гримани стасовал карты. У Дзагури перехватило дыхание. Флавия прижалась к Молину. Гоцци стало душно, он расстегнул свой черный жюстокор.
– Вы не возражаете? – спросил Гримани, рукой указывая на свой бокал.
– Если Вам угодно, – ответил Казанова.
Гримани сделал глоток, задерживая теплую жидкость во рту. Затем он медленно, растягивая время, поставил бокал обратно на стол и начал метать. Справа легла девятка, слева четвертка. Справа шестерка, слева туз. Справа король, слева восьмерка. Справа двойка, слева валет.
– Ой-ой-ой-ой, – раздался тихий женский голос.
Талья длилась долго. Справа король, слева девятка. Справа туз, слева четвертка. Гости томились. Справа шестерка, слева восьмерка. Справа пятерка, слева четверка.
А! – кто-то уронил свой бокал.
Справа тройка, слева король. Справа двойка, слева шестерка. Справа дама, слева десятка.
– Банк выиграл! – шепнул один официант другому.
– Не говорите мне, мой дорогой, – усмехнулся Гримани, забирая себе куш, – что Вам не везет с прекрасным полом.
– Еще! – Казанова яростно сжал кулаки.
– Как хотите.
– Джакомо! – вскрикнул Дзагури. – Пожалуйста!
– Пьетро, я тебя умоляю, не надо вмешиваться, – раздраженно ответил Казанова.
– Я жду Вашу ставку, – сказал Гримани.
– Я хочу отыграть мой долг.
– Прекрасно. У Вас есть пятнадцать цехинов?
– Что?! Что?! – встревожился Дзагури. – Прекрати, Джакомо! Ты понимаешь, что мы живем в другой эпохе. Фортуна – это не вечно сияющее солнце, а комета, которая внезапно появляется и загорается над нами, а потом гаснет и удаляется. И твоя комета, – он понизил голос, – прости, уже давно удалилась.
– Очень лирично, мессер Дзагури, – отметил Гримани. – Браво.
– Мне больно на это смотреть, – продолжал Дзагури. – Понимаешь, Джакомо!
– Не смотри тогда, – сухо ответил Казанова.
Дзагури встал и ушел в соседнюю комнату.
– Так у Вас есть пятнадцать цехинов? – спросил банкомет.
– Да. Они у меня есть.
– Покажите, пожалуйста, – Гримани изучал смятенные глаза своего соперника.
– Сейчас.
Казанова стал шарить по карманам жакета, и Гримани понял, что в них ничего не было.
– Если у Вас их нет…
– Они у меня есть! – озлобился Казанова.
Он пощупал свои панталоны.
– Если Вы ищете Ваши тикалы, я Вам хочу напомнить, что Вы их мне проиграли в позапрошлый раз.
– Баста, Джакомо, – сдержано проговорил взволнованный старик Молин. – Баста.
– Может быть, на самом деле баста? – предложил Гримани.
– Нет, – сквозь зубы процедил Казанова.
– А чем тогда вы собираетесь понтировать?
Казанова взглянул на всех гостей вокруг стола. Толпа копошилась. Зал был пропитан запахами сгоревшего воска и слащавостью глинтвейна.
– Нана! – громко произнес понтер. – Подойди на секундочку, пожалуйста.
Нана вышла из толпы, не понимая, зачем ее зовут.
– Вы меня звали, мессер Казанова?
Казанова посмотрел в ее тоскливые изумрудные глаза.
– Друг мой, выручи меня на этот раз. Клянусь, если проиграю, расплачусь, – он сказал нежно, но отчаянно.
– Но у меня же нет таких денег, мессер Казанова.
Казанова взглянул на Гримани, который, любуясь великолепным декольте и нежной кожей молодой куртизанки, кончиком языка проводил по своей нижней губе.
– Я думаю, что мессера Гримани устроят и другие виды платежа, да?
Гримани знал, что он мог иметь Нану и за меньшую сумму, как минимум в два раза меньше, если даже не в три, поскольку Нана недавно появилась на рынке. Но эти восемь-девять-десять цехинов, которые он бы сэкономил, для него не имели никакого значения. Более того, ему понравилась эта неожиданная ставка.
– Вы совершенно правы, мессер Казанова. Мой банк весьма покладист. И вообще, у меня есть свойство быть очень гибким человеком.
– Что! – ужаснулась Нана.
– Нана, послушай меня, – уговаривал ее Казанова, ласково взяв ее руку. – Мессер Гримани вполне благородный и корректный господин, и никогда не выйдет за рамки приличия, и никогда не позволит себе оскорбить чужое достоинство. Я правильно говорю, мессер Гримани?
– Совершенно правильно, – Гримани с нетерпением вытирал свой влажный рот.
– Если я проиграю, я тебе все верну, Нан. И сделаю то, что ты меня тогда просила. Клянусь, моя милая.
Поглядывая на Гримани, у Наны сжалось тело.
– Но, мессер Казанова, я не…
– Я тебя очень прошу. Я тебя умоляю, мой друг, – сказал он кротко, целуя ей руку.
Нана вновь посмотрела на старого сластолюбивого Гримани, чьи глаза пожирали ее с ног до головы.
– Я… ну…
Она наклонилась и прошептала Казанове что-то на ухо.
– Конечно, мой ангел, конечно! – ответил он.
– Хорошо, – тихо вымолвила она, потупив глаза. – Я Вам помогу.
Гримани широко улыбнулся.
– Будучи просвещенным монархистом, вы несомненно поставите мадмуазель на короля? – спросил он с пикантной иронией. – Или, лучше сказать, посадите?
– Вы ошибаетесь. Сегодня моя карта – десятка.
Гримани стасовал карты и стал метать. Справа лег валет, слева девятка; справа туз, слева шестерка; справа пятерка, слева тройка; справа семерка, слева семерка; справа туз, слева восьмерка; справа пятерка, слева валет; справа десятка, слева король.
Гости ахнули.
– Хмм, – Гримани задумался. – Кажется, Вам нельзя было предавать Ваши идеалы.
Казанова посмотрел на Нану.
– Ave, Caesar, morituri te salutant[29], – вздохнула она.
8
– Amore. Amore mio. Chi è il mio dolce e tenero lupacchiotto?[30]
Нежный, ребяческий голос Франчески тихо разбудил Казанову после глубокого сна. Она крепко обняла его, прижимаясь щекой к его груди, переплетая свои ноги с его ногами.
– Как ты спал, мой любименький?
Голова у Казановы была чугунная, и серый мерклый свет, вкрадывающийся в комнату сквозь обветшалые поломанные ставни, только усугублял эту тяжесть.
– Неважно.
– Тебе что-то снилось? Что-то плохое?
Он ласково приподнял ее голову и посмотрел на ее милое, доброе, заботливое личико. Оно было не таким молодым, утонченным и прекрасным, как лицо Александры, не таким загадочным и пленительным. Ее кожа была не такой шелковистой, ее грудь была… да груди вообще не было. Зато черные глаза Франчески были заворожены – непрерывно и неуклонно с первого дня их знакомства – только одним объектом: Джакомо Казановой. И это для него было самое важное.
– Ничего особенного. Просто как-то муторно на душе.
– Давай я тебе вчерашнего бульончика подогрею. Мария уже на кухне камин топит. Чувствуешь, как тепло?
– Лучше сбегай к Альберто и купи свежий багет с маслом. Я пока поработаю.
Франческа встала, оделась и полезла в карман жакета Казановы.
– Ой! Тут ничего нет.
– А, да. Посмотри тогда в вазе на книжной полке.
Она залезла на стул и сняла вазу.
– Тут цехин и восемнадцать лир, Джакомо. Это наши последние деньги? – она игриво и добродушно улыбнулась, скрывая свое волнение об их прогрессирующих финансовых невзгодах.
– В общей сумме – это сорок лир. Нам это хватит до конца месяца. А первого февраля я получу шестерку.
– Но мы же еще должны два цехина хозяину, – Франческа сказала почтительно, даже с неким пиететом. – Помнишь? Он нам уступил в январе.
– Не волнуйся, Кекка. Нам хватит.
– Хорошо. Как скажешь, – она испустила легкий вздох на пороге. – Лишь бы у тебя было хорошее настроение.
Казанова еще повалялся, потом одел свой шерстяной халат и открыл окна, чтобы раздвинуть ставни. Твердое, белое, массивное небо низко дышало над красно-коричневой черепицей. Кампанила Сан-Марко возвышалась вдали над спящим городом. С четвертого этажа он видел, как Франческа в своем потрепанном синем пальтишке целенаправленно шла к пекарне на кампо Заниполо. Над спальней, на чердаке, мать Франчески возилась в своем курятнике, извлекая из-под кудахтающих птиц свежие яйца. Перед его окном, на другой стороне неширокой калле Барбариа делле Толе, распахнулись ставни.
– Здравствуйте, синьора Бускини! – крикнула соседка.
Мать Франчески высунулась из окна.
– Доброе утро, синьора Лорензон. Сколько Вам надо сегодня?
– Пожалуй, мне понадобятся четыре.
– Хорошо. Вот три у меня уже есть. Сейчас и четвертое Вам достану. Заходите.
– Нет, не могу. Захворала маленько.
– Тогда подождем Франческу. Она вот-вот вернется и отнесет их вам.
– Очень вам благодарна.
Казанова сел за свой письменный стол. На нем лежало так много разбросанных бумаг, книг, тетрадей и памфлетов, что он не знал, за что взяться. И вообще, он уже пришел к выводу, что пора было прекратить надеяться на литературную славу, не говоря уж о коммерческом успехе, ибо за тридцать лет творчества ни одно из его десяти произведений не получило признания среди литераторов и драматургов или даже среди обыкновенных читателей. А его журнал «Вестник Талии», публиковавшийся на французском языке с целью продвигать французскую комедию в Венеции, даже рассматривался как эстетическое предательство родины. Может быть, только один его труд «Размышления над похвальными письмами господину Вольтеру» когда-то имел какой-то резонанс и принес автору благодарность от дожа Реньера, но исключительно от дожа Реньера, и то лишь потому, что книга была посвящена ему.
Казанова долго и тяжело смотрел на бардак на столе и чувствовал безнадежное опустошение. Рука его еще автоматически тянулась к перу, но идей никаких не было. Даже не было никаких свежих наблюдений, из которых можно было бы сочинить рассказик, или исторический очерк, или просто комментарий на какую-нибудь злободневную тему.
Он взял лист бумаги, макнул перо в чернильницу и черкнул пару слов, пытаясь построить из них цепочку мыслей, или вопросов, или образов. Слово порождало слово, потом предложение, потом даже целый абзац. Звучало хорошо. Читалось плавно. Словечки были острые. Но что он хотел сказать – он сам не знал. После всего оставались лишь одни слова – без замысла и содержания.
Он встал и задумчиво приблизился к библиотеке, вокруг которой стояли колонны книг, не нашедших места на полках. Что-то его увлекло, он вдруг начал рыться на полках, неистово перелистывая, отодвигая и сбрасывая на пол книги и папки, жадно вырывая из них страницы. С яростью он копался глубже и глубже, разрушая аккуратно сложенные Франческой стопки, опрокидывая целую полку, до тех пор пока полсотни томов не лежали посередине комнаты. «Нет, не тут!» – он что-то вспомнил. Он бросился к столу и достал из-под него стопку толстых, пыльных книг. Кладя их на стол, он открыл самую толстую из них, «О граде Божьем» Августина Блаженного, изданную в Падуе в начале века, и перелистал страницы, пока не добрался до середины книги. Там был отдельный свернутый пергамент, не принадлежавший общему изданию. Он развернул его и прочел текст, написанный неразборчивым почерком его любимого поэта, наставника и идола юности:
«Посвящается Джакомо Казанове в его день рождения:
Живи мой друг, живи мгновеньем. Умей любить, любить до слез. Но знай, что жизнь – лишь сновиденье. Не принимай ее всерьез. Что было камнем, станет прахом. Цени друзей, цени себя. А если надо – ставь всех раком, Чтоб так не ставили тебя. Джорджо Баффо, 2 апреля 1741 г., Венеция».Казанова не сдержался и громко всхлипнул, вздрагивая от омерзительного самоощущения – самоощущения самого гнусного предателя. «Как же надо было выродиться, – подумал он, – чтобы доносить на тех, кто распространяет стихи кумира нашей молодежи, самое светлое и искреннее, что есть в венецианской поэзии!» И почувствовав горячие набухающие слезы в глазах, он зарыл лицо в пергамент и разрыдался, пока бумага не пропиталась горькой влагой.
– Джакомо! – вошла Франческа и испугалась от беспорядка на полу. – Что случилось?
– Ничего, ничего, – Казанова бросился поднимать книги. – Я тут просто искал один том, и полка случайно упала.
На полу лежало так много книг, что Франческе это вовсе не показалось случайностью.
– Ладно, не переживай, миленький. Я все подберу. Ты поешь багет с маслом. У Альберто такое дивное масло, что я не удержалась и купила полкило.
– И правильно сделала.
– Боже мой, сколько бумаг, сколько книг! Смотри: все твои любимые древнеримские поэты – Спиноза, Декарт.
– Конечно, – он улыбнулся.
– Будь осторожен Джакомо, ладно? А это кто – Зороастр?
– Это мой перевод одного французского романа.
– А что же ты мне его никогда не читал?
– Когда-нибудь почитаю.
Она заметила его опухшие глаза.
– У тебя все в порядке, мой хороший?
– Да. Я просто плохо себя чувствую, Кекка.
– Тогда под одеяльце! Быстренько! А бульон я тебе сейчас точно разогрею.
– Не могу. Надо в театр идти.
– Театр! Ой, я же забыла платье дошить! О, разиня, Франческа. О, разиня. Сколько дел, сколько дел!
Не раз Казанова старался описать свой нынешний быт, свое семейное положение, сочиняя разные простонародные сюжеты в форме драмы или повести или просто эссе о сестьере Кастелло, самом колоритном и живописном из районов Венеции. Он так хотел рассказать о превратностях своей судьбы, потолковать о непредсказуемости жизни вообще. Но за последние два года каждый раз, когда он садился за стол, все его идеи улетучивались, все выдуманные образы таяли, как лед в начале оттепели. Он хотел запечатлеть Франческу, ее безупречную преданность, изобразить ее твердый торс и длинные каштановые волосы, сделать ее воплощением домашнего покоя. Он даже когда-то придумал название пьесы – «Венеста», объединяя имя своего города с именем римской богини семейного очага – Веста. Но ничего не получалось – ему не хватало сил, и все идеи оставались в его воображении, нереализованными.
Когда он вышел на кухню, к нему подбежал маленький рыжий Джакомо и обнял его (чудесное совпадение, что они с младшим братом Франчески были тезки, вызывало у Казановы отцовскую ответственность). Мальчику было девять лет, но из-за постоянных болезней, повлиявших на его умственное развитие, казалось, что ему было гораздо меньше.
– О, Пикколо! Посмотрите, как он прыгает! Выздоровел, значит?
– Не совсем, мессер Казанова, – ответила мать Франчески. – Но когда он чувствует, что вы направляетесь в театр, он возбуждается.
– Отлично! Значит, будет актером.
– Да! Да! – мальчик обрадовался.
Синьора Бускини нахмурилась.
– Как тебе платье? – Франческа показала Казанове свое последние произведение. – Вот посмотри, этот шов виден?
– Да ты что, Кекка! Зритель скорее заметит каплю воды на луне, чем этот шов.
– А рукава не слишком пышные?
– Чуть-чуть.
– Ты думаешь, они помешают актрисе?
– Смотря, кто будет исполнять роль.
– Ну что, переделать?
– Не надо. Мы обещали его сдать сегодня.
– Только ты особенно не торгуйся. Ладно, Джакомо? – Франческа посмотрела на него с оптимизмом. – Бери, что дадут.
– Посмотрим.
Когда Казанова вышел, в доме поднялся шум.
– Еще не хватало, чтоб мой сын стал актером! – завизжала костлявая синьора Бускини, ставя кастрюлю на огонь.
– Опять! Что же в этом плохого, мам?
– Мне вполне достаточно, что ты связалась с этим лоботрясом. Понимаешь?
– Мама, как тебе не стыдно! Он о нас заботится. Он нам дал жилье. Он обожает Марию и Джакомо. Он даже, не боюсь это сказать, меня любит.
– Любит? Ха! – синьора Бускини тыкнула поварешкой. – Ничего он тебя не любит.
– Любит!
– Так почему он тогда на тебе не женится? А? Подумай хорошенько.
– Какая ты старомодная, мам. Кто сегодня женится? Кому это надо? Только патриции женятся, и то по расчету. А мне это зачем? Что я могу от него иметь?
– Можешь, можешь.
– Как ты заметила, у Джакомо никакого состояния нет. Он живет от зарплаты до зарплаты.
– Ты ошибаешься, доченька, ты ошибаешься. Если бы он тебя любил, он бы узаконил ваши отношения. Тогда, если что-то случиться, ты не останешься на улице.
– Ой, мам, хлебай свой суп несчастный.
* * *
Театр Сан-Самуэле некогда был детской площадкой Казановы. Его родители там работали актерами. Когда сцену никто не занимал, Казанова на ней дурачился с другими ребятами, изображая храброго кавалера или набожного священника, иногда даже и гордого, вечно непоколебимого дожа. Он был некрасивым и худощавым, и остальные дети над ним издевались из-за его частых носовых кровотечений. Отец запрещал ему заходить в уборные, но однажды восьмилетний Джакомо из любопытства, именно потому, что это ему было запрещено, зашел в одну уборную и увидел там переодевающуюся актрису. Вместо того чтобы прогнать мальчишку вон, она, наоборот, попросила его войти поглубже в комнату и, закрыв за ним дверь, обнажила свою грудь. Мальчик не понял, почему актриса так таинственно сняла свою блузку и что вообще там было такого интересного. Через несколько секунд ему стало так страшно, что он заплакал и выбежал из уборной.
Сейчас, зайдя в костюмерную, Казанова услышал, как за стеной репетировали знакомую пьесу.
– Что, опять «Зеленую птицу» ставят? – спросил он пожилую костюмершу Микелу, которая в тот момент укладывала назад свои сухие серебряные волосы.
– Да. Антонио считает, что из нее можно еще что-то выжать.
– А ведь Гоцци говорил про какую-то премьеру?
– Да какая премьера! Он уже почти пять лет ничего не пишет.
– Зато слов на критику хватает.
– Ты все еще на него обижен.
– На него – нет.
– А на кого?
Казанова открыл гардероб и посмотрел на костюмы.
– Я тебе принес кое-что.
– Показывай.
Из своей кожаной сумы он достал черное платье, сшитое Франческой.
– Видишь, какая работа? Как аккуратно обработано кружево и шифон? А подол какой изящный. Рукава, может быть, слишком пышные, но пускай его наденет Джулия. Она повыше Розальбы, на ней они лучше сядут. Да и вообще, между нами, Розальба двигается, как комод без ног.
– Сколько хочешь?
– Ну, цехиньчик, – Казанова принял знающий тон. – Однако, как ты понимаешь, оно стоит как минимум полтора.
– Что?! – Микела засмеялась.
– Что, нет?
– Ты с ума спятил!
– Почему?
– Посмотри сам – швы видны.
– Да кто их заметит?
– Они разойдутся после первого акта. И еще смотри: один рукав длиннее другого.
– Не может быть!
– Я тебе могу дать пятнадцать лир, максимум шестнадцать. Правда, это максимум.
– Дай восемнадцать хотя бы. Ведь Франческа всю ночь работала. Пожалуйста.
Микела меланхолично взглянула на темные круги под блеклыми глазами Казановы и провела тыльной стороной ладони по его опалым щекам. Он понял, о чем она думала. Она ему тоже казалась старой, иссохшей, изношенной временем и хлопотами. В ее карих глазах даже намека не было на ту крылатую фривольность, пленившую его в молодости.
– Хорошо, Джакомо, семнадцать. Больше, правда, не могу.
– Спасибо.
Казанова подождал в партере, а после репетиции подошел к режиссеру-постановщику Антонио Кассану, который сидел в первом ряду.
– Браво! Браво!
– Да какое тут браво, мессер Казанова. Было бы браво, мы бы не репетировали тысячу раз. Вы же слышали, как Тарталья непонятно на каком языке говорит.
– Но он и должен плохо говорить по-венециански. Он же неаполитанец.
– Да, но зритель должен понимать, что он неаполитанец, плохо говорящий по-венециански. А тут непонятно, кто он: неаполитанец, плохо говорящий по-венециански, или венецианец, плохо говорящий по-неаполитански. Или вообще какой-то грек, плохо говорящий по-французски.
– Может быть, тогда, позвольте предложить, Вам найти неаполитанского актера?
– Вы думаете, так легко найти хорошего неаполитанского актера?
– Но в общем, я считаю, что постановка очень удачная.
– Не знаю. Посмотрим, какая реакция будет позже, вечером. Прокуратор должен прийти с какими-то особами.
– Это кто?
– Какие-то дю Нор.
– А, да. Кстати, у вас было время взглянуть на мою рукопись?
Кассану не хотелось отвечать на этот вопрос, он даже съежился. Конечно, он не мог себе позволить ответить неуважительно. Казанова, может быть, никакого драматурга из себя не представлял, но у него были важные связи среди покровителей, и вообще в высшем свете его ценили как личность.
– Очень бегло, мессер Казанова.
– Ну, и как вам?
Кассан почесал свой кудрявый затылок.
– Ну, в общем, довольно интересно.
– Правда?
Кассан ненавидел врать.
– Четкие описания действий.
На лице Казановы мелькнула улыбка.
– Спасибо.
– Живые диалоги.
Кассан старался не смотреть на Казанову, давая команду сценографу.
– Как Вы считаете, – Казанова оглянулся вокруг себя, – может быть, тогда поставим, а?
Кассан сморщился, сжимая плечи.
– Я бы очень хотел, мессер Казанова. Но… но Вы же видите – даже на Гоцци мало кто ходит сегодня.
– Но, может быть… – Казанова заметил, что Кассан, с натянутым лицом, избегает его взгляда, и понял почему, – … я понимаю.
– Поймите правильно, – Кассан искренне не хотел его обижать, – поймите… я просто…
– Я все понимаю.
– Просто зрители хотят другого.
– Конечно.
Направляясь к выходу, Казанова увидел, что костюмерная была пуста. Он зашел и побродил по комнате, рассматривая костюмы, висящие в открытом гардеробе. Одна вещь ему понравилась – багровый атласный кафтан. Он задумался, затем подошел поближе и потрогал ткань. Видя, что вокруг никого нет и не слыша шагов в коридоре, он схватил кафтан, засунул его в свою суму и быстро вышел из театра.
Выпив чашку горячего шоколада на кампо Бартоломео, Казанова пошел в сторону церкви Святых апостолов в сестьере Каннареджо. Там он надел свою черную ларву, сел в гондолу и поплыл зигзагами в самую северную часть города, мимо церкви Сан-Феличе и Скуолы делла Мизерикордия, вдоль фондаменты Ормезини, до кампо Гетто Ново.
Ворота в гетто были открыты, и около них он узнал одного молодого стражника.
– Эй, Лука, это ты позавчера в кабаке «У петуха» всю ночь кутил? – спросил он, поглядывая на охранника сквозь суровую маску.
– Нет, мессер, не я.
– Точно?
– Точно, мессер, – стражник опустил глаза.
– А то смотри у меня. Капитан Гранде все узнает. А потом сам знаешь, что тебя ждет.
Людей на кампо было много. Торговля шла бойко. Казанова осторожно приблизился к одной лавке и подождал, пока круглолицый продавец с неухоженной серебристой бородой не освободится от клиентов.
– Jacques, mon ami! – наконец крикнул ему продавец. – Я, конечно, признателен тебе за визит, но мы можем обойтись и без формальностей.
Он указал на маску.
– Ш-ш-ш. Без лишнего восторга, Авраам.
– Ты все еще карнавалишь?
– Карнавалю, карнавалю. А ты?
– Да что тебе сказать? У Сары мать умерла. Вчера весь день отпевали. У меня поганый ревматизм. Проклинаю эту влажность! – продавец погладил пейсы. – Исаака в раввины тянет.
– Это же хорошо.
– Да чего хорошего? Голодать будет, когда я умру.
– Голод тоже важный учитель.
– Не знаю, не знаю, – Авраам прищурил глаза, указательным пальцем прося, чтобы Казанова наклонился ухом, и прошептал: – Все-таки по ту сторону канала живут лучше.
– Смотря кто.
– Торговаться легче.
– Я тебе принес кое-что. Посмотри.
Казанова достал из сумы багровый кафтан и разложил его на столе.
– О, – Авраам пощупал ткань. – Мягонько.
– Дамасский шелк.
– Думаешь? – лавочник сделал сомнительную мину.
– Ты что, не чувствуешь?
Авраам почесал бороду.
– Петли слишком изношены.
– Зато кем! – заносчиво произнес Казанова.
– Кем?
– Маркизой де Помпадур.
– Что?! – Авраам выпятил глаза, поднимая брови.
– Да, да.
– Да иди ты! Мадам де Помпадур? Фаворитка Людовика XV?
– Клянусь.
– Хмм…
Авраам внимательно осмотрел кафтан и кончиком своего пухлого пальца пощекотал поверхность ткани, как отец щекочет пузо своего новорожденного малыша.
– Твой – за два цехина, – предложил Казанова.
Он знал, что надо начинать высоко.
– Два! Да ты чокнулся, Жак!
– Ты что! Посмотри, какие узоры! Посмотри, какая кайма! Ты когда-нибудь видел такое мастерство? Ты потом его легко толкнешь за три цехина, если даже не больше.
– Не-не-не. Я тебе могу дать тридцать лир. И все.
– Да ты ничего не понимаешь! И, очевидно, не в курсе событий.
– Каких?
– Ты знаешь, кому мадам де Помпадур потом подарила этот кафтан? Ты знаешь, кто потом носил его на всех сценах Европы?
– Кто? – Авраам с трепетным любопытством посмотрел в магические глаза в черной ларве.
– Фаринелли!
– Кто?! Фаринелли-кастрат?
– Кастратиссимо!
– Ого-го-го!
– В театре Сан-Бенедетто именно у него со спины сорвали этот кафтан!
– Правда?
– А ты говоришь – тридцать лир. Он после этого эпизода поклялся на сцену не возвращаться.
– Ну, тогда, я тебе дам тридцать четыре. Но не больше. Согласен?
– Сорок.
– Куда сорок! – у Авраама забегали глаза в орбитах. – Тридцать пять. Но это предел.
– Тридцать восемь.
– Не-не-не.
– Тридцать семь.
– Тридцать шесть?
– Твой!
* * *
В таверне «У моста», расположенной напротив базилики Заниполо[31], прямо над каналом деи Мендиканти, Казанова заказал два чиккети[32] с маринованным окунем и омбру[33] беленького. Он сел у окна и посмотрел на три табернакля, возвышающиеся на верху фасада готического храма. С плотного зимнего неба падал снег. Казанова сонно наблюдал, как крупные мягкие хлопья кружились над конным памятником и над мостом, а потом оседали на гладкую черную поверхность воды. Он обычно не любил снег, особенно когда он падал ему на лицо. Однако сейчас снежинки ему казались волшебными, сверхъестественными, и он хотел их всех ухватить, поймать языком, как это делали дети, играющие возле храма. И чем больше и гуще валил снег, тем меньше он узнавал эту площадь. Вновь ему мерещилась иная архитектура, стиль иной эпохи: мелькал огромный голубой барочный дворец с белыми колоннами и безграничным, заросшим травой лугом.
– О, эти дю Нор, – завелся разговор за соседним столом. – Во разгулялись ребята! Ты слыхал, что утром было?
– Что?
– Один ухарь из свиты графа, уже навеселе, вышел из гостиницы и заказал себе гондолу. Когда ее предоставили, он сказал, что сам хочет грести.
– Чего?!
– Ему уступили. Он схватил весло, вскарабкался на судно и отчалил.
– Куда?
– Каким-то чудом он доплыл до рынка.
– И?
– Но этого ему было недостаточно. Он захотел плыть дальше. Все умоляли его остаться на берегу.
– А он?
– Но он не послушался и поплыл к мосту.
– Вот осел!
– И что ты думаешь? Бац, и в воду! Все думали – капут, утонет. Но нет, не утонул. Даже не замерз. Его выудили, он зашел в гостиницу, переоделся, вышел и пошел дальше по городу.
Казанова наконец благодаря соседнему разговору понял, что именно ему чудилось: Зимний дворец в Санкт-Петербурге. Он понял, откуда появилась эта ассоциация: Александра. Он весь день старался не думать о ней, зачеркивая в уме ее образ. И в какие-то моменты ему это удавалось. Однако полностью он не мог ее забыть. И он не мог переварить приказ инквизиторов не общаться с русскими. Этот запрет только усиливал его влечение к прекрасной фрейлине. Он видел ее голубые сияющие глаза, улыбающиеся, зовущие его в неизведанные закоулки ее души. Ему мерещились ее полные розовые губы, ее высокие скулы и длинные светлые локоны. Он начал бороться с собой, стараясь пересилить свое желание уединиться с ней, вновь забыться в ее глазах. Изучая в зеркале на стене свое исхудалое, утомленное, стареющее лицо, он взвесил: «Хорошо, я пойду на бал. Ну и что? Это же не запрещено. Все будет проходить в общественном месте. Мало ли кто ко мне подойдет? Мало ли кто меня о чем-то спросит? Я же сам приключений не буду искать. Просто буду присутствовать на балу, как я всегда на всех балах присутствую. Ничего в этом страшного нет. Что Красный может сделать? Ничего. А если кто-то из русских мне что-нибудь скажет, я просто извинюсь и вежливо отойду, и все. Пусть докладывают, что хотят. Да тут вообще нечего докладывать! Я первый начинать разговор ни с кем не буду. Не буду. Я просто хочу на нее посмотреть. Только посмотреть. Еще один раз. Последний раз».
9
На вечерней площади Сан-Марко бушевал дурманящий карнавал. Уличные музыканты, танцоры, фокусники и акробаты завораживали необузданную публику, которая качалась и плясала вокруг амфитеатра. Разноцветные конфетти сыпались повсюду так густо и беспрерывно, что, приподняв голову, было не видно ни кампанилы, ни черного неба.
Из этого оглушительного сумасбродства вышла белая ларва и с трудом сумела протолкнуться под аркадами к заднему входу Старых Прокураций, ибо в парадную дверь войти было физически невозможно. Внутри, поднимаясь по мраморной лестнице, Казанова уже слышал оживленные ноты вальса и игристое женское хихиканье. Кровь его забурлила, сердце затрепетало. Нырнув в бальный зал, как рыба обратно в воду, первым человеком, с которым он столкнулся, был художник Франческо Гварди, сидевший за полотном с кисточкой в зубах.
– Carissimo!
– О, Джакомо! – Гварди его узнал по голосу. – Как ты, дорогой?
– Прости, что тогда не пришел. А ты что тут делаешь?
– Прокуратор пригласил запечатлеть визит графов дю Нор. Уже две картины закончил. Эта третья.
– Дай посмотреть.
Картина еще не имела четких красок, но композиция была ясна: в центре – многосвечная люстра, висящая посередине потолка; на левой стене – ярусы с музыкантами; на правой – громадные зеркала; сзади, на втором плане – окна; на переднем плане – два ряда сидящих и смотрящих друг на друга женщин, разодетых в пышные платья с длинными подолами.
– Ну как? – спросил Гварди.
– Очень живенько. А это кто? Тут в левом углу? Вендрамин, что ли?
– Аха.
– Во скупердяй! Уже два года как к себе никого не приглашает.
– Да, не говори.
– А это? Ой, так это же Камилла из…
– Ш-ш-ш-ш-ш.
– Ладно, не буду мешать. Только покажи потом, когда закончишь.
– А как же иначе!
Большинство людей были в масках. Только венецианские чины ходили с открытыми лицами. Казанова скользил по полу, как змей увертливо и незаметно устремляясь вглубь зала, внимательно рассматривая маски женщин, изучая их движения, прислушиваясь к их голосам. Почти все говорили по-французски, и среди них он не мог различить русских. Вежливо здороваясь с теми, кого он узнавал, он разведал все уголки зала, прислушиваясь ко всем громким и негромким беседам, но Александры нигде не было. Вдруг он заметил, что на него посматривает прокуратор Пезаро. Он тут же схватил с проплывающего подноса бокал шампанского и присоединился к разговору двух венецианских купцов. Через минуту, кончиком глаза он увидел, как к Пезаро подошел молодой Винченцо Чеккин, личный паж дожа Реньера, и передал ему записку. Пезаро быстро ее прочел, оглянулся и, увидев имперского посла Дураццо, сразу бросил записку в камин. Но листок попал не в огонь, а на тлеющее бревно. Когда Пезаро резко отошел от камина и удалился, Казанова на цыпочках подкрался к огню и, проверив, что никто за ним не следит, своей тростью сдвинул записку с бревна и подвинул ее себе под сапог. Подождав, пока колыхающаяся толпа его полностью не загородила от глаз прокуратора, в одно мгновение он нагнулся и схватил листок бумаги, по краям уже сгоревший. Текст еще был виден:
Курс не меняется.
Альпийцы смотрят.
Ты продолжай развлекать.
Я ничего не знаю.
Казанова тут же скомкал записку и бросил ее обратно в камин, на этот раз так, чтобы она попала глубоко в огонь.
– А, синьор Казанова! Это Вы? Мы Вас узнали в вашей белой ларве. Да-да, это Вы.
Казанова узнал этот голос. Он повернулся и увидел графов дю Нор. Граф был в щекастой маске Пульчинеллы, я графиня – опять в черной Моретте, только на этот раз на ручке.
– Ваше Сиятельство! Графиня дю Нор! – Казанова поклонился. – Как я рад Вас видеть.
– Вот уже два дня, как мы не слышим ваши великолепные рассказы. Мы очень соскучились, я должен Вам признаться.
– Взаимно. Но у меня столько дел накопилось, Ваше Сиятельство, что я просто раздваиваюсь.
– Вы пропустили великолепную драму сегодня в театре Сан-Самуэле, – сказала графиня.
– Я передам Ваши добрые слова режиссеру. Он будет очень рад.
Казанова оглядывался, вздрагивая каждый раз, когда видел лицо какого-то венецианского чиновника.
– Может быть, вы к нам завтра присоединитесь? Прокуратор Пезаро обещал нам показать базилику Санти-Джованни э Паоло. Я уверен, что Вы могли бы рассказать много интересного.
– Очень постараюсь, Ваше Сиятельство. А сейчас, Вы меня извините, ради бога, но я должен на минутку удалиться.
– Конечно, конечно. Но только ненадолго.
Все громче и громче играла музыка, разжигая чувства танцующих, вдохновляя на менуэт даже самые неподвижные и неуклюжие пары. Тела сливались, кавалеры томно смотрели в женские глаза. Зал наполнялся негой и ощущением невесомости.
Казанова стоял у окна, поодаль от суеты, погруженный в раздумья. Александры пока было не видно. Дамы, танцующие без масок в середине зала, были венецианки; сидящие у стены были немолоды – некоторые вообще в преклонном возрасте. Его вдруг охватила ужасная мысль: а если Александра вообще не пришла на бал, а где-то заблудилась или гуляет по улицам среди этих похотливых карнавальщиков? Он взглянул в окно, на площадь, залитую морем бражничающих блудодеев, и сердце его сжалось. Почувствовав чью-то руку на плече, он повернулся и услышал шепот молодого мужчины в маске Арлекина:
– Завтра вечером, у испанского певца Диего Эспартеро собираются главы секты «Отстраненные монахи»!
– Что? – Казанова не понял, кто к нему обращается.
– Завтра вечером, у испанца…
– Бонифаччо, это ты?
– Да. Завтра у Эспартеро собирается секта «Отстраненные монахи».
– Хорошо. Спасибо. Учту.
Молодой мужчина не успел отойти, как к Казанове подбежал еще один господин в маске.
– Папское торговое судно «Апостол» задержано в Триесте, – прошептал он.
– Причина?
– Еще неизвестно.
– Держи меня в курсе.
Из толпы вышла дама в пышном красном платье и синей перистой маске и обратилась к Казанове:
– Добрый вечер, мой друг.
– Добрый вечер, мадам.
Он сразу понял, кто к нему обращается.
– Вы хорошо проводите время?
– Я на балах всегда хорошо провожу время, мадам.
– А в театрах?
– Простите?
– В театрах Вы тоже хорошо проводите время?
– Не так восхитительно как Вы, конечно. Но жаловаться не могу.
– Не знаю, не знаю. По-моему, служба не позволяет Вам расслабляться.
– О?
– И, по-моему, Вы служите не очень успешно.
– Вы думаете?
– В географии особенно отстаете. Не знаете, где находится Ватикан, а где – Неаполь.
Казанова улыбнулся самодовольно.
– Католицизм настолько всеобъемлющ, мадам, что становится трудно следить за всеми его аванпостами.
– Вы бы сначала научились правильно следить хотя бы за его посланниками.
– Да что Вы?
Дама покачала головой.
– Как же ты опустился, Джакомо. Как же ты опустился, дорогой.
– Жизнь, мадам Лоредан. Жизнь нас заставляет меняться. Понимаете?
– Ведь ровно тридцать лет назад в том же театре Сан-Бенедетто, месье Стукач также восхитительно проводил время. Со мной.
– Вы глубоко ошибаетесь, мадам. Во-первых, театр был не Сан-Бенедетто, а Сан-Джованни Кризостомо. Театр Сан-Бенедетто построили только в 1755 году.
– А, да. В 55-м Вы пребывали в заключении. За богохульство, если я не ошибаюсь, и за развратное поведение.
– А во-вторых, время, проведенное с Вами, для месье было вовсе не восхитительным, как Вам казалось, а довольно заурядным.
– А зачем же ты тогда просил моей руки?
– Вашей руки? – Казанова усмехнулся. – Вам это, безусловно, пригрезилось, мадам Лоредан.
– Конечно. И в отчаянии потом умолял своего покровителя, чтобы он дал тебе свою фамилию, и таким образом ты бы имел право на мне жениться.
– Ха! Его фамилию? Да Вы свихнулись, мадам. Мессер Брагадин сейчас бы в могиле перевернулся, если бы услышал Ваши слова.
– Скажи спасибо, что тебе отказали. А то бы ты сейчас тоже в могиле вертелся. Стал бы ты моим супругом, я бы непременно влила яд в твое какао.
– Выпало бы мне быть Вашим супругом, мадам, уверяю Вас, вливать яд в мое какао Вам бы не понадобилось. Я выпил бы его сам в чистом виде.
Казанова грациозно поклонился и юркнул в толпу.
В зале уже находилось так много людей, что было бесполезно искать Александру. Чтобы ее найти, ему пришлось бы подходить к каждой женщине отдельно.
– Джакомо, есть одно дело, – прозвучал мужской голос.
Это был Пьетро Дзагури.
– Слушаю.
– Я сегодня получил письмо от Меммо.
– Ну и как он там, в Риме? Мог бы мне тоже написать давно.
– Там-то все хорошо. Чем плохо быть послом в Вечном городе! Но тут у него дела неважно складываются.
– Что случилось?
– С тех пор как дочки вышли замуж, семейное состояние начало распадаться.
– А что он удивляется? В качестве приданого он почти все раздал.
– Да, я ему то же самое говорил.
– Короче.
– Короче, он с братьями думает продать какую-то часть семейного имущества.
– И?
– Нужен посредник.
– Хорошо. Но почему он меня сам не попросил?
– Не знаю. Может быть, стесняется.
– Меня?!
– Еще не точно, но если до этого дойдет, он бы хотел на тебя положиться.
– О чем речь!
– И, Джакомо, я тебя умоляю, ради меня, не играй больше у Гримани. Ты же себе там кровь портишь.
Казанова неохотно кивнул.
Музыканты спустились с ярусов на перерыв. В зале поднялся головокружительный гам. Хрустальные люстры задрожали, и закрытые окна задребезжали. Официанты засуетились вокруг гостей. Казанове стало душно. Он вышел в вестибюль, в котором было открыто небольшое окошко.
В бальный зал продолжало вливаться множество венецианских и иностранных гостей, но русской речи не было слышно. Да и вообще, вряд ли бы он ее узнал. Кроме нескольких слов и предложений, Казанова ничего не помнил.
Опираясь на мраморный порфировый подоконник, Казанова заметил, что к нему тайком надвигался человек в маске Доктора чумы. Маска была не просто карнавальная, а настоящая кожаная маска врача, с длиннейшим клювом, в который когда-то клали цветы и растения, чтобы лекарь не дышал воздухом умирающих пациентов.
– Мое почтение, – сказал человек с клювом по-французски.
Казанова услышал акцент и сразу понял, что мужчина не был французом.
– Здравствуйте, – ответил Казанова.
– Вы не возражаете, если я к Вам присоединюсь тут, у окошка? А то как-то тяжело дышится в зале.
– Милости просим.
– Великолепный бал, не правда ли?
– Превосходный.
«Лекарь» так близко стал рядом с Казановой, что его клюв сдвинул ларву собеседника.
– Ой, простите, ради бога!
– Ничего, ничего.
Казанова понял по тяжелому акценту и по знакомому голосу, что человек был одним из русских, сопровождающих графов дю Нор. Он также понял по сдержанному шепоту, что мужчина не собирался выдавать себя. Казанова хотел спросить его про остальных членов графской свиты, но передумал, подозревая, что эта мизансцена могла быть ловушкой инквизиторов. Однако мысль об Александре не покидала его, и он надеялся, что «лекарь» что-то скажет, хотя бы даже косвенно, о ее местопребывании.
– Вы знаете, я все смотрю на ваш карнавал и не могу насмотреться.
«Значит, он знает, что я венецианец, – подумал Казанова, – ведь он сказал „ваш“, то есть наш, карнавал».
– Благодарствуйте, месье. Каждый раз, когда я возвращаюсь из-за границы, мне не верится, что я живу и происхожу из самого красивого города в мире.
– Абсолютно согласен! Самый красивый!
– Ведь, чем больше мы выезжаем и возвращаемся в Венецию, тем паче мы ее ценим и тем паче понимаем ее уникальность.
– Уникальность, не только эстетическую.
– Да-да.
– Но и этическую!
Шепот «лекаря» был таким тихим, казалось, он просто дышал словами.
– Конечно, – ответил Казанова.
– Самое интересное в Вашем чудесном городе – это его история, его культура, его… его нравы.
Казанова заметил, как осторожно и любознательно посмотрели на него глазки из докторской маски.
– Правильно.
– Его нравы и его нравственность. То есть я хочу сказать, что Венеция богата своей нравственностью, то есть разнородностью и объективностью своей нравственности. Вы меня понимаете, я надеюсь?
– По-моему, да.
– Я хочу сказать, что ваши этические откровенности позволяют человеку быть человеком, то есть таким, каков он есть.
– Да, кажется, я понимаю, о чем Вы говорите.
– Ваше общество настолько прочно, в нравственном смысле, что все индивидуальные феномены, которые порой могут показаться нам, иностранцам, маловысокохудожественными, на самом деле только обогащают культурную ткань светлейшей столицы.
– А именно, сударь?
– Вот недавно я уловил одно словечко, – докторская маска оглянулась вокруг, – одно словечко, гм-гм-гм, которое имеет весьма курьезное значение.
– Какое, если не секрет?
– Чичисбей.
– О, это у нас целая наука!
– Да, да. Будьте любезны, расскажите, если не тягостно. Буду Вам очень признателен.
– Ну, чичисбей, можно сказать, – Казанова тоже перешел на шепот, – это постоянный спутник замужней дамы. Начнем с того, что венецианский чичисбеизм сильно отличается от чичисбеизма римского, или флорентийского, или даже, скажем, генуэзского. Во-первых, венецианские мужья сами поощряют, а порой даже настаивают на том, чтобы их жены нанимали себе чичисбея после вступления в брак. В Риме и во Флоренции обычно дамы вступают в брак, только если будущий супруг позволит им иметь чичисбея. То есть в тех городах супруги заключают договор.
– Интересно.
– Во-вторых, в отличие от тех городов, в Венеции чичисбеи сопровождают женщин повсюду. В Риме и Генуе, например, чичисбею запрещено показываться с дамой в храме Божьем. Во Флоренции все зависит от ранга и общественного положения супруга.
– О!
– И, конечно, у нас эта традиция отличается тем, что чичисбей не обязан быть… быть из другого прихода.
– Из «другого прихода»? Виноват, не понимаю.
– Ну, как вам сказать, месье? Другой ориентации.
– Мужеложцем, что ли?
Казанова кивнул убедительно.
– И чичисбей не имеет права вступать в подобные отношения с другими дамами, пока он обслуживает свою хозяйку. В Риме, Флоренции и Генуе договор ему не позволяет. А в Венеции, где не существует таких договоров, сам супруг это запрещает.
– Какая интересная традиция. Значит, в Венеции, можно сказать, отношения между женой, ее супругом и ее чичисбеем менее формальны и более человечны?
– Совершенно правильно.
– Вот именно это я имел в виду! Именно перед этой гуманностью, перед этим гуманизмом я преклоняюсь.
– Да, список наших гуманистов весьма обширен.
– Вот-вот. По поводу списка.
– Какого?
– Того, самого-самого.
– То есть?
– Самого гуманистического.
– Самого гуманистического?
«Лекарь» опять оглянулся вокруг.
– Того, ну, того знаменитого, древнего, подробного, с самыми чтимыми свойствами самых почитаемых гуманисток.
– А! Вы говорите про «Перечень всех особых и наиболее уважаемых куртизанок в Венеции»?
«Лекарь» охотно закивал своим клювом.
– Да-да-да.
– К сожалению, сударь, этот каталог уже двести лет как не публикуется.
– Правда?
– Да. Его перестали печатать после Контрреформации.
– Ой, как жаль.
– Но если Вас это очень интересует, я уверен, что где-то можно откапать один экземпляр. Могу похлопотать, если изволите? Ради научного исследования, разумеется.
– О, нет. Очень Вам благодарен, но вовсе не обязательно. Просто желал с Вами перекинуться словом. Всего Вам доброго.
Доктор чумы быстренько отошел и слился с пестрой шумной толпой.
Вдруг в бальном зале стало тихо. К оркестру, вернувшемуся на ярусы, подошел австрийский посол Дураццо и произнес речь в честь венецианской музыки, объявляя, что публику ждет небольшой сюрприз. За клавесин сел молодой музыкант, и дирижер поднял палочку.
Казанова зашел обратно в зал и услышал новую аранжировку старой темы. Вместе с резкими стаккато струнных инструментов на первую долю каждого такта раздавался арпеджированный аккорд клавесина[34]. Это было аллегро нон мольто из «Зимы», последнего концерта «Времен года» Вивальди. Дополнительный клавесин, не указанный в оригинальной партитуре, увеличивал напряжение между подкрадывающимися штрихами. Ритм тоже был быстрее обычного, и Казанова почувствовал, как тревожные звуки, раздающиеся подобно ледяному режущему дождю, бьющемуся о каменную стену, овладевали изнеженной публикой. Сам захваченный минорным крещендо и вихревыми артикуляциями первой скрипки, он, как упрямый ребенок, вновь бросился на поиски Александры. Он видел цесаревича с супругой, графа и графиню Салтыковых, пару русских офицеров, флиртующих с венецианками, а также гофмейстерину Бенкендорф. Уже подошли фрейлины Нелидова и Борщова. Но, обойдя весь зал, Александру он так и не нашел. Он понял, что ему просто было не суждено ее встретить вновь. «Может быть, так даже лучше», – подумал он. Так он хотя бы мог избежать соблазна и ненужного возбуждения, которые в прошлом только мешали ему сосредотачиваться на творческой деятельности и уводили в изнуряющий омут сладострастия.
«Да, так будет лучше, – сказал он себе, решив покинуть зал после окончания первой части „Зимы“».
Но как только буйный скрипичный шквал перешел на постепенное декрещендо и Казанова повернулся к выходу, перед ним предстала статная фигура в белой ларве, черной кружевной мантии, розовой треуголке и розовом платье на широком панье.
– Мужчина, родившийся в Венеции, в бедной семье, – заговорила фигура по-итальянски тонким, но твердым женским голосом, – без наследства и без тех почестей, которые в городах отличают знатные семьи от простонародных, но будучи благонравным, как Богу угодно, подобно тем людям, которые не предназначены для плебейских ремесел…
Казанова остолбенел: фигура читала начало его повести «Дуэль». Наизусть!
– … на двадцать восьмом году жизни трагично впадает в немилость правительства, а на двадцать девятом году фортуна ему улыбается и он бежит из тисков того святого правосудия, чье наказание он больше не мог выносить.
Казанова не мог поверить своим ушам: его охватил и ужас, и восторг, и полная беспомощность.
– Кто вы? – смущенно спросил он.
– Блажен тот преступник, который может тихо выносить заслуженное им наказание, дожидаясь конца своего срока со смиренным терпением; несчастен тот беззаконник, который, совершив грех, не имеет мужества, чтобы искупить и загладить свою вину, четко подчиняясь приговору.
– Кто Вы?
Маска молчала, пронизывая Казанову суровым, острым взглядом. Сердце его прыгнуло в горло.
– Почему Вы это читаете? Где Вы нашли этот текст?
– Вы удивлены, что Ваши книги находятся у книготорговцев? – дама перешла на французский.
Казанова узнал ее полные розовые губы.
– Это Вы? – спросил он нервным шепотом.
– Кто? – ответила она с улыбкой соучастницы.
– Александра, я Вас искал весь… – Казанова оглянулся. – Не снимайте маску. Пойдемте со мной.
Они вышли в вестибюль, оставляя позади начинающееся струнное пиццикатто второй части концерта.
– Как Вы нашли эту книгу?
Он все еще не мог поверить, что она наизусть выучила отрывок его произведения, что это произведение вообще кого-то еще могло интересовать.
– Очень просто.
– Зачем она Вам?
– Мне сказали, что вы писатель. Мне стало интересно.
– Неужели эту книгу все еще можно найти? Ее никто не читал, когда она вышла.
– И зря.
– Что?
– Я пока прочла только первую часть, но она произвела на меня сильное впечатление.
– Эта маленькая незначительная заметка произвела на Вас сильное впечатление?
– Это настоящая повесть. Глубокомысленная, интригующая, со своей особой структурой и своим обрамлением, написана в изысканном, волнующем и, я бы даже сказала, повелительном стиле.
Никто никогда Казанове не говорил ничего подобного. Никто его так не хвалил.
«„Обрамление“, „повелительный стиль“. Боже мой, как прекрасно это звучит», – подумал он.
– Правда? Вы считаете?
– Только можно я Вам задам один вопрос? – она сложила веер.
– Прошу покорнейше.
– Непростой вопрос?
– Непростой?
– Да.
Казанова посмотрел на людей, крутящихся в вестибюле.
– Если непростой, тогда, может быть, нам лучше выйти на улицу и подышать свежим ночным воздухом?
Они вышли из Прокураций через заднюю дверь. Позади огромного здания почти никого не было – все карнавальщики уже давно скопились на площади. Казанова повел Александру по узкой слабо освещенной калле к кампо Русоло, где стояла самая маленькая церковь города – Сан-Галло. Александра остановилась у колодца.
– Этот венецианец, о котором Вы пишите, – она подняла к нему глаза, – был преступником, заключенным. Он бежал из тюрьмы за границу. Он, по Вашим словам, «отказался от реабилитации на родине».
– Да.
– Каково было его преступление?
– Самое банальное и непримечательное.
– А именно?
– Один государственный шпион донес правительству, что он занимался чернокнижием и был богохульником.
Под маской Александры снова мелькнула улыбка.
– И сколько ему присудили?
– Его без суда приговорили к пяти годам заключения в «Свинцовой кровле», из которой никто никогда не совершал побег. Он просидел там пятнадцать месяцев.
– Почему тюрьма называется «Свинцовой кровлей»?
– Она расположена на верхнем этаже Дворца дожей, под крышей, которая сделана из свинцовых плит.
– Дворец дожей? – она удивилась. – Там, где живет дож? Там, где заседают государственные советы?
– Да. Эта тюрьма предназначена для политических преступников и для заключенных высокого положения.
– Но как же тогда он там оказался, если не был ни политическим преступником, ни из знатной семьи?
– У него был очень важный и влиятельный покровитель – сенатор Маттео Брагадин, представитель одного из самых древних родов республики. Когда-то случайно, будучи убогим двадцатилетним скрипачом, он спас жизнь этому господину, за что сенатор его приютил и стал его самым близким другом, его отцом.
– Но, значит, Ваш герой не очень чтил своего покровителя?
– Почему?
– Потому что он читал запрещенные государством книги.
– Сенатор сам занимался каббалой.
Капля лунного света блеснула на ее губах.
– А мужество, мессер Казанова?
– Не понимаю?
– Вы пишите, что у Вашего героя не хватало мужества, для того чтобы искупить и загладить свою вину.
– Свобода для него была важнее проявления мужества.
– Важнее даже своей родины? Своего любимого города?
– В то время – да.
– А сейчас?
Казанова услышал звук медленно подкрадывающихся каблуков. Он посмотрел по сторонам, и звук затих.
– Когда герой моей повести был еще маленьким мальчиком, – он нежно взял Александру за локоть и повел ее к мосту, расположенному над каналом Орсеоло, – он был очень хилым, глупым и страдал от носовых кровотечений. Родители особенно не обращали на него внимания, полагая, как говорили врачи, что мальчик долго не проживет. До восьми лет он рос с бабушкой Марцией, единственным человеком, проявлявшим к нему теплоту и заботу. Однажды бабушка, потеряв веру в лекарства, прописанные врачами, решила его вылечить другим, особым, методом. Она подняла мальчика рано утром, задолго до того, как на улицах появляется народ. Они сели в гондолу и поплыли на остров Мурано. Мальчик очень боялся, потому что бабушка никому не сказала, что они поплывут на остров. Все было очень таинственно. На острове они зашли в чудовищный сарай, в котором стояла старая, дряхлая женщина и бегало несметное количество кошек. Бабушка дала женщине серебряный дукат. Женщина сказала мальчику не бояться, взяла его на руки и закрыла в деревянном сундуке. Мальчик дрожал, как последний лист на осеннем ветру, из носа ручьями текла кровь. Он слышал жуткий шум: крики, плач, пение, хохот. Женщина стучала по сундуку, трясла его. Мальчик думал, что ему пришел конец. Вдруг стало тихо. Сундук открылся, и колдунья вытащила дрожащего мальчика. Кровь перестала течь. Она его раздела, положила на постель, сожгла корешки, собрала дым в простынь, ею же обернула мальчика, произнесла новые заклинания, дала ему пять сахарных облаток, протерла его шею и виски благоуханной мазью и одела. Она ему обещала, что кровотечения пройдут, но только если он никому не расскажет про ее секретное лечение, а если расскажет, то тут же умрет…
Пальцы Казановы пробежали по спине Александры.
– …А затем колдунья сказала мальчику, что ночью к нему придет прекрасная дама и осчастливит его, но только если он никому не расскажет про это посещение. Мальчик с бабушкой вернулись домой, и ночью, лежа в своей кроватке, он увидел поразительную фею, спускающуюся из каминной трубы, такую красивую, что его глазам было больно на нее смотреть…
Казанова почувствовал руку Александры в своей руке.
– …Она была в великолепном платье на широком панье, а ее корона сияла редкими камнями и огненными искрами. Медленно и величественно она подошла к кроватке и присела возле мальчика. Из своего кармана она извлекла маленькие коробочки и высыпала их содержимое ему на голову. И вдруг после несколько ласковых, но непонятных слов она поцеловала его. Но перед тем как он успел вымолвить слово, прекрасная фея повернулась и исчезла тем же путем, каким и явилась…
Казанова с Александрой остановились на мосту, и он вгляделся в ее покорные глаза.
– …Та ночь пробудила в мальчике личность. Он вышел из летаргического детского сна. Он начал всем интересоваться. За один месяц он научился читать. Он хотел знать, познавать. Кровотечения через какое-то время полностью исчезли. Он почувствовал, что живет и является частью мира. Но, важнее всего, он понял, что женщина – это не просто человек, а нечто чудесное, волшебное, способное его излечить и освободить от тягостей существования.
– А сейчас? – спросила Александра. – Что для него женщина сейчас?
Казанова снял ее треуголку и приподнял маску, и у него не укладывалось в сознании, что сейчас его глазам было так же больно смотреть, как тогда, пятьдесят лет назад, в детстве.
– А сейчас ему не верится, что вновь перед ним явилась та фея. И он хотел бы поблагодарить ее и вернуть ей тот поцелуй.
Глаза Александры сфокусировались на темных орбитах маски венецианца, ища его глаза. Но даже когда он наклонился, не снимая свою маску, и поцеловал ее, она не смогла их рассмотреть. Вдруг она услышала приближающие шаги. На мост взошла темная фигура и резко остановилась сзади пары. Казанова с Александрой повернулись и увидели, как внимательно этот человек в маске Пульчинеллы их изучает. Но, перед тем как Казанова смог его прогнать, человек сам спрыгнул с моста и рванул по калле Трон, исчезая в ночи.
У Александры застучало сердце. На мгновение она не поняла, где находится и что здесь делает. Лицо ее искривилось. Она взирала то вниз, на канал, то вверх, на черное небо, но ничего не могла сказать. Только потом, почувствовав руки Казановы на своей талии, она нашла какие-то слова.
– Месье… Месье, пожалуйста, со… сопроводите меня обратно в зал. Пожалуйста.
– Не беспокойтесь, мы…
– Я вас умоляю! – она вскрикнула.
– Да-да. Конечно.
Они быстрым шагом направились в Прокурации. Она не держалась за него и не разрешала ему поддерживать ее локоть. Их каблуки громко били по камню, поднимая тревожное эхо на всю улицу.
Войдя через задний вход, Александра надела свою маску и стрелой взлетела по лестнице. Казанова старался ее догнать, но его возраст помешал ему. Он только слышал, как шелестело ее вздымающееся платье и стучали ее каблуки. Оказавшись на пьяно нобиле, русская красавица сбросила свою шубу лакею и скромно, тихо, с врожденной легкостью вошла в оживленный зал. Задыхающийся Казанова остался в вестибюле и дальше решил не идти.
10
Утром Казанова задумчиво сидел в кафе «Флориан» под Новыми Прокурациями и маленькими глотками наслаждался густым горячим шоколадом. Просыпающаяся безлюдная площадь была покрыта сырыми липкими конфетти и суетливыми голубями.
Он, конечно, понимал страх Александры. Ему вспомнилось, как строго наблюдали за придворными во время его пребывания в Санкт-Петербурге, с каким колебанием они оставались с ним наедине, опасаясь обсуждать даже самые абстрактные темы. Он тогда заметил, что у русских к иностранцам было особое отношение, не такое, как в остальной Европе. Иностранец для русского – это не просто человек из другой страны, это нечто необыкновенное, сенсационное, вызывающее чрезвычайный интерес, как будто он не иностранец, а инопланетянин. Да и для западных европейцев русская нация тоже являлась курьезной, особенно сочетание славянского народа с германским двором.
Пока Казанова размышлял о России, вспоминая деликатные прикосновения Александры и ее вкусные податливые губы, в кафе зашел молодой благородный господин и подошел к столу.
– Прокуратор Пезаро вызывает Вас на собеседование, – прошептал молодой человек официальным тоном.
Казанова заплатил за шоколад и вышел с посыльным. Но посередине площади, не доходя до Старых Прокурациях, молодой человек добавил:
– Только не у себя, а во Дворце.
– Во Дворце? – Казанова удивился.
– Да. На Лестнице гигантов.
«Странно», – подумал Казанова, быстро шагая к Дворцу, – «Пезаро всегда всех принимает у себя в Старых Прокурациях».
Войдя во двор дворца дожей, он увидел карминную магистратскую тогу наверху Лестницы гигантов, возле статуи Нептуна. Казанова поднялся, но, когда мужчина к нему повернулся, он понял, что это был вовсе не прокуратор Пезаро, а Красный – глава инквизиторов.
– Добрый день, Ваше Высокопревосходительство.
– Есть одно маленькое дело.
– Что-то случилось?
– Нет. Почему Вы спрашиваете?
– Мне сказали, что Его Высочество прокуратор Пезаро хотел, чтобы я к нему пожаловал.
– Идемте.
– Как скажете.
Поднимаясь по Золотой лестнице, Казанова сконфузился. По Золотой лестнице поднимались лишь венецианские патриции или иностранные дворяне. Он осторожно спросил:
– А куда, дозвольте осведомиться, Ваше Высокопревосходительство, мы идем?
– Один заключенный желает с Вами поговорить.
– Заключенный?! – Казанова замер. – Со мной?! Да Вы шутите, Ваше Высокопревосходительство?
– Нет, не шучу.
– Неужели Вы меня ведете в «Свинцовку» с ним разговаривать? И что он должен мне сказать такое важное, что не может сказать Вам?
– Этот политзаключенный обещал нам назвать пару имен, но только в Вашем присутствии. Я Вас уверяю, Вы к этому делу не причастны. Давайте не будем терять время. Это займет только одну минуту.
Всего один раз Казанова посетил «Свинцовые кровли» после своей реабилитации. Это было в начале 1775 года, через несколько месяцев после возвращения в Венецию, когда некоторые любознательные члены правительства попросили его показать им, как он уловчился совершить свой знаменитый побег. Он поднялся с ними в тюрьму и все объяснил, подробно воссоздавая ту мистическую ночь, когда он, оставив в камере записку с цитатой из 117-го псалма: «Не умру, а буду жить и возвещать дела Господни», с помощью узника из соседней камеры, отца Бальби, вылез через прорубленную дыру в потолке, снял несколько свинцовых плит, залез на крышу, спустился через окно вовнутрь дворца и утром, когда охранники открывали ворота, выпрыгнул, сел в гондолу и удрал на материк.
Но сейчас, идя с Красным мимо Зала Совета десяти и Зала инквизиторов, поднимаясь выше и выше по секретным коридорам и узким головокружительным лестницам, Казанова не мог понять, зачем он нужен на этом допросе и почему именно Красный собирался допрашивать заключенного, когда обычно это делал его секретарь. Проходя мимо затхлой камеры пыток, в которой, к счастью, его никогда не обрабатывали, Казанову охватили тошнота и слабость.
– Вы уверены, Ваше Высокопревосходительство, что этот заключенный желает именно моего присутствия?
Красный не ответил, не обернулся и не остановился.
Они поднялись на верхний этаж восточного крыла, и Красный постучал в чугунную дверь. Ее открыл громадный мускулистый сторож. Мужчины направились по смрадному коридору, проходя мимо двух низких деревянных дверей. У третей двери они остановились. Там стоял еще один сторож.
– Вы хотите сказать, В-в-ваше Высокопревосходительство, что этот узник сидит в-в-в моей старой?… – Казанова не смог договорить предложение.
Красный сделал жест, чтобы сторож открыл дверь. Из темного ничтожного пространства напором вырвалась крысиная вонь. Камера тянулась полтора метра в высоту. У Казановы помутнело в глазах и задрожали руки. Образовалась длинная пауза. Из камеры никто не выходил, и никто в ней не шевелился.
– А у-у-узник где, не понимаю? – безустанно мигал Казанова, боясь смотреть в камеру.
– Узник уже давно на свободе, мессер Казанова, – через нос сказал Красный с каменной, как гробовая плита, миной.
– Не п-п-понимаю… – на лице Казановы зыбью промелькнула невинная улыбка, и затрепетал кадык.
– И мы все хотим, чтобы он остался на свободе.
Наконец Казанову осенило четкое, печальное соображение.
– Что-то я тут… неужели Вы…
– Давайте без игр. Раз и навсегда. Вам же было приказано не общаться с русскими.
Казанова моментально пришел в себя.
– Кто Вам доложил? Форлин? Лацари? Миоло?
– Неважно.
– Лацари, да? Скотина!
– Я надеюсь, Вы меня понимаете.
– Я хочу сказать только одну вещь, Ваше Высокопревосходительство.
– Да?
– Все, что я делаю, я делаю ради блага нашей республики. Всем известно, что нам нужен союз с Россией. Я не хочу, чтобы мы упустили эту возможность. Я только стараюсь вызвать у гостей благосклонность к Венеции. Приблизить их к нам. Понимаете?
– Приказ есть приказ.
– Я желаю отметить, что в моем поведении нет ничего предательского.
– Не будем больше возвращаться на этот этаж, мессер Казанова, – Красный сказал это таким мягким тоном, что для Казановы он прозвучал противоестественно. – Договорились?
Казанове все это казалось кошмаром, от которого он никак не мог проснуться. Сторожа пахли, как туши на крючке. Красный смотрел на него самонадеянно, ожидая, как обычно, его безропотного подчинения. Казанова знал, что работой конфидента он никогда не разбогатеет, но какой-то дополнительный доход она ему порой приносила. Однако, ощущая на себе черствый взгляд инквизитора и одним глазом поглядывая на свою бывшую камеру, он понял, что эта работа не стоила такого унижения – его достоинство все-таки было важнее. И думая, как сохранить самоуважение, он вспомнил вчерашний вечер и почувствовал прилив какой-то непонятной светлой силы – свежей, взбадривающей и укрепляющей. Он выпрямил грудь и сказал четко и спокойно:
– Если Ваша позиция в отношении меня настолько категорична, я осмелюсь сделать вывод, что Высший трибунал может обойтись без моих услуг.
– О! – Красный прищурился, не ожидая от Казановы такой храбрости.
– Следовательно, трибунал и не пожалеет, если я подам в отставку. Сию же минуту.
– Воля ваша.
– Вот именно.
– Тем не менее в данном случае я настоятельно Вам рекомендую соблюдать дистанцию по отношению к русским, – веско сказал Красный. – Большую дистанцию.
– Мы сейчас спустимся, и Вы получите мое прошение об отставке в письменном виде. И поскольку я у Вас не в штате, Вы не имеете права ее не принимать. Дальше я уже не конфидент.
– Бывших конфидентов не бывает.
– Протокол больше не будет меня ни к чему обязывать.
– Протокол – нет, но республика – да.
– Я всегда был и всегда останусь преданным нашей республики.
Красного раздражала настойчивость Казановы.
– Я Вас предупреждаю, мессер Казанова, будьте очень, очень осторожны, – инквизитор вздохнул, указывая на дверь, которую сторож сразу же захлопнул. – А то потом страшно пожалеете. Страшно.
* * *
– Да мать их всех в рифму! – кипел Казанова, удаляясь от площади Сан-Марко, чувствуя, как дрожат руки и кровь бьется в висках. – Чтоб они все сдохли в своей «Свинцовке»! Какого черта я с ними связался? Из-за каких-то двух грошей! Да лучше я с голода умру, чем буду этим мракобесам служить!
Дома Франческа сразу поняла, что он не в духе. Она отправила брата с сестрой в их комнату, разогрела Казанове куриный бульон и налила стакан красного вина. Молча наблюдая, как он ест, она видела, как не прекращали трястись его руки.
– Добавить?
– Нет. Оставь побольше Марии с Джакомо.
– Тебе письмо пришло.
– Письмо?
– Да. Смотри, какой красивый сургуч.
Она положила на стол конверт. Казанова встал, порвал конверт и поднес письмо к окну. Текст был написан элегантным почерком по-итальянски:
«Графы дю Нор со свитой завербованы Австрией.
Берегите себя. Берегите Венецию».
– Кто это принес?! – вскрикнул он, ошеломленный.
– А что там написано, миленький?
– Кто это принес, я сказал?!
– Я не знаю. Постучали в дверь. Я открыла. Стоял господин в маске.
– В маске?
– Да. В белой ларве, как у тебя. Сказал, чтобы я тебе передала это письмо. И все.
– Что, он даже не спросил, дома я или нет?
– Нет.
– Он был венецианец?
– По-моему, да.
– Что значит «по-моему»? Да или нет?
– Я не знаю. Он так быстро говорил, что… я не знаю. А потом быстро ушел.
– Он говорил с акцентом?
Франческа задумалась, стараясь припомнить произношение постороннего.
– Может быть, да.
– С каким акцентом? С немецким, русским? С французским? Давай, вспомни.
– С немецким! С русским! С французским! Миленький, ты что? Ты же знаешь, что мне тяжело отличить местринский от тревизского.
– Он больше ничего не сказал? Только передал письмо?
Лицо Казановы исказилось.
– Да. А что там написано? Скажи мне, пожалуйста. Я же переживаю.
– Это нас не касается, Кекка. Ни меня, ни тебя.
– Точно?
– Точно.
* * *
Позже, сидя у окна в таверне «У моста» и помня, что Пезаро вскоре должен был пройти мимо, чтобы показать русским храм Заниполо, Казанова пил кофе и пытался разобраться в письме.
«Если эта подлинная информация, – думал он, – то написал Шварц или Тонон, а может быть, даже Музер из Вены, который потом послал ее Тонону. Если все правда, тогда Австрия, зная, что Пезаро будет предлагать России какую-то сделку, послала русского князя узнать, что именно Венеция даст России за ее поддержку. Таким образом, удостоверившись, что Венеция стремится вступить в секретные отношения с Россией и нарушить свой нейтралитет, австрийская атака на венецианские объекты будет оправдана. Если это просто очередные козни, то автор, несомненно, Пюго или Лацари: Пюго просто хочет мне отомстить, а Лацари нужно больше хлеба. Если я предупрежу Пезаро, то он спросит, откуда информация, и скажет, что источник ненадежный. А если я его не предупрежу, то потом могу пожалеть. Потом все могут пожалеть. Так что лучше предупредить».
Вдруг в таверну вбежал взволнованный мальчик и громко крикнул:
– Прокуратор Пезаро идет! Прокуратор Пезаро идет с иностранцами!
Народ на улице посторонился. Высунув из таверны голову, Казанова увидел, как Пезаро, в сопровождении почетного конвоя и под военный марш ведет великокняжескую чету к базилике Санти-Джованни э Паоло.
– Evviva Venezia! – кричал народ.
– Evviva San Marco!
Казанова спрятался внутри таверны, пока процессия не прошла мимо, а когда все перешли мостик и оказались на кампо, у базилики, он надел черную ларву и вышел на улицу.
– Эта великая доминиканская базилика является нашим Пантеоном, Ваше Сиятельство, – гордо говорил Пезаро. – Она строилась двести лет, между XIII и XV веками. В ней покоятся самые выдающиеся представители Светлейшей Республики: дожы, военачальники и религиозные деятели.
У входа Пезаро представил гостей настоятелю храма, и все вошли внутрь.
– Над главным порталом, как вы видите, расположен надгробный памятник дожа Альвизе Мочениго Первого, правившего Венецией с 1570 года до 1577 года. Именно во время его правления состоялась важнейшая для Европы битва при Лепанто, в которой Священная Лига разгромила османский флот, таким образом, навсегда запретив ранее непобедимым туркам вторгаться на итальянский полуостров. Эта битва считается одним из двух самых великих морских сражений в мировой истории. Первой была битва при Акциуме в конце римских гражданских воин.
– Да, конечно, конечно! Лепанто! – оживился цесаревич. – В Священной Лиге участвовали мальтийские рыцари!
– Вы совершенно правы, Ваше Сиятельство. Рядом с Венецией, Испанией, Папским государством и другими европейскими союзниками воевал и Мальтийский орден. Однако я должен отметить, что Венеция снабдила своими галерами больше половины общего флота Священной Лиги, а в самой битве пролила две трети христианской крови.
– Что Вы говорите! – цесаревич с открытым ртом смотрел на длинный центральный неф.
– Так что Вы понимаете, почему эта битва так важна для Венеции. Мы к ней еще вернемся, господа.
Пезаро повел гостей по левому нефу. Русские не могли наглядеться на тихое могущество венецианской готики.
– Здесь мы видим могилу дожа Томазо Мочениго, который в начале XV века превратил республику в первенствующую державу в международной торговле. Дальше мы видим надгробье дожа Паскаля Малипьеро, сумевшего установить долгожданный мир с соседями Венеции после бесконечных войн, развязанных его предшественником Франческо Фоскари. А тут, в левом трансепте, перед нами предстает бронзовая статуя великого адмирала, воевавшего при Лепанто, а затем дожа Себастьяна Веньера.
– Да! Конечно! Веньер! – восхищался цесаревич. – Гениальный адмирал!
– А за ним открывается капелла Четок, посвященная Деве Марии за ее явление папе Пию V в день битвы, 7 октября 1571 года. Капелла украшена шедеврами Тициана, Тинторетто, Бассано, Пальмы Младшего и других мастеров.
Настоятель храма тщательно объяснил русским смысл всех картин, украшавших капеллу.
– Здесь, в пресвитерии, вокруг алтаря, покоятся дожы Марко Корнер, Андреа Вендрамин, Микеле Морозини и Леонардо Лоредан. Последний правил во время войны Камбрейской лиги, в начале XVI века.
– Это та, в которой против Венеции шли и папа, и Франция, и Испания, и Священная Римская империя? – поинтересовался граф Куракин.
– Совершенно верно.
– И кто победил? – спросила графиня дю Нор.
– Во время войны альянсы постоянно менялись, и в итоге все более или менее вернулось к довоенному положению.
Русские офицеры подробно изучали все детали надгробных памятников, читая латинские тексты и разглядывая мраморные лица усопших.
– Дальше, идя по правому нефу, – продолжал Пезаро, – мы видим капеллу, посвященную святому Доменику, родоначальнику ордена. Потолок украшен воздушной кистью Джанбаттисты Пьяцетты. Тут мы проходим семейное надгробье Вальер, затем капеллу Иисуса, а сейчас мы видим знаменитый полиптих Сан-Винченцо Феррери. Проблема в том, что автор произведения еще не установлен. Некоторые считают, что это Альвизе Виварини, некоторые – Франческо Бонсиньори, а другие – Джованни Беллини.
– Как?! – удивилась графиня дю Нор.
– Да, сударыня. Представьте себе, господа: прошло триста лет, и никто не может доказать, кому принадлежит авторство этого шедевра.
– Я уверен, Ваше Высочество, что время скоро Вам поможет определить автора, – решительно сказал цесаревич. – Чем дальше мы уходим в будущее, тем лучше мы видим прошлое.
– Я очень надеюсь. И, наконец, господа, последний памятник, который я желаю вам показать, находится рядом с полиптихом. Высоко на стене стоит урна с бюстом главного героя битвы при Лепанто, генерал-капитана острова Кипр Маркантонио Брагадина. Он не воевал в самой битве. Он воевал в войне на Кипре, предшествующей битве, одиннадцать месяцев возглавляя последний венецианский оплот Фамагуста против османской осады. Благодаря его выдержке, преданности, дальновидности и нечеловеческому мужеству у Венеции хватило времени соорудить свой флот, убедить и объединить разрозненные европейские военные силы и в конце одержать победу над турками при Лепанто.
– А Кипр? – спросил граф Салтыков. – Он же перешел потом туркам?
– К сожалению, да. После длинной осады, которую венецианцы начали в значительном меньшинстве – 10 тысяч венецианцев и киприотов против 200 тысяч турок, – Брагадин вынужден был сдаться. И через два года Венеция официально отдала остров Османской империи.
– А Брагадин? – спросила Александра.
– О, участь Брагадина была не самая счастливая. Сначала главнокомандующий османской армией принял его со всеми почестями. А затем что-то в разговоре венецианца не понравилось турку, и тот взял его в плен. Брагадина пытали, предлагая ему обратиться в мусульманство, чтобы спасти себе жизнь. Но Брагадин не согнулся. Наконец после двух недель нечеловеческих мучений его приволокли на главную площадь и заживо сняли с него кожу.
– Ах! – раздался гулкий женский голос, и эхо пронеслось по всему храму.
– Кожу увезли в Константинополь, а через несколько лет из османского арсенала ее похитил венецианский солдат и вернул на родину. Сейчас она хранится в этой урне, которую вы видите. Над урной фреска изображает мученическую смерть Брагадина.
– А-а-а-а! – графиня Салтыкова стала медленно оседать и наконец упала в обморок на руки супруга.
Пезаро тут же позвал врача. Графиню посадили на стул, и пока она приходила в себя, члены русской свиты разошлись по сторонам, чтобы еще раз посмотреть на шедевры венецианского искусства.
Александра удалилась дальше всех и зашла в пустую капеллу Четок. Поглядывая на великолепную резьбу на потолке, она кружилась и застывала, и, развернувшись, глаза ее остановились на картине «Мадонна с младенцем», висящей за белым алтарем. Она впервые видела Деву Марию, изображенную такими яркими, безмятежными красками, с таким человеческим лицом. Почувствовав приятное умиротворение, она погрузилась в размышления.
– Меня всю ночь мучил страх, что я Вас больше не увижу! – страстным шепотом прозвучал знакомый ей голос.
Александра повернулась и увидела Казанову в черной ларве. Ее тело замерло.
– Месье, не…
– Вы уплыли, и солнце перестало сиять!
– Месье, мы находимся в храме.
– Святое – это не стены, святое – это чувство!
– Пожалуйста, не…
– Взаимное чувство.
– Я Вас умоляю, не надо, – она оглядывалась, но не уходила.
– Послушайте меня. Только выслушайте. Пожалуйста. Поймите меня, поймите, я больше не думал, что это может случиться, что я смогу вновь взлететь. Так высоко. Я думал, что я больше не способен это чувствовать. Последние годы я прыгал, как жаба в болоте. Вы понимаете?
– Почему Вы это говорите?
– И я думал, что так надо, что это мне суждено. Я иного и не желал. Я забыл, что такое мечтать. Я забыл, что такое красота. Я забыл, что такое женщина. Но, с тех пор как Вы появились в Венеции, все изменилось. Понимаете? Вы мне вернули крылья!
– Это Вам кажется.
– Нет! Это явь.
– Нет!
– Я воскрес! Вы понимаете?
Она посмотрела на религиозные картины на стенах капеллы.
– Не говорите этого.
– Было землетрясение, Вы спустились с неба и отворили гроб. И я воскрес!
– Вы кощунствуете!
– Когда Бог воскресает, тут ничего особого нет. Он и так вечен, от него другого и не ждешь. Но когда воскресает обыкновенный смертный человек – вот тогда это чудо!
– Уйдите!
– Я Вас обожаю!
– Нет!
– Я Вас обожаю, и мне не верится, что я это говорю, что я это могу испытывать, что вообще это я!
– Вы писатель. У Вас яркая фантазия. Сейчас она воспалилась, и все.
Александра дрожала с ног до головы.
– Даже в самой моей оголтелой фантазии я никогда не смог бы создать Ваш образ. Вы воплощение совершенства!
– Все. Я ухожу.
– Стойте! – он схватил ее за руку, видя, как лицо ее заливается краской и загораются глаза.
– Не надо, месье. Все не так, как Вы представляете. Все не так. Правда. Тут все…
– Что я не так представляю? – он вспомнил про записку. – Что тут не так? На чьей Вы стороне? Чего Вы боитесь?
Она долго молчала, взирая в орбиты его черной маски.
– Я ничего не боюсь.
– Тогда разбейте свои оковы так, как Вы разбили мои!
Глаза ее покрылись слезами.
– Мне надо идти, месье.
– Постойте!
– Мне надо идти.
Она развернулась и быстро вышла из капеллы, торопясь присоединиться к свите, стоящей у выхода из базилики.
* * *
Вечером после ужина Казанова ушел в спальню, растопил комнатную жаровню и лег в постель. На улице гудели толпы карнавальщиков, заливаясь таким неистовым, лихорадочным смехом, что в квартире Казановы на четвертом этаже вибрировали окна. В комнату зашла Франчес ка и села на кровать.
– Тебе понравилась полента?
– Да, Кекка. Было очень вкусно.
Он смотрел на черное небо в окне.
– А почему ты молчал весь вечер? Ты все еще плохо себя чувствуешь?
– Да.
– Может быть, у тебя температура?
– Не знаю.
Она положила ладонь на его лоб.
– Да. Ты чуть-чуть горяченький.
– Сейчас пройдет.
– Давай я тебя понежу, – она улыбнулась, пальчиками щекоча его бедро под одеялом. – Хочешь?
– Кекка, мне надо выспаться. Можешь сегодня поспать у мамы?
Она насупилась, но повернула голову, чтобы он не видел ее реакцию.
– Хорошо. Если ты так хочешь.
– Да. Будь добра.
Она подтянула одеяло до его подбородка и поцеловала его в лоб.
– Спокойной ночи, мой Lupocchiotto.
– Спокойной ночи.
Казанова опять почти всю ночь не спал. Казалось, утро никогда не наступит. Волна одержимости уносила его далеко от лагуны. Виски пульсировали, руки непрестанно блуждали по кровати. Веки то смыкались, то распахивались. Он старался вычеркнуть лицо Александры из своего воображения. Но она не переставала к нему возвращаться, улыбаться, звать его тихим мерцающим светом своих очей. Стена, которую она воздвигла между ними, только усиливала его стремление соединиться с ней. Эта преграда, делающая невозможным ее физическое присутствие, разжигала в его сознании ее духовное присутствие до такой степени, что он чувствовал на своей коже ее прикосновения. Даже когда погасли дрова в жаровне, ему все еще было так тепло, так душно, что он сбросил одеяло и вертелся в одной ночной рубашке.
На чердаке, за курятником, на небольшой кроватке в маленькой низкой каморке лежала Франческа с мамой.
– Ну что, барин твой изволил провести ночь один, в уединенных думах?
Франческа повернулась к стене.
– Не начинай, мам.
– Философствует?
– Прекрати.
– С музой общается? Кровать слишком тесна для троих?
Франческа молчала.
– Дура ты набитая, доченька. Прости, конечно. Но так и есть. Не умеешь быка за рога брать. Понимаешь? Надо настоять на браке. Надо!
– Отстань.
– Надо быть сильнее, хитрее.
– Отстань, я сказала!
– Ладно. Обижайся, обижайся. Но потом вспомнишь мои слова, Фра. Вспомнишь.
11
Полдень 23 января оказался ярким и солнечным, с голубым безоблачным небом и оживляющим воздухом. Холодный трамонтана буйствовал в аркадах Прокураций, раздувая по площади высохшие за ночь конфетти, терзая полы пальто прохожих. Четко слышались удары бронзовых мавров на Часовой башне, сливающиеся со звонами соседних колоколов, доносящихся со всех сторон сестьере Сан-Марко. Смальтовая мозаика на фасаде базилики сияла пестрыми красками, пока золотой крылатый лев, возвышающийся в центральной арке, бдел над праздной площадью.
Рядом, над пьяццетой, чайки купались в теплых лучах ослепительного солнца, беззвучно рея между дворцом и библиотекой Марчиано, застывая над гранитными колоннами покровителей города. Внизу, на набережной, знатные венецианцы поднимались на трибуны, сооруженные для наблюдения парадной регаты. Лазурная бухта наполнялась сотнями разновидных и разноцветных судов: огромные светлые гондолы с носами в форме Нептуна, морских коньков и троек; раковинообразные пеоты с русалками и дельфинами по бортам и осьминогами на кормах; двадцативесельные барки с башнями, табернаклями[35] и коронованной царицей Адриатики вместо мачт. От набережной Скьявони до острова Сан-Джорджо Маджоре, от Таможенного мыса до Монетного двора бухта кишела лодками и веслами, как это было только один раз за всю историю Венецианской Республики – во время празднований, устроенных в честь победоносного флота, возвратившегося домой после битвы при Лепанто. Русские и венецианские знамена вились повсюду.
Очередные аплодисменты встретили графа и графиню дю Нор, взошедших на трибуны. Они сели под багровым балдахином, между Пезаро и его сестрой Лаурой. Назойливый ветер не прекращал поднимать шарф цесаревича в лицо супруги. Им дали подзорные трубы, чтобы они могли следить за каждым судном в отдельности. На воде перед трибунами выстроились шесть рядов гондол.
– Каждый ряд представляет один из шести сестьере, то есть районов города, – объяснил Пезаро цесаревичу, которой чуть не трясся от восторга.
– Да! Да!
– Вы увидите пять соревнований с разным количеством гребцов.
– Fantastico!
– Мы бы хотели, Ваше Сиятельство, чтобы Вы вручили трофеи победителям.
– Вы не представляете, Ваше Высочество, какая для меня это будет честь.
К краю набережной подошел патриарх Венеции и окрестил команды. Русские дамы не могли насмотреться на крепкое телосложение и твердые гладкие лица гребцов, которые, несмотря на зимний день, были одеты в одни просторные рубахи. Парадные суда отплыли за мыс, оставляя большое открытое пространство для соревнований. Старт был на восточной стороне бухты, напротив церкви Ла Пьета, а финиш – у церкви Санта-Мария делла Салюте, за Таможенным мысом. Венецианцы на трибунах кричали имена своих любимых гондольеров, всей душой болея за свои родные сестьери. Прозвучали трубы и тамбуры. Лодки заняли стартовые позиции.
Первое соревнование состояло из низких коротких шлюпок, управляемых одним гребцом. Они плавно шли по поверхности бухты: весла четко и быстро, без плесканий, резали воду; гондольеры стояли прямо, работая лишь руками и не сводили глаз с купола Салюте.
– Какое зрелище! – воскликнул граф Салтыков, сидевший рядом с Пезаро. – Какой праздник Вы нам устроили, Ваше Высочество.
– Я очень рад, Ваше Сиятельство.
– Я даже не думал, что можно построить такие разнообразные суда и украсить их такими богатыми украшениями. Фантазия ваших кораблестроителей не имеет конкуренции. Вот что значит цивилизация, построенная на воде!
Пезаро оглянулся.
– Да, вода – это наша почва. Кстати, – он повернул голову к Салтыкову и сказал очень тихо, сдержанно: – я бы хотел с Вами потолковать… о других судах.
Салтыков посмотрел на него и по глубокомысленному взгляду понял, что разговор будет серьезным.
– Я слушаю Вас, – ответил Салтыков вдумчиво, давая Пезаро понять, что был готов к этому моменту.
– О русских судах, Ваше Сиятельство. О русских судах и венецианском острове.
– Я Вас слушаю внимательно, светлейший прокуратор.
– В нашем изменчивом, но довольно предсказуемом мире государства, как и отдельные индивидуумы, иногда считают, что жить и действовать в полной независимости от других государств становится невозможно. Это лишает их определенных возможностей и ограничивает их действия.
– Я прекрасно Вас понимаю.
– Венеция находится в положении, которое ее резко отличает от остальных европейских наций. Я говорю не только о нашем официальном нейтралитете, а о самом желании, искреннем желании, избегать конфликтов – и политических, и военных. К сожалению, некоторые наши соседи, как нам кажется, могут, а может быть, уже намерены, воспользоваться нашим пацифизмом ради своих выгод.
Пезаро изучал реакцию Салтыкова.
– Я уловил Вашу мысль, Ваше Высочество.
– Мы не желаем менять наш характер. Однако, чтобы сохранить эту позицию, нам, несомненно, понадобится очень крепкая дипломатическая поддержка.
– Да-да.
– Я имею в виду поддержку самой влиятельной державы на европейской арене, которая благодаря своей дальновидности понимает важность сохранения нынешних порядков в Европе.
– Разумеется.
– За эту поддержку, генерал-аншеф, Венеция готова предоставить своему партнеру, – Пезаро опять оглянулся, – возможность проводить военно-морские учения в Ионическом море, возле острова Кефалония, недалеко от османского Пелопоннеса, а со временем использовать сам остров в качестве своей средиземноморской базы.
Пезаро внезапно прекратил шептать и громко захлопал проплывающим судам. Салтыков сделал то же самое.
– Я могу Вам сказать, – Салтыков вернулся к разговору, – что Россия была бы весьма заинтересована в развитии диалога, посвященного этой теме.
– Я обращаюсь к Вам, Ваше Сиятельство, – Пезаро продолжал улыбаться гребцам, – с надеждой, что в случае вашего неравнодушия Вы могли бы донести это предложение надлежащему лицу. По нашим расчетам, такое партнерство не должно скомпрометировать отношения между австрийской и русской коронами. Наоборот, мы считаем, что оно только упрочит их общую позицию в случае конфликта с неевропейским недругом.
– С Вашего позволения, Ваше Высочество, я сначала хотел бы обсудить Ваше мудрое предложение с… – Салтыков глазами указал на цесаревича, – перед тем как донести его надлежащему лицу в Петербурге.
– Именно на это я и надеялся.
– Более того, я Вам должен признаться, что мы сами искали правильный момент, для того чтобы поднять подобный разговор. В Петербурге уже давно обсуждается это потенциальное партнерство во всех его оттенках.
– Да что Вы говорите?
– Давайте договоримся так. Мы уплываем через три дня, двадцать шестого. Я поговорю с… и двадцать пятого скажу Вам, как мы будем дальше действовать. Вас это устраивает?
– Более чем, Ваше Сиятельство.
– Договорились.
Регата закончилась общей победой сестьере Кастелло, как это обычно бывало, ибо парни из этого района были самыми лихими в городе. Цесаревич вручил победителям трофеи, и они поцеловали Марии Федоровне руку. Затем, к удивлению венецианцев, в бухту выплыл роскошный Бучинторо. На него взошла великокняжеская чета, и цесаревич, будучи на седьмом небе, встал у кормила и в сопровождении парадных судов поплыл по Большому каналу.
* * *
После регаты, пока графы дю Нор переодевались в гостинице для вечерних развлечений, прокуратор Пезаро зашел во Дворец дожей на совещание Совета десяти.
– Ну что? – поинтересовался дож, увидев на лице прокуратора довольное выражение.
– Предложение сделано. Реакция у Салтыкова положительная. Будет разговаривать с цесаревичем.
– А императрице он донесет предложение? – спросил один из членов Совета.
– Предварительно он желает поговорить с цесаревичем, чтобы понять, как лучше поступать в Петербурге.
– Какие перспективы он видит? – спросил Долфин, самый пожилой член собрания.
– По его реакции, по-моему положительные. Он сам сказал, что в России уже давно идут разговоры по поводу такого союза.
– Правда! – обрадовался дож.
– Мне кажется, что шансы у нас хорошие, господа, – сказал Пезаро энергично.
– Может быть, тогда стоит написать письмо императрице? – спросил Градениго, самый молодой член Совета.
– Что Вы думаете по этому поводу? – спросил дож прокуратора.
– Мне кажется, пока лучше не торопиться. Формальные письма рискуют быть восприняты как лишнее давление. Надо сначала почувствовать личную реакцию Екатерины.
– Тоже верно.
– Если императрица нам даст понять, что предложение ей по душе, мы сразу обменяемся посольствами и начнем развивать партнерство. И я думаю, что на этот раз сын императрицы будет иметь на нее большое влияние. У него все-таки останется особое впечатление о Венеции.
– Будем надеяться. А посольствами нам надо было уже давно обменяться, – сказал дож с сожалением. – Еще при Петре Великом. Он же постоянно посылал в Европу делегации.
– Но кто тогда мог предвидеть, – Пезаро всплеснул руками, – что его допотопное царство меньше чем через сто лет будет играть первенствующую роль в Европе. И в Средней Азии!
Члены Совета кивнули.
– Это да. Так как Вы договорились с Салтыковом?
– Он поговорит с цесаревичем и до отъезда скажет нам, как они будут действовать.
– До отъезда?
– Они уплывают двадцать шестого.
– Остается, значит, три дня. За эти три дня, господа, ничего, я повторяю, ничего не должно разочаровать и разубедить наших гостей, – твердо сказал дож. – Без поддержки России рано или поздно Венеция потеряет свой суверенитет и превратится в чью-нибудь жалкую колонию. И в этом вы можете не сомневаться.
* * *
Палящее солнце горело над пьяццеттой, и парадные суда уплывали в стороны, оставляя за собой гладкую, поблескивающую бухту. Объятая соленым воздухом набережная постепенно пустела. Публика перетекла на центральную площадь и раньше, чем все успели заметить, заполнила кафе «Флориан». Просекко потекло ручьями, и скоро все были под хмельком. Чувства забурлили, языки зашалили.
Глубоко в толпе, у барной стойки, жался Казанова, поглядывая на Александру. Она сидела за столиком у окна с другими фрейлинами. Она не участвовала в общем разговоре, а тоскливыми глазами смотрела в окно. Бокал ее был не тронут – пузырьки игристого напитка всплывали и лопались на поверхности. Ее подружки старались вовлечь ее в праздничную атмосферу, развеселить забавными рассказами, но ей было неинтересно.
К столику подошел молодой элегантный венецианец и попытался завладеть вниманием фрейлин. Борщова и Нелидова радостно откликнулись на его комплименты, а Александра едва повернула голову. Глаза ее не могли найти конкретного предмета; они блуждали по шумному набитому помещению, не отличая даже одну подружку от другой.
– Где ты, дорогая? – обратилась к ней Борщова, заметив, что она двух слов не может связать.
Александра ответила полуулыбкой.
Казанова уже не сомневался в ее неравнодушии. Он чувствовал, он видел, прямо в кафе, что она себе больше не принадлежала. По ее блуждающему взгляду он понимал, что душа ее находилась в другом пространстве. Он вздрагивал от своего непреодолимого желания прильнуть к ее губам, прижаться к ее молодому нежному телу. Такое эмоциональное слияние с женщиной он испытал только один раз в жизни: с Генриеттой, больше тридцати лет назад. Все остальные женщины были мимолетными увлечениями, объектами чувственного любопытства или просто «удовлетворительницами похотливых капризов», как он их называл. Никто после Генриетты не проникал в сердцевину его сознания; никого он так не возвышал и никому он так не доверял. Он был готов открыть Александре свою самую интимную сторону, ввести ее в святая святых своей души. Однако, казалось, она уже там находилась. На секунду шум тесного кафе заглох, и он услышал только свое ускоряющееся сердцебиение. И вдруг в это самое мгновение глаза Александры на него посмотрели и яро сфокусировались, так проницательно, что он потерял равновесие. Она тут же встала и вышла из кафе. Ее подружки побежали за ней.
Казанова ринулся за ними, но намеренно не догонял, предпочитая выбрать момент, в котором Александра удалилась бы одна в сторону. Он шел одурманенный, сталкиваясь с прохожими, роняя в суматохе свою трость, спотыкаясь. На него шли маски, звериные костюмы, отталкивая его, глумясь над ним. Он не видел Александру, но понимал, что она чувствует его преследование.
Взойдя на мост напротив церкви Сан-Моизе, три фрейлины остановились. Александра обернулась назад, тревожно высматривая своего преследователя в бушующей толпе. Казанова видел ее высокий стройный торс и вопросительные глаза. Он все-таки решил к ней подойти и все рассказать даже в окружении ее подружек. Он не хотел больше ничего скрывать – он хотел быть откровенным, прямым. Его захлестывало желание сбросить с себя свою старую, фальшивую, срамную скорлупу, растоптать, растереть и изничтожить ее.
Фрейлины сошли с моста и сели в гондолу. Судно поплыло к Большому каналу. Казанова, преодолев мост, тоже сел в гондолу и повелел гондольеру плыть за тремя иностранками. Фрейлины плыли в сторону Риальто ни быстро, ни медленно, упорно и плавно. Теплое январское солнце ласкало лицо Казановы, поощряло его, усиливало его стремление к квинтэссенции женственности. Пикантный морской воздух наполнял его неисчерпаемой силой. Освежающий ветер вселял в него ощущение беспредельной свободы. Он перекинул руку через борт в холодный канал, зачерпнул воды и облил лицо. Гондольер греб настойчиво – весло жадно резало поверхность, судно перегоняло другие гондолы. Казанова видел Александру впереди, опрокинувшуюся на спинку заднего сидения и закинув голову кверху. Ветер трепал ее волосы, над ней кружились чайки.
– Piano, caro, piano[36], – сказал Казанова гондольеру.
Гондола притормозила, установив среднюю скорость. Преследователь захотел насладиться этой сладкой погоней, впитать в себя всю красоту этого момента, этого дня, этого города – своего города! Красоту, про которую он уже почти забыл, красоту этих чопорных дворцов, с окнами, свидетельствующими о столетних тайнах; дворцов, построенных на самом прочном фундаменте – на воде! Вода – это же пристанище беспочвенных странников, приют бесприютных!
Проплывая под мостом Риальто, Казанова поражался – как уже тридцать лет не поражался – воображению и трудолюбию венетов. Какой необузданной гениальностью надо обладать, чтобы построить на каких-то заболоченных клочках земли целую цивилизацию?! Какой порыв и волю надо иметь, чтобы укротить и обтесать эту дикую природу и возвести на ней бесконечное количество архитектурных шедевров?! Недаром говорят, что слово «Венеция» происходит от латинского «Venus» – любовь, вожделение. Только с любовью человек задумывает и создает красоту.
Гондола с фрейлинами причалила у гостиницы «Леон Бьянко». Борщова и Нелидова дали гондольеру две монетки и скрылись с Александрой в вестибюле. Гондольер подпрыгнул.
– Santo siel! Do zecchini! Xe na benedission! Torne’ presto signor! Ve speto qua! No me movè! Ve speto qua![37]
В номере Нелидова и Борщова видели, что Александре все еще было не по себе. Она сидела на стуле, рассматривая пол, даже не сняв шубу.
– Что с тобой, дорогая? – спросила Борщова, причесываясь. – Я никогда тебя не видела в таком состоянии.
– Да, Александра, ты последнее время что-то отсутствуешь, – добавила Нелидова, надевая вечернее платье. – В кафе ты была совершенно подавлена. А на балу тогда вообще исчезла куда-то. Это чудо, что гофмейстерина этого не заметила.
– Все в порядке?
Александра не отвечала.
– Александра!
– Что? Ой, прости, Катя.
– Что происходит? Что-то случилось? – Борщова подошла и присела возле Александры.
– В каком смысле?
– Я имею в виду тут, в Венеции. Тебя что-то беспокоит? Тебе что-то сказали? Может быть, тебя обидели?
– Не знаю.
– Она не знает, – Нелидова хихикнула, любуясь собой в зеркале.
– Скажи мне. Что случилось? Ты все волнуешься об отце? – спросила Борщова деликатно.
– Пожалуй, да, – Александра не знала, был ли это правильный ответ, но он ей показался разумным.
– Милая, все будет хорошо. Я уверена.
– Спасибо, Наташа.
– Зная его, я уверена, что он никого не оскорблял. Раскритиковал – да, наверно. Но не оскорблял. Твой отец – почтительный, достойный человек. Он может быть откровенным и порой слишком уверенным в себе, но он никогда не оскорбит чужое достоинство.
– Слишком уверенный в себе? – Александра удивилась, что Борщова так выразилась. – А как иначе человек должен себя вести в таких обстоятельствах? Просто стоять, улыбаться и терпеть всю эту несправедливость?
– Я его не осуждаю, Александра. У всех людей свой темперамент. Может быть, он был прав. Я не знаю, как это все произошло.
– Кто-то должен был заступиться. Иначе был бы полный произвол.
– Да, я понимаю.
– Я считаю, что тебе надо быть очень осторожной, Александра, – сказала Нелидова прямолинейно. – Очень осторожной. Так я считаю. На твоем месте я бы не заходила далеко. Ты знаешь, о чем я говорю.
– Нет, я не знаю. О чем ты говоришь, Катя? – спросила Александра. – Ну? Скажи мне.
– Я хочу сказать, что при ситуации, в которую попал твой отец, было бы мудро с твоей стороны не раздражать великокняжескую чету. Лучше сидеть тихонько и быть благодарной, что состав нашей свиты не изменился. Ты согласна?
– Катя, не говори так, – сказала Борщова.
– Ой, Наташа, не делай вид, что ты не знаешь, о чем я говорю. Я уверена, ты об этом тоже задумывалась.
Борщова взглянула на закутанную в шубу Александру.
– Нет, я не задумывалась. Потому что я знаю, что отец Александры ни в чем не виноват. Я знаю, что он никого не оскорблял.
– А зачем его тогда уволили из академии и посадили под домашний арест…
– Его не посадили под домашний арест! – Александра резко встала и бросила шубу на стул.
– Мне так сказали, – ответила Нелидова.
– Мне лучше знать, Катя. Он мой отец!
– Прости, – Нелидова подошла и обняла Александру. – Я не хотела тебя обидеть. Правда. Я не говорю, что твой отец оскорбил корону. Я просто считаю, что тебе надо быть более осторожной. Даже тут, в Венеции, далеко от Петербурга. Малейший проступок может усугубить ситуацию. Понимаешь?
Александра изучала кошачьи глаза Нелидовой внимательно. Та улыбнулась понимающе. Борщова почувствовала, что подруги знали друг о друге больше, чем они это показывали.
– Катя, Александра, прекратите! Немедленно! Александра, твоего отца скоро реабилитируют, и он вернется на свое место. Это просто было недоразумение. И этот случай не первый в академии.
– Точно, – добавила Нелидова с мерцающей улыбкой.
– Но я согласна с Катей. Нам лучше не теряться здесь. Ради всех. Нам надо держаться вместе. Я понимаю, этот город предоставляет много соблазнов, но надо держаться вместе. Хорошо?
Александра отвернулась.
Борщова услышала чей-то возглас, раздавшийся на заднем дворике гостиницы.
– Добрый день! Добрый день! – крикнули громче.
Борщова открыла окно.
– О, синьор Казанова! Добрый день.
– Здравствуйте, – он снял треуголку. – Прошу прощения, а Вы не позовете мадмуазель Снежинскую?
– Александру?
– Да.
Борщова задержала на нем любопытный взгляд.
– Сейчас.
Из гостиницы выходили иностранцы – англичане, французы. Казанова видел офицеров из русской свиты. Его ничего не смущало, ничего не сдерживало. Он чувствовал себя, как лучезарное небо, как прозрачная утренняя вода в мелководье лагуны.
У окна появилась Александра.
– Какой прекрасный день сегодня! Не правда ли, мадмуазель?
К ее бледному лицу вернулся румянец, и глаза оживились.
– Как Вы узнали, где находится наш номер, месье? – спросила она.
– Чуть-чуть фортуна, чуть-чуть разум, – Казанова наклонился чуть-чуть влево и чуть-чуть вправо.
– Вы что, эквилибрист?
– Да, можно сказать, что я канатоходец, если этот канат меня приведет к намеченной цели.
– А Вам не кажется, месье, что иногда Вы не по канату ходите, а по острию ножа?
– Ваше вольное красноречие разжигает мое сердце, как горячее солнце разжигает летнее небо.
– Как жалко, что летом меня в Венеции уже не будет.
– Еще рано делать это заключение. В Венеции можно так завертеться, что потеряешь чувство времени.
– Да, я это поняла, слушая Вивальди.
– Однако не забывайте, мадмуазель, что, в отличие от остальной Европы, включая и вашу страну, зима у нас – это конец года, а не начало. В Венеции новый год начинается весной, первого марта, во время обновления природы, в пору, которая нам говорит о возрождении.
– Не торопитесь, не торопитесь, месье. Мы еще в январе, в месяце Януса, двуликого бога.
– О, нет. Двуличия тут никакого нет, мадмуазель. Я Вас уверяю. Янус – это бог входов и выходов. Он открывает дверь из старого года в новый. Из старой жизни – в новую, в месяц февраль, от слова «фебруа», что означает «очищение».
– Очищение, месье! Очищаться, чтобы потом оказаться в марте и с богом Марсом идти на войну, убивать, разрушать, уничтожать. Нет, спасибо.
– Нет, нет, нет, мадмуазель. Тысяча раз нет! Марс воинственен и губителен только потому, что он слепой. Он не видит путь, он не владеет собой. Но тогда, когда он встречает апрель, все ему становится ясно, и он смиряется. Потому что апрель, как нас учил великий Овидий, происходит от латинского слова «априлис», что в свою очередь происходит от греческого «африлис», от Афродиты, мадмуазель. Апрель – это месяц любви, плодородия и расцвета. Это месяц, в котором родился герой моей повести.
Казанова низко поклонился.
– Я обязательно пришлю ему поздравление.
– Будет нелегко. Как же ваше поздравление попадет в повесть?
– Я его пришлю автору, а автор передаст герою.
– Автор предлагает поступить иначе. Автор предлагает написать новое произведение – продолжение первого, в котором детский сон нашего героя воплощается в действительность, и он, будучи уже немолодым господином, вновь встречает ту безвременную красавицу и волшебницу, которая его излечила в детстве. Только на этот раз произведение будет не повестью, а романом – длинным, насыщенным романом, с твердой нравственной основой и тонкими эстетическими контурами. Роман, который затем перерастет в исторический трактат с подробными примечаниями и оригинальными постулатами. Этот трактат затем превратится в глубокосодержательный философский опус, развертывающийся на бесконечном пергаменте древнего свитка, чтобы наконец вырезать и разъяснить суть, связывающую наших героев, на каменных скрижалях, таким образом увековечивая и обожествляя эту связь.
– Браво, браво. У Вас очень хорошее воображение, мессер Казанова.
– Все возможно, мадмуазель. Чернила мои неисчерпаемы, как эта лагуна!
– Тогда пишите, автор, пишите.
Александра улыбнулась и деликатно закрыла окно.
* * *
Вечером в театре Сан-Джованни Кризостомо ставили оперу Глюка «Эхо и Нарцисс». Великокняжеская чета сидела на краю сидений. Все русские дамы горели нетерпением посмотреть на молодого красавца, пармского певца, исполняющего роль Нарцисса, Лоренцо Монтичелли. Ходили слухи, что Лоренцо является тайным амантом пармской герцогини Марии-Амалии, сестры императора Священной Римской империи Иосифа II. Ее супруг герцог Фердинанд I происходил по материнской линии от короля Франции Людовика XV. Так что молодой пармский певец, выходец из семьи булочников, мог спокойно похвастаться, что его простонародная кровь перемешивалась с голубой кровью половины Европы. Однако выяснялось, что Мария-Амалия была охотницей за совсем другими жидкостями. Говорили, что их страсть достигала такого накала, что, когда их надолго разлучали его гастроли, Лоренцо посылал ей – порой через всю Европу – серебряный флакончик со своим витальным эликсиром. Однажды служанки герцогини перепутали предназначенный ей флакончик со склянкой с одеколоном ее супруга. Тот побелел от ужаса (и от эликсира) и устроил ей такой скандал, что потом полгода в Вене императорский трон шатался.
Музыканты заняли свои места в оркестровой яме и настроили инструменты. Кулисы раздвинулись. На сцену вышел руководитель театра и писклявым голосом объявил по-французски:
– Дамы и господа, добро пожаловать в наш театр. Позвольте вас предупредить, что к сегодняшней программе был добавлен маленький сюрприз. Перед тем как начнется опера герра Глюка «Эхо и Нарцисс», приглашаю вас обратить внимание на один короткий моноспектакль. Я уверен, что он вам будет симпатичен.
– А кто автор? – крикнули из публики.
– Вряд ли можно установить творца этого древнего сюжета. Каждая эпоха интерпретирует эту тему по-своему.
– А кто его будет исполнять?
– Тоже сюрприз.
– Браво! – захлопал цесаревич. – Браво!
Нетерпение не позволяло ему сидеть ровно. Он постоянно закидывал ногу на ногу, хватаясь за барьер ложи и поправляя свой парик.
– Итак, дамы и господа, спектакль начинается!
Занавес плотно сомкнулся. На сцене раздались звуки: быстрые шаги, рокот катящихся бочек, удары, треск, шорох легкого материала, хлопанье рук, опять рокот. Наконец сцена затихла. Занавес медленно раздвинулся.
– Ах! – публика вскрикнула в ужасе.
– Che orrore![38]
– Je ne comprends pas![39]
– O, my God![40]
– Was ist das![41]
– Es un diablo![42]
На середине сцены лежала куча черно-серого пепла в метр высотой. Пахло гарью и поднимался бледный дым. Зрители посмотрели друг на друга в недоумении. Из оркестровой ямы раздалась длинная нота одинокой флейты. Нота перелилась в другую, затем в следующую, пока не развилась тонкая мелодия, которая оживилась и, казалось, начала подниматься выше и выше.
Куча пепла расшевелилась. Пепел сыпался по сторонам. Движение расширялось. Из кучи что-то вылезало, расталкивая пепел сверху, по бокам, дергаясь взад и вперед. Вырастало какое-то существо – яркое, разноцветное, перистое. Из пепла вылезали перья – длинные, пышные, остроконечные. Существо становилось большим, выпячивающимся гребнем тянулось вверх. Дикие глаза крутились в круглых орбитах, крылья размахнулись, захлопали. Громадная птица поднялась в полный рост и выпрыгнула из пепла. Подпрыгивая, кружась на месте, вертя головой и мигая глазами, она издавала гортанные злорадные крики и ликующе растаптывала пепел. Полностью сбросив с себя черно-серую массу, освободившись от своего праха, птица растянула крылья и взбесилась, хаотично побежав по сцене.
«При чем тут птица, при чем тут возрождение? Что она имеет общего с композитором?» – задумалась публика.
Наконец птица остановилась у края сцены, над оркестровой ямой, и хищно забила крыльями. Внезапно она выпрямилась и прекратила двигаться. Музыка тоже затихла. Зал молчал. Зрители смотрели друг на друга, не понимая, какое отношение феникс имеет к опере «Эхо и Нарцисс».
Но вдруг из дожеской ложи раздался гром аплодисментов.
– Bravissimo! Bravissimo! – кричал цесаревич.
Он был так потрясен неожиданным зрелищем, что отсутствие связи между фениксом и Глюком его абсолютно не озадачивало.
– Geniale! Divino! – продолжал он.
Его свита тоже не понимала, что в этом представлении такого divino, но сочла за благо поддержать престолонаследника и, следовательно, тоже взорвалась рукоплесканием. Остальные зрители в театре – и в партере, и в ложах – тоже решили, что было бы неблаговоспитанно не проявить солидарность с такими почетными гостями, и через полминуты весь зал стоял на ногах, гремя – сам не зная почему – восторженными овациями.
Актер наконец снял свою маску. Увидев лицо Казановы, зрители тотчас опустили свои хлопающие руки. Воцарилась тишина. Потом венецианцы зашептались. Кто-то засмеялся, кто-то свистнул. Французы засплетничали, австрийцы нахмурились. Из англичан кто-то крикнул:
– O, wonderful!
Но когда цесаревич снова начал аплодировать, крича: «Assolutamente miracoloso!», никто не решился не присоединиться к нему, и скоро весь театр вновь загромыхал, как трескающееся небо во время бури.
Только одна персона не хлопала. Эта дама сидела сзади графини дю Нор, между своими подругами, уставившись не на сцену, а в пол. Только она понимала смысл этого моноспектакля, только она знала цель этого эксцентричного выступления.
Пораженная этим искусным секретным любовным признанием, Александра просидела неподвижно всю оперу Глюка. Графская свита смотрела на нее то с возмущением, то с любопытством. Судороги охватили ее икры. Она хотела встать и уйти в кулуары, но боль не позволяла. Образ Казановы – его темные глаза, обволакивающая улыбка и пластичные руки – мерещились ей, внедряясь глубже и глубже в ее сознание, пока всеми порами кожи она не задышала желанием растаять в его объятиях.
После оперы в фойе она попросила бокал воды. Затем еще один. Все ждали появления Казановы. Цесаревич едва не трясся, желая узнать смысл этого неожиданного представления. Его супруга тоже подготовила ряд вопросов к Казанове. Толпа заколыхалась. Заиграла фривольная музыка. Вспенилось шампанское. Все ждали и ждали, но Казанова не появлялся.
– Ну где же он?! – воскликнул цесаревич.
Александра разрывалась. Она то хотела, то не хотела его видеть. Она чувствовала его присутствие, но уходила, прячась за широкими спинами русских офицеров. Толпа быстро пьянела, музыка вливалась в души сладострастными обертонами. Хотелось танцевать, но места не было. Александра металась по залу, и ей казалось, что ее кто-то хватает за руку, за плечо, за локоть, за талию. Везде ей слышалось слово «скрижали». Везде она видела опалое, алчущее лицо Казановы.
Вдруг парадные двери открылись, и в театр ворвалась орава карнавальщиков в костюмах хищных зверей: львов, кабанов, медведей, волков, гиен. Рыча, они помчались по лестнице наверх, в фойе, и там затопали ногами, показывая свои клыки.
– Не волнуйтесь, дамы и господа! – Пезаро крикнул русским, видя, что «звери» окружили великокняжескую чету. – Это все карнавал, и все разыгрывается ради общего веселья! Эти люди безопасны!
– Мы прекрасно понимаем, Ваше Высочество! – ответил цесаревич, оказавшись в львиных объятиях. – У нас звери еще ходят без костюмов.
Бились бутылки, тарелки, бокалы. В зал вливалось все больше и больше людей в костюмах. Пели песни, били в бубны. Читали стихи, рассказывали анекдоты. Схватили одного молодого патриция и подбросили вверх.
– Mascalzoni! Mascalzoni![43] – орал он, заливаясь смехом.
Музыку уже было не слышно. Стояла долгая, раскатистая монотония голосов. Александре казалось, что лица и маски сливались: глаза человеческие от глаз животных было не отличить. И все они проникали в нее, поедали ее. Переживая, что Казанову больше не увидит, она подбегала к окну и выглядывала вниз, на темные ночные улицы, залитые блуждающими с факелами карнавальщиками. В окнах дворцов, окружающих театр, горели люстры и забавлялся народ, танцуя, обнимаясь, лобзаясь, кто-то уже в полуобнаженном виде. Все веселились: в театре, на улице, в соседних домах. Лишь она одна чувствовала себя одинокой и лишней. Черное беззвездное небо тревожило ее, толпа в зале нервировала. Она пошла к выходу, желая спуститься, и как только вышла из зала, кто-то схватил ее за руку и резко потянул за собой вниз по мраморной лестнице, мимо разных хищников, сквозь целующиеся пары в тусклом вестибюле, на холодную зимнюю улицу, где она почувствовала на себе шерстяное табарро и где непонятно чья рука сильно вцепилась в ее руку и потянула за собой по извилистым темным переулкам, мимо пьяных венецианцев, все дальше и дальше, с каждым шагом укрепляя хватку, пока она вместе с этим человеком не оказалась в темной узкой калле, где он прижал ее к стене и покрыл огненными поцелуями, на которые она отвечала также страстно и самозабвенно, слыша знакомый голос:
– Bellissima! Bellissima!
Его руки блуждали по ее телу, сдирая верхнюю часть платья. Она дрожала от холода, от страха, от одержимости, которую никогда в жизни не испытывала. Почувствовав его впивающиеся губы на груди, голова ее закружилась, и ей показалось, что она захлебывается, что омут засасывает ее глубже и глубже. Она ловила свое дыхание, стремилась вырваться, выплыть, тянулась вверх за воздухом. Ей мерещились тени, огоньки, приближающиеся все ближе. Вдруг она осознала, что рядом с ними кто-то стоит.
– Кто-то на нас смотрит, – сказала она в испуге.
Казанова, запыхаясь, повернулся и увидел человека в плаще. Ярко горящий факел в его руке освещал черную маску. Человек тут же рванулся обратно, повернул за угол и, уронив факел, побежал по главной улице в сторону Немецкого подворья. Казанова кинулся за ним, как лев за газелью.
– Лацари, я тебя убью!
Но пробежав несколько метров, Казанова остановился. Он понял, что не мог оставлять даму одну. Стиснув зубы от злости, он взял горящий факел и поторопился назад к Александре. Но ее там уже не было. На земле лежало его табарро. Он испугался, схватил табарро и побежал дальше – направо, налево, во все стороны.
– Александра!
Всюду бегали и буянили карнавальщики.
– Александра! Где ты?
– Где ты, где ты? – его передразнили.
Он направился в сторону кампо Санти-Апостоли. Там он только больше запутался в взбесившейся толпе. На мосту стояла женская фигура. Вокруг нее бегали люди с факелами.
– Александра!
Никто не ответил. Он побежал назад, к театру. Окна были открыты, музыка играла громко. В зале еще прыгали звери. Казалось, здание не удержит столько людей и рухнет. Из дверей вываливалась сплошная пьянь. Воздух был пропитан алкоголем. Казанову сбили с ног, он упал. Кто-то наступил ему на руку.
– Александра!
Он поднялся на ноги и пошел вдоль театра. Пространство пустело, темнело. Свечи в окнах не горели. Безлюдный переулок его манил вперед, во тьму. Он услышал стук каблуков.
– Джакомо! – раздался плачущий стон.
– Иду! Где ты?
Он ускорил шаг. Вокруг мяукали кошки. Скрипели ставни. Хлопнуло окно. Он спотыкнулся о камень. Стало тихо. Он вошел в соттопортего, потом во дворик. В нем никого не было видно. Он шел дальше, факелом освещая путь. Постепенно отрывисто раздавались человеческие звуки: тяжелое женское дыхание громче и громче переливалось в сладкое, судорожное стенание, затем в изнеможенные крики. Казанова уже видел движения у колодца, очертания чьих-то тел. Высота женского голоса поднималась до вибрирующий остроты, схватками вырываясь из млеющий плоти. Казанова направил факел вперед, и мерцающий свет озарил непонятные с первого взгляда фигуры: над колодцем, с заброшенной на спину юбкой и обнаженными ягодицами, нагибалась женщина; а под ней, на коленях, сидел человек в маске Доктора чумы.
– Buona sera, – сказал человек с клювом, заметив, что на него кто-то смотрит.
Возле развратной пары дрожала еще одна женщина – взъерошенная и оцепеневшая Александра. Увидев Казанову, она попятилась назад, скрывая свое лицо – ее охватил стыд и отвращение, и она закружилась, не зная, куда деваться. Она случайно увидела огоньки в каком-то пространстве и тут же туда побежала. Казанова рванулся за ней. На нее шли хохочущие люди, прижимая ее в узком соттопортего, прижимая затем и Казанову, не давая ему к ней пробраться. Она протолкнулась, освободилась и взбежала на мост.
– Подожди! – крикнул он.
Александра не оглядывалась. Ей претил человеческий голос. Она видела узкую калле. По бокам в окнах слабо горели свечи, освещая направление улицы. Она бросилась вперед. Но ей было тяжело двигаться. Усталость и испуг задерживали ее. Трепет смутного зуда бегал по ее телу, щипал кожу. Ноги заплетались – один каблук уже давно отломался. Но ее тянуло вперед, даже непонятно куда, только не назад. Оказавшись на просторной площади, она остановилась, колотясь от изнурительной тревоги, не в силах больше подавлять натиск того зуда, разгорающегося в ее бедрах, мутя ее зрение, и вдруг она почувствовала какими-то последними граммами собственной воли чьи-то мощные руки, обвивающие ее тело…
* * *
Казанова открыл глаза. Сердце его не переставало биться. У кровати в медном шандале горела свеча. В камине медленно догорали дрова и мерклый дымчатый свет освящал старые портреты на стенах.
На животе его лежала голова спящей Александры. Его тело содрогалось от тонкого, почти незаметного жасминного аромата ее духов, от ее шелковых белокурых волос, путано раскиданных на его груди. Он деликатно прикоснулся к ее субтильной спине, кончиком пальцев скользя вниз до копчика. Нежность ее молодой кожи выводила его за пределы рассудка. Он мучился мыслью, что кто-то другой после него будет гладить эти идеальные изгибы и холмы, что кто-то другой будет целовать эти ноги, как он их только что целовал. Ему было неудобно лежать неподвижно, но он боялся ее разбудить.
Она не чувствовала холодный воздух, проникающий из оконных щелей. Тело ее было теплое, особенно лицо, крепко прижатое к Казанове.
– Что это было? – спросила она невнятно.
Он не отвечал, думая, что она просто говорит во сне. Она приподняла голову и лениво повернулась к нему лицом с еще сомкнутыми глазами.
– Я ничего не поняла, – сказала она четче. – Кто были эти люди?
– Какие?
– Все те, на улицах.
– Просто люди.
– Вы-венецианцы очень странные.
– Почему?
– Все друг на друга смотрите, друг за другом следите. Постоянно оглядываетесь.
– Да, это есть.
– Кто это на нас смотрел? Куда ты убежал?
– Это был один не очень хороший господин.
– Я испугалась. Ты меня оставил одну.
– Я знаю. Прости.
– Какие-то дикари бегали.
– Да, так всегда во время карнавала. Все позволяется. Ну почти все.
Она наконец открыла глаза.
– Где мы?
– Мы находимся в палаццо Брагадин, на кампо Санта-Марина.
– Брагадин? – она прищурилась, стараясь что-то припомнить. – Это тот, которому ты спас жизнь?
– Да.
– Тот, с которым занимался каббалой?
– Да.
Она положила подбородок выше на его грудь, изучая его густые брови. Ее рука задела его плечо, затем шею, пальцы щекотали его щетину. Он чувствовал ее горячую, щедрую грудь.
– И что она говорит?
– Кто?
– Каббала.
– Что?
– Что она нам открывает? Чему учит?
– В двух словах?
– Можно и в трех.
Он крепко прижал ее талию к своему паху. Тело его млело от ее больших сверкающих глаз.
– Пожалуй, как любое мистическое упражнение, каббала помогает человеку сбросить с себя индивидуальность, субъективное мироощущение. Она помогает ему достичь единства действительности, сути жизни. Понимаешь?
– Ну да.
– То есть той действительности, которая является основой и причиной всех существ, всех действительностей.
– Всего существования?
– Да. Или того, что некоторые называют Богом.
– Это возможно?
Он вздохнул.
– Сложно сказать.
– Ты достигал этого единства?
– Не знаю. Почти. Ведь в человеке находится очень много уровней восприятия. Пожалуй, у меня не хватало дисциплины дойти до конца. Но я думаю, что при очень сильном желании можно все. Брагадин говорил, что он достигал этого состояния.
Она почувствовала каплю ностальгии в его голосе.
– Вы были очень привязаны друг к другу, да?
– Он мне был как отец. Родного я рано потерял.
– А своих детей у него не было?
– Есть незаконный сын. Но Брагадин его никогда не признавал.
– И сейчас ты здесь живешь один? В этом огромном прекрасном палаццо?
– Я тут не живу.
– Как? А кто здесь живет? – она посмотрела вокруг.
– Не знаю.
– Что!
Они засмеялись.
– Когда Брагадин умер, дворец начали делить его родственники. Уже пятнадцать лет они не могут решить, кому достанется какая часть. Но я с ними никогда особенно не дружил.
– Зато ключи от дома имеешь?
– С красивым прошлым сложно расставаться.
Она поласкала его лицо, вглядываясь глубоко в бдительные глаза.
– Тебе очень повезло в жизни, мой феникс. Ты знаешь это?
– Каббала не назвала бы это везением. Она дает нам понять, что каждая человеческая душа предназначена для определенного дела. У каждой есть своя миссия. Жизнь нам предоставляет знаки, которые мы должны расшифровать, чтобы понять эту миссию. Моя душа, значит, не могла выполнять свою миссию, находясь в той среде, которая меня окружала до встречи с Брагадином. Вот почему мне был предоставлен новый мир.
– И ты думаешь, что ты выполнил свою миссию? Твоя душа себя реализовала?
Казанова почувствовал, что тело Александры теряло теплоту, и сразу укрыл ее одеялом.
– Иногда да. А иногда мне кажется, что я должен еще реализовываться и реализовываться, что этот процесс не имеет конца.
– А я не знаю, какова моя миссия, – она отвернула голову. – И вообще, мне не нравится эта каббала. Согласно ей, жизнь человека предопределена. Все уже решено. Где же тогда его индивидуальная воля, его свобода?
Казанова опять вздохнул. Веки его становились тяжелыми. Тянуло в сон.
– В его мечтах, пожалуй, – тихо ответил он.
Александра больше не говорила. Ее губы примкнули к груди Казановы. Он чувствовал ее дыхание. Комнату наполнял запах тлеющего дерева. Изредка, в бездонной ночи раздавались караульные крики пролетающих чаек. Тягучая тьма поглощала их тела, пока дым сгоревшей свечи рассеивался над кроватью.
12
Казанова открыл глаза. Сердце его не переставало биться. В окнах разливались первые серые оттенки рассвета. Холод кусал его ноги. Он их подтянул под одеяло, пяткой разыскивая ноги Александры. Но пятка другого тела в кровати не нашла.
– Tesoro?[44]
Ответа не было. Он поднял голову и понял, что в комнате один. Тотчас спрыгнул с кровати, оделся и высунулся из окна. Калле была пуста и беззвучна. Его охватил страх, что Александра потерялась, что она забрела неизвестно куда. Он заметил, что его табарро в комнате не было. Набросив на себя плед, он выбежал из дворца и посередине площади крикнул:
– Александра!
Залаяла собака. В окнах соседнего дворца зажглись свечи. Где-то распахнулись ставни, и старческим голосом кто-то прогорланил:
– Заткнись, кретин!
Казанова побежал в сторону недалекой церкви Формозы. Там он снова крикнул имя молодой петербурженки. Ответа не было. Небесная гладь становилась светлее, но маленькие узкие калле были еще совсем темны. Он бегал от одного угла площади к другому, забираясь на мосты, с ужасом смотря на каналы, всюду повторяя ее имя. Никого не увидев, никого не услышав, он поторопился обратно на кампо Санта-Марина и оттуда, запыхаясь, повернул в сторону базилики Заниполо.
Вдали, возле просыпающегося храма, он увидел человека. Но добежав до базилики, понял, что это была не женщина, а мужчина – бездомный старик, крутящийся и бормотавший у входа. Волнение за Александру смешалось с горьким ощущением собственной никчемности, и старик только усугублял это чувство. Казанова смотрел на него, будто на себя в зеркало: он чувствовал себя таким же покинутым. Он побежал дальше, по мосту, спотыкаясь, хватаясь за барьер, за свой плед, про себя произнося одно только слово: «Александра».
На кампо Санта-Мария Нова он встретил патрулирующего фанта[45]. Задыхаясь от боли в груди, Казанова к нему обратился с трепетом в голосе:
– Доброе утро.
Фант повернулся и узнал Казанову, несмотря на его растрепанный вид.
– О, мессер Казанова! Доброго Вам утра.
– Простите, я… я ищу…
– Да?
– Я ищу женщину.
– Вот удивили! Но почему в пледе? Новая стратегия?
– Нет, серьезно. Вы не видели одну молодую иностранку. Светлую, статную.
– Ваш вкус остается безупречным.
Было бесполезно толковать с фантом. Казанова устремился в сторону гостиницы Леон Бьянко. Там, во дворике, где день назад он стоял под окном Александры и признавался ей в своих чувствах, он зашагал взад и вперед, обдумывая, как поступать дальше. Вокруг раздавались утренние голоса местных жителей. Из каминных труб на крышах шел густой дым. В некоторых окнах гостиницы уже горели свечи, и в дверь со двора вошел мальчик со свежеиспеченными багетами.
Казанова не знал, зайти ли ему в гостиницу и спросить об Александре в вестибюле, или избежать этой формальности и просто бросить камешек в ее окно, вызывая ее напрямую. Он боялся ее реакции и был не уверен в своей способности адекватно объяснить, что с ним происходило. А вдруг ее вообще в гостинице не было? Тогда что?
Наконец он решил спросить о ней в вестибюле. Он снял плед и вошел в гостиницу. Внутри уже ходили туристы и пахло горячим шоколадом. Подходя к стойке метрдотеля, он заметил поразительную вещь: на одном из диванов лежало знакомое табарро! Он взял его и взглянул на воротник – был ли там шов с белыми нитками. Да, был. Табарро точно был его. Это значило, что Александра вернулась к себе в номер, сбросив плащ в вестибюле. Казанове стало легче. Он положил табарро обратно на диван, и, решив никого не тревожить, вышел из помещения.
* * *
Позавтракав и прочитав газету у себя в номере, граф Салтыков сел у окна и устремил взор на противоположный берег, на кампо делла Пескерия, наблюдая, как рыбаки подвозили свежий улов к торговым лавкам. Большой канал уже кишел мелкими промысловыми лодками, и рынок постепенно наполнялся покупателями.
Чем больше Салтыков размышлял о предложении прокуратора Пезаро, тем больше оно ему нравилось. Он представлял венецианский остров Кефалония в Ионическом море, его древнегреческий «фундамент», его близость к Османской империи, его выгодное для России стратегическое положение. Русский флот еще никогда не стоял так далеко в восточной части Средиземного моря. Эта сделка отлично вписывалась в Греческий проект Екатерины. «Венецию, конечно, можно понять, и пожалеть, – думал он. – Если бы Австрия присоединилась к России и пошла бы на Османскою империю, она бы по пути забрала себе венецианское побережье в Далмации, на что Пезаро и намекал. А может быть, она эту территорию забрала бы еще раньше. Но все можно было уладить между Австрией и Венецией. Всех можно было удовлетворить – мирно, дружески. На это Екатерина была вполне способна».
– Ты готов, дорогой? – к Салтыкову обратилась супруга.
– Еще как!
– Интересно, какое зрелище нас ждет сегодня. Я даже не знаю, что надевать. Меня во всех туалетах уже видели.
– А зачем ты надела этот красный пояс?
– Тебе не нравится?
– Фасон – очень, но что за цвет?
– А что с ним?
– Слишком яркий.
– Как мулета.
Графиня сделала жест тореадора.
– Я должен тебя разочаровать, однако. В Венеции охота на быков – это не как испанская коррида.
– Как? – графиня чуть расстроилась.
– У них нет тореадора.
– Правда?
– Бык сражается с собаками.
– Что ж это за сражение?
– К тому же бык кастрирован.
– Это что значит?
– Ну, как тебе сказать, лапонька? Он не совсем мужественен.
Постучали в дверь. В номер вошла гофмейстерина Бенкендорф с озабоченным выражением лица.
– Аня, что случилось? – спросила графиня Салтыкова.
Бенкендорф, тоже принарядившись к очередному мероприятию, плотно закрыла за собой дверь и прижала указательный палец к губам.
– Есть определенные сведения, – обратилась она к графу. – Малопристойные, я боюсь.
Салтыковы ее окружили.
– Что случилось? – спросил граф.
– Должна Вам доложить, что наша мадемуазель Снежинская не ночевала в гостинице.
– Как? – вскрикнула графиня.
– Ш-ш-ш… Она явилась только под утро.
Графиня схватилась за голову.
– А где же она была? – спросил Салтыков.
– Загуляла девушка, загуляла, – Бенкендорф подняла бровь.
– В каком она состоянии?
– Непонятно.
– С кем она была?
– Вчера видели, как она вышла из театра и удалилась с синьором Казановой.
– С Казановой! – графиня попятилась назад в испуге. – Это же… это же…
– Какие меры хотите, чтобы я предприняла, Ваше Сиятельство? – черство спросила Бенкендорф.
– Меры? А… – Салтыков растерялся. – Ну…
– Ну! – торопила его супруга.
– Дайте мне подумать минутку.
– Как скажете.
– Подумать! – возмутилась графиня. – О чем тут думать! Это позор! Это полный позор!
– Вы пока спускайтесь, Анна, – сказал Салтыков. – Мы скоро придем.
– Хорошо.
Бенкендорф вышла.
– Коля, это все очень серьезно. Этот случай срамит русскую корону. Ты понимаешь?
– Не преувеличивай, Наташа.
– Что? Ты знаешь, кто такой Джакомо Казанова! Ты знаешь, что о нем говорят!
– Да, слыхал.
– Он же… он же… он же законченный развратник! Бесчестный, бесстыдный мошенник! Он пересидел во всех тюрьмах Европы! Он беззаконник, чернокнижник, дуэлист, самый настоящий подлец!
– Не надо так жестоко. Нельзя людей судить. Откуда мы знаем…
– Он порочит чистоту русской нации с его… с его… с этой западной безнравственностью! Я не понимаю, как только могла наша императрица допустить его к себе!
– Если ты не заметила, она тоже приехала в Россию не из Китая.
– Неважно. Ты должен тут же сообщить об этом Павлу Петровичу.
– Подожди, подожди. Мы же не знаем, что произошло – где они были, что они делали, была ли она вообще с ним. То, что она не пришла в гостиницу, это да, неуважительно.
– Да тут все понятно. Снежинскую надо наказать! – графиня закрутилась. – Я так и знала, Коля! Я так и знала, что эта безбожная Европа испортит наших невинных девушек!
– Не волнуйся, дорогая. Все наладится. Я сейчас дам распоряжение, и увидишь, все наладится.
– Я так и знала, я так и знала!
* * *
Овальный амфитеатр в середине площади Сан-Марко заполнялся патрициями. Они заходили со стороны базилики через громадную восемидесятифутовую Триумфальную арку, украшенную рельефами героев Олимпа. На противоположной стороне арены, напротив церкви Сан-Джеминиано, возвышался двухэтажный деревянный теремок с большими хрустальными окнами. Его второй этаж служил специальной зрительной площадкой и был соединен с залами Старых Прокураций длинным коридором.
– Ой, как много людей! – испугалась графиня дю Нор, идя по коридору и проверяя прочность пола. – Неужели они все… то есть неужели все эти люди поместятся в амфитеатре?
Пьяцца Сан-Марко была залита бушующим народом. Не было ни одного безлюдного пятнышка на целой площади.
– Не беспокойтесь, мадам, – уверенно сказал прокуратор Пезаро. – Сначала в амфитеатре будут сидеть патриции, а потом поменяются местами, и во время второго акта арена будет предоставлена народу.
– Что? – удивился граф дю Нор. – Вы хотите сказать, что во время целого первого акта народ будет стоять снаружи?
– Да, Ваше Сиятельство.
– А Вы не волнуетесь, что возникнут… ну, как сказать, беспорядки. Ведь все-таки вы же понимаете, народ есть народ. Любит протестовать и бунтовать, когда скапливается. Иначе он бы не был народом.
Пезаро и другие венецианские чины широко улыбнулись.
– Все под контролем, Ваше Сиятельство. Когда наш народ скапливается, его объединяет только чувство праздника.
– Хорошо. Как скажете, Ваше Высочество.
Великокняжеская чета села в первый ряд у окон, наслаждаясь дивным видом на арену и на базилику позади нее. Даже в этот бессолнечный день мозаики на фасаде храма привлекали своим матовым мерцанием. Симметрично по бокам стояли Старые и Новые Прокурации, и шпиль кампанилы, казалось, пронзал низкое небо.
Увидев почетных гостей, патриции в амфитеатре захлопали, а цесаревич, отвечая поклонами, вдруг заметил одно знакомое лицо на трибунах.
– Так это же… это же синьор Казанова! – обрадовался он.
– Да, это он! – воскликнула графиня.
– Синьор Казанова! – цесаревич привстал и замахал руками. – Синь ор Казанова!
– Здравствуйте! Здравствуйте! – графиня кончиками пальцев нежно постучала по стеклу. – Мы здесь, мы здесь!
Казанова услышал их голоса и, делая вид, что эта встреча была лишь случайным совпадением, предстал перед теремом.
– О, добрый день, граф и графиня дю Нор! Как приятно вас видеть! Я не знал, что вы придете на это мероприятие.
– Вы нас потрясли вашим вчерашним выступлением! – восторгался цесаревич.
Казанова хотел, чтобы как можно больше людей услышали эти слова.
– Что? – он указал на стекло между ним и цесаревичем. – Я не слышу.
– Я сказал, – цесаревич повысил голос, – что Вы потрясли нас Вашим вчерашним выступлением!
– А! Благодарствую, Ваше Сиятельство, – Казанова поклонился.
– Все было так неожиданно, так тонко, – лицо цесаревича сияло. – Вы так выразительны и пластичны, и, вообще, идея одинокого, всемогущего, вечно возрождающегося феникса так злободневна!
– Да, синьор Казанова, Вы очень одарены, – добавила краснеющая графиня.
Казанова заметил, как сухо и сурово на него смотрели графиня Салтыкова и мадам Бенкендорф. Он также заметил, что Александры среди фрейлин не было – сидели только Нелидова и Борщова.
– Но куда Вы делись потом? – спросил цесаревич. – Мы все Вас ждали, ждали. Хотели бокал с Вами поднять.
– Да… завертелся чуть-чуть.
– Что? – цесаревич указал на стекло. – Не слышу.
– Завертелся немного, Ваше Сиятельство!
– Мы с Вами обязательно должны еще поговорить, синьор Казанова!
– Конечно.
– Послезавтра мы все уплываем, к сожалению. Ничего не поделаешь. Так что я буду Вас ждать вечером на балу. А если нет, то завтра Вам опять придется возглавить экскурсию по городу. И это приказ!
Цесаревич стукнул нагой, иронично изображая военного начальника.
– Обязательно, Ваше Сиятельство. Обязательно.
Казанова вернулся на свое место и задумался. Шум ревущих труб, провозглашающих начало охоты на быка, резал ему слух.
– Forza bue! Forza bue![46] – закричал рядом один патриций, когда на арену вывели четырех быков.
– Forza cane! Forza cane![47] – заорал другой.
«Какая дикость, – подумал Казанова. – Бык сражается с собаками. Уже конец XVIII века, а человек все еще упивается этим варварством».
Одного быка отпустили драться, пока трех остальных привязали за рога и держали у стен арены. Народ вокруг амфитеатра встревожился когда услышал плач собаки, попавшей под копыта бодающегося быка. Другая собака укусила его за ухо, но бык отшвырнул ее на пять метров. Подбежал третий пес и схватил его за хвост. Он его долбанул задним копытом. Потом все три собаки, одна уже хромая, вцепились в его ляжки, стараясь его замедлить и ослабить. Народ чувствовал борьбу, рвался к воротам арены. Графиня дю Нор видела, как вздымалась толпа, подобно морской волне, набегающей на берег. Она слышала неистовые крики, жаждущие крови, растерзания быка. Бык мучился, мычал, в пустой воздух тыкался рогами. Собаки прыгали на него выше и выше, со всех сторон. Неуклюжесть быка, его медлительность и растерянность перед тремя здоровенными хищными псами, два дня специально изморенными голодом, делали его практически беззащитным. Собаки вонзали свои зубы в его живот так глубоко, что одна повисла, пока он пытался убежать от бешенный боли. Другому псу удалось прыгнуть ему на спину и прокусить его шею. Через четверть часа бык уже истекал кровью: из ног, живота, спины, шеи, плеч. Собаки не останавливались ни на секунду, терзая каждую мясистую часть его тяжелого тела. Он бегал кругами и это его только больше изнуряло – копыта еле-еле поднимались, рога повисли. Инстинкт самосохранения еще бился, но бороться бык уже не мог. Полностью ослабев, он зашатался, и, раньше чем он это почувствовал, собаки разом впились в его конечности и потянули его во все стороны, сумев повалить его на пропитанный его же кровью песок. Зрители – и патриции в амфитеатре, и не видящий, но чующий происходящее народ – замерли в ожидании завершающей атаки. Но как только собаки всадили свои резцы в бедра содрогающегося животного, глодая его живым, на арену вышли служители и разогнали их. Быка прикончили, привязали к повозке и повезли с пыльной арены.
После второго сражения, охранники проделали свободный коридор в толпе, от ворот арены до базилики, через Триумфальную арку. Через него вышли патриции. Затем два охранника перешли арену и открыли задние двери. Мирно, радостно и без эксцессов толпа вошла и заняла места на трибунах. А когда народ увидел в тереме прокуратора Пезаро со знатными иностранцами, он так дружески и тепло зааплодировал, что цесаревичу стало совестно.
– А сейчас, дамы и господа, – Пезаро обратился к русским, – перед тем как мы начнем второй акт, разрешите попросить графиню дю Нор помочь нам с одним ритуалом.
В тереме открыли окна.
– Меня?! – испугалась она.
– Это совсем безопасно, сударыня.
– Давай, Маша, давай, – цесаревич поощрял ее по-русски. – Если просят, значит надо.
С крыши терема на канате спустили большого белого голубя, сотканного из хлопчатого материала. Он повис перед окном. Сам канат шел над амфитеатром до Триумфальной арки, и поскольку терем был выше арки, то канат протягивался с наклоном.
– Графиня, я вас попрошу зажечь этого голубя.
– Зажечь? Как?
Графине предоставили зажженную свечу, и она в легкой растерянности высунула ее из окна. Пламя схватило длинный фитиль, и птица медленно покатилась по канату, рассыпая яркие разноцветные искры над всей ареной. Долетев до конца, голубь коснулся другого фитиля, которой понес пламя по всей арке, так что та тоже зажглась искрящимися огоньками. Народ повернулся к терему и закричал:
– Evviva Venezia! Evviva San Marco!!!
Цесаревич, почти онемевший от удивительной красоты, подождал, пока народ затих, встал перед окном и попросил Пезеро перевести его слова публике.
– Я никогда не думал, что может существовать такое доброе, гостеприимное, гармоничное общество. Ваш город, ваша нация должны служить моделью для всех стран мира. От всей души и от всей нашей делегации я желаю поблагодарить вас, мои друзья. Вот как действует мудрое правительство республики. Вы все – одна семья!
* * *
У гостиницы «Леон Бьянко» остановилась гондола. Из нее выпрыгнул Казанова и поторопился в вестибюль.
– Мессер Сагоян, – обратился он к метрдотелю, запыхавшись, с выпученными глазами, – меня очень беспокоит состояние одной вашей гостьи.
Стройный, прилизанный, изысканно одетый армянин нахмурил черные брови и поджал губы.
– А как, позвольте спросить, зовут особу?
– Ее зовут мадемуазель Александра Снежинская. Она путешествует в свите графов дю Нор. Она фрейлина великого… то есть она фрейлина графа, то есть великой графини…
– Спокойно, мессер Казанова. Вы бледны. Вы плохо себя чувствуете?
– Нет. Со мной все в порядке. Меня волнует состояние мадемуазель Снежинской.
– Да, я вижу.
– Она сегодня не выходила? То есть она сегодня не пошла на площадь Сан-Марко с графами дю Нор? Она в гостинице?
– Сейчас посмотрим.
Метрдотель подошел к регистратору, который при имени Снежинской заметался у себя за столом, посмотрел на какие-то бумаги, встал, опять сел и наконец закивал головой.
– Ну! – спросил Казанова с нетерпением.
– Да, кажется, мадемуазель Снежинская не выходила сегодня с графами дю Нор.
– А где она?
– Она у себя в номере.
Метрдотеля пугал нервный чахлый вид Казановы.
– Тогда будьте любезны, мессер Сагоян, сообщите мадемуазель, что мессер Казанова приглашает ее на чашку горячего шоколада, тут у вас в ресторане.
Метрдотель позвал молодого носильщика и поручил ему передать приглашение русской гостье. Тот взлетел по лестнице, через несколько минут спустился и прошептал что-то на ухо метрдотелю.
– Мадемуазель говорит, что она вынуждена отклонить Ваше приглашение, – деликатно доложил Сагоян.
– Как?
– Она говорит, что сегодня она не в расположении.
– Что?
– И предпочитает побыть одна.
Метрдотель откланялся и сел за свой стол.
Казанова плюхнулся в кресло и уставился в потолок. Что-то его насторожило. Люстра показалась огромным осьминогом, спускающимся на него, протягивая свои щупальца, чтобы засосать в себя. Он вскочил и выбежал во дворик. Там он зашагал взад и вперед, поглядывая на окно Александры. Прошла минута, две. Его снедал страх с ней расстаться. Его мучила неизвестность, ее непонятное состояние. Вдруг ее жестоко наказали? Он подобрал мелкий осколок камня и бросил его в ставни ее окна. Ответа не было. Тогда он взял еще один осколок и бросил его уже в само окно. Он знал, что она понимает, кто бросает эти камешки. Но к окну не подходили. Он бросил еще один камешек. Окно не открывалось. Он сильнее бросил четвертый камешек и, не добившись никакой реакции, поднялся по каменной лестнице на второй этаж, там обхватил трубу и осторожно, крепко обняв ее коленями, пополз до третьего этажа. Добравшись до желанной высоты, он схватился за подоконник Александры, пока его ноги еще обнимали трубу. Из гостиницы вышла английская пара.
– O, my Lord! Look at that man, Edward!
– Must have forgotten his keys. Come on, Bettie. Stop staring. It’s not polite[48].
Казанова висел на подоконнике, одной рукой стуча в окно. Александра его увидела и вскочила с кровати. Он постучал сильнее.
– Открой, пожалуйста! – сказал он громко, но стараясь не кричать.
В недоумении и ужасе она приблизилась к окну, но долго его не открывала. У Казановы ноги болтались в воздухе, он еле-еле держался за подоконник. Наконец она повернула крючок, и он открыл окно.
– Не бойся, сейчас, подожди, я…
Из последних сил он подтянулся, но застрял в окне.
– Что ты делаешь!
– Вот… вот…
Он наконец ввалился в номер, ушибив колено. Александра была бела, как призрак.
– Ты с ума сошел! Ты не должен тут быть!
– Послушай меня, – он встал на ноги. – Послушай только.
– Уходи!
– Я понимаю, ты боишься. Все произошло слишком быстро. Для меня это тоже было неожиданно.
– Что произошло?
Он на секунду задумался.
– Что?
– Ничего не произошло.
– Как?
– Так.
– Ничего не произошло?
– Мы просто погуляли после театра и все.
– Ты себя обманываешь.
– Уходи, я сейчас позову метрдотеля.
Она подошла к двери.
– Подожди! Я только прошу тебя выслушать меня, Александра, – он говорил лихорадочно. – Я тебя умоляю.
– Ты не должен…
– Ш-ш-ш… Я клянусь, мне безразлично, на чьей ты стороне.
– На «чьей стороне»? О чем ты говоришь?
– Мне это неинтересно. Меня интересуешь только ты. Только ты! Я больше ничего не хочу в жизни. Пойми меня, пожалуйста.
– Уходи!
– Если бы ты только знала, что последние десять лет у меня вообще никакой жизни не было. Я существовал как… как какой-то жалкий беспозвоночный червь, прячущийся глубоко в земле.
– Ухо…
– Я не хотел видеть свет, ты понимаешь, я ненавидел свет. Я презирал себя, я предавал себя. Я предавал своих друзей, своих кумиров. Моим единственным утешением было зарыться как можно глубже в моем пристанище и не видеть никого, не видеть себя. Я себя закопал заживо. Ты понимаешь?
Слезы блеснули в ее глазах.
– Зачем ты это говоришь?
– Я превратился в такого же поганого червя, которым был тот, который на меня когда-то донес и из-за которого я пятнадцать месяцев просидел в тюрьме. Ты это представляешь?
– Пожалуйста, – сказала она мягко, покорно, глотая слезы, – я тебя прошу, уходи.
– Но в тот вечер, в тот вечер, когда я тебя впервые увидел на балу, мне наконец стало грустно… грустно, оттого что я червь и прячусь под землей. Мне захотелось вылезти наружу. Я почувствовал теплоту дневного света, и мне она понравилась. Мне вновь захотелось жить под солнцем. У меня забурлила кровь. У меня выросли хребет, зубы. Я почувствовал, что я перерождаюсь. Я сбросил свой старый покров. Я задышал новым воздухом. Вернулось зрение. Я вышел в новое пространство, в свежее, светлое пространство. И это пространство – ты, Александра. Ты понимаешь? Ты сейчас мое новое «я». Понимаешь? Где ты, там я.
– Пожалуйста, Джакомо. Давай все забудем. Это была моя вина.
– Что ты говоришь?
– Мне нельзя было себя так вести. Давай все забудем.
– Забудем? – у Казановы затряслись руки, и он сказал тихо, робко, как хороший послушный мальчик: – Александра, я люблю тебя. Ты изменила мою жизнь. Я люблю тебя.
– Нет! Нет!
Он встал на колени.
– Я прошу твоей руки.
– Нет! – она закричала. – Уходи!
– Я хочу, чтобы ты была моей женой.
– Нет!
– Это возможно.
– Убирайся! – у нее перекосилось лицо, и в глазах появился нездоровый темный свет.
– Мы будем жить радостно, весело. Мы будем издавать книги, ставить спектакли. Мы будем путешествовать. Мы будем делать все, что ты захочешь.
– Кто ты? Убирайся!
– Я не понимаю. Ты заболела? Ты, может быть, простудилась?
– Убирайся! Убирайся! Убирайся! Я тебя не знаю! – она кричала в истерике, закрыв лицо руками.
Он встал и попытался обнять ее, отводя ее пальцы.
– Уходи, я сказала! – она отскочила. – Уходи как хочешь! Через окно, через дверь! Только больше передо мной не являйся! Забудь меня!
– Я не могу этого сделать.
– Забудь, я сказала! Как я тебя уже забыла.
Она открыла дверь, потупив глаза. Он долго стоял, не двигаясь, а потом, отряхнув пальто, подошел к порогу.
– Ты просто заболела, – сказал он, рассматривая ее взъерошенные волосы.
– Уходи.
* * *
Казанова сел на швартовочную тумбу у моста Риальто и подумал: «Ну, конечно, она просто испугалась. Новый город, непонятные люди, непонятные обычаи. Еще простудилась наверняка. Виноват я, несомненно. Я поторопился. Она испугалась, потому что дело вышло за рамки традиции. Наверно, у них в России существуют другие порядки. Да. Она сейчас придет в себя, успокоится, и все станет на место. Она поймет, что мое предложение искреннее, благородное. Жить мы будем… ну, сначала мы можем пожить у Дзагури. Сколько лет он мне предлагает свой верхний этаж. А потом, когда пойдут дела – а дела пойдут в гору, потому что я займусь имуществом Меммо, а он, будучи венецианским послом в Риме, мне будет что-нибудь подбрасывать периодически – мы снимем собственное жилье. Таким образом, если она захочет иметь детей или пригласить с нами жить своих родителей, будет место для всех. Адаптироваться к Венеции ей будет несложно – города наши похожи: ведь Петербург строят итальянцы. Венецианский язык она сразу выучит. Можно потом открыть школу русского языка. Будем путешествовать, творить. Надо просто заново сделать предложение. И на этот раз сделать его солидным, формальным, даже торжественным, как это любят русские».
Вдруг Казанова увидел, как под мостом Риальто проплывает гондола с графами дю Нор. Цесаревич ликовал как обычно, махая венецианцам, стоящим на обоих берегах канала. Гондола плыла к гостинице, и у Казановы тут же родилась идея.
– Ну конечно!
Он вскочил на ноги и подозвал гондолу.
– К греческой церкви Сан-Джорджо!
* * *
В номер цесаревича зашел граф Салтыков.
– Вот-вот, я почти готов, Николай Иванович. Мария права была, когда говорила, что надо было больше жюстокоров брать с собой в поездку. Ну, ничего. Я что-нибудь присмотрю себе в Риме.
– Не торопитесь, Павел Петрович. Я просто зашел с Вами поделиться интересными новостями.
– Правда? Какими?
Салтыков посмотрел, чтобы дверь была полностью закрыта.
– Очень важными.
– Ну, я слушаю.
Цесаревич повернулся к Салтыкову, застегивая свой черный жюстокор.
– Вчера прокуратор Пезаро нам предложил очень интересную сделку.
– О?
– Представьте себе такой сценарий, Павел Петрович: за нашу дипломатическую поддержку в случае конфликта с Австрией Венецианская Республика предоставляет нам один из ее Ионических островов в качестве военно-морской базы.
– Что?
– Да-да. Точно так.
– Это же… это же просто благодать! – цесаревич чуть не подпрыгнул от радости. – Это лучше всего того, о чем мы сами думали.
– Да!
– Это превосходно вписывается в «Греческий проект»!
– Еще как!
– Надо сразу тут открыть посольство. Сразу же. Я уже присмотрел хороший дворец.
– Торопиться не надо. Надо сначала…
– Ну да. Вы правы, Николай Иванович. Маман сначала должна все уладить с Габсбургом. Боже мой, как же Венеция его ненавидит, я представляю. Что она ему такого сделала? Что он на нее так давит?
– Я сказал прокуратору, что предварительно поговорю с Вами, а потом мы подумаем, как это преподнести императрице.
– Вы правильно сделали, Николай Иванович.
– Завтра он будет ждать нашего окончательного решения. От Вас.
– Зачем ждать до завтра. Я ему сегодня вечером в театре скажу, как мне нравится эта идея.
– Как хотите.
– Ионические острова. Вы понимаете, что это значит, Николай Иванович! – цесаревич подошел к зеркалу и одел парик. – Перед нами все Средиземное море открывается. Весь Левант. А там до Иерусалима рукой подать! Это изумительно!
Глаза цесаревича загорелись.
– Да, это потрясающее предложение, Павел Петрович.
– Как я обожаю эту республику. Как я обожаю этот город!
Постучали в дверь.
– Ш-ш-ш.
Салтыков открыл, и в номер вошел Пешкин, лакей цесаревича.
– Ваше Императорское Высочество, синьор Казанова просит минуту Вашего времени.
– Синьор Казанова?! – цесаревич обрадовался. – Да, пригласи его сюда, Леша. И захвати бутылку шампанского!
– Он не один.
– А с кем он?
– С попом.
– С попом? С каким попом?
– С отцом Феодосием, из Греческой православной церкви.
– Из Греческой православной церкви? – цесаревич посмотрел на Салтыкова в остолбенении. – Да это же… это же чудо! Это же просто благословение! Это знак Божий! А ну-ка немедленно позови их сюда, Леша! Forza, forza!
Прошло несколько минут, и на пороге появился Казанова, а сзади него – брюшковатый, кудрявый, черноволосый священник в длинном черном одеянии и со смущенной улыбкой. Цесаревич обнял Казанову и поцеловал священнику руку.
– Кому обязан я таким счастливым сюрпризом, друзья мои?
– Ваше Сиятельство, – робко начал Казанова, – я прошу прощения за наше неожиданное появление.
– Прощение? Да Вы что? Для меня это праздник. Леша, где шампанское?
– Я не хотел вас тревожить. И Вас тоже, граф Салтыков.
– Мы очень рады Вашему визиту, синьор Казанова, – ответил тот. – И мы очень рады видеть Вас, отец Феодосий.
– Взаимно, граф Салтыков, – священник поклонился.
– Я пришел к Вам… – Казанова не знал, как выразить свои мысли, – то есть мы пришли к Вам… то есть я бы хотел… короче, я пришел к Вам с просьбой, Ваше Сиятельство.
– С просьбой? – цесаревич широко улыбнулся. – Да что угодно, синьор Казанова. Вы не представляете, как на меня подействовал ваш город, с его милейшим народом, с его мудрейшим правительством, с его историей, праздниками, традициями, с его просто нечеловеческой красотой и жизнелюбием! Я летаю от счастья, синьор Казанова. Я парю в самом высоком лазурном небе, как те ангелочки на полотнах Джанбаттиста Тьеполо. И я Вам очень обязан, синьор Казанова. Я Вам обязан за Ваши интересные экскурсии и рассказы, за Ваше гостеприимство. Так что просите, что угодно! Если это в моих силах, Ваша просьба для меня – приказ!
– Благодарствуете, Ваше Сиятельство. Дело в том, что раньше я зашел в гостиницу… ну, как сказать… ну, не самым ортодоксальным путем.
– О?
– Я поторопился. Поторопился, потому что я человек южный, горячий. Сначала действую, потом думаю. Может быть, не надо было так… я просто хотел… ну, все было так искренно, честно, чисто…
Глаза Казановы бегали между тремя мужчинами.
– Говорите, мой друг. Coraggio!
– Мне надо было сразу к Вам обратиться. Надо это все было сделать формально, торжественно. Но я не догадался. Чувства, Ваше Сиятельство. Чувства меня унесли. Но потом я опомнился и понял, почему у нее реакция была такова.
– Реакция? У кого?
– Ваше Сиятельство, – Казанова сосредоточился, взяв руки цесаревича, – я хочу жениться на одной из Ваших придворных дам. Для этого я с почтением приму православие. Отец Феодосий подтвердит, что я к нему уже обратился по этому поводу.
Священник кивнул.
– Жениться! – цесаревич хлопнул руками. – Так это же чудесно!
– Я влюблен, как никогда в жизни, Ваше Сиятельство.
Но через несколько секунд цесаревич задумался, зачесав мочку левого уха.
– Разрешите задать Вам небольшой вопрос, синьор Казанова. Если я не ошибаюсь, в нашей свите пребывают две незамужние дамы: мадемуазель Нелидова и мадемуазель Снежинская. Вы на ком, собственно говоря, желаете жениться?
– На мадемуазель Снежинской, Ваше Сиятельство.
– О, – радостное сияние полностью исчезло с лица цесаревича, и он отвернулся.
– Поздравляю Вас, синьор Казанова, – сказал Салтыков, убедившись в благородных намерениях венецианца. – Это отличная новость! Правда, Ваше Сиятельство?
– Да, очень, – тихо промямлил цесаревич.
– Я прошу Вашего благословения и Вашего содействия, – покорно сказал Казанова.
– Моего содействия? – цесаревич подошел к окну, угрюмо глядя на канал. – Зачем?
– Ну, я раньше сделал мадемуазель предложение, предварительно не попросив Вашего разрешения, и фрейлина испугалась. Что естественно, будучи на чужой земле, далеко от родины, от семьи. Все произошло очень быстро. Ее можно понять. Вина моя, я признаюсь.
– Как Вы считаете, мадемуазель Снежинская разделяет Ваши чувства?
– Думаю, да, Ваше Сиятельство.
– Вы уверены? – цесаревич как-то неуклюже повернулся к Казанове, спотыкаясь о коврик. – То есть я хочу спросить, Вы считаете, что мое содействие Вам поможет?
– Да, Ваше Сиятельство.
– Я считаю, что этот брак может послужить знаменем русско-венецианской дружбы, – душевно заявил Салтыков. – Это прекрасная новость!
– Правда? – приятно удивился Казанова.
– Для меня было бы великой честью соединить этих замечательных людей, – сказал отец Феодосий.
– Хмм, – цесаревич сложил руки за спиной и важно зашагал взад и вперед по номеру, как генерал, разрабатывающий стратегию на поле битвы.
– Ваше Сиятельство? – Казанова обратился к цесаревичу после длинной паузы. – Я что-то не то сказал?
Цесаревич ходил тяжелыми шагами. Потом он остановился.
– Павел Петрович? – осторожно произнес Салтыков, заметив, как глубоко тот ушел в свои мысли.
Отец Феодосий почесал свой наперсный крест. Стояла мертвая тишина.
– Хорошо, синьор Казанова! – наконец ответил цесаревич. – Я Вас понимаю и я Вам благодарен за то, что Вы желаете сделать меня участником своей судьбы. Я Вам посодействую.
– Правда?! – Казанова кинулся на колени, целуя руки цесаревичу.
– Я постараюсь исполнить Вашу просьбу.
Салтыков с Феодосием обнялись.
– Я… я… – в глазах Казановы засверкали слезы. – Я просто не знаю, как Вас благодарить.
– Давайте поступим следующим образом. Мы все послезавтра уплываем. Так что приходите ко мне завтра вечером, синьор Казанова. Приходите и увидите, что Ваше счастье будет устроено, – сказал цесаревич твердо и уверенно.
– Да храни Вас Бог, Ваше Сиятельство!
13
Казанова всю ночь томился от бессонницы. Как только ему перед рассветом удалось задремать, кудахтанье кур на чердаке его тут же вернуло в состояние напряженного бдения. Он боялся вставать. Он боялся начать новый день – его пугала неопределенность его отношений с Александрой.
По тяжелой вязкой влаге он понял, что за ночь поднялась вода. Ставни были открыты, и, подняв голову, он видел, как легкий туман ложился на крышу дома синьоры Лорензон. В низком сером небе проплывали темные, почти коричневые пятна.
Он встал, прошаркал к окну и взглянул вниз. Слышался аромат свежеиспеченного хлеба. На улице расширялись лужи. Дети в них прыгали, голуби в них купались. Жильцы ставили плоские чугунные преграды на порогах. Все на калле Барбариа делле Толе было как всегда: люди, дома, погода, запахи. Все, кроме одного: Джакомо Казановы.
«Неужели я стою на пороге новой жизни? – думал он, улыбаясь кампаниле Сан-Марко, возвышающейся вдалеке. – Неужели я наконец освобожусь от этого ига? Сколько унижения надо было вытерпеть, чтобы наконец почувствовать себя полноценным, свободным человеком? Сколькими миазмами надо было надышаться, чтобы в конце вдохновиться и исцелиться? Бог вознаграждает за терпение. Бог справедлив».
На кухне синьора Бускини гремела кастрюлями.
– Вот видишь, видишь, Франческа! Спроси его, почему он не пришел домой. Где он был, а? Где?
– Я не буду его об этом спрашивать, мам.
– Хорошо, я спрошу.
– Не смей! Ты хочешь все испортить?
У Франчески слезы покатились по щеке.
– Чего?
– Ты меня мучаешь, не он! Понимаешь?
– Врешь, Фра! Ты ночами не спишь. И спишь со мной. Заметила?
– Это мое дело.
– Твое дело – это мое дело. Твое здоровье – это мое здоровье.
– Да, но моя жизнь – это моя жизнь.
– Ты себя обманываешь, доченька, ты это понимаешь?
Франческа молчала. В кухню зашла ее сестра Мария со свежими булками. Она была на девять лет младше Франчески и была более мясистой из-за любви к маслу.
– Хлеб купила, но новых дров еще не завезли, мам.
– Ой, у тебя ноги промокли, Мария! А ну-ка иди, закутайся в одеяло. Я пока вскипячу воду для тазика. Скорее, скорее. А то заболеешь.
– Хотела грибов купить, но три сольдо не хватило.
– Сейчас, подожди, я их возьму у Джакомо, – сказала Франческа.
Войдя в комнату Казановы, Франческа удивилась, что тот аккуратно раскладывал по полкам книги – те, которые раньше стояли колоннами на полу.
– Что ты делаешь?
– Порядок навожу. Пора, знаешь.
– А чего вдруг сейчас?
– Раньше все казалось как-то естественно. Сейчас нет.
– Джакомо, – Франческа посмотрела ему в глаза и сказала своим кротким детским голосом: – Мы так давно в театре не были вместе. Почему ты меня больше не берешь с собой?
– Да, я знаю, Кекка. Сейчас очень тяжелый период. Но мы еще пойдем. Я тебе обещаю.
– Что происходит, милый?
Казанова отошел к окну и вздохнул.
– Знаешь, Кекка, жизнь – это странная штука.
– Ты всегда это говоришь.
– Правда? Хмм. Ну, да. Дело в том, что, ну как тебе сказать, ну просто в этот момент ее странность меня заставляет приспосабливаться.
– Приспосабливаться? К чему? Я ничего не понимаю.
– Да, я тоже. Ха-ха. Видишь как странно? – он попытался облегчить атмосферу этим дурачеством, но, заметив, как самоотверженно Франческа на него смотрит, стараясь понять каждую его мысль, ему стало совестно. – Хорошо, Кекка. Давай поговорим. Серьезно.
– Давай.
– Садись.
Она села на кровать. Он взял стул и расположился напротив.
– Я боюсь, Джакомо. У тебя непонятное выражение лица. Глаза смотрят как-то по-другому. Что происходит?
– Кекка, может быть будут небольшие изменения.
– Какие?
– Может быть, мне придется на какое-то время съехать с этой квартиры.
– Съехать? Как? Куда?
– Тут, в Венеции. По делам.
– А я?
– Не волнуйся, Кекка. Я вас материально никогда не брошу. Вы все можете жить тут, сколько хотите. Я буду продолжать платить за квартиру, за еду, за одежду, за лекарство для пиколло. Все, что вам будет необходимо, я все вам куплю. Даю слово.
– Но… но… я не понимаю, зачем ты уезжаешь? – она тихо всхлипывала. – Я не понимаю.
– Мне надо. Существуют вещи, которые никак нельзя объяснить. Никак. Но знай, Кекка, одну вещь. Знай, что ты мне очень дорога, что…
– Ты тоже! – она крепко обняла его.
– Подожди, – он ее посадил обратно на кровать. – Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Это важно. Я хочу, чтоб ты знала, что наши отношения уникальны. То, что нас объединяет, – это особое чувство.
– Да!
– Это чувство сильнее и светлее любви. То есть это тоже любовь, но глубже. Это не любовь супругов. Это гораздо прочнее. То, что нас связывает, Кекка, это вечное родство, одна кровь. Это уже семейный союз, без брака. Ты понимаешь?
– Не совсем.
– Я тебе говорил, что это все очень сложно.
– Но зачем тебе надо съезжать? Тебе тут неудобно?
– Мне просто понадобится больше пространства.
Она захлебывалась от слез.
– Я п-п-просто хочу, чтоб ты… чтоб ты себя берег. Потому что я очень переживаю за тебя, мой Lupocchiotto. Мне… мне плохо, когда т-т-тебе плохо. Ты это понимаешь?
– Кеккочка, я всегда буду рядом. Я буду в нашей Венеции. Я никому не дам тебя в обиду. Я всегда тебе буду помогать. Ты всегда сможешь на меня рассчитывать.
– А… а в театр мы будем ходить вместе?
В комнату вбежал маленький Джакомо.
– О, пиколло!
– Дядя Джакомо, посмотрите, что я нашел!
– Что это такое?
– Это кинжал! – мальчик сделал мину коварного пирата.
– Да, это кинжал. И не венецианский. Где же ты его нашел?
– Недалеко от кампо Санта Мария Формоза.
– Если так, то… ну да, конечно! Наверняка, этот кинжал турецкий и его привез с собой адмирал Себастьяно Веньер после великой битвы при Лепанто. Он же жил на том кампо. Да, это военный трофей!
– Правда?
– Он должен лежать на очень почетном месте, знаешь. Я сейчас же расскажу прокуратору Пезаро об этой находке.
– Прокуратору Пезаро! – у мальчика широко распахнулись глаза.
– И тебя вознаградят, Джакометто. И очень щедренько.
Франческа обняла и расцеловала братика.
– Мессер Казанова! Мессер Казанова! – закричали с улицы. – Срочно! Срочно! Мессер Казанова!
Казанова открыл окно. На улице стоял молодой конфидент Бонифаччо.
– Чего надо? – пренебрежительно спросил Казанова. – Ты же знаешь, что я больше не…
– Графы дю Нор уплывают!
– Что!
– Что-то случилось. Они сегодня встали рано утром и со всей свитой направились к причалу.
– Что! Где они сейчас?
– Они ничего никому не сказали. Просто взяли и выписались из гостиницы!
– Где они, я спрашиваю?!
– На пьяцетте.
Казанова влез в свои сапоги, схватил пальто, бросился вниз на улицу и побежал к Дворцовой набережной. Молодой конфидент еле-еле его догнал, объясняя ситуацию:
– На вчерашний бал они не пришли. Прокуратор Пезаро послал за ними в гостиницу. Там сказали, что граф не в духе. Утром в гостинице поднялась неразбериха. Русские выписались, несмотря на то что номера были забронированы до завтра. За последнюю ночь, то есть за сегодняшнюю, они не заплатили. Сели в гондолы и уплыли. Метрдотель сообщил властям. Те – Пезаро. Тот взбесился. Ничего не понятно. Ничего!
На пьяцетте толпилась масса народа. Все были в крайнем недоумении и всюду слышалось:
– Tornate presto!
– Adieu!
– Auf Wiedersehen!
Ноги Казановы уже промокли насквозь. Задыхаясь, он протолкнулся сквозь толпу к двум колоннам на набережной пьяцетты. Три галиота с Анреевскими флагами на корме набирали скорость, находясь уже в ста метрах от причала. Казанова, погружаясь в повышающуюся воду, отпихивая всех по пути – детей, женщин, стариков, – рвался сильнее и сильнее вперед, падая, поднимаясь, вперед, до самого края, пока ледяная вода не стала ему по колени и дальше идти он не мог. Он видел на корме замершего графа Салтыкова, а с ним – вертящегося графа Куракина. Стальные волны вздымали суда, а затем неистово накатывались на берег. Все далее и далее отплывали корабли, минуя уже остров Сан-Джорджо Маджоре. Под грозным темным небом они шли в сторону острова Сан-Серволо, заворачивая налево у церкви Святой Елены, а затем к Лидо, за которым их ждало открытое море.
Казанова стоял остолбенелый, ногами врывшись в почву, как многовековые сваи, поддерживающие городские фундаменты. Он видел, как галиоты уменьшались, постепенно превращаясь в пятна, в зерна, в крупинки. Чернела бухта, чернело небо, чернел город. Вода поднималась и поднималась, но он не сходил с места. Даже когда русских кораблей уже не было видно и он почувствовал себя самым одиноким человеком на свете, он не повернулся назад.
Вдруг он почувствовал, что его схватили за локти, подняли из воды и переставили на менее наводненное место. Он увидел натянутое мужское лицо с разгневанными безжалостными глазами, и только через полминуты понял, что это было лицо прокуратора Пезаро.
– Зайдемте к нам в кабинет, пожалуйста, – сказал прокуратор.
* * *
– Вы не имеете права со мной так обращаться!
– Вы ошибаетесь, мессер Казанова. Я лично Вас предупреждал, чтобы Вы не общались с русскими.
В тусклом Зале инквизиторов сидели Красный, Черные, их секретарь и Пезаро. За спинкой стула Казановы, сидящего в холодных промокших панталонах, стояли трое охранников. Под стулом образовалась лужа.
– В чем Вы меня обвиняете? В содействии преждевременному отъезду русских? Что тут такого криминального?
– Вам было приказано с ними не общаться! – настаивал Красный.
– Я уже не был на государственной службе. Этот приказ не имел никакой официальной силы.
– Дело в том, что мы от русских ждали определенного ответа, – жестко сказал Пезаро. – Но из-за резких перемен его не получили. Эти резкие перемены произошли после Вашего вчерашнего визита к графу дю Нор. Следовательно, можно заключить, что Вы являетесь их причиной.
– Это полная нелепица! Что, после моего визита граф ни с кем не встречался, ни с кем не разговаривал? Больше ничего не могло заставить его поменять свои планы?
– Он должен был прийти к нам в театр. Но он не пришел.
– Я тут ни при чем.
– Давайте начнем с самого начала, – торопился Красный, очевидно уже готовый посадить Казанову в тюрьму, был ли тот виновен или нет. – Что Вы делали в гостинице?
– Я вам уже сказал, я пришел к графу дю Нор просить руки фрейлины Снежинской. Отец Феодосий, настоятель Греческой православной церкви, может это подтвердить.
– Нет, я имею в виду, что Вы делали в гостинице первый раз, когда Вы забрались через окно в номер фрейлины?
– То же самое. Я просил ее руки. Сначала я это сделал один. Потом я понял, что было бы благороднее поговорить на эту тему с графом.
– Но почему у нее была такая реакция?
– Она испугалась. Все было неожиданно.
– Почему Вы полезли через окно? – спросил один Черный.
– Я хотел сделать ей сюрприз.
– Какой был ее ответ? – спросил второй Черный.
– Она мне отказала, – с достоинством ответил Казанова.
– Так, если она Вам отказала, зачем Вы настаивали, вмешивая в дело графа дю Нор?
– Что за вопрос? Я хотел жениться на этой женщине. Я надеялся, он мне поможет. В первый раз она растерялась, побоялась, потому что наверняка у них в России совсем другие обычаи. А если она увидела бы, что граф поддерживает этот брак, я думал, она бы согласилась.
– И что он Вам сказал?
– Он сказал, что посодействует, что постарается мне помочь. Отец Феодосий может это подтвердить.
Черные посмотрели друг на друга.
– От брачного предложения не устраивают такие истерики, – сказал Красный.
– Она плохо себя чувствовала. У нее была температура.
– В каких отношениях вы были до этой встречи?
– В каком смысле?
– Где вы виделись? О чем говорили? Что вместе делали?
– Мы виделись на балах, на общих экскурсиях, в театрах. Там, где были все. О чем мы говорили? Ну, о чем мы говорили – о жизни, о чувствах.
– И какие Вы питали к ней чувства?
– Самые благородные.
– У вас были интимные отношения?
– Господа, я знаю закон. Вы не имеете права меня допрашивать без официального обвинения и без присутствия моего адвоката.
– Мы сейчас официально Вас запрем, если Вы не ответите на вопрос! – повысил голос Красный.
– Да, это вы способны сделать. Это вы уже сделали в 55-м, без суда приговорив меня к пяти годам тюрьмы. Но на этот раз у вас нет ни единого повода. Вы меня не можете обвинить ни в богохульстве, ни в чернокнижии, ни в непристойном поведении – ни в чем.
– Вы опять ошибаетесь. Повод есть. Сейчас, как и тогда, Вы общались с иностранными лицами, зная, что это было Вам запрещено. Одна из причин Вашего тогдашнего ареста была Ваша тесная дружба – и я не буду углубляться во все ее извращенные детали, которые касаются еще и двух монахинь, – с французским послом в Венеции, Франсуа Иоакимом Пьером де Берни.
– Ваше тщательное изучение моего дела мне льстит, Ваше Высокопревосходительство. Но тогда я был молод, без царя в голове. Почему вы…
– Вы же тогда знали, что патрициям не позволяется общаться с иностранными послами.
– Но я же не был патрицием.
– Вы увертываетесь. Вы тогда были приемным сыном сенатора Маттео Брагадина. Вы пользовались всеми материальными привилегиями сословия, к которому принадлежал сенатор. Вы жили, как живут патриции. Но Вы не хотели нести социальную ответственность, которую несут члены этого сословия. Так же нельзя, мессер Казанова. Вас предупредили. На Вас это предупреждение не подействовало. Тогда Вас арестовали.
Казанове этот аргумент показался логичным.
– Тут Вы правы, Ваше Высокопревосходительство, – он сказал уважительно, решив быть более послушным. – Однако в данный момент я не нарушал никаких законов. Я больше не живу, как патриций, и больше не являюсь государственным служащим.
– Тем не менее Вам было приказано государством.
– Что Вы знаете про графа дю Нор? – спросил Пезаро, выбрав другой подход.
– Ничего такого, чего Вы не знаете. То, что он великий князь российский уже давно догадалась половина Венеции.
– Что Вы с ним обсуждали?
– Вы же всегда присутствовали, Ваше Высочество. Вы сами слышали, как я критично отнесся к Вольтеру, самому почитаемому мыслителю в России.
– Вы с ним обсуждали политические позиции? Русские политические позиции?
– Нет, меня не интересуют русские политические позиции.
– Как Вы думаете, почему он со свитой не пришел на бал вчера? Почему они так скоропостижно уплыли сегодня утром, а не завтра, как было запланировано, ничего нам предварительно не сообщив? Почему у князя так резко к нам изменилось отношение?
– А как вы расстались?
– Он очень холодно попрощался, не сказав причину своего преждевременного отъезда. И все.
– Я не знаю тогда. Вам виднее, Ваше Высочество. Я не знаю, о чем Вы договаривались.
– «О чем мы договаривались»? Это что значит?
– В каком смысле?
– Что Вы знаете по этому поводу?
– Я не понимаю, о чем Вы говорите. Вы сами только что сказали, что Вы ждали от него какого-то ответа.
Пезаро внимательно изучал глаза Казановы. Секретарь инквизиторов записывал каждое слово.
– Что Вы знаете про «Греческий проект»? – спросил Пезаро.
– Первый раз слышу. Однако я знаю, как знают все, что Венеция нуждается в сильном союзнике.
Пезаро взвесил ответ. Красный шепнул что-то на ухо одному Черному.
– Как Вы считаете, Россия была бы правильным союзником для Венеции? – осторожно спросил главный инквизитор.
Казанова понял, что это была уловка.
– Смотря что Вы подразумеваете под словом «правильный».
– Ответьте на вопрос, пожалуйста.
– Я думаю, да, – Казанова ответил быстро, четко, решив не распространяться.
– А для России Венеция была бы правильным союзником?
Тут Казанова задумался.
– Вы в чем-то не уверены? – спросил другой Черный.
– Нет, я уверен. Для России Венеция тоже была бы правильным союзником. И ваше подозрение в том, что я умышленно испортил этот союз, мне кажется абсолютно абсурдным.
– Но ведь до Вашего появления в гостинице расположение графа к нам было положительным, – сказал Пезаро. – Вдруг Вы появились и все изменилось. Что-то графу не понравилось.
– Я не знаю, что это может быть. Вам лучше знать.
– Но есть один момент, который Вам лучше знать, – настаивал Красный.
– Какой?
– У Вас были интимные отношения с мадмуазель Снежинской?
– Я не понимаю, при чем это.
– Ваше уклонение от ответа только подтверждает факт.
Казанова хотел плюнуть им всем в рожу и еле сдержался. Они оскверняли его последнее светлое чувство, забирали его последний воздух.
– Хорошо. Если вам необходимо, чтобы я в чем-то провинился, хорошо, я признаю свою ответственность! – Казанова окончательно возмутился, поднимаясь со стула. – Но это не объясняет поведение русских. Может быть, у графа были другие планы, другая миссия. Может быть, за ним стояли другие силы! Вы об этом подумали?
– Что! – Пезаро и Красный одновременно соскочили со своих кресел. – Что Вы имеете в виду?
– Может быть, его завербовала Австрия, вот что!
– Откуда Вы это знаете? – спросил Красный. – Кто Вам это сказал?
– Это гипотеза.
– Нет, Вы очень убедительно это сказали. Кто Вам об этом доложил? Почему Вы нам это раньше не сообщили?
Казанова молчал.
– Почему Вы это нам не сообщили? – сердито повторил Пезаро.
– Потому что я уже уволился как конфидент.
– Вы были обязаны нам это сообщить! – кричал Красный. – Даже не будучи конфидентом. Любой гражданин обязан передать государству информацию об угрозе республике. Вы это знаете!
– Почему Вы нам это не сообщили? – настойчиво повторял Пезаро.
– Потому что информация была недостоверной.
– Вы не передали информацию, потому что Вы увлеклись женщиной, вот почему! – зажмурился Красный. – Вы не выполнили Вашу гражданскую обязанность, зная об этой угрозе. Может быть, Вы сочувствуете Австрии? На чьей стороне Вы, мессер Казанова?
– Бред! Я бы это не говорил вам, если бы сочувствовал Австрии.
– Почему бы и нет? Вы бы нам это сказали именно сейчас, а не во время расследования, в котором, возможно, допрашивали бы источник этой информации. Наверняка этот источник тогда надеялся, что Вы нам ее передадите.
– Бред собачий!
Пезаро указал охранникам посадить Казанову обратно на стул. Была длинная пауза. Инквизиторы переглядывались. Пезаро подошел к Красному и прошептал ему что-то на ухо. Тот кивнул и тихо проконсультировался с Черными. Те обменялись бумагами и ответили Красному полусловами. Наконец Главный инквизитор встал и провозгласил:
– Мессер Казанова, до того как не найдется объяснение непонятному поведению русского цесаревича, Трибунал вынужден посадить Вас под домашний арест. Если выяснится, что Вы являетесь причиной этого поведения, то знайте, что во Дворце есть условия, соответствующие Вашему сегодняшнему статусу. То есть, статусу не патриция и не государственного служащего. Эти условия называются «Колодцы»[49].
– Я вас проклинаю! Это полный произвол! Я никогда не предавал Венецию! Никогда! Выбрав меня в качестве козла отпущения, вы не решите свои проблемы!
– Зато Ваше устранение поможет нам избежать новых проблем. Отведите арестанта домой, – повелел Красный охранникам.
14
Во тьме ее шерсть казалась теплым бархатом. Она прильнула к его бедру, и зной блаженства распространился по всему его нагому телу. Он гладил ее тонкий хребет, и она облизывала его пальцы, своими ножками щекоча его колени. Их тела дышали, как одно тело, и темное узкое пространство, их окружающее, ему казалось целой вселенной. Она нежно обвивалась вокруг его конечностей, томясь в объятиях его ног, скользя по его ляжкам. Он смеялся, чувствуя, как деликатно она покусывала его костяшки. Снуя взад и вперед по его груди, она исчезала и появлялась, исчезала и появлялась, крутясь вокруг его шеи. Вдруг появилась еще одна, также проворно и ласково скользя по его ногам, хвостом задевая его чресла. Он содрогался в экстазе, видя, как они вместе терлись ушками, виясь вокруг его возбуждения. Их появлялось все больше и больше. Лапки их царапали его кожу, длинные хвосты хлестали его с ног до головы. И все эти грызуны, наконец, скопились между его ног: десять, двадцать, тридцать маленьких крысиных глаз изучали его худосочное тело. А затем они все вцепились зубами в его плоть и начали грызть, пожирать его живьем…
– А-а-а! – Казанова проснулся в жарком поту.
– Чу-чу-чу. Все хорошо, все хорошо, – Казанову обняла Франческа. – Это был сон, мой миленький. Страшный сон, и все. Я тут. Я тут сейчас, с тобой.
– А-а-а!
Он никак не мог стряхнуть с себя образ тюремной камеры с крысами.
– Все, все. Сейчас все пройдет.
Франческа встала и разожгла огонь в жаровне.
– Кекка, это ты?
– Да, мой милый. Это я. Ты видел кошмар. Но сейчас ты проснулся. Уже третий раз Казанове снился этот кошмар, и с каждым разом являлся ярче и ярче. Он лежал простуженный, с ослабленным иммунитетом, и воображение его в результате было чрезвычайно активным.
Была уже середина февраля, но никаких сведений о цесаревиче в Венецию не поступало. Говорили только, что он со свитой находится в Риме. День и ночь в доме Казановы стояла стража. Ему не позволялось ни выходить, ни принимать гостей. Письма все читались, и каждый раз, когда кто-то из семьи Бускини возвращался домой, его тщательно обыскивали.
Друг Казановы патриций Пьетро Дзагури хлопотал во Дворце о его освобождении, присоединив к своим стараниям десяток самых высокочтимых нобилей, которые дали государству устную гарантию, что Казанова не покинет Венецию. Но решение Высшего трибунала оставалось непреклонным. Эти нобили затем написали специальную петицию дожу, прославляя преданность Казановы республике и его важный гуманистический вклад в ее культуру. Но светлейший дож отверг петицию светлейшим образом. А когда Дзагури предложил своим сподвижникам сброситься и заплатить за Казанову залог, эти высокочтимые патриции как-то сразу поняли, что родина все-таки не так сильно пострадает без преданности Казановы.
Тем временем Франческа ходила на цыпочках, боясь сказать лишнее слово. Вроде Казанова больше не собирался переезжать, и ей в тайне было очень приятно видеть его «прикованным» к постели. Таким образом она могла всласть за ним ухаживать: он принадлежал только ей. Но, с другой стороны, круглосуточное присутствие солдат в доме и регулярное употребление слова «тюрьма» лишали ее покоя. Главная ее задача была восстановить бодрое настроение ее любимого и вылечить его простуду. Она варила ему супы, горячие компоты, заваривала лечебные травы, мазала его целительными мазями. Ее мать, боясь, что Казанову посадят в тюрьму и лишат пенсии, охотно помогала дочери на кухне и оставляла ей самые свежие яйца, а не продавала их соседям, как обычно.
Маленький Джакомо не совсем понимал, что происходило. Ему казалось, что Казанова стал такой важной персоной, что ему назначили домашнюю охрану. Проходя мимо этой стражи, мальчик любовался их оружием, а один раз один из охранников даже дал ему повертеть шпагу.
Сестра Франчески занялась шитьем, чтобы заработать какие-нибудь деньги. Но ее толстые неуклюжие пальцы никак не могли подружиться с иголкой, и, после того как она исколола себе ладони, Франческа с мамой убедили ее шитьем больше не заниматься. Франческе, к счастью, удалось сшить пару панталон по заказу Микелы из театра Сан-Самуэле, и она была довольна вознаграждением, несмотря на то что на сцене никто эти штаны не надевал.
Страх попасть в «Колодцы» эмоционально парализовал Казанову. Он знал, что оттуда никто живым никогда не выходил. Не успевал он отвлечься на две-три минуты, как мысль о темной, ничтожной, наполовину заполненной водой камере вкрадывалась в его сознание и пощипывала виски. Он представлял эту камеру днем и боялся закрыть глаза и увидеть ее во сне, что было ужаснее, ибо во сне он не мог направить внимание на другой предмет. День и ночь у его постели горела свеча – больше всего его пугала темнота. Читать не было желания – ни старые книги, ни новые, которые передавал Дзагури. Чтение только больше напоминало о заключении, поскольку чтение было его единственным занятием в тюрьме тридцать лет назад: раз десять он тогда перечитал Новый завет и раз пять – Ветхий.
Мысль об Александре на какое-то время освобождала его от угнетающего страха, но взамен наполняла его грудь раздирающей болью. Объяснение странному, скоропостижному отъезду русских было слишком тяжело искать, да и бесполезно. Он не ждал от цесаревича ответа по поводу брака, а порой даже иронизировал над собой, представляя, что вот-вот придет от того письмо, говорящее, что свадьба венецианца Джакомо Казанова с русской фрейлиной Александрой Снежинской объявлена на всю Европу. Эти мгновения издевательства над самим собой были единственным развлечением, которое помогало Казанове держатся на плаву. Задним умом он понимал, что вышел за рамки бонтона, что где-то переборщил. А как он мог поступить иначе? Время было ограничено: русские остановились в Венеции только на 7–8 дней. Но что сейчас об этом говорить.
Венецианская погода плохо на него действовала. Несмотря на то что самый крепкий мороз уже прошел, небо оставалось низким, тучным и неподвижным. Часто моросило, и эфемерные проблески только дразнили Казанову недостижимой голубизной, так что казалось, что даже небо над ним посмеивается. Он выглядывал на крыши, на бесконечные ряды черепицы, и сердце его замирало всякий раз, когда в поле зрения влетала чайка. Он с тоской и застывшим дыханием следил за ее полетом, а затем, когда она исчезала, рисовал в небе ее траекторию.
Однажды после очередной встречи с Дзагури Франческа пришла домой воодушевленная. Ее глаза блистали. Она крепко обняла и расцеловала Казанову. Однако он увидел, что она как-то не совсем понимала смысл того, что ей поручили ему передать.
– Джакомо, мессер Дзагури сказал, – прошептала она у окна, чтобы охрана не слышала, – что в Риме мессер посол Андреа Менно…
– Меммо.
– Да, Меммо. Что мессер посол Андреа Меммо был на приеме, на котором Папа Римский чествовал графов Дно.
– Графов дю Нор. И?
– И что все прошло хорошо.
– Что прошло хорошо?
– Прием.
– А потом?
– Все. А кто такие графы дю Нор? Я слышала о них. Тут у нас о них говорили. Кто они?
– Иностранцы. Что еще сказал Дзагури?
– Больше ничего.
Выяснилось потом, что посол Меммо прислал дожу официальный доклад по поводу предоставленной цесаревичу аудиенции у Папы Римского. Однако про отношения великого князя к Венеции в докладе ничего не было. Кроме фразы: «Sono lieto di fare la Vostra conoscenza»[50], Меммо не удалось вырвать ничего из уст цесаревича.
В конце февраля Казанова потерял аппетит. Помимо горячего шоколада, который Франческа делала весьма искусно, ни на что больше он не мог смотреть. Из-за плохого аппетита, его иммунитет еще больше понизился, и через несколько дней у него поднялась температура. Валяясь в постели с горячей головой, он потерял контроль над своими мыслями, которые под влиянием разъедающего страха, стремились только к одной теме: заключение в «Колодцах». Все, что делала и говорила Франческа было не в силах его отвлечь. Даже маленький Джакомо со своими играми и наивными вопросами больше не действовал на чувство безысходности Казановы.
Ночью при горящей свече Франческа видела, как спящий Казанова поднимал и выпрямлял свои руки в поисках непонятно чего, держа их в таком положении минуту-две, пока они сами не падали на кровать. Иногда он во сне говорил: «Вы увидите, кто был прав… вот тогда вы скажете… совесть моя чиста». А порой он бредил даже днем: «Все уже было написано… смотрите, кто стоит на пороге». Франческа от него не отходила.
– Джакомо, миленький, поешь чуть-чуть. Ну хотя бы бульончика. Тебе нужны силы.
– Что говорит Пьетро?
– Никаких новостей. Но почему твоя судьба зависит от этих графов дю Нор?
– Ты не поймешь. Ты только запутаешься.
Первого марта Казанове приснилось, что в него стреляют. Он, как обычно, вытянул руки, надеясь себя защитить, и съежился, когда полетели пули.
– А-а-а!
– Чу-чу-чу. Это сон, миленький.
– Но стреляли. Стреляли же!
– Это у нас на улице стреляли. Фейерверками. Сегодня Новый год, мой хороший. Я тебя поздравляю!
– Новый год?
– Да. Я уверена, что скоро придут хорошие новости, и мы сможем начать новую жизнь.
Но никаких хороших новостей не приходило. В первую неделю марта Дзагури сообщил, что русские находятся в Тоскане, у герцога Леопольда, родного брата императора Иосифа II. Но про Венецию в их речах даже намека не было.
Чувствовалось уже, как на улице теплело. Франческа приоткрывала окна, чтобы Казанова дышал соленым воздухом. Это пробудило в нем небольшой аппетит. Он съел тарелку тушеных бобов, затем еще одну. Небо начало светлеть. Порой выглядывало солнце. Температура Казановы чуть снизилась. Но с кровати он не вставал. Действительно в комнате веял новый воздух, и небо покрывалось новыми красками. Однако мысли о прошлом – о недавнем прошлом, связанным с Александрой, и далеком прошлом, связанным с его пятнадцатимесячным заключением, держали его прикованным к постели.
Доходило иногда до того, что непонятная, неразрешенная ситуация с русскими мучила Казанову больше, чем сама мысль о возможном заключении в «Колодцах». Неясность и двусмысленность его положения лишали его ориентира, без которого в его сознании вся его жизнь мутнела, как размытая болотная жижа. Его внутренний мир рассыпался, и все воспоминания казались лишь безжизненными изображениями, картинками чужого существования, не имеющими к его личности никакого отношения. Это был предел. Он больше не выдержал и попросил Франческу позвать падре Джулио из соседней базилики Санти-Джованни э Паоло. Власти не запретили.
Священник пришел неохотно.
– Поговори со мной, Жюль.
– А, сейчас ты хочешь говорить! Уже три года, как на исповедь не ходишь. А когда вот приспичит, то, мол, Жюль, поговори со мной!
Худой глазастый священник взял стул и сел возле Казановы, заметив деревянный крест над изголовьем.
– Ты же видишь, – робко улыбнулся Казанова, – Он всегда со мной. Я просто не люблю все ваши формальности.
– Именно в этих формальностях Он и является нам.
– Это уже отдельный разговор.
– Ладно. Говори. Что с тобой?
– Запутался опять. Сплошная тьма. Ничего, никого не узнаю.
– Душу надо облегчить. Грешки снять. Накопилось будь здоров небось?
– Не скажи. Наоборот, все шло тихо и ровненько последнее время. А потом вдруг бац – и вниз, башкой об камень! А сейчас ползаю, куски собираю.
– Да, видно.
Казанова пальцем попросил ухо священника.
– Темницей угрожают. Той, в подвалах. Знаешь?
– Да, слыхал, – священник вздохнул, пошмыгивая носом в рукав.
– Страшно, не представляешь как.
Священник посмотрел в налитые кровью глаза Казановы.
– Представляю.
– Не выдержу на этот раз. Не выдержу. Бежать некуда. Да и сил больше нет.
– Смирись тогда.
– О, гениально!
– Ты же сам меня позвал.
Казанова сморщился.
– Как ты думаешь, Он видит меня сейчас?
– Видит.
– Он же знает, что я ни в чем не виноват.
– Ты уверен?
– Это провокация?
– Тебе легко на душе?
– Нет.
– Значит, в чем-то виноват. Значит, таишь грешок какой-то.
– Страх?
– Нет. Страх – это последствие.
– А что?
– Что угодно. Ненависть. Желание отомстить. Желание не простить, не попросить прощения. Любая отрицательная энергия, марающая чистоту духа.
Казанова полежал полминуты в молчании.
– Понял.
Священник увидел искру озарения в глазах отчаявшегося мужчины.
– Понял, да?
– Да.
– Ну давай тогда.
– Что?
– Давай, я приму твою исповедь.
– О, нет, спасибо. Это я сделаю самостоятельно.
– Да иди ты!
Священник вскочил и направился к двери.
– Эй, эй, эй! Без отрицательной энергии.
– Пока.
– Подожди, подожди.
– Что?
– Дай руку.
Падре Джулио вернулся к кровати и протянул Казанове руку. Тот ее схватил крепко.
– Спасибо, что пришел. Спасибо.
Казанова встал и после долгого раздумья и метания закрыл ставни, запер дверь и зажег свечу. Он поставил шандал на подушку под крест и стал на колени у изголовья.
– Слышишь? А? Слышишь? Знаю, слышишь. Так вот. Боже мой, доверяю Тебе, так как Ты – верный, всесильный и милосердный. Ты дашь мне отпущение грехов, милость и вечное спасение. Боже, хотя Тебя не понимаю, однако все люблю, все, что есть сотворено, потому что Ты – бесконечное благо. Ах, сожалею за мои злости единственно ради Твоей любви. Будь милостив ко мне, грешному, для Тебя отпускаю ближнему. Для Тебя прощаю всех тех, кто причинил мне зло и горе, всех тех, кто не видел света Твоего и не признавал благодати Твоей. Я прощаю Хорхе Луиз Диего де ла Круз, который, чтоб удалить меня из Барселоны, нанял трех головорезов избить меня ночью, стащить мои деньги и оставить меня на улице, истекающего кровью. Будь милостив к ним, слепым, не знающим щедрости Твоей, Господи, и я прощаю их ради любви Твоей лучезарной. Я также прощаю Мариану Женевьеву де Шарпиллон, которая своими коварными, язвительными интригами довела меня до мысли о самоубийстве, мысли, которая меня никогда не посещала до и после встречи с этой женщиной, мысли, которая является самым ужасным грехом перед Тобой, Боже, актом, который противодействует и отвергает любовь Твою. Будь милостив к ней, Боже, и я прощаю ее ради любви Твоей неисчерпаемой. Я также прощаю Джованни Мануцци, который когда-то донес на меня венецианским инквизиторам и из-за которого мне пришлось маяться в нечеловеческих условиях пятнадцать месяцев. А если бы я не сбежал, пришлось бы там мучиться целых пять лет, коли бы я раньше не умер.
Прости ему, Господи, его мелочность и зависть и ненависть к людям свободным и свободомыслящим, к тем, кто любит жизнь и желает познать ее во всех проявлениях. Будь милостив к нему, Господи, и я прощаю его ради любви Твоей всеобъемлющей. О Боже мой, помоги мне снять с груди самый тяжелый камень. Прости, чтобы я простил маменьку мою Марию-Джованну Фарусси, которая в детстве не разговаривала со мной, и не любила меня и не верила в меня, и отвезла меня, девятилетнего, в пансион падуанский, избавившись от меня, чтобы посвятить свою жизнь не детям, а театру. Прости ей, Господи, ее тщеславие, самолюбие и равнодушие к сыну ее. Прости ее, Господи, за то, что она из меня сироту неприкаянного сделала. Пусть душа ее покоится в сердце Твоем великодушном. Будь милостив к душе ее, Господи, и я прощаю ее ради любви Твоей вечной. Аминь.
* * *
Прошел еще один месяц, и Казанове уже казалось, что все про него забыли. Проходя мимо его дома, никто голову не поднимал к его окну, стараясь узреть его грустное лицо. В лавках Франческу про него не спрашивали, а если его имя упоминали, то подразумевалось, что он уже «не выйдет». Дзагури писем не писал и новостей с Франческой не передавал. Даже падре Джулио начал забывать передавать с Франческой дополнительное благословение. Пока домашний арест Казановы был сенсацией, о нем сплетничала вся столица, от церкви Сан-Джоббе в самой западной части Каннареджо до церкви Сан-Николо на Лидо. А когда событие потеряло свою свежесть, то оно больше никого не интересовало. Никто даже, кроме Франчески, не вспомнил о его дне рождения – 2 апреля.
Даже сам Казанова начал постепенно привыкать к этим условиям. Домашний арест был куда лучше «Колодцев»! Он знал, что инквизиторы могли все переиграть на самом деле. Был ли он причиной странного поведения цесаревича или нет, они могли бы решить оставить его пожизненно под домашним арестом, и на этом все бы кончилось. И никто бы не стал с ними спорить, никто бы не стал ходатайствовать перед Высшим трибуналом. Может быть только Дзагури, но у него большого влияния не было. Теоретически, конечно, дож мог простить Казанову, как он это раньше делал со многими политзаключенными. Однако Казанова знал, что он был нужен дожу, как кулак в рожу.
В середине апреля, ночью, постучали в парадную дверь. Вошли два солдата – не обычная смена, а тяжеловооруженные.
– Идемте с нами, мессер Казанова.
– Куда вы его? Куда вы его? – в ночнушке напала на них Франческа. – Куда?
– Во Дворец, синьора.
– Джакомо, не иди с ними! Не иди!
Казанова, в халате, ничего не соображающий, заметался в коридоре. На него накинули пальто и связали сзади руки.
– Франческа! – он всхлипнул со слезой, текущей по щеке.
– Джакомо, любимый мой! Жизнь моя!
Она его обняла, а потом начала колотить солдат – руками и ногами, как зверь в клетке.
– Сволочи! Сволочи! Не уводите его!
Казанова никогда не видел ее такой неистовой – он даже испугался.
– Кекка, послушай меня. Послушай. Послушай, я сказал!
Она к нему повернулась, растрепанная, с плачущими черными, как уголь, глазами.
– Не уходи, Джакомо!
– Прости меня, ладно. Слышишь? Прости меня, ради бога.
– За что?
– За все. Хорошо? Прости меня, мое солнышко.
– Хорошо, мой Lupochiotto. Я тебя прощаю. Я тебя буду ждать. Сколько надо. Всю жизнь, если понадобится. Я тебя буду ждать!
Четыре солдата повели Казанову по узким сумеречным улицам. Было уже тепло, и он задерживался на мостах, вдыхая свежий весенний воздух. Каналы молчали, издавая густой соленый запах. Пели воробьи, предвещая рассвет, и он видел, как твердое черное небо медленно обретало мягкий темно-синий оттенок. Был новый день, новая пора, но дома и дворцы еще спали, спали так, как спят малыши после прочтенной им сказки.
На площади Сан-Марко он попросил солдат остановиться у великого храма. Мозаика на фасаде еще скрывалась во тьме, но можно было различить силуэт куполов на фоне светлеющего неба. Казанова представил, где в глубине нефа стоял алтарь. Он к нему повернулся и произнес молитву.
Во Дворце дожей было тихо. Охранники с факелами освещали путь, и Казанова чувствовал их дыхание на своей шее. Громко начали звучать его шаги по мраморному полу, и ему казалось, будто все святые, дожи и адмиралы, изображенные на картинах, изучали его и сейчас будут решать его судьбу.
– Садитесь, пожалуйста, – Красный указал на стул, когда Казанова вошел в Зал инквизиторов.
С Красным сидели два Черных и их секретарь. Пезаро не было. Казанова сказал себе, что не будет сопротивляться и спорить, какое бы решение они ни приняли. Во-первых, было бессмысленно, во-вторых, он уже смирился.
– Мессер Казанова, – Красный встал и медленно зашагал вокруг своего письменного стола, – Ваше пребывание под домашним арестом позволило нам выяснить отношения с цесаревичем…
Казанова смотрел не на Красного, а на картину с крылатым львом, висящую на стене.
– …Более того, нам удалось получить информацию, которая доселе была нам неизвестна. Я уверен, что Вы уже имеете эти сведения, так что я не буду распространяться. Визит цесаревича был очень важным событием для республики. Наше государство возлагало много надежд на этот визит и, как Вы видели, устроило в честь цесаревича мероприятия, которые Венеция уже давно ни в чью честь не устраивала…
Инквизиторы удивлялись, что Казанова все еще молчал.
– …Все должны были уважать статус цесаревича как особого гостя. Однако с первого дня Вы перешли с ним на неформальные, я бы даже сказал, почти дружеские отношения. Как Вы можете представить, это нас очень насторожило. Мы старались Вас отвести от русского гостя. Мы Вас предупреждали не общаться с ним, а также с его свитой. Мы Вам даже угрожали. Но Вы продолжали вести Ваши игры вопреки просьбе Вашего государства. Вы продолжали действовать против государства. Ваш характер своевольного, беззаконного, ни с кем не считающегося либертина затмил Ваш здравый смысл. Это очень плохо, мессер Казанова. И сейчас мы столкнулись с последствиями Вашего эгоистического поведения.
Красный взял со стола конверт и передал его Казанове. Конверт был распечатан. Казанова вытащил бумагу и развернул ее. На ней был текст, написанный по-французски, с обращением по-итальянски:
«5 марта 1782 г.
Carissimo, Serenissimo Amico![51]
Если бы Вы знали, как горестно мне было в тот день, когда мне пришлось, по непредвиденным обстоятельствам, срочно отчалить от Венеции, не имев возможности с Вами попрощаться. Если бы Вы знали, как сердце мое билось и разрывалось, когда я видел уменьшающиеся, исчезающие вдали купола и колокольни. Я никогда не забуду то блаженное время, проведенное под небом Святого Марка. Все, что я видел, навек запечатлелось в моей душе и навек будет мною прославлено в моих рассказах моим потомкам. Нет слов у меня ныне выразить ту грусть и тоску, ту черную безысходность, находящую на меня, когда я представляю, что, может быть, я никогда больше не вернусь в Венецию. Знайте, мой милый друг, что в центре всех моих воспоминаний о Венеции всегда будете Вы. Ваша эрудированная речь, Ваш тонкий юмор, Ваш уникальный темперамент и художественный дар, каждая минута Вашего присутствия была для меня драгоценнейшим подарком. Я вместе с супругой желаю Вам долголетия, крепкого здоровья и легкого, оживленного настроения. А больше всего я желаю Вам, чтобы город Ваш ценил Вас так, как я Вас ценю, чтобы он не переставал удивлять и вдохновлять Вас и чтобы Вы его также удивляли и вдохновляли. Я имел честь быть гостем Венеции. Я имею честь быть, месье Джакомо Джироламо Казанова,
Вашим преданным другом.
Павел Петрович, граф дю Нор».Казанова поднял голову и заметил, что инквизиторы смотрели на него с полуулыбкой.
– Ничего не понимаю.
– Вы не понимаете, что написано? – спросил Красный.
– Я не понимаю смысл этого.
– Ну, дело в том, что светлейший дож недавно получил письмо от Ее Императорского Величества Екатерины Романовой, которое, можно сказать, очень удовлетворило его ожидания.
– То есть, значит… значит все прошло хорошо?
– Да.
– И ко мне никаких претензий?
– К Вам – никаких претензий.
– Точно?
Красный кивнул убедительно. Казанова испустил глубокий вздох и расслабился.
– Не только восстановился контакт с русскими, – бодро говорил Красный, – но и отношения с Австрией приняли благодаря вмешательству Екатерины совершенно новую форму.
– Правда? Какую?
– Положительную.
– Так если восстановились отношения, – Казанова взглянул на письмо, – тогда…
– Но! Тут есть одно большое «но», мессер Казанова. Мы знаем, что цесаревич в письме не удовлетворил Ваши ожидания. Мы понимаем, что он не ответил на Вашу просьбу.
– Да, не ответил.
– Мы считаем, что, несомненно, есть некая причина этому решению. И нам кажется, что было бы благоразумно для всех, а именно ради сохранения теплого чувства, питаемого цесаревичем к Вам, не копаться дальше в этом деле. Ведь, у русских, наверно, как Вы сами уже говорили, существуют особые обычаи. Вы согласны?
– Ну… – Казанова провел рукой по затылку, – пожалуй, в этом есть свой резон.
– Я рад, что Вы согласны.
– Но зачем тогда разыгрывать этот спектакль? Зачем будить меня среди ночи, связывать руки? Это же жестоко, не думаете? Можно было просто написать мне письмецо.
– Тут Вы правы, мессер Казанова, – Красный сказал добродушно, с трудом улыбаясь. – Но мы знаем, что Вы большой любитель театра и, следовательно, сможете оценить эту небольшую мизансцену.
Он достал из своей алой тоги замшевый кошелек и положил его на стол.
– Это за Ваши расходы, мессер Казанова, – сказал один Черный.
– Если у Вас когда-нибудь появится полезная информация, – добавил второй Черный, – мы Вам будем очень благодарны.
У Казановы закружилась голова. Он так обомлел от неожиданной развязки, что не мог встать со стула. Он долго думал или просто делал вид, что думал. Потом он посмотрел всем инквизиторам в глаза. Взгляды их были твердые, необманчивые. Наконец с достоинством он встал, проковылял к столу и пальцем пощекотал замшу кошелька. Затем он взял и подбросил его, чтобы почувствовать вес содержимого. Состроив благодарную мину, он сунул кошелек себе в пальто и снова посмотрел на картину, на скрижали, которых защищала лапа крылатого льва. На них было вырезано: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS[52].
– Еввива Сан-Марко, господа!
– Еввива Сан-Марко! – повторили инквизиторы в один голос.
15
Сверху сыпалось белое конфетти. Звенели люстры. С партера поднимался вулканический гам, и из оркестровой ямы вибрировал мягкий диссонанс. Через ложи перегибались неугомонные меломаны, и везде тряслись и блестели женские ожерелья и браслеты. Вдруг все затихли и посмотрели на вход.
– Смотри, это он!
– Это он?
– Да, это он. Это он!
– Браво! Браво!
– Брависсимо!
– А кто это с ним?
В зале театра Сан-Бенедетто появилась пара. Высокий немолодой господин был одет в новый ярко-голубой шелковый костюм с манжетами, каймами и петлями, обшитыми позолоченной ниткой. Он был в белоснежном парике, и на лице у него твердел легкий слой кремовой пудры. Его сопровождала молодая дама в пышном фиолетовом платье на широком панье, с цветистыми узорами, узкой талией и плоским лифом. На голове у нее возвышалась шляпа в форме рога изобилия, и на щеке была нарисована темная мушка.
– Что это у нее на голове? Это же больше никто не носит.
– А если носит, то только в Англии.
Идя к своим местам, Казанова наслаждался комплиментами и поздравлениями, а молодая дама преклоняла колено перед знатными особами.
– Что же Вы нам никогда не представляли эту очаровательную даму, мессер Казанова?
– Виноват, мессер Гоцци. Эта моя спутница, Франческа Бускини. Франческа, это наш великий драматург, мессер Карло Гоцци.
– Аншанте, мадам.
Гоцци поцеловал ей руку.
– Ой, мессер Гоцци, – у Франчески запорхали ресницы, – я Вас обожаю. Моя мама вообще знает все Ваши пьесы наизусть. Когда она варит куриный бульон, она…
– Идем, Франческа, – Казанова подтолкнул ее дальше.
– А какие у нас места?
– Франческа, а это маэстро Джандоменико Тьеполо, сын легендарного Джанбаттисты. Маэстро работал с отцом в Мадриде, у короля Карла III.
– Честь имею, мадам.
– А это правда, маэстро, что испанский король никогда не моется? – спросила Франческа.
– Франческа, что с тобой! – Казанова смутился.
– Ой, я не то сказала?
– На самом деле, – засмеялся Тьеполо, – Ваше наблюдение – совсем не ошибочное. Я помню, за королем постоянно ходили его парикмахеры, обрызгивая его разными одеколонами.
– Я так и знала!
Перед тем как сесть на свое место, Казанова взглянул на главную ложу. Там стоял прокуратор Пезаро со своей сестрой и иностранными вельможами. Казанова поздоровался небольшим поклоном. Пезаро увидел его и слегка кивнул головой.
А когда Казанова сел, он сзади услышал знакомый шепот:
– В середине мая в Венецию приезжает понтифик. Его будет сопровождать французский кардинал де Роган-Гемене. Тот самый, который в секретном…
Но Казанова старался не поворачиваться назад. Он смотрел вперед, на сцену, с нетерпением ожидая начала премьеры.
– Видишь, Lupocchiotto. Я же тебе говорила, что у нас начнется новая жизнь.
* * *
Двадцать пятого апреля праздновали День святого Марка. Кто-то пошел на мессу в базилику, на площади Сан-Марко, а кто-то предпочел плестись до кафедрального собора Святого Петра, расположенного на отдаленном одноименном островке позади Арсенала. Именно туда и пошла семья Бускини с Казановой, на чьих плечах сидел маленький Джакомо, командуя, как «брать мосты». После службы Мария спросила Казанову:
– Дядя Джакомо, а почему городской собор называется в честь святого Петра, если покровителем Венеции является святой Марк? Почему тогда базилика Святого Марка не наш городской собор?
– Отличный вопрос, Мария! Дело в том, что Папа Римский захотел, чтобы местом службы нашего патриарха, то есть главного религиозного начальника Венеции, была эта церковь, на этом острове. Она и стала городским собором.
– А что, Папа Римский важнее нашего патриарха?
– Не он сам, а его должность.
– А кто тогда начальник базилики Святого Марка?
– Дож.
– А почему папа не сделал его религиозным начальником Венеции?
– У дожа тогда было бы слишком много ответственности – и государственной и религиозной.
– Но это было бы лучше для него.
– В том-то и дело.
* * *
Уже было совсем тепло, и дети прыгали в каналы, соревнуясь друг с другом и с мелкими судами. Ласковое солнце лениво поднималось до зенита и покрывало черепичные крыши мглистым желтым светом. Вода в бухте меняла цвета – с аквамаринового на бирюзовый, с сине-зеленого на лазурный. Белые воздушные паруса растягивались и вздымались в этих голубых оттенках, и взбадривающий адриатический бриз приносил с собой песчинки с острова Святой Елены. Чайки взвивались вверх и держались недвижно против дующего ветра, выстреливая криками, как будто из мушкетов. Опасающиеся чаек голуби уплетали свои крошки и быстро освобождали пьяцетту и площадь Сан-Марко, боясь, что белые хищники схватят их и раздерут прямо на лету.
Ясно и раскатисто звучали колокольные звоны под поздневесенним небом, доносясь до самых безлюдных и отдаленных улиц. Кампи кишели разнообразными цветами, и везде слышался аромат апельсинов, миндальных бисквитов и турецкого кофе. Прачки стирали белье в каналах и на Фондаменте Нове, а затем развешивали его сушить – кто на крышах, кто в окнах, кто на веревках между домами. Художники выставляли свои мольберты, стараясь запечатлеть живость и сочность приморской атмосферы. Все больше туристов появлялось в гондолах, особенно тех модных молодых североевропейских холостяков, которые делали Венеции реверанс, перед тем как продолжить свой гран-тур до Рима или до Неаполя, а кто-то даже до древнегреческих храмов в Агридженто на Сицилии. Гондольеры обожали этих легковерных франтов, ибо с ними можно было «позаниматься историей».
– Этот дом хотел поджечь легендарный Марко Поло, когда вернулся из Китая и узнал, что его помолвленная вышла за другого, – гондольер указывал на непримечательный, первый попавшийся дом.
– А в этом доме великий Тициан расположил свой гарем моделей, – тот же гондольер указывал на тот же дом, проплывая уже с новым клиентом.
– А в этом доме однажды выбросили из окна французского короля Франциска I, – изобретательный гондольер объяснял другому иностранцу, указывая на тот же заурядный дом.
– A, das ist ein interessanter Geschichte. Ja[53].
* * *
Казанова учил маленького Джакомо плавать. На Фондаменте Нове они садились в шлюпку и гребли до острова Сан-Кристофоро, где берег был просторным, а вода мелкая и не тинистая. Ученик плескался вдоль и поперек острова, пока учитель сидел в шлюпке, педантично поправляя его каждый гребок. Маленькому Джакомо уже было девять лет, но он все еще не мог освоить брасс, и он стыдился перед другими ребятами из прихода: когда они соревновались в каналах, он стоял на набережных, завидуя им.
Получив приличное вознаграждение от государства, Казанова покупал в дом деликатесы, которые сам уже давно не ел: крабы, лангусты, тюрбо, филе говяжье, да и просекко пенилось первосортное. Мать Франчески, видя все эти гастрономические изыски, снизошла к Казанове. А когда она услышала, как почтенно о нем отзывались патриции, иногда приглашая его с Франческой к себе домой, она вообще начала принимать его за родного сына. Ее подружки таращились на Казанову, как на древнее сокровище.
– А это правда, мессер Казанова, что мадам Морозини подарила патриарху свой золотой поднос, тот самый, на котором принесли Саломее голову Иоанна Крестителя? – спросила синьора Бускини.
– Правда, мадам. Однако патриарх не был в восторге.
– Что, поднос не тот, на котором несли голову пророка?
– Тот, тот. Просто он не золотой.
Однажды вечером к Казанове пришла соседка, синьора Лорензон, с просьбой связаться с духом ее усопшего мужа.
– Я не знаю, смогу ли я в этот раз, синьора Лорензон, – сомневался Казанова. – Я уже давно не занимаюсь спиритуализмом.
– Но в последний раз Вам же почти удалось. Помните?
– Это было почти год назад. Тогда у меня были другие силы внутри.
– Пожалуйста, пожалуйста, – умоляла его старушка.
– Хорошо. Попробуем. Но я ничего не обещаю.
Они сели вокруг кухонного стола, и Казанова вырезал из бумаги буквы алфавита, разложив их кругом по столу. Синьора Бускини зажгла свечу. Франческа достала стакан и поставила его дном кверху посередине круга, составленного из букв. Все взяли друг друга за руки. Тишина поглотила кухню, и синьора Лорензон вздрогнула, услышав свое сердцебиение. Казанова крепко напрягся – его лицо побагровело, веки затрепетали.
– Задайте вопрос, синьора Лорензон, – сказал он хриплым неузнаваемым голосом, не шевеля губами. – Только глаза у всех должны быть закрыты, а то не получится.
Все закрыли глаза.
– Ой, Лука, Лука. Где ты? Как ты? – разнервничалась седая дряхлая старушка. – Как ты, мой любимый? Скажи мне только одну вещь: тебя там хорошо кормят?
Казанова укрепил хватку, так что старушка задрожала. Ногами прижавшись к ножкам стола, он приподнял стол и слегка его наклонил, чтобы стакан скользнул к букве «О».
– Буква? – спросил он.
Женщины открыли глаза, Франческа записала букву, и глаза у всех вновь сомкнулись. Стакан снова скользнул – в сторону буквы «Ч». Затем в сторону «Е», затем – «Н».
– Очень! – вскрикнула от радости синьора Лорензон. – Его очень хорошо кормят. Ой, мессер Казанова, видите, как хорошо получается.
– Да, удивительно.
– Еще, еще!
Все закрыли глаза.
– Вопрос?
– Лука, ты соскучился по мне?
Долго не было ни звука, ни движения. Синьора Лорензон тряслась в нетерпении. Постепенно у Казановы тело начало содрогаться; пальцы его пульсировали, и он издавал низкое монотонное бормотание. Стакан скользнул. Женщины напряглись. Когда все буквы записали, получилось: «НЕ ТОРОПИСЬ».
* * *
В середине мая Венеция торжественно принимала папу Пия VI. Его приезд был неожиданным и весьма исключительным. Последним понтификом, посетившим столицу Светлейшей Республики, был Александр III, который в 1177 году в базилике Сан-Марко помирился с императором Барбароссой. На этот раз папа возвращался в Италию из Вены, где его апостолический визит к императору Иосифу II прошел по всем показаниям не очень успешно. Политика просвещенного монарха наносила ущерб ватиканским интересам в Австрии, и сколько бы Пий ни уговаривал Иосифа натянуть бразды правления, сколько бы ни просил его помочь восстановить влияние церкви в остальных европейских странах, австриец остался непреклонным.
Стараясь поднять дух понтифика, разочаровавшегося после дипломатического поражения, прокуратор Пезаро организовал в его честь парад, банкеты и процессию по площади Сан-Марко к Дворцу дожей, в которой участвовало все венецианское духовенство. А в качестве десерта для Пия построили громадный помост, закрывающий почти всю скуолу Сан-Марко на набитой людьми кампо Заниполо. С этого помоста понтифик благословил Венецию с ее воодушевленным, поддерживающим папу (на этот раз), а не императора народом. Все торжества были запечатлены пестрыми красками Франческо Гварди, чьи полотна потом выставили у порталов базилики Святого-Марка для всеобщего любования.
Казанова с семьей Бускини присутствовал на благословении, а после этого уникального события, зашел один в Заниполо и тихо и нерешительно, словно опасаясь разбудить усопших в гробницах, заглянул в Капеллу четок. Там, вдали от веселья, от друзей и Франчески, он вспомнил, как в этой капелле четыре месяца назад он прошептал одной иностранке, что «святое – это не стены, а чувство». И он был прав тогда, потому что стены – это лишь воплощение чувства, его увековечивание; стены – это то, что человек создает, испытав определенное чувство. А чувство – это то, что создает человека, то, что его питает. И образ Александры так сильно взволновал Казанову, что у него потемнело в глазах. Он зашатался и облокотился на парапет, загораживающий пресвитерию.
На улице, вытерев глаза, он наблюдал, как рассеивалась толпа и пустело кампо. «Неужели так и чувство мое рассеется? – ужаснулся он. – Неужели оно также потеряет насыщенность и постепенно раздробится и рассыплется, и рано или поздно полностью исчезнет, как исчезает все, что есть материя? А что, чувство не материя? Даже самое сильное чувство – это лишь изменение обычной температуры тела, ускорение или замедление сердцебиения и, следовательно, кровообращения. Чувство же тоже последствие некой химической реакции. После нашего впечатления от какого-то нового внешнего феномена через чувства зрения, осязания, слуха, вкуса или обоняния наше тело меняет свой ритм. А возникновение любого материального явления, включая и чувства, сразу предопределяет исчезновение этого явления. И что остается тогда? Может быть, только память, у кого есть активная психика. А у кого нет – для тех строят стены».
* * *
В конце июня Венеция вновь оживилась. В город снова прибыла русская делегация с целью снять или даже купить палаццо для будущего посольства. На этот раз делегация была минимальная. Она состояла из двух немолодых отставных генералов: высокого, черноволосого генерал-майора Ивана Львовича Голицына и усатого упитанного генерал-поручика Василия Васильевича Волынского. От имени русской короны они подарили прокуратору Пезаро пятьсот шкур редкого соболя, а дожу – жемчужный скипетр. Как и графы дю Нор, генералы поселились в гостинице «Леон Бьянко», и с помощью местных агентов начали искать элегантный палаццо.
Генерал-поручик Волынский возбудился, когда агент, тонкий и напыщенный мессер Гуссони, привел делегацию на кампо Русоло, позади Старых Прокураций.
– А в честь кого, сударь, было названо это кампо? – спросил Волынский. – Тут что, жил какой-то маленький русский? Ха-ха!
– Совершенно верно! Только не маленький, а очень даже большой. Приблизительно сто лет назад на этом кампо, в маленьком деревянном домике, ныне замененным другим зданием, остановилась первая русская делегация, приехавшая в Венецию. Город им предложил условия, соответствующие их рангу, но делегация отказалась, предпочитая квартировать в том скромном домике. В делегации пребывал один высочайший господин, молодой, сильный и удалый, как Геркулес. Он проводил много времени в Арсенале, внимательно изучая, как строятся корабли, а иногда даже и сам участвовал в строительстве. Венецианцы были в восторге от его любознательности, от его добродушия и силы воли. Именно он и назвал тот маленький домик Русоло. А потом, уже после отъезда русской делегации, выяснилось, что тот добрый гигант был всероссийский царь Петр Первый!
– Не может быть! – русские офицеры разинули рты.
Позже, под вечер, генералы Голицын и Волынский отводили душу в кафе «Флориан». В кафе случайно, а может, и не совсем случайно забрел Казанова и сел за соседний столик. Он услышал, как русские с трудом пытались понять, что им объяснял один рослый вспотевший купец.
– Piano nobile, – жестикулировал венецианец, руками изображая дом, а в нем три этажа. – Piano principale[54].
– Да, пьяный нобиль, – Волынский указывал на бутылку и на свои погоны. – Пьяный принц.
– No! Piano nobile. Casa! Casa! Si trova in una casa![55]
– Да. Пьяный нобиль везде чувствует себя как дома, – Волынский охотно кивал.
– No! Piano, – венецианец делал резкие, горизонтальные жесты. – E’ un livello di una casa![56]
– А! Пьяный в горизонтальном положении у себя дома.
Когда отчаявшийся купец отошел, к русским обратился Казанова.
– Добрый вечер, господа.
– Честь имеем, месье.
– А в вашем Петербурге скоро будут белые ночи.
– О! Вы знаете Петербург?
– Да. Был там давно-давно. Но помню все: каждый мостик, каждый… изгиб. Изгиб Невы, разумеется. Петербург – это окно, через которое Россия смотрит в Европу, как сказал наш Альгаротти.
– Тогда присоединяйтесь к нам, месье…
– Месье Казанова.
– О, месье Казанова! – принужденно воскликнул Волынский.
Глядя в его затуманенные наслаждением глаза, Казанова понял, что офицерам просто было приказано с почтением относиться к имени «Казанова». Про скандал, связанный с цесаревичем, его свитой и их странным отъездом, они ничего не знали. Тем не менее, Казанова надеялся что-нибудь узнать об Александре.
– Графы дю Нор произвели на Венецию изумительное впечатление.
– Конечно!
Глазки генерала-майора Голицына слезились пока он с благоговением подносил ко рту ракушку с запеченным гребешком.
– Я помню, что графиня сделала превосходное сравнение между нашими городами.
– О, графиня! – Волынский вытер рот.
Казанова изучал глаза русских генералов и ничего, кроме желания вкусно выпить и закусить, там не нашел.
– Они уже, конечно, вернулись в столицу? – мягко спросил Казанова.
– Кто?
– Граф и графиня…
– А, да-да. Нет, они еще путешествуют по Европе, – сказал Волынский.
– В данный момент они находятся в Париже, – добавил Голицын, наливая всем по бокалу шампанского.
– О, Париж! – ностальгически улыбнулся Казанова.
– Вы там были?
– Раз сто.
– Завидую, завидую.
– А какая свита роскошная была у графов, – Казанова пытался добыть хоть одно слово об Александре.
– Да, свита…
Волынский не закончил предложение, выудив из тарелки жареную сардинку.
– Все у нас тут восхищались образованностью, тактичностью и грациозностью придворных дам, пребывающих в свите графов.
– А, да-да, – согласился Голицын, стаскивая последнего кальмара.
– В Венеции прекрасный пол не получает такое обширное образование.
– Да, конечно, – кивнул Волынский, аккуратно прожевывая черенка узкого, перед тем как запить его шампанским. – Кстати, можно Вам задать один вопрос?
Его глаза засияли таинственно.
– Прошу покорнейше, – Казанова внимательно прислушался.
– Вы не порекомендуете нам еще один ресторанчик?
* * *
Летний зной начинал давить на город, еще не беспощадно, как это бывает в середине лета, но тяжело и назойливо. Бухта сверкала, как хрусталь, и суда ходили флегматично, словно крабы по раскаленному песку. Венецианцы реже выходили на улицу – по необходимости или просто окунуться в воду. Туристы избегали солнца, прячась в соттопортего или в церквях, чьи прохладные интерьеры уже являлись спасением в летней Венеции.
Потаенная мысль об Александре отвлекала Казанову от дел, не позволяла ему сосредоточиться. Ее лазоревые глаза мерещились ему, манили его ввысь. Казалось, что, несмотря на ее физическое отсутствие, ее образ был вездесущ, как небо, что он притягивал его к себе, как горизонт тянет к себе вечерние облака.
Казанова зашел к своему старому другу, художнику Франческо Гварди, вспомнив, что тот рисовал приемы, на которых чествовали графов дю Нор. Семидесятилетний вдовец жил на последнем этаже трехэтажного дома на кампо де ла Мадонна, в Каннареджо, с сыновьями Винченцо и Джакомо. Старший сын был священником в соседней церкви Сан-Канчиано, а второй пошел по стопам отца, трудясь день и ночь в пыльной влажной мастерской. У Гварди был и третий сын, Джанбаттиста, названный в честь Джанбаттисты Тьеполо, зятя Франческо. Но он умер на четвертый день после рождения. А за ним сразу ушла и его мать.
Когда-то Франческо Гварди и младший брат Казановы, тоже Франческо, вместе учились живописи. Франческо Казанова интересовался историческим жанром, он любил изображать известные битвы и сражения. А Гварди всегда тянуло к пейзажам, к видам на город, к атмосфере города. Франческо Казанова потом уехал за границу и пользовался значительным успехом в Париже, став членом Королевской академии, вращаясь среди таких модных интеллектуалов, как Дени Дидро. А Гварди, наоборот, редко выезжал из Венеции и почти никогда не работал за рубежом, в отличие от своих современников, включая Каналетто, Беллото и Тьеполо. Гварди любил изучать не объект, а свое восприятие объекта. А для того чтобы изучать свое восприятие, в Венеции Гварди находил достаточное количество достопримечательностей.
– Да, ты прав, – тяжко вздохнул Казанова, разглядывая полотна художника. – Все сыпется. Все у нас сыпется.
– Все, кроме неба, – ответил Гварди, поднимая свои тонкие, дугообразные брови.
– Но небо у тебя тоже кажется перевоплощающимся, угрожающим. Оно больше не чисто-голубое, как раньше.
– Когда мы молоды, мы не замечаем эфемерности жизни.
– Зато сколько оттенков синего цвета ты видишь! Это же поразительно! Откуда они все?
– Часто мы себя обманываем. Человеческий глаз видит гораздо больше, чем осознает мозг. Если бы мы могли остановиться и как следует посмотреть на вещи в нашем поле зрения, мы бы поняли, что наше визуальное восприятие вещей зависит не от вещей, а от нашего настроения.
– Ты хочешь сказать, что ты не вещь рисуешь, а набрасываешь на холст настроение, в котором пребываешь во время творческого акта?
– Да, отлично сказано! Художник всегда рисует самого себя в прямом или в косвенном смысле. Рисует ли он море, башню, кошку, другого человека, он рисуют свое отождествление с этим предметом. А я это делаю умышленно.
– Но все-таки, если художник рисует портрет, он передает объективные черты своей модели.
– Да, правильно. Но если его цель нарисовать эти объективные черты, он тогда упустит все, что находится между ним и предметом: свет, воздух, сам характер пространства, в котором он находится с предметом. Посмотри, например, на картины нашего Каналетто. Он гениально передает математическую точность зданий, площадей и весь архитектурный план города. Но там, кроме этой точности, ничего нет: ни движения света, ни морского воздуха, ни духа персонажей. Все плоско, а иногда даже, между нами, мертво. А в тех немногих картинах, изображающих атмосферу, эта точность теряется. Ибо невозможно изучать дух и характер предмета и при этом сохранять точность его облика. Так что, если ты рисуешь портрет с целью передать абсолютную точность внешности модели, в конечном итоге портрет окажется безжизненным.
– Почему? У Беллини это же получалось. Нельзя же сказать, что его портреты безжизненны? Они статичны, но не безжизненны.
– У Беллини была совсем другая цель. Он старался сделать предметы безвременными. Он, так сказать, вырезал лица из своего времени и вставлял их в другой, иногда вымышленный, но динамичный, контекст. Так что лица оставались статичными, но в целом картины были живые из-за захватывающего окружения.
Казанова перебирал полотна – на полу, на мольбертах, на столах, – надеясь найти хотя бы намек на Александру.
– А портреты ты больше не пишешь?
– Ты же знаешь, я их почти никогда не писал.
Гварди снял свой кожаный фартук и промыл кисточки.
– А русских?
– О, ты бы сразу сказал, – художник широко улыбнулся, понимая, что именно интересовало Казанову. – Я написал шесть картин на эту тему. Одну ты видел в Прокурациях, еще тогда, когда я ее писал. Из этих шести картин был только один портрет графа с графиней. Остальные изображали, включая ту, которую ты видел, танцы, приемы, концерты, карнавал, то есть там, где их чествовали. К сожалению, из их свиты я никого не рисовал. Никого.
Казанова посмотрел в зоркие улыбающиеся глаза художника и понял, что они мало что пропускали в Венеции.
– А где картины сейчас?
– У Пезаро. Обратись к нему.
– Ты шутишь.
Гварди засмеялся, а потом, заметив потухший опечаленный взгляд Казановы, сказал авторитетно:
– Она была редкой красавицей.
Казанова присел на тумбочку и опустил голову.
– Знаешь, – он вздохнул, – я все еще вижу ее образ, как будто она вот стоит передо мной. Каждую черту ее лица, каждое выражение. Но если ты попросишь меня описать ее словами, я не смогу.
– Когда наше визуальное восприятие очень сильное, слова становятся беспомощными, Джакомо. Слова – это установившиеся символы, неспособные объяснить воздействие на нас необычного визуального феномена. Каждый из нас имеет свои собственные ассоциации со словами. Так что, даже если ты мне ее опишешь, мое представление о ней все равно будет отличатся от твоего.
– И самое ужасное – что визуальные впечатления долго не длятся.
– Зависит от человека.
– Вещь, исчезнувшая из твоей жизни, рано или поздно исчезнет также и из твоей памяти.
– Может быть, русская дама из твоей памяти не исчезнет, если ты так потрясен? Ты же писатель. У тебя должно быть крепкое воображение.
– Она мне говорила то же самое!
– Видишь!
– Нет, она имела в виду, что мое воображение все выдумало.
Казанова встал и подошел к незнакомой картине, стараясь отвлечься. Масло на холсте еще не высохло; было даже заметно, как оно слегка расплавлялось. Четких границ между красками не было – тона чуть-чуть сливались.
– Эта моя последняя, – сказал Гварди. – Видишь, невозможно работать летом. Особенно маслом. Краски размазываются.
– Зато идея интересная. И композиция нестандартная. Все стоит на краю расколотой набережной – вот-вот рухнет в воду: люди, здания, суда, деревья. А верхние три четверти картины занимает небо.
– Зато тут оно чисто-голубое.
– Тут, да.
– Что-то же должно оставаться.
– Слава богу.
– Знаешь, я недавно понял, что такое наш ведутизм. Это городское явление, а не какая-то там тенденция в живописи.
– В каком смысле?
– В смысле, что наша столица с ее ограниченным земным пространством, не имея возможности больше физически расширяться, вылезает из полотен ее сынов-художников. Я, Альботто, Мариески, Беллотто, Каналетто, Карлеварийс – мы все ее последние набережные и каналы, ее последние острова. Через нас ее дух еще как-то куда-то движется.
– А это что такое? – спросил Казанова, живо изучая одну непонятную деталь. – Где стоит эта арка? Я ее никогда не видел. Неужели она стоит на Джудекке?
– Нет.
– На Дзаттере?
– Нет, – Гварди улыбался.
– Остров Сан-Пьетро? Не может быть, я только что там был. Что, ты хочешь сказать, что она стоит на Фондаменте Нове?
– Не-а!
– Ну ладно, говори, где она?
– Джакомо, что с тобой? Этой арки нет в Венеции, – Гварди сказал поучительно, как отец, объясняющий сыну правила жизни. – Эта картина – каприччо, как те сотни, которые ты уже видел.
– Ну да! Конечно. Каприччо. Во дурак! Это же каприччо!
* * *
Кислый запах спермы наполнял душную багровую комнату. Море голой человеческой плоти покрывало пол, томно вздымаясь, как ночные волны, переливаясь на мебель, на стены, на подоконники. Персидские ковры и плюшевые диваны были пропитаны слюной, пóтом, вагинальными соками и густым семенем, не нашедшим себе пристанище в телесных отверстиях. Тела вращались, ложились друг на друга, сливались, как сваренное в печи железо. Хитрые ловкие пальцы блуждали по неизведанным зонам, стимулировали и щекотали содрогающиеся мышцы, затыкая стенающие рты и девственные анусы. Лица зарывались между ягодицами. Жаждущие женские языки скользили, дразнили, жадно внедрялись во влагалища, тянулись к возбужденным соскам, а затем переплетались, как венцы, вокруг извергающих белую лаву фаллосов.
Из этой душной комнаты вышел толстый щетинистый Джанкарло Гримани, завязал пояс своего черного шелкового халата и спустился на пьяно нобиле, в игровой зал. Там развлекались десяток мужчин: кто увлекаясь отдельными куртизанками, кто пытаясь сперва выиграть в карты, чтобы затем ими увлечься. Банк держал друг Гримани, граф Карлетти, высокий опрятный савойский офицер средних лет с пушистым серым хохолком и серебряными бакенбардами. За столом сидели четыре игрока, понтируя средними суммами.
– А кто это у нас там сидит в гордом одиночестве? – Гримани обратил общее внимание на Казанову, сидевшего у открытого окна в расстегнутой, не заправленной в панталоны рубахе. – Неужели это… ну да, это он, тот самый. Каким он важным стал. Вы не замечаете, господа?
– Отечеству служит, – кто-то изрек из объятий куртизанки.
– Может быть, Вы нам окажете честь за столом, мой друг? Нам будет веселее.
– Сейчас приду, голубчик, – ответил Казанова. – Сейчас приду.
Казанова вдыхал соленый сырой смрад, поднимающийся с мутного канала под палаццо Гримани, одного из самых больших частных палаццо в Венеции. Одним пальцем Казанова аккуратно давил на спинку комара, пьющего его кровь из другой руки, так что кровь волей-неволей продолжала течь через хобот в туловище насекомого. Как бы комар ни пытался отлететь, он не мог из-за давления сверху и, следовательно, был вынужден наполняться кровью. Казанова видел как пучился живот комара и проверял, чтобы жало не вылезало из его кожи. Крылья насекомого бились лихорадочно, отчаянно, жужжали последними силами. Наконец постоянно поступающая в комара кровь раздула его так, что он взорвался на руке своего палача, оставляя красное пятнышко. Казанова стряхнул останки насекомого в окно, сел за игральный стол и сделал ставку.
За столом среди понтеров уже сидел его друг Пьетро Дзагури. Граф Карлетти метал осторожно, задумчиво – его острые глаза по два раза проверяли каждую ставку.
– Вы знаете, господа, с тех пор как нас всех благословил понтифик, мне кажется, что я переродился, – объявил Гримани, заказывая бокал белого вина. – Вы чувствуете этот свежий воздух, Джакометто?
Казанова равнодушно улыбнулся, давая Гримани понять, что эти подкалывания его не трогали.
– Не искушайте его, – сказал один игрок. – Его ореол все равно нерушим.
– Да кто его искушает? Как вообще можно искусить такого искусителя? Признаюсь, господа: мне завидно. У меня никогда не было этого дара. Однако я приблизительно догадываюсь, какую технику употребляет наш Джакометто. Да-да. Сначала надо увести даму далеко от мира, загнать ее в безлюдное таинственное место, туда, где она забудет все на свете, туда, где она почувствует себя единственной женщиной во вселенной. И в самое тихое, глубокое мгновение, пока она любуется собой, прошептать ей ядовитым языком: «Ты самая прекрасная на свете». И она, как Ева, не замечающая соперниц вокруг, поверит и возьмет его плод.
Все засмеялись.
– Оригинально, – Казанова поздравил Гримани, забирая свой небольшой выигрыш.
– Ой, он выиграл! – удивился Гримани. – Посмотрите.
– Мессер Казанова целый день выигрывает, – отметил Карлетти. – Как минимум уже пятнадцать цехинов.
– Что! Пятнадцать цехинов! – изумился Гримани. – Да это же чудо. Вот что такое святость!
– Однако по поводу нашего дéльца, вы все еще помалкиваете, мессер Казанова? – с каплей недовольства поинтересовался Карлетти.
– Нет, не помалкиваю, Ваше Сиятельство.
Казанова достал из своего жакета конверт и передал его Карлетти. Тот перестал метать и распечатал конверт.
– Нет, это что-то не то, – вздохнул граф, рассматривая письмо. – Это не то, что я имел в виду.
– Почему?
– Я имел в виду наличными.
– В чем проблема, господа? – вмешался Гримани.
– Когда-то маркиз Спинола, – Карлетти сложил письмо и вложил его обратно в конверт, – проиграл мне двести пятьдесят цехинов. Месяца два назад я попросил мессера Казанову, поскольку он сотрудничает с маркизом, похлопотать за меня и добиться выплаты долга. Но вместо самих денег мессер Казанова мне принес лишь вексель.
– Вы не говорили о наличных деньгах, граф, – объяснил Казанова. – Вы меня просто попросили напомнить маркизу о его долге.
– Нет, разговор шел именно о наличных деньгах. Уже почти год маркиз мне должен эту сумму. А сейчас этим векселем он откладывает выплату еще на четыре месяца. Это меня не устраивает, мессер Казанова.
– Я передам Ваше недовольство маркизу.
– Если так, тогда я Вам тоже выпишу вексель за Ваши услуги.
– Вот тут Вы не правы, Ваше Сиятельство. Мы с Вами действительно договаривались о вознаграждении наличными: десять процентов от общей суммы, то есть двадцать пять цехинов. Для вас было важно получить от маркиза подтверждение, признание его долга. Я добился этого. Этот вексель четко говорит, до какого числа маркиз вернет Вам Ваши деньги.
– Этого не достаточно. Я требовал сами деньги.
– Вы не требовали сами деньги. И я сейчас не буду требовать свое вознаграждение в наличном виде, – гордо и самоуверенно сказал Казанова. – Я приму Ваш вексель.
– Вы что, обвиняете меня во лжи?
– Ваше Сиятельство, – Дзагури вступил в разговор, обращаясь к Карлетти мягким, уважительным тоном. – Мессер Казанова не это имел в виду.
– Мне не нравится Ваш самонадеянный взгляд, мессер Казанова, – Карлетти повысил голос.
– Тут самонадеянности никакой нет, граф. Вы просто не сдержали свое слово.
– Что! – Карлетти встал.
– Что ты сказал, Джакомо! – возмутился Гримани, переходя на «ты».
– Господа, я пришел сюда не спорить с вами, – спокойно сказал Казанова. – Я готов принять вексель графа Карлетти на сумму, мне обещанную, и забыть это маленькое недоразумение.
– Нет, Вы так легко не отделаетесь. Вы меня обвиняете во лжи!
– Я так не формулировал свои слова. Я просто сказал, что Вы не выполнили свое устное обещание.
– Вы оскорбили мою честь, мессер Казанова!
– Господа, господа, – засуетился Дзагури. – О чем вы спорите? Какие-то слова. Джанкарло, ничего не произошло. Успокойте всех.
Гримани натянул негодующую мину.
– Я требую, чтобы Вы извинились, мессер Казанова, – настаивал Карлетти.
– Ваше Сиятельство, был бы я не прав, я бы уже давно извинился. Но я ни в чем не виноват.
– Джакомо, извинись! – воспалился Гримани.
– Господа, я чувствую, что наша партия, к сожалению, не состоялась. Если вы не возражаете, я с Вами тогда попрощаюсь.
– Ты из этого дома не выйдешь, пока не извинишься перед графом Карлетти! – крикнул Гримани.
– Джанкарло, тебя не было, когда мы с графом договаривались. Ты не в курсе…
– Ах ты, тварь неблагодарная! Ты знаешь, кто такой граф Карлетти? Ты понимаешь, с кем ты имеешь дело?
Казанова понял, что ему придется или извиниться, или отстаивать свою невиновность до конца.
– Я прекрасно знаю, кто такой граф Карлетти и какой пост он занимает в савойском дворе. Однако, в данном случае речь идет не о его титуле, а об одном его личном свойстве.
– Вы переступаете грань приличия, мессер Казанова! – крикнул Карлетти, бросая колоду карт на стол и отходя в сторону, зная, что Гримани разберется с Казановой.
– Дрянь собачья! – Гримани замахал руками, опрокидывая бокал вина. – Вы только посмотрите, что он возомнил о себе! Хватило одного доброго слова от Синьории, и он считает себя неприкосновенным!
– Джанкарло, не надо горячиться, – Дзагури пытался всех примирить. – Господа, давайте дружить. Никто тут не прав и никто не виноват. Просто какое-то недопонимание. Все пустяки.
– Джакомо, я последний раз тебя прошу, – ровно и доброжелательно сказал Гримани. – Извинись, пожалуйста, перед графом Карлетти. По-джентельменски.
Казанова знал, что если он не извинится, Гримани выйдет из себя. Гримани всю жизнь позволял себе чрезмерные вольности в обращении с ним, и Казанова их терпел из-за уважения к семье патриция. Однако он также понимал, что если он извинится, то Гримани воспримет это извинение как очередную уступку нижнего сословия верхнему, разрешающую ему продолжать издеваться над Казановой бесконечно.
– Джанкарло, дорогой, – разумно и спокойно толковал Казанова, – ты же знаешь, как я отношусь к твоей семье. Ты знаешь, как я всегда был признателен твоему отцу, великодушному Микеле Гримани, за его дружбу и поддержку моей семьи. Я не хочу портить эти отношения. Я тебя искренно прошу: давай не будем ссориться. Как сказал Пьетро, тут никто не прав. Тут просто возникло маленькое недоразумение, и все.
– Ты извинишься или нет? – давил Гримани.
– Я ни в чем не виноват. Моя совесть чиста.
Несколько секунд тянулась напряженная тишина, а затем Гримани окончательно взорвался и ударил своим громадным кулаком по столу, так что все карты разлетелись по сторонам.
– Ах ты, подонок! Ах ты, скотина! Да кто вообще тебя в свет пустил, грязь плебейская!
Он орал так громко, что с верхнего этажа на лестницу спустились полуобнаженные люди, чтобы понять, что происходит.
– Меня в свет пустили из-за моей образованности, из-за моего изящного вкуса и остроумия, потому, что я ценю дружбу, а не чин, как некоторые.
– Ханжа сраная! Всю жизнь подлизываешься к голубой крови! Всю жизнь раком перед всеми стоишь!
– Не подлизываюсь, а подстраиваюсь. Если бы ты хоть чуть-чуть знал, что такое выживание, что такое начинать с нуля, ты бы меня не осуждал. И сейчас, кстати, я вижу, что твои постоянные провокации и издевательства вовсе не бессмысленны, а наоборот, чем-то глубоко обоснованы.
– Паразит! Шарлатан! Писака ничтожный! Только умеешь людей надувать, больше ничего! – Гримани бил сильнее и сильнее, не зная чем изничтожить достоинство Казановы.
– Джанкарло, – Дзагури пытался его остановить, – не надо так…
– А еще говоришь, что чтишь моего отца! Именно ради уважения к моему отцу ты должен выполнить мою просьбу и извиниться.
– Да, отца твоего покойного я очень уважал, – терпеливо отвечал Казанова.
Дзагури не понял, почему Казанова сделал акцент на отце Гримани.
– Если бы не мой отец, ты бы в детстве с голоду умер, ублюдок!
– Да, я знаю.
– Если бы не он, все твои братья с тобой в гробу бы сейчас лежали!
– Скорее всего, да.
– Если бы не он, твоя мать, шлюха, ходила бы по мостам, сиськи свои всем показывала!
– Что? – Казанова спросил с перекошенным лицом. – Что ты сказал?
Гримани почувствовал, что он наконец задел Казанову.
– Да, оборванец. А что ты удивляешься? Ты что, не знал, что твоя мамаша всю труппу обслуживала? Ты не знал, что ее имел каждый, кто только ни заходил за кулисы.
– Дерьмо ты, Джанкарло. Настоящее дерьмо.
– Сладко, а? – Гримани ликовал. – Сладко представить, как она бывала в этом дворце? Как ее все одновременно имели? А?
– Одновременно – не знаю. Но то, что ее боготворил Микеле Гримани, знают все.
– Что? – Гримани растерялся.
– Более того, Джанкарло, всем уже давно известно, что Микеле Гримани – не твой отец, а мой.
Казанова это сказал с такой легкостью и естественностью, что все в зале окружили игральный стол и вытаращили на него глаза.
– Джакомо, – вздохнул Дзагури. – Зачем ты это сказал?
– Ты что, не знал, Джанкарло? Очевидно, тебе не говорили никогда, – Казанова гордо выпрямил спину, рассматривая остолбенелого Гримани, – что твоя мать, Пизана Джустиниан Лонин, тебя родила от твоего дяди Себастьяно Гримани, если не от тревизского ювелира Антонио Беллана. А моя мать меня родила от сенатора Микеле Гримани. Так что на самом деле я являюсь прямым наследником Микеле Гримани и, следовательно, имею право претендовать на все привилегии, принадлежащие его сословию. Более того, мне кажется, пора нам обнародовать эту правду. Пора городу знать, кто ты и кто я. На это, я тебя уверяю, у меня хватит литературной одаренности.
– Тебе этого не нужно делать, Джакомо, – Дзагури уговаривал своего друга уступить. – У тебя дела в гору пошли. Не искушай судьбу.
Гримани долго стоял с застывшим дыханием, не двигаясь. Гости в зале собрались в одну взволнованную массу. Лестница в коридоре была наполнена любопытной голой толпой. Граф Карлетти напрягся сзади Гримани, почесывая свой полулысый затылок. Пыхтящий Гримани наконец повернулся к Казанове, смерил взглядом с ног до головы и набросился на него со всей своей взбесившейся бычьей силой. Повалив его на пол, Гримани сел ему на грудь и схватил его за горло, так что у того глаза закатились, и лицо потемнело, и вены на висках вздулись.
– Только попробуй, сука. И у тебя одаренности хватит только на собственный некролог!
* * *
– Prosecco ergo sum!
– Lupocchiotto, что с тобой? Я никогда не видела, чтобы ты так много пил. И еще так рано утром. Ведь еще десяти нет, а ты уже четвертый бокал просишь!
Шипящий, пузыристый, прохладный напиток поднимал его дух до небес. Казанова чувствовал себя прозрачным облачком, проплывающим над голубой непорочной лагуной.
– Дядя Джакомо, а мы пойдем сегодня плавать?
Казанова слышал детский голос, но слов не разбирал. Он тащился, подгоняемый Франческой, в сторону рынка, по пути останавливаясь у каждого бакаро[57], поднимая бокалы за долголетие республики. Жара уже стояла невыносимая. Но Казанова не ощущал эту парилку; напротив, плавая в вине и в своем поту, ему казалось, что он плавает в каналах, в бухте, в открытом море, что все жидкости сливаются в одну-единую первозданную жидкость вселенной.
– Джакомо, тебя вчера искали, – сказала Франческа. – Микела, ей плохо.
– Что?
– Микеле плохо!
Один молодой человек загораживал проход к кампо де Пескария.
– Осторожно! Осторожно! – кричал он.
– Что случилось? – спросила Франческа.
– Эта калле будет сегодня закрыта, синьора. Раньше тут с одного дома упал кирпич. Прямо на прохожего.
– Ах! – Франческа ужаснулась. – Он сильно пострадал?
– По-моему, да. Его сейчас осматривают врачи. И вообще вся эта сторона Риальто становится опасной. Будьте очень осторожны, синьора.
Франческа взяла братишку за руку и пошла по другой калле, в конце которой тоже можно было выйти к рынку.
– А где дядя Джакомо? – спросил ее брат.
– Ой-ой-ой! Где он? – Франческа встревожилась. – Джакомо! Где ты? Где ты, миленький?
Казанова уже прорвался к лавкам и интересовался рыбами, хвостами бьющимися о деревянные стойки. Продавцы их обезглавливали острыми ножами и снимали мясо с костей. Морские гады шевелились в воде в бочках, а ползающие на столах быстро находили покупателей. Сниженные летние цены привлекали именно тех клиентов, которые в другие времена года, может быть, не могли бы себе позволить чревоугодничать.
– О, месье Казанова, добрый день! – поздоровались по-французски два господина.
Казанова на них сосредоточился и только через несколько мгновений понял, кто они: генерал-майор Голицын и генерал-поручик Волынский.
– Доброе утро, господа, – Казанова снял шляпу.
– Все-таки мы решили сами приготовить венецианский ужин, – возбужденно, с влажными бакенбардами говорил Волынский. – То есть не мы буквально. Мы наняли повара, месье Пьеро Тонон.
– О, великий мастер! Обязательно попробуйте его тушеного осьминога.
– Тушеный осьминог? Ой, у меня уже подсасывает.
– Скажите, а как…
Казанова забыл, что он хотел сказать.
– Да?
– Как… а…
– Графы?
– Да, графы!
– Спасибо. Графы довольны поездкой, – сказал Голицын. – Все еще в Париже веселятся. Не знаем даже, когда на родину вернутся.
– Понять можно. А их свита…
– Ой, вот ты где, мой хороший! – Франческа обняла Казанову. – Я волновалась. Тут кирпичи на голову падают. Знаешь?
– Франческа, поздоровайся. Это генералы Голицын и Волынский.
– Добрый день, мадам, – обратился к ней Волынский, разглядывая ее простонародную юбку. – У Вас замечательный супруг. Любите и берегите его.
– Добрый день, – Франческа ответила по-французски и покраснела, поскольку больше французских слов не знала.
– Прощайте, месье Казанова, – сказал Голицын. – Наша миссия выполнена.
– Успешно, надеюсь?
– Можно сказать, что мы заложили некий фундамент.
– Как я рад, господа. Как я рад.
– Всего Вам доброго.
– До свидания.
– Arrivederci, Signora.
Глазами проводив русских генералов за угол, Казанова кинулся на лавку с морскими гадами, руками копаясь в горах кальмаров и каракатиц.
– Ммм. Как я рад! Как я рад!
– Джакомо, что ты делаешь? – Франческа испугалась и застыдилась.
– Как я рад!
Казанова схватил одну каракатицу и облизал ее целиком, не упуская ни одного щупальца. Все на него смотрели. Брат Франчески прыгал от забавного зрелища.
– Прекрати, Джакомо! – крикнула Франческа.
Казанова ногтем прорезал спину моллюска и содрал с него кожу. Затем он зубами вытащил хребет и из живота высосал пузырь с чернилами.
– Осторожно, – предупреждал продавец. – Летом не рекомендуется их есть сырыми.
– Как я рад! Как я рад!
– Джакомо, миленький, что с тобой? – Франческа не знала, плакать или смеяться.
Казанова схватил еще одну каракатицу, и еще одну, а потом побежал к Большому каналу и сел в гондолу.
– Куда? – спросил гондольер.
– Куда хочешь!
* * *
После долгого блуждания по лабиринтным каналам в середине города, гондола вышла в бухту и поплыла в сторону острова Сан-Пьетро, сразу после Арсенала завернув налево, в канал Сан-Доменико.
– Да-да, прямо. А у церкви остановись, – взволновано приказал Казанова.
Гондола остановилась у высокой колокольни, и гондольер помог Казанове подняться на набережную. Сзади церкви стоял маленький двухэтажный домик. У парадной толпились люди – в основном женщины, и в основном в черном. Все сердито посмотрели на Казанову.
– Простите, друзья. Простите.
– Мы тебя давно ждем.
– Простите. Я дерьмо. Простите, ради бога.
Он поторопился в дом, на второй этаж, в спальню, из который вышел врач, а за ним священник.
– Как она? – спросил Казанова.
– Состояние резко ухудшается.
Врач скривился при виде черного рта Казановы; все в нем было черное – губы, язык, зубы, горло.
– Микела! – Казанова всхлипнул, подбежав к изголовью.
– Спасибо, что вы пришли, – сказал худосочный бледный от горя мужчина, стоящий по другую другую сторону кровати.
Казанова взял руку больной женщины.
– Как ты? Как ты, моя прекрасная? Ты меня слышишь?
Белолицая, истощенная, хрупкая женщина открыла глаза. Казанова платком вытер пот с ее лица, а затем причесал ее длинные белые волосы.
– Джакомо, это ты? – еле-еле вымолвила она.
– Прости, что я раньше не пришел. Прости меня, кретина.
Она с трудом повернула к нему голову.
– Я счастлива тебя видеть.
Ему стало больно, и он скрыл свои слезы подушкой, оставляя на белой наволочке мокрый черный след.
– Микела моя.
Она слышала, как он всхлипывал.
– Джакомо, не плачь, – приказала она ему. – Лучше поговори со мной. Скажи мне, как твои дела?
– Да какие дела? – он поднял голову. – Все меня на девяносто градусов ставят.
Микеле всегда нравился его пошловатый юмор. Ее лицо покрылось розоватым цветом, и кончики губ потянулись кверху.
– А что, только ты имеешь право ставить всех на девяносто градусов?
Казанова засмеялся.
– Мике, Мике, Микечка моя.
– Не давай себя в обиду, слышишь. Что тебе сделали на этот раз?
– Не волнуйся, моя прекрасная. Ничего страшного.
Она посмотрела ему в глаза.
– Нет, я вижу – тебя опять обидели.
– Не.
– Я тебе всегда говорила, месть – это не порок.
– Посмотрим, Мике. Посмотрим, как покатится каракатица.
– Вот так, правильно. Всегда с иронией.
– Да, моя сказка.
– Я тебе очень благодарна, знаешь.
– За что?
– Я тебе благодарна, – она сухо закашляла, – я тебе благодарна за то, что ты меня тогда в театр пристроил. За то, что ты моему братику Джованни помог.
– Спасибо, Джакомо, – сказал мужчина.
– Ты нас спас от голода.
– Забудь это, Микела. К чему это? Забудь.
– Я все это время хранила одну вещь. Она тебе должна быть знакома.
– Что?
– Открой тот чулан. Там, на верхней полке. В коробке.
Казанова открыл чулан, порылся на верхней полке и, нащупав коробку, взял ее осторожно обеими руками и спустил на пол. Сняв крышку, он увидел вещь, которая только через два-три мгновения воздействовала на его расплывчатое восприятие. В коробке лежала скрипка со смычком.
– Чья она, Мике?
Микела не отвечала. Она лежала неподвижно с безжизненными глазами, поднятыми вверх.
– Мике? Мике!
Джованни наклонился и ладонью опустил веки сестры.
– Мы Вас вчера целый день искали, Джакомо. Микела очень хотела с Вами поговорить. А более всего она хотела, чтобы Вы ей сыграли на скрипке, как тогда, в юности, когда Вы ей играли под ее окном. Это Ваша скрипка, Джакомо.
Казанова сглотнул комок слез.
– Что? Что? Да я… я… я вообще никогда играть не умел.
* * *
Позже, на закате, на восточном берегу длинной широкой пересыпи, защищающей мелкую лагуну от непредсказуемого Адриатического моря, рыбаки заметили одного высокого лохматого господина в длинной распущенной рубахе и с засученными по колено панталонами. Он шел, обласканный соленым бризом, слоняясь босиком по теплой почве, раздавливая хрустящие маленькие ракушки, а затем подпрыгивал выше и выше, стараясь как можно дольше задержаться в воздухе над приливами и отливами. Фиолетовый горизонт отделял темно-синее море от розовеющего неба, и видно было, как блаженствующий господин смычком рисовал на небесах какие-то непонятные, извилистые узоры. Проплывали белые растянутые марлевые облака, впитывая в себя яркие оранжевые лучи солнца. Там, далеко за облаками, открывался, ему казалось, некий образ, некий светлый нежный образ с тонкими человеческими чертами – может быть, маска, может быть, даже лицо. Напевая мажорный мотив Вивальди, он начал смычком рисовать этот образ на мокром песке. Но как только он заканчивал, набегала волна и смывала рисунок. И он шел дальше, дальше вдоль шуршащего вечернего моря, подпрыгивая, разбегаясь, вертясь, дирижируя, порой рисуя этот рисунок, наблюдая в болезненном экстазе, как его смывала пенистая вода.
– Как я рад! Как я рад!
* * *
1782 год закончился неимоверным наводнением. Больше недели на площади Сан-Марко и на обеих сторонах моста Риальто вода поднималась выше метра. Набережную Скьявони было не видно – вода доходила до прибрежных дворцов, а порой и дальше. Несколько церквей пришлось ремонтировать – вода не только повредила скамейки и алтари в нефах, но и уничтожила сокровища и произведения искусства в ризницах.
Через год произошло большое политическое событие: дож и сенат приняли трех посланников из недавно созданных Соединенных Штатов Америки: Томаса Джефферсона, Бенджамина Франклина и Джона Адамса. Американцы хотели создать дипломатическое и экономическое партнерство со Светлейшей Республикой. Но венецианцы, проявив свое обычное дружелюбие, уклонились от подписания договоров. Они не хотели провоцировать своих монархических соседей, которые без восторга смотрели на новое демократическое государство и на его желание быть равным среди великих европейских держав.
Годы текли, и Венеция продолжала играть свою роль международной столицы развлечений – карнавал становился более и более экстравагантным, необузданным и сладострастным. Она также продолжала держаться за свой священный нейтралитет.
Австрия, с другой стороны, несмотря на договоренности с Россией, продолжала зариться на земли, расположенные по ту сторону Альпийского хребта. Венский двор просто был помешан на идее приобретения выхода к морю, и этим выходом мог служить только венецианский полуостров Истрия и Далматское побережье. Вступив в 1787 году в антиосманскую коалицию с Россией, Австрия начала выражать надежду, что война с турками примет масштаб, соответствующий когда-то выдвинутому Екатериной «греческому проекту». Таким образом, за поддержку России, Австрия получила бы Балканы и желанные венецианские территории. Она даже советовала России привлечь в коалицию и Венецианскую Республику, чтобы компенсировать ее потери османскими островами в восточном Средиземноморье. Однако, Екатерина настаивала, что торопиться некуда, что еще рано реализовать «греческий проект». Приоритетом России на данном этапе было вернуть себе Крым, который был захвачен турками, и сделать все, чтобы Австрия получила Белград с его окрестностями. Следовательно, не было смысла тревожить Венецию, тем более что война шла на Черном море.
Когда император Иосиф II умер от туберкулеза в 1790 году, трон Священной Римской империи унаследовал его брат Леопольд II. Леопольд сразу вышел из антиосманской коалиции. Он не считал турков угрозой для своей империи; он был озабочен более пагубным явлением, которое могло поменять всю геополитическую карту Европы: Французской революцией.
14 июля 1789 года французский народ взял Бастилию. Через три месяца Учредительное собрание вынудило короля Людовика XVI санкционировать «Декларацию прав человека и гражданина», установив таким образом гражданское равенство. В конце 1792 года Франция уже была республикой, а в начале 1793 года отрубленная голова короля лежала на эшафоте. К тому времени Франция вела превентивную войну против всех своих соседей: Англии, Нидерландов, Испании и Священной Римской империи.
Венеция отказалась вступать в антифранцузские коалиции. Недавно избранный дож Лодовико Манин боялся наступать кому-либо на ноги и придерживался нейтралитета, считая, что из-за неверного шага в не ту сторону Венеция потеряет свою независимость. Его не очень уважали в лагуне и, поскольку его предки вышли из региона Фриули, купив себе когда-то патрицианский титул, он не считался очень храбрым венецианцем. И действительно, когда молодой французский генерал по имени Наполеон Бонапарт вошел в Северную Италию в 1796 году и завоевал австрийскую Ломбардию, дож начал паниковать.
Бонапарт был весьма приветлив с венецианцами. Ему даже в голову не приходило нападать на Венецию, так как это не входило в планы французской Директории. Бонапарт хотел лишь получить разрешение от дожа пройти по венецианской территории, чтобы прогнать австрийцев из Северной Италии. Но как только он получил разрешение, его армия заняла города на венецианском материке – Пескара, Брешиа, Верона.
В конце 1796 года Бонапарт предложил Венеции объединиться с французами против Австрии. Венецианцы вежливо отказались. Бонапарт, как любой амбициозный человек, который считает, что кто идет не с ним, идет против него, воспринял отказ Венеции как проявление симпатии к Австрии. Вскоре, города Бергамо и Брешиа имели новых градоначальников, обещающих местному населению демократию и равенство, а Венеция платила Бонапарту 250 000 дукатов в месяц, чтобы он быстрее завершил свою кампанию против Австрии.
Но Наполеон не торопился. А когда в апреле 1797 года граждане Вероны восстали против французских войск и венецианцы обстреляли патрулирующий французский люгер, входивший в бухту Сан-Марко, убив при этом командира, Бонапарт объявил Светлейшей Республике войну. Все прошло быстро и без пролития крови. За две недели он арестовал венецианских инквизиторов, принудил членов Большого совета принять отставку дожа и послал свои войска оккупировать остров. В июне венецианские демократы уже танцевали на площади Сан-Марко вокруг дерева свободы. В октябре Франция и Австрия подписали мирный договор, по которому Франция получила от Австрии ее Нидерланды. Австрия так же должна была признать новые профранцузские республики в Лигурии и Ломбардии. Однако Австрия не очень расстраивалась, потому что наконец сбылась ее заветная мечта: ей перешла Венеция, с ее материком, с полуостровом Истрия и Далматским побережьем.
В январе 1798 года из Венеции вышли французы, забрав с собой коней Сан-Марко, почти 600 лет простоявших на базилике. Французских солдат заменили австрийские войска. Через месяц, когда венецианские патриции давали присягу императору Священной Римской империи, те разочарованные венецианские демократы, которым Наполеон когда-то обещал независимость, больше не плясали вокруг дерева свободы. Они проклинали французскую Директорию.
16
В гладкой тихой воде отражалось серовато-голубое небо. Извилистая река с ее ответвленными каналами, с ее верфями, лестницами-причалами, балюстрадами и мощеной дворцовой набережной еще пребывала в тяжком северном сне, и ни один челн не смел возмутить ее покой. Густая тополиная листва, украдкой тянувшаяся к воде с обоих берегов, дышала теплым июньским воздухом, наполняя сады и аллеи белым пухом. На восточном небосводе начали появляться багровые пятна, постепенно окрашивая его в алые, затем оранжевые, а затем розово-желтые оттенки. От зари к центру города надвигались кучевые облака, то рассеиваясь, то сгущаясь над водой, то задерживаясь, то набирая скорость, пока вдруг одним массивным слоем не застыли прямо над Адмиралтейской иглой.
Улицы постепенно наполнялись народом, и к позднему утру Дворцовая площадь уже кишела солдатами, выстраивающимися в парадные дивизии. Формировались колонны из легкой кавалерии, составленной из гусаров с киверами и ментиками, из средней кавалерии, в которую входили драгуны, вооруженные мушкетами, шпагами и короткими пиками, и из кирасиров с латами и саблями. Блестели также и пехотные роты, состоящие из расфранченных мушкетеров и гренадеров, вооруженных гранатами и ружьями, четко следующих прусскому образцу. У главного портала Зимнего дворца стоял казачий лейб-гвардейский полк Его Императорского Величества.
По Невскому проспекту, со стороны Александро-Невской лавры, ехала разукрашенная черная карета, запряженная двойкой белоснежных лошадей. В ней сидел седой семидесятилетний господин с морщинистым лицом и усталыми недоверчивыми глазами. Видя, как его слева и справа приветствует народ, кланяясь порой даже до самой земли, он испытывал противоречивое чувство. Он был рад вернуться в этот чудесный город с его просторными улицами, каналами и изящной европейской архитектурой. Он был рад видеть, что петербуржцы его не забыли, что они его по-прежнему любят. Однако он тяготился предстоящей встречей, ибо отвык от придворных церемоний; и, вообще, по своей простой прямолинейной натуре он их мало любил.
«Двор? – думал этот немолодой господин. – Что ныне представляет собой русский двор? Он похож больше на исправительную колонию, нежели на самую просвещенную монархию в Европе. Все регламентировано – экипажи, прически, фраки, жилеты. Вместо „граждане“ надо говорить „жители“, вместо „отечество“ – „государство“. Ни книг, ни музыкальных композиций из-за границы ввозить нельзя. Письма из-за границы перлюстрируются. Ссылка грозит всем, кто только лицо случайно скривит, всем, кто неправильно поздоровается с государем. За не то слово могут пытать. А армия наша? Боже мой, что же с ней стало! Полная отсталость! Где же ее живой дух, ее боевой инстинкт, ее собственная воля, ее отвага и дерзновение? Все заменено безжизненным, слепым, механическим подчинением, мелкодушной прусской шагистикой!»
Когда карета завернула на Дворцовую площадь и из мушкетов раздался приветственный салют, седой господин погрузился в такую тоску, что задвинул шторку на окне, решив не смотреть на парад. Ему вдруг захотелось обратно в деревню, туда, где он вставал до рассвета и с мужиками на улице обливался водой, а затем шел в церковь, звонил в колокола, пел в хоре, туда, где он до самозабвения слушал народные сказки, где уходил в лес, теряясь, ночуя в нем, где в одном нижнем белье он повторял очередным надзирателям, приезжавшим из столицы: «Пудра не порох, букля не кукла, коса не тесак, и я не немец, а природный русак».
Конечно, его годовое пребывание в деревне было не отдыхом, а настоящей ссылкой, со всеми унизительными лишениями – и материальными, и касающимися его статуса. И если бы сейчас его, фельдмаршала графа Александра Васильевича Суворова, просил вернуться на поле битвы один только капризный бесталанный император Павел, то вряд ли бы он приехал в Санкт-Петербург. Император не был достоин примирения. Но тут дело было гораздо сложнее. Сейчас его звала Священная Римская империя, а также Великобритания. Его просили спасти Италию, а может быть, и другие европейские страны, от антихристианской Франции. И это предложение было весьма заманчиво. Ведь он был полководцем, и еще каким! А полководец, любой полководец, как бы скромно он ни держался, никогда не откажется от новой победы и нового ордена.
Карета остановилась у главных ворот. К ней подошел офицер из казачьей лейб-гвардии и открыл дверцу. Как только на ступеньке засиял черный сапог, вокруг кареты заорали: «Ура! Ура!». Внезапно вся площадь взорвалась триумфальными криками. Со всех сторон раздавались выстрелы. Роты смешались, солдаты вышли из рядов. Все ликовали так, будто русская армия только что захватила сам Париж. Дым огнестрельного оружия проплывал над головами, поднимаясь на крышу дворца. Суворов не мог пройти. Гренадеры толпились, чтобы на него посмотреть. Вдруг с Петропавловки прозвучал мощный пушечный выстрел, и, уже заходя во дворец, фельдмаршал почувствовал, как у него увлажнились глаза.
В вестибюле стояли генералы.
– Граф Александр Васильевич, как мы рады Вашему возвращению, – сказал один.
– Да, Ваше Сиятельство. Все сейчас пойдет на лад, – добавил второй. – Все знают, что только Вы сможете сломать французов.
Суворов задержался на секунду.
– Уж, конечно, не паркетные генералишки, как Вы, господа, – он усмехнулся.
В Георгиевском зале стоял приглушенный гам. Как только вошел герольд и объявил о прибытии фельдмаршала Суворова, все замолкли и выстроились в прямые ряды, оставляя длинный широкий коридор между дверями и императорским троном.
Суворов вошел не торопясь. В черном мундире, с серебристой шпагой, с голубой лентой ордена Святого Апостола Андрея Первозванного и всеми остальными орденами, фельдмаршал приостановился и впитал в себя благоговение всех присутствующих. Спокойно и смиренно, совсем не походкой, свойственной крупнейшему военачальнику и национальному герою, он направился к трону. Там его со сдержанным нетерпением ждал император Павел Петрович Романов.
Ощущая на себе пристальный взор Суворова, невысокий император привстал и выставил грудь. Под царской мантией он был облачен в алую шелковую далматику, на которой блестел серебряный Мальтийский крест. На его высоком лбу возвышалась русская корона с жемчугами и бриллиантовым кружевом. Некоторым в зале на миг показалось, что император хотел вытянуть руки – жест гостеприимства. Но Суворов этого жеста не видел. Он шел хладнокровно, без выражения на лице. А когда подошел к помосту и одним взглядом смерил стоящих по бокам балдахина, то решил смотреть не в глаза императору, а на коронный крестик, закрепленный на красном шпинеле между двумя полушариями.
– Вы меня звали, Ваше Императорское Величество, – сказал он с небольшим, даже незаметным поклоном.
Страшнее всего для императора было личное равнодушие, питаемое к нему фельдмаршалом. Суворов его не презирал, не проклинал. На его худом остром лице не было ни одного следа злобы или обиды. Павел знал, что Суворов его просто не рассматривал как полноценного государя – ни как правителя, ни как стратега. Нынешний взгляд фельдмаршала был похож на тот взгляд, которым он смотрел на Павла в детстве. А самое невыносимое для императора было то, что европейские монархи заставили его унизиться перед великим полководцем. От Суворова зависела судьба Европы и, следовательно, престиж России, и Павел прекрасно понимал, что самое трудное сейчас было не реабилитировать Суворова перед русской короной, а реабилитировать себя перед Суворовым.
– Граф Александр Васильевич, – император сказал мягко, даже ласково, со скользящей улыбкой на круглом румяном лице. – Прошлое… ну…
– Да, мой государь?
– Что было – то было, Александр Васильевич. Я не судья, виноватого Бог будет судить.
– Хм.
Павел напряженно изучал реакцию Суворова, боясь спровоцировать любое несогласие. Но фельдмаршал не снисходил. Он продолжал смотреть на крестик. Потом Павел понял, как он мог разбить лед: надо было ввести в разговор третье, нейтральное, лицо, то есть лицо, которое было выше и его, и Суворова, лицо, которому Суворов не мог бы никогда отказать.
– Александр Васильевич, Европа горит!
– Слышал.
– Римский император требует вас в начальники своей армии!
– Признателен.
– Так освободите же Европу от этой якобинской заразы! – Павел провозгласил громко, восторженно, надеясь, что эти эффектные слова пробудят в Суворове воинственный дух защитника христианства и вдохновят его на титанический подвиг.
Но Суворов даже не моргнул.
– Будет нелегко, – сказал фельдмаршал после длительного молчания.
В зале начали ахать. Но Павел, как и все его приближенные, знал, что Суворов имел в виду. Это была не провокация и не неуверенность в себе. Это был последний, хорошо продуманный ход игрока, объявляющего своему противнику мат. И Павлу ничего не оставалось, как признать свое поражение. Однако он в этом признался не тем восторженным громким голосом, а тихо, почти самому себе, так, чтобы из-под балдахина его слова не ускользали.
– Я понимаю, Александр Васильевич. Я все понимаю. Ведите войну по-вашему тогда. Так, как вы считаете нужным. Ведите войну по-русски.
* * *
Пока Суворов встречался с императором и его военной коллегией (и позиция фельдмаршала оставалась двусмысленной – он не соглашался возглавлять антифранцузскую коалицию, но и не отказывался от предложения), новость о его возвращении из ссылки в Петербург разлетелась по всему городу. Всадники, курьеры, караульщики, да и простые пешеходы бегали по дворам, садам, площадям и набережным, крича: «Вернулся Суворов! Вернулась честь русской армии!». Звонари били в колокола, по улицам шагали барабанщики и трубачи, играя триумфальные марши. На всех перекрестках, во всех концах города раздавалось имя фельдмаршала: от Кадетской набережной до Обводного канала, от Никольского морского собора до Сампсониевского собора. Невский проспект не видал такого общего экстаза с 1732 года, когда двор императрицы Анны Иоанновны вернулся в Санкт Петербург после четырехлетнего пребывания в Москве.
Не видали такого ликования и Летний сад, и Сергиевская улица, и Таврический сад, и Воскресенская улица, и Смольная площадь, да и сам монастырь, при котором процветал институт благородных девиц. И пока на Дворцовой площади расходились парадные роты, в этом уединенным институте, во втором корпусе, на первом этаже, в классе № 14, девушки старшего курса сдавали устный экзамен по истории Древней Греции. Возле учительского стола стояла стройная, восемнадцатилетняя, с длинной темной косой София Шереметьева и отвечала на тему «Реформы афинского архонта Солона».
– …Затем очень важное последствие имело разделение всех граждан полиса на четыре имущественных слоя. Принадлежность к одному или к другому слою определялась годовым доходом, исчисляемым сельскохозяйственной продукцией. Первый слой – пентакосиомедимны, которые имели более 500 медимнов зерна в год; они могли избираться архонтами и казначеями. Второй слой – гиппеи, которые имели свыше 300 медимнов и, следовательно, могли служить в кавалерии. Третий слой – зевгиты, которые имели свыше 200 медимнов зерна и служили в пехоте. Последний слой, феты, имеющие менее 200 медимнов зерна, имели право участвовать в народных собраниях, но не могли занимать государственные должности. Солон также основал Гелиэю, то есть Верховный суд, в котором все афинские граждане, кроме фетов, могли возбуждать иски не только против частных лиц, но и против публичных и государственных деятелей.
– Вопрос, – прервала Софию учительница. – Что способствовало развитию внешней торговли Афин?
– Замена прежней эгинской монеты эвбейской.
– Продолжайте.
– Самая значительная реформа Солона называлась сисахфия. Согласно этой реформе, отменили все невыплаченные долги, освободились от рабского статуса каббалистические должники и…
София застыла, заметив, что у учительницы скривился рот.
– Продолжайте, София Ивановна.
– И… – София закрыла глаза, скрывая свой страх.
– Продолжайте. Мы почти закончили.
– И… и… наотрез запрещалось долговое рабство. Таким образом, борьба между аристократией и «закабаленным» демосом прекратилась, и афинское государство начало приобретать демократический характер.
– Вопрос. Как был обнародован законодательный свод Солона?
– Законодательный свод был записан на деревянных досках, кирбах, и выставлен в публичное место, например на центральную площадь или возле Акрополя.
– Хорошо.
София покраснела, и слезы хлынули из ее глаз.
– Нет! – она фыркнула.
– Что?
– То есть Вы мне поставите «хорошо», а не «отлично», да?
– Я этого не сказала.
– Но я знаю. Вы это имели в виду.
Учительница прищурила свои лазоревые глаза и сложила руки на столе. На лбу ее легли складки, и губы сжались, напрягая высокие скулы.
– Я еще не решила, какую отметку Вам поставить, София Ивановна. На данный момент я могу сказать, что Вы прекрасно знаете события Древних Афин. Отметки будут вывешены завтра в коридоре на обычной доске. Если у Вас возникнут вопросы, приходите ко мне, и мы их обсудим.
Утром однокурсницы собрались в вестибюле и с нетерпением поспешили к доске объявлений.
– Я знаю, она мне поставит «хорошо», – хмурилась София. – Я ей просто не нравлюсь.
– Да чего ты расстраиваешься? – утешала ее подружка. – Она никому не ставит «отлично».
Девушки нашли свои отметки.
– «Удовлетворительно»! – вскрикнула одна.
– «Удовлетворительно»? – вздохнула другая.
– «Хорошо»?! – заплакала София. – Я так и знала! Я же вам говорила! Это несправедливо!
Вытирая слезы, София помчалась в класс выяснять отношения с учительницей.
– Александра Алексеевна, я не заслужила отметку «хорошо», – всхлипнула София. – Я подробно отвечала на вопросы. Вы сами сказали, что я прекрасно знаю историю Древних Афин. Вы же отлично знаете, что я без единой ошибки Вам объяснила реформы Солона.
– Вы уверены? – учительница подняла одну бровь.
София покраснела.
– Но это же было просто слово, Александра Алексеевна. Одно слово, неправильно произнесенное. Я просто запуталась. Вместо кабальные должники, я сказала каббалистические должники. Но я же потом себя поправила.
– София Ивановна, я не буду Вас спрашивать, откуда Вы знаете этот термин. Но он далеко выходит из контекста темы Древних Афин, следовательно, его можно считать не просто словесным ляпсусом, а настоящим заблуждением, – твердо сказала учительница.
– Нет!
– Более того, Вы ничего не сказали про запрет Солона на вывоз зерна из Афин, что тоже помогло развитию сельского хозяйства. Вы даже не упомянули Совет четырехсот.
София сразу не ответила, а долго смотрела на каменное лицо учительницы.
– Вы же знаете, Александра Алексеевна, что дело тут вовсе не в зерне и не с Совете. Вам просто не понравилось это слово. Я это видела по Вашей реакции.
Учительница отвела глаза и взглянула на ряд тонких берез, стоящих за окном.
– Неправда, София.
– Я не заслужила эту отметку. Я заслужила «отлично», Александра Алексеевна. И Вы это знаете.
– Надо знать предмет, а не смотреть на реакцию учительницы, – строго сказала Александра Алексеевна, не поворачиваясь к студентке.
София встала и гордо, уже с бесслезными глазами, вышла из класса.
Позже, после обеда, прогулявшись в прибрежном саду позади монастыря, Александра Снежинская села на скамейку и погрузилась в «Мысли» Паскаля. Воздух был живой, и было слышно, как в музыкальном зале репетировали концерт с арфой и клавесином. По Неве в сторону Петропавловки шли грузовые суда, баркасы и двухмачтовые шхуны.
На соседней скамейке сидели коллеги Александры, обсуждая встречу Суворова с императором.
– И я вообще не понимаю, почему наша Елизавета Александровна не могла на один день приостановить сессию и отпустить девчонок на парад, – рассуждала кругленькая Ольга Григорьевна, преподавательница рисования. – Когда еще будет такое событие?
– Меня не это волнует, – ответила Варвара Семеновна, веснушчатая рыжеволосая учительница арифметики. – Меня настораживает факт, что Суворов еще не дал свое согласие.
– Как! – удивилась Ольга. – Он может отказаться? Что же будет? Кто же его заменит?
– В том-то и дело – никто. В Вене и Лондоне считают, что только наш Суворов может отвоевать у французов Северную Италию.
Последнее слово привлекло внимание Александры.
– Но отказываться идти в поход было бы неуважительно со стороны фельдмаршала, – заносчиво сказала Ольга. – Ведь все-таки император его простил.
– Еще неизвестно, кто кого простил. И неизвестно, кто кому больше нужен.
– Где же тогда его честь, если он откажется?
– Вот тут ты права, голубка. Вот почему, я думаю, Суворов примет миссию. Ради сохранения русско-австрийской дружбы и ради своей чести. Но…
– Но?
– Но не ради… – Варвара наклонилась поближе к своей собеседнице и прошептала: – …не ради императора.
– Александра Алексеевна! – раздался кроткий женский голос.
К Александре подошла помощница начальницы.
– Да, Наталья Степановна?
– Елизавета Александровна Вас искала, – сказала девушка любезным голосом. – Вы бы не смогли зайти к ней в кабинет?
– Конечно. Скажите ей, что я непременно зайду.
Окна кабинета начальницы выходили на круглый клочок земли, который когда-то был предназначен для 140-метровой пятиярусной колокольни, первоначально входящей в проект Бартоломео Растрелли, но так и оставшейся непостроенной. Она не только должна была служить парадным входом в монастырь, но могла стать и самым высоким зданием в Санкт-Петербурге, а может, даже и во всей Европе. Елизавета Александровна неоднократно озвучивала свою надежду возобновить строение барочной колокольни, но все ее старания были вежливо отвергнуты в императорской Комиссии о каменном строении.
– Вы меня искали, Елизавета Александровна?
– Заходите, присаживайтесь, Александра Алексеевна. Вы знакомы с Михаилом Афанасьевичем? – спросила начальница деловым тоном.
Александра посмотрела на мужчину, стоящего возле письменного стола.
– Да, конечно, – ответила она.
– Михаил Афанасьевич желает с Вами поговорить.
– Я в его распоряжении.
– Я Вас оставлю на несколько минут.
Начальница вышла.
Графу Михаилу Афанасьевичу Чернышеву было слегка за пятьдесят, но его любознательные, чистые и молодые глаза и резвая походка придавали ему вид человека, не достигшего еще и сорока. Он был чрезвычайно вежлив и совестлив со всеми, избегал чиновнического тона и вообще пользовался симпатией и учительниц, и самих смолянок, когда заходил в институт. Он порой даже был стеснителен, скорее, из-за своего выпячивающегося брюшка и двойного подбородка.
– Александра Алексеевна, – Чернышев пригладил свои пышные бакенбарды и сел за стол, задерживая взгляд на приятной фигуре учительницы. – Вы меня знаете, Александра Алексеевна. Я человек достаточно прямолинейный и даже в какие-то моменты простодушный. Что, конечно, может быть, не всегда хорошо. И, вообще, я стараюсь не интересоваться тем, что меня не касается.
– Михаил Афанасьевич, вы так загадочно говорите, что даже дельфийскую сивиллу, по сравнению с вами, можно понять с первого слога.
Александра так радушно улыбнулась, так ярко засияли ее голубые глаза, что у Чернышева в горле образовался комок.
– Спасибо, Александра Алексеевна. Спасибо за это смешное и удачное сравнение. Я… я просто хотел Вас осведомить, что… ну, Вы, наверное, сами заметили, что наше общество принимает все более и более… то есть оно, так сказать, обороняется, да, это правильное слово, обороняется в связи с событиями во Франции.
– Да, я понимаю, о чем Вы говорите.
– Как Вы знаете, государство наше стало строго относиться к некоторым явлениям в нашем обществе, следовательно, некоторые порядки, как вы заметили, должны быть регламентированы.
– Да, конечно.
– Например, обращение к государю или… или корреспонденция. Корреспонденция из-за рубежа, точнее. Она должна быть перлюстрирована. Я лично не согласен с этими мерами, но таково решение нашего государства.
– Я все это прекрасно понимаю, Ваше Сиятельство. Но при чем здесь я? Мне из-за рубежа никто не пишет.
Она вновь улыбнулась.
– О? – Чернышев задумался, и, почувствовав, что слишком целеустремленно смотрит на Александру, сразу опустил голову, стараясь найти что-нибудь на столе. – Я… ну, да. Да. Дело в том, Александра Алексеевна, что… что меня попросили с Вами поговорить. Вы понимаете, да? Ой, мне так неудобно. Простите меня, ради бога.
– Что случилось, Михаил Афанасьевич? – взволновано поинтересовалась Александра.
Видя, как от волнения поднималась ее грудь под белой льняной блузкой, Чернышев смутился и повернулся к окну.
– У Тайной экспедиции, Александра Алексеевна, есть к Вам пара вопросов, вопросов по поводу одного письма, Вам адресованного. Письма, Вам написанного из-за рубежа.
– Из-за рубежа! Кем?
– Тут ничего страшного нет, просто…
– О чем идет речь, Михаил Афанасьевич? Что это за письмо? Кто его написал?
– Я сам ничего не понимаю. Я не понимаю, почему надо было его перлюстрировать. Ведь письмо написано из Священной Римской империи. Это же Габсбурги, наши союзники.
– Из Священной Римской империи?
Чернышев достал письмо из мундира.
– Более того, из Дукса, в Богемии. Из замка графа Иосифа Карла фон Вальдштейна.
– Кого?
– Вы с ним незнакомы?
– Нет.
– Как? Вы к нему не имеете никакого отношения?
– Нет, Михаил Афанасьевич. Я даже не знаю, кто он такой. Клянусь Вам!
По ее чистым, искренне взволнованным глазам Чернышев понял, что на самом деле она не знает Вальдштейна.
– Граф Вальдштейн – камергер римского императора.
– Что! – Александра приятно удивилась, рукой прикрывая свой разинутый рот.
– Видите, Александра Алексеевна, если бы письмо было написано самим графом Вальдштейном, скорее всего, господа в Экспедиции его бы не открыли. Но у них возникло подозрение, когда они заметили, что ваш адрес, так же как и обратный адрес, написан по-французски. А все французское, как вы знаете, сегодня вызывает подозрение, и не только в России. Почему же не по-немецки, подумали они? Почему граф Вальдштейн, зная, что происходит в Европе, будет писать в Россию по-французски?
Чернышев дал Александре конверт:
de Château du comte Joseph Karl Emmanuel de Waldstein
Dux, Bohême
Saint Empire romain germanique
pour Madam Alexandra Alexeevna Snejinskaya
Institut Smolnyi
Saint-Pétersbourg, Russie
– Да, Вы правы, Михаил Афанасьевич. Все написано по-французски.
– И когда они увидели французский текст, они… ну…
– Да, я понимаю, Михаил Афанасьевич.
Александра достала письмо из конверта.
– Слава богу, письмо не имеет, как мне сказали господа, никакого политического характера, – с облегчением вздохнул Чернышев, изучая обеспокоенные глаза Александры.
Александра бегло пробежала по трем листам.
– Да, странно, тут все по-французски.
Когда она дошла до последних строк и ее глаза остановились на имени отправителя, Чернышев заметил, что она покраснела и задержала дыхание, и веки сначала закрылись, а потом широко открылись.
– Александра Алексеевна, – сказал наконец Чернышев четко, сосредоточено, стараясь не подпадать под влияние бесподобной красоты сидящей напротив женщины, – я не хочу, чтобы Вас больше беспокоили.
– Спасибо, Михаил Афанасьевич.
– Можно тогда я Вам задам один вопрос? Клянусь богом, я не читал это письмо.
Александра улавливала каждое движение его глаз.
– Я слушаю.
– Александра Алексеевна?
– Да?
– Когда Вы в последний раз видели человека, который написал Вам это письмо?
Александра опять взглянула на имя отправителя.
– Давно, Михаил Афанасьевич. Очень давно.
– А подробнее?
– Как минимум пятнадцать лет назад.
– Вы уверены?
– Да, я уверена.
Возникла длинная пауза.
– Спасибо, Александра Алексеевна.
– Если у Вас больше нет вопросов, я…
– Да, да, конечно.
Она встала и направилась к выходу.
– Постойте! Пожалуйста, подождите! Секундочку!
Он вскочил со стула и кинулся за ней, чуть не падая, скользнув по паркету.
– Да, Михаил Афанасьевич?
– Простите меня, Александра! Простите, ради бога! – лицо у Чернышева потемнело от стыда и конфуза. – Я Вас умоляю, простите меня!
Он взял и расцеловал ее руку.
– Что с Вами?
– Простите меня, старого, глупого, ревнивого до мозга костей.
– Михаил Афанасьевич!
– Знайте только одно, Александра Алексеевна, – он выпрямил спину и стал стройно, как сторож. – Знайте, что… что предложение мое остается в силе.
– Миха…
– Знайте, что я буду Вам делать это предложение до бесконечности, если понадобится. До бесконечности! Знайте, что, – глаза его плавали в бездонном отчаянии, – что я служу только Вам, только Вам, что я Ваш вечный… жрец.
Александра улыбнулась беспечно, даже победоносно.
– Я Вам благодарна, Михаил Афанасьевич. Но, как я Вам уже не раз объясняла, я жрица Афины, богини знаний, искусств и мудрости, а не богини Геры.
– Да, конечно, – горько вздохнул Чернышев. – Конечно, Александра Алексеевна.
Он открыл дверь, высунул голову и, убедившись, что их никто не подслушивал, отпустил учительницу.
Вечером у себя в комнате Александра села за туалетный столик и положила конверт возле портретиков своих родителей, между которыми золотился маленький образ. За окном на лужайке темнело, но небосвод оставался серым. Она зажгла свечу, расстегнула блузку и распустила свои длинные светлые волосы. Желтый воск начинал таять и медленно капать на медный шандал. Вытирая с губ помаду, она подвинула свечу поближе к зеркалу. Она хотела осветить не свое лицо, а само зеркало, само стекло – ту аморфную, прозрачную материю, которая, отражая свет, отражает все остальное. Ведь что-то должно впитывать в себя мир, чтобы потом передавать его. И что бы был человек, если бы не зеркало? Один только инстинкт, одни нервы.
Затем она прочла письмо:
«3 июня 1798 г.
Сударыня, позвольте на минуту вновь привлечь Ваше внимание, на этот раз, однако, не разрисовывая узоры желанного будущего, а подводя итоги пройденного пути.
Хвастливый человек – несчастный человек. Тщеславный человек – пустой человек.
Если взглянуть на латинское слово „vanitas“, мы увидим корень „vanus“ – пустота. Если верить латинской поговорке „Vanitas Vanitatum et omnia vanitas“, то получается, что наше существование протекает в полном вакууме, что наше существование само по себе не имеет никакого содержания.
Как бы время, или то, что философы называют лишь продолжительностью, ни терзало и ни издевалось над человеком, у него всегда останется один оплот: его память. В ней он сможет найти приют, в ней он сможет черпать силы, в ней он сможет, хотя бы даже и на иллюзорное мгновение, остановить тот беспрерывный поток бытия, который когда-то, не спрашивая, его захлестнул, и который, также с ним не считаясь, его рано или поздно выплеснет.
За последние десять лет моя память стала моим единственным наперсником. Будучи придворным библиотекарем, я пользуюсь возможностью общаться с памятью тысячи других индивидуумов, многие из которых, заметно, побывали в моем положении. За эти годы, чтобы избежать хандры и эмоционального расстройства, я по рекомендации моего мудрого врача занимаюсь трудом, который нельзя назвать литературой, ибо его цель не состоит в изучении или в выражении жизни. Цель его – просто заполнить мою пустую повседневность, пощекотать себя, поспорить, пофилософствовать с самим собою, а самое главное – убедить себя в своей победе над временем.
Чем я занимаюсь? Я рассказываю самому себе свою жизнь. Кто-то назовет это писанием мемуаров, а кто-то с меньшей высокопарностью – автобиографией.
Философствование, как и богатство, не делает человека счастливее. Зато так же, как и богатство, оно предоставляет человеку возможность отвлечься от своего несчастья. Оно его переселяет в другое пространство: философствуя, человек видит себя с иного ракурса, он себя воображает и изображает таким, каким он хочет, а не таким, каким его вылепила судьба.
Однако так же как и несчастье внедряется только в того, кто раньше был счастливым, так и пустота поедает только того, кто ранее был полон. Следовательно, не все пустота! Что-то где-то есть! Существование наше, значит, на что-то опирается, на какую-то твердь или субстанцию. Ведь согласитесь, мадам, чтобы понять одну крайность, необходимо испытать противоположную.
К сожалению, как все знают, моменты, в которых человек чувствует себя по-настоящему наполненным, мимолетны. Но так и должно быть. Они для того и возникают, чтобы служить антитезисом для общей суеты, таким образом создавая необходимое равновесие для движения и продолжения жизни.
Было, я помню, я прекрасно помню, мгновение, когда и Ваш покорный слуга тоже испытывал полноту бытия. Было это, откровенно говоря, два раза в моей жизни: первый раз – когда я был лих и молод; второй – в немолодом возрасте, когда усталость и равнодушие загнали меня в гнусный, беспросветный тупик, из которого я не знал, как выйти, в котором, я думал, я и закончу свои дни. Но случилось невероятное: ударила молния, мрак осветился, земля пошатнулась, и я освободился. Именно по этой причине второй раз запечатлелся сильнее первого. Боже, как он запечатлелся!
Я помню – я вижу! – серый, мерзлый, мокрый день. Взволнованная бухта переливалась на набережную. Вода стояла по колено. Окостенелые ноги как будто врылись в камень, не могли тронуться с места. Небосвод сужался, темнел. Казалось, лагуна встанет и затопит город. Я смотрел на уплывающее судно, я смотрел на Вас. Я смотрел на Вас, как крылатый лев на колонне Сан-Марко смотрит на восток. Венеция всегда будет смотреть на восток. Там хранится ее Святой Грааль, там когда-нибудь сбудется ее заветная мечта. Ведь Венеция была хозяйкой Константинополя на сто лет раньше, чем она завладела Местре!
Одержимость. Что это? Непрерывность желания? Подчинение воли одного воле другого? Не есть ли это случайное проникновение человека в континуум бытия, в ту единую, бесконечную, умом не досягаемую нить, которая держит и содержит все живое?
Я смотрел на Вас. Галера удалялась – пятнышко на горизонте, пылинка в глазу. Открывалась пропасть.
Расстояние, разлучающее два тела, соразмерно желанию более легкого тела примкнуть к более весомому телу. Сила гравитационного притяжения легкого тела увеличивается, когда оно больше не получает энергию от второго тела. Не получив эту энергию и не видя перед собой весомого тела, к которому стремится, легкое тело рискует стать объектом своего собственного притяжения и в итоге взорваться изнутри.
Я смотрел на Вас. Сзади бесился карнавал. Проплывали призрачные лица. Маска, похоже, и есть настоящий облик человека. Когда он надевает маску и закрывает свое временное лицо, он проецирует свое подлинное лицо на холсте вечности.
Карнавал. Carne-vale. Удаление плоти? Прощание с плотью? Как ни переводи, плоть должна исчезнуть. Остается только дух. Что в общем неплохо. Спасибо, что хотя бы он еще есть. Однако согласитесь, мадам, тяжело расставаться с плотью. Уже тяжело, когда после долгой насыщенной жизни плоть начинает увядать, а когда приходится расставаться с самой плотью, с тем, чем воспринималась земная жизнь, то…
Я смотрю на Вас. Глаза – смеркающаяся лазурь, фигура – песочные часы. Светлая кожа розовеет. Тело теплеет при моем прикосновении. Поры выделяют ароматы жажды и истомы. Шелковые, белокурые волосы облегают упругие молодые холмы. Долина вздымается. Ущелье блестит. Море зовет. Я ныряю, уплываю. Далеко, безвозвратно. Долго длится бурная тишина. Наконец я выхожу на незнакомый берег. Вхожу в новый ослепительный свет. Ищу, терплю, жду. Тут я стою. Тут, мадам, Вы найдете Вашего покорного феникса,
Джакомо Джироламо Казанову».17
Три недели карета мчалась из Петербурга до Праги. Три недели Александра провела в изнуряющей тревоге, спрашивая себя, правильно ли она поступает, навещая Казанову без предварительного уведомления, нужен ли ему этот сюрприз. Три недели – проезжая Псков, Вильну, Варшаву и Бреславль – она представляла, какой у него сейчас будет голос, какие руки, какие глаза, как он на нее будет смотреть, какое будет его первое слово. Ей не верилось, что он ей написал, что наконец, после всех этих лет появился повод встретиться. Сколько она ему хотела рассказать, скольким поделиться! Его письмо в ней что-то перевернуло, разбило ненавистную дамбу, сдерживающую накопленные за все это время впечатления и мысли, которые она никому не рассказывала. Ее сердце билось, изливалось желанием открыть себя этому человеку.
Дороги казались бесконечными. Пролетали озера, равнины, дремлющие леса. Маячили завернутые летней дымкой и раскиданные по волнистым холмам деревушки. Мелькали колокольни, шпили, купола – православные превращались в католические. В гастхофах и отелях она почти не спала, вставала рано. В Варшаве кучер ее заболел – экипаж задержался на два дня. Поляки с ней не разговаривали, прусские пограничники ей подмигивали, а в Праге австрийские офицеры окружили ее столик во время завтрака и не отпускали ее, пока она им не дала слово остановиться в этом же отеле на Малостранской набережной на обратном пути из Дукса.
Начало моросить, как только карета выехала из богемской столицы. Теплая летняя влага лелеяла лицо Александры, пока она с детской восторженностью наблюдала, как черные шпили исчезали далеко позади. «Solitude has its rewards», – она вспомнила эту фразу, услышанную в Петербурге. «Но вдруг эта встреча его расстроит? – подумала она. – Вдруг он испугается, и этот нежданный приезд все только испортит – и настоящее и прошлое?»
К вечеру карета въехала в маленький городок Дукс и остановилась на главной площади, напротив замка Вальдштейна. Дождь уже лил стеной, и метрдотель, увидев промокшую русскую гостью, тотчас попросил приготовить для нее горячую ванну и чай с медом. Согревшись в своем номере, Александра спустилась и поужинала в ресторане. За соседним столиком сидела немолодая пара из Лейпцига.
– Вы, наверно, приехали к жениху? – спросила женщина по-немецки, заметив, что Александра не носила обручального кольца.
– Я приехала навестить друзей, сударыня.
Супруг немки надел очки и, рассмотрев Александру, кивнул одобрительно.
– А мы как раз едем в Прагу на свадьбу внучки.
– Я вас поздравляю.
– Простите, у Вас интересный акцент. Вы не чешка?
– Нет. Я из Санкт-Петербурга.
– Из Санкт-Петербурга! Какой чудесный город!
– Спасибо. Когда вы там были в последний раз?
– Я там никогда не была. Но мне о нем рассказывали.
– Ты не права, дорогая, – в разговор вступил супруг. – У фрау…
– Снежинская.
– У фрау Снежинской нет никакого акцента. У нее чистая немецкая речь.
– Благодарствуйте, сударь.
– Простите, а Ваши друзья живут в Дуксе? – поинтересовалась женщина.
– Да, сударыня.
Немка ожидала более подробного ответа.
– В самом городе?
– Да.
Глаза Александры были непроницаемы.
– Интересно, кто же они?
– Не наше дело, Маргарет, – сказал супруг. – Не надо смущать фрау Снежинскую. Она, наверно, очень утомилась после путешествия.
– Нет, я просто хотела сказать, – давила немка, – может быть, мы их знаем.
– Извините меня, я все-таки пойду в номер. Я сейчас почувствовала, что действительно очень устала.
В номере Александра макнула перо в чернила и по-немецки составила письмо графу Вальдштейну:
«Ваше Сиятельство,
Заранее прошу прощения за это необычное письмо и за еще более необычную просьбу, в нем изложенную.
Месяц назад я получила письмо от Вашего библиотекаря, месье Джакомо Казанова. Оно было для меня очень неожиданным, поскольку мы с месье Казановой не виделись с 1782 года. Сначала я думала ему ответить письменно, но потом решила тоже сделать ему сюрприз, только в живом виде. Я приехала в Дукс из Санкт-Петербурга, надеясь повидаться с моим старинным венецианским другом, представляя, как он сейчас переживает после резких перемен в его стране.
Я Вам буду очень признательна, Ваше Сиятельство, если Вы сможете провести меня к месье Казанове, но так, чтобы раньше времени он об этом не узнал. Я уверена, что он, как никто в мире, оценит мой сюрприз.
Я остановилась в гастхофе напротив Вашего замка и буду ждать с глубоким почтением и благодарностью Вашего любезного ответа.
Ваша покорнейшая слуга, баронесса Александра Алексеевна Снежинская».Утром Александра отдала письмо почтальону и полдня провела за кофейным столиком в вестибюле, делая вид, что читает газету. Моросящий дождь стучал по окну, и проходили минуты, в которых она считала каждую скользящую вниз по стеклу каплю. Когда дождь закончился, она вышла на мокрую площадь и подошла к колонне Святой Троицы в центре площади. На столбе, под статуей, олицетворяющей триипостасность Бога, были вырезаны святые Рох и Себастьян, защитники от чумы. По краям колонны порхали каменные путти.
За колонной стояла желтая, двухэтажная барочная церковь Благовещения. Возле нее – железный забор. За забором – дворик. За двориком – замок графа Вальдштейна. Под пасмурным, грозящим ливнем небом Александра видела в окнах замка горящие свечи, а на крыше – легкий дым, выходящий из длинной каминной трубы. Раздался звон колоколов, черные вороны закружились вокруг куполов, и скоро площадь наполнилась прихожанами, спешащими на мессу.
– Вы не идете? – спросили Александру.
После службы Александра вернулась в гастхоф и поужинала одна, на почтительном расстоянии от других гостей. Затем она поднялась к себе в номер и при свете свечи лежа начала перечитывать роман своего венецианского друга «Дуэль».
На следующий день небо было безоблачным. Было воскресенье, и площадь рано наполнилась народом. Александра долго не вставала с кровати, стараясь наверстать упущенный за последние три недели сон. К полудню, спускаясь по лестнице, она поздоровалась с метрдотелем и спросила, не поступало ли ей какое-нибудь сообщение. Не поступало.
За обедом ей вновь навязалась пара – на этот раз из Вены, путешествующая в Дрезден. Муж с женой пригласили Александру на пикник в недалекий лес. Они рассказали, что в этом лесу во время Тридцатилетней войны великий имперский генералиссимус Альбрехт Венцель фон Вальдштейн, самый прославленный член этого древнего чешского рода и один из самых успешных полководцев в истории Европы, возвращаясь домой после битвы на Белой Горе, в которой католические войска императора одержали важную победу над богемскими протестантами, случайно упал с лошади и чуть не утонул в ручье из-за неумения плавать. Но Александра не поехала с молодыми австрийцами, предпочитая гулять по Дуксу и наблюдать за сменой караула у парадного забора замка.
Вечером она снова поинтересовалась у метрдотеля по поводу сообщений. Сообщений не было. Ночь наступила незаметно, и Александра продолжала читать, углубившись в мысли дуэлиста, почти до зари. Утром, около одиннадцати часов, ее разбудил стук в дверь.
– Фрау Снежинская, Вы спите? – спросил метрдотель. – К Вам пришел герр Волборн, камердинер графа Вальдштейна!
В карете, переезжая площадь, рыжеватый кучерявый в круглых очках камердинер сказал отвлеченно по-французски:
– Вам очень повезло, мадам. Граф завтра уезжает на охоту и будет отсутствовать целый месяц.
Въехав в ворота замка, карета пересекла первый травянистый дворик и остановилась у внутренней ограды, перед вторым мощеным двориком. Герр Волборн подал Александре руку и быстрым шагом сопроводил ее внутрь.
– Граф Вас ждет у себя в кабинете. Прошу.
В вестибюле висели громадные зеркала в позолоченных рамах и хрустальные люстры, некоторые из которых показались Александре муранскими. Поднимаясь по лестнице, она приподняла свое шелестящее темно-синее платье, и герр Волборн вновь поклонился, указывая на анфиладу залов: один был украшен персидскими коврами, восточными вазами и экзотическими драгоценностями; в следующем висели карты всех континентов; за ним – оружейная палата. На улице раздавался приглушенный лай собак. С нижнего этажа поднимался запах жареного фазана.
– Еще один зал, мадам, и мы пришли.
В зале семейных портретов и гербов висел также гобелен, изображающий битву на Белой Горе. Александра приостановилась и попыталась найти среди мужских портретов какое-нибудь сходство, какую-нибудь общесемейную черту, вроде выступающей габсбургской челюсти. Камердинер постучал в дверь кабинета.
– Frau Alexandra Snezhinskaya, mein Graf.
Откланявшись, герр Волборн оставил Александру на пороге и быстро ушел по своим делам.
– Je vous en prie, Madame, entrez[58], – прозвучал из кабинета глубокий баритон.
В кабинете графа книжные полки тянулись до потолка и окна выходили на пруд и сад позади замка. К Александре подошел высокий мужчина в черном бархатном камзоле и звездообразным орденом на груди и поцеловал ей руку.
– Je suis enchantée de faire votre connaissance, Monsieur le Comte Waldstein[59], – сказала Александра.
Граф был осанистым, крепким, нестарым, как Александра ожидала – лишь на пять-шесть лет старше ее, – галантным, очень модным и очень некрасивым. Вместо бакенбард по бокам лица спускались прилизанные пряди каштановых волос с острыми согнутыми кончиками, а верхняя прядь закрывала плоскую лысину. Его тяжелое овальное лицо с горбинкой на носу и слегка искривленным ртом выступало из белого, шелкового шейного платка, но его голубые глаза – потускневшие от беспрерывной неги и беззаботной холостяцкой жизни – смотрели нежно и даже участливо.
Он указал Александре на кожаное кресло и, присаживаясь напротив, сразу определил, что, встреть он эту женщину лет пятнадцать-двадцать назад, когда она была в расцвете своей красоты, он бы непременно застрелился, если бы его чувства остались безответными. Он также почувствовал, что, несмотря на отрешенные глаза, эта женщина при желании была еще способна вдохновить мужчину на многое, хоть на крестовый поход.
– Я снова извиняюсь, Ваше Сиятельство, – Александра не знала, говорить ли по-немецки или по-французски, но все-таки решила по-французски, поскольку сам граф обратился к ней на этом языке, – за этот странный визит.
Она растерянно улыбнулась, надеясь, что граф ее успокоит понимающим взглядом. Но граф на мгновение отвернулся, посмотрел в окно, затем нагнулся к Александре, желая ей что-то сказать, но потом встал и обошел спинку своего кресла.
– Я Вас побеспокоила, граф?
– Нет, мадам.
– Но Вы же понимаете, как важно для меня увидеть месье Казанову. Простите. Я знаю, мне надо было сначала написать ему письмо, но я не сдержалась. Я хотела сделать сюрприз, зная, что ему это будет весьма приятно.
– Это я все прекрасно понимаю, мадам. Я не могу понять, почему…
– Почему что, Ваше Сиятельство?
Граф сморщил лицо.
– Почему…
– Да?
Он вновь сел напротив Александры и взял ее трепещущие руки.
– Почему Вам не сказали?
– Что?
– Что месье Казанова скончался, – граф тяжело вздохнул. – Два месяца назад.
Думая, что Александра сейчас упадет в обморок, граф присел у ее кресла, готовясь ее поймать, если она повалится вперед. Но Александра не пошатнулась. После минуты молчания она достала платок и поднесла его к одному глазу, а затем ко второму.
– Я не знала.
– Мои соболезнования, мадам.
– Он болел?
– Да.
Вдруг она руками закрыла лицо и после глубокого всхлипа тихо заплакала.
– С ним кто-нибудь был в последние дни? – она платком вытирала лицо. – Из родственников, я имею в виду.
– Да, мадам. Приехал муж его племянницы.
– Это хорошо.
– А у Вас общих знакомых нет?
– Может быть, кто-то есть в России. Но они вряд ли бы знали о его смерти. Месье Казанова жил в России в 60-х годах. А мы познакомились в Венеции в 1782 году.
– Да, я знаю, – граф улыбнулся.
– Месье Казанова Вам рассказывал про… про тот период?
Граф встал.
– Можно Вам предложить рюмку бренди, мадам?
– Нет, спасибо, Ваше Сиятельство.
Граф налил одну рюмку и поставил ее на кофейный столик, между креслами.
– Месье Казанова мне часто рассказывал про его счастливую встречу с русской фрейлиной в Венеции.
К лицу Александры вернулась краска.
– Правда?
– Эта встреча для него много значила.
– Я знаю, что… – она поднесла платок к глазам, – то есть я… я ему писала потом.
– Очевидно, его в Венеции уже не было.
– Странно. Он так любил свой город. Почему же он уехал?
– Вы, наверно, знаете, какой у него был темперамент. Дело в том, что он поругался с некоторыми особами и был вынужден покинуть республику, чтобы избежать сурового наказания. Вы представляете, какого.
– А что именно произошло?
– Он оскорбил одного влиятельного господина, Джанкарло Гримани, опубликовав повесть, в которой рассказывается в скрытой, но понятной форме, что отец Джанкарло, Микеле, был на самом деле отцом месье Казановы. А отец Джанкарло был какой-то незначительный человек.
– Ужас!
– Месье Казанова покинул Венецию в 1783 году и больше не возвращался. По этой причине он не получал Ваши письма.
– И месье Гримани ему никогда не простил?
– Месье Казанова однажды ему написал, принося свои самые глубокие и искренние извинения. Но письмо осталось без ответа.
Граф прочистил горло.
– И тогда он переехал к Вам и стал Вашим библиотекарем?
– Не сразу. Сначала он был секретарем венецианского посла в Вене. Мы там и по знакомились.
Александра посмотрела в окно на далекие горы и вздохнула, освобождаясь от накопленного напряжения.
– Я уверена, граф, что ему рядом с Вами было очень интересно.
У графа мелькнула любопытная улыбка.
– Вы думаете?
– А что, нет? Он сам упомянул Вашу замечательную библиотеку. Вы мне кажетесь человеком очень эрудированным, как и он.
– Благодарю, мадам. Я пытался сделать все, чтобы его жизнь в этом замке была нескучной. Но, как Вы знаете, Джакомо Казанова был человек непростой. У нас были хорошие отношения. У него была пенсия – тысяча флоринов в год. Он мог заниматься, чем хотел, встречаться, с кем хотел. У него не было никаких ограничений. Его основная работа заключалась в удовлетворении моих научных и эстетических интересов. Для этого у него было двадцать пять тысяч книг.
– О!
– Но его многое раздражало и даже обижало. Маленькие, незначительные вещи.
– Что именно?
– Например, недоваренные макароны, непонятое мною его выражение на немецком языке, звук охотничьего рога, извозчик, не успевший ему сказать «спасибо», и так далее. Отношения с горожанами и слугами этого замка были неважные. Люди смеялись над его манерами, шутили над его привередливостью, его акцентом. Однажды он страшно поругался с дворецким, дело чуть не дошло до поединка. Месье Казанова был человеком другого поколения, другой культуры, из старого мира.
Граф улыбнулся ностальгически.
– Пожалуй.
– Я помню случай, одно недоразумение, в котором вина действительно была моя. Да-да. Однажды я принимал гостей, и к нам присоединился месье Казанова. Шел живой разговор. У всех было отличное настроение. Играла музыка. Затем, когда все сели за стол ужинать, выяснилось, что мест за главным столом для всех не хватает. Я попросил месье Казанову сесть за отдельный стол с адъютантом одного генерала. Вы бы видели, мадам, как он разозлился потом. Полгода он со мной не разговаривал. Полгода! Он общался только со своими фокстерьерами.
– Ах!
– Чтобы искупить свою вину я представил его императору Иосифу II.
– Какая честь!
– Еще какая! Я помню, они разговаривали на тему покупки дворянских титулов.
– Он хотел…
– Не знаю, не знаю. А после смерти Иосифа мы присутствовали на коронации Леопольда.
– Как я рада за него!
– Он не был одиноким здесь. К нему приезжали друзья из Вены, из Праги, из Дрездена. Приезжали его племянники – дети его брата Джованни, который занимал престижный пост директора Дрезденской художественной академии. К сожалению, с самим братом у месье Казановы испортились отношения.
– А из Венеции? – у Александры засверкали глаза. – Из Венеции к нему приезжали?
– Конечно! Всегда заезжали актеры, музыканты. Однажды даже гостил либреттист Моцарта Лоренцо да Понте. Я его потом встретил в Лондоне. Милейший подлец!
Граф засмеялся, и Александра с ним.
– Как хорошо, Ваше Сиятельство, что он был в постоянном контакте с людьми. Ведь, прочитав его письмо, у меня сложилось впечатление, что он был совсем одиноким в этом замке.
– Одиноким? Джакомо Казанова? Никогда! Я Вас уверяю, он ненавидел одиночество. Именно по этой причине он никогда не стал философом, мне кажется. Чтобы быть философом, надо любить свое одиночество.
– Интересный вывод.
– Из Венеции ему тоже постоянно поступали письма. До последнего дня ему писал его друг Пьетро Дзагури.
– Правда?
– Из Венеции ему первое время писала одна женщина – Франческа. Не помню ее фамилию. Это было когда он только что переехал в Дукс.
Граф проверил реакцию Александры и заметил, как на секунду у нее задрожали ресницы.
– Франческа, граф?
– Вы ее не знали?
– Не помню.
– Я точно не знаю, какое отношение она имела к месье Казанове. Он ее упомянул пару раз, когда мне рассказывал про свои последние годы в Венеции, очень бегло, но не без эмоций. Несомненно, у них была какая-то привязанность, потому что герр Волборн мне сказал, что месье Казанова ей постоянно посылал деньги. А после смерти месье Казановы герр Волборн нашел пачку писем от Франчески в его письменном столе. Тридцать с лишним их было.
– О, – Александра потупила глаза.
– Простите, я не хотел…
– Нет, что вы, граф!
– Вы спросили, и я…
– Да, конечно. Расскажите что-нибудь еще, пожалуйста. Расскажите, чем он еще тут занимался. Ведь, будучи Вашим библиотекарем, он наверно и сам писал. Он же был писателем. Вы знаете, да?
– Я помню, когда он переехал ко мне он работал над трактатом, «Разговор мыслителя с самим собой», который мне показался малооригинальным. Зато, на меня произвело большое впечатление его автобиографическое сочинение «История моего побега из тюрьмы Пьомби». Он очень удачно описывал детали. Он был очень тонким наблюдателем.
– Я согласна. Вы читали его «Дуэль»?
– Конечно! Это тоже сильное произведение. Потом, когда он начал заниматься физикой и математикой, мне кажется, он вышел за пределы своей личности. Все его работы, изучающие куб и шестиугольник, были дилетантскими, если вы позволите мне быть откровенным. А когда он начал опровергать Ньютона – это вообще было смехотворно.
– Ньютона?
– Да. Мне кажется, он просто не любил авторитеты. Он не мог допустить, что кто-нибудь может иметь последнее слово. В любой области.
– Интересно.
– Однажды он поставил одну вялую, занудную трагикомическую пьесу и, когда увидел, что публика зевает, поднял скандал, обвиняя всех в невежестве.
– Ой.
– Но больше всего, я думаю, его занимали мемуары.
– Да, он про них мне писал.
– Он их начал писать лет десять назад, если я не ошибаюсь.
– Вы их читали?
– Наибольшую часть. Но отрывками, главами. Я читал те главы, которые он мне рекомендовал читать. Должен сказать, что он уважал мое мнение и часто делился со мной.
– Значит, в этих мемуарах он описал всю свою жизнь?
Граф наконец понял суть Александры: ее неутолимую жажду познать мир.
– Нет, не всю жизнь. Они прерываются в начале 70-х годов, когда месье Казанова еще не вернулся в Венецию после своего долгого скитания по Европе.
– Только в 70-х?
– Видите ли, в его мемуарах, или в «Истории моей жизни», как он их назвал, есть нечто… ну, нечто странное.
– Что именно, Ваше Сиятельство?
– Я не говорю, что он писал неправду, преувеличивал, или приукрашивал, или вообще выдумывал. Это само собой. Ведь когда человек пишет про себя, бесполезно ожидать от него объективности и в общей характеристике, и в каком-то частном случае. Он себя будет представлять нам таким, каким он хочет.
– Не знаю.
– Нет, я говорю о другом. Я не могу понять одну вещь. Месье Казанова закончил писать мемуары, по-моему, в 93-м году. Было двенадцать-тринадцать томов. Но останавливаются они неожиданно на 73-м или 74-м году. Почему? Почему он не описал хотя бы следующие десять лет? Почему он остановился? Ведь после того как он их закончил, он еще их редактировал несколько лет для принца Шарля-Жозефа де Линья, которому они безумно понравились и который хотел их опубликовать в Дрездене.
– Де Линь? Тот, который…
– Да! Тот, которого император Иосиф послал на переговоры с вашей императрицей Екатериной, тот, который потом с великим Потемкиным брал Очаков!
– И?
– Я не понимаю, почему месье Казанова не описал свою жизнь после 74-го года, включая и проживание в Дуксе? Почему он в предисловии написал: «история моей жизни до 1797 года», а останавливаются они в 74-м? Вы понимаете, о чем я говорю, мадам?
– Вы хотите сказать, что рукопись была готова к печати в 97-м году, но описания его жизни доходят только до 74-го?
– Совершенно верно! Почему он не рассказал, как он вернулся в Венецию, как его встретили, с кем он там общался, чем он там занимался?
– Может быть, он думал, что продолжит мемуары?
– Он их закончил в 93-м и следующие четыре года их редактировал, вместо того чтобы описать свою жизнь после 74-го года. Ведь, если подумать внимательно: за четыре года, с 89-го, когда он начал писать мемуары, до 93-го, он описал первые сорок восемь-сорок девять лет своей жизни. Это говорит о том, что за один год в среднем он мог описать двенадцать лет своей жизни. Значит, в 94-м он мог написать следующие двенадцать, и так далее, и так далее. Но он предпочел остановить мемуары и редактировать их. Почему? Что ему мешало описать те времена? Что он не хотел описывать?
– Но если в предисловии написано «до 1797 года», значит, он был намерен вернуться к мемуарам, может быть, после издания первых томов.
– Может быть. Или он просто не хотел, чтобы читатель что-то знал. Ведь предисловие он мог написать под конец, когда уже понял, что долго не проживет, с целью заставить читателя подумать, что он просто не успел дописать мемуары, как Вы сейчас сказали. А на самом деле он никогда и не намеревался их заканчивать.
– Не знаю. Он Вам рассказывал, чем он занимался в тот период, после возвращения в Венецию?
– Мало. Он говорил, что работал секретарем у брата прокуратора Сан-Марко, что он жил во дворце Пезаро на Большом канале. Затем он работал у самого прокуратора. Я уверен, что в тот период происходило много интересного. Как и во всех периодах его жизни.
– Не знаю, что Вам сказать, Ваше Сиятельство.
– Если это так, тогда его мемуары являются неоткровенным описанием своей жизни. Однако это тоже может быть трюк.
– Не понимаю.
– Не описывая тот, «непонятный», период своей жизни, месье Казанова вызывает еще больше интереса у читателя. Читатель вынужден себя спросить: что же такое происходило в тот период его жизни, что не должно было войти в его мемуары?
Александра улыбнулась, и граф уловил каплю самодовольства в этой улыбке.
– Я бы сама хотела знать.
– А он, простите, не говорил Вам, во время Вашего визита, чем он в то время занимался?
Александра попыталась вспомнить.
– Не очень. Мы… мы мало виделись… то есть мы были в Венеции всего лишь одну неделю.
– Я понимаю, но?
– Но, Ваше Сиятельство?
Александра увидела, что граф на нее смотрит напряжено, нежно, с замершим дыханием.
– Но он же, простите за нескромность, сделал Вам предложение. Он мне сам рассказывал, и не один раз, как он в Вас… влюбился.
– Влюбился?
– Вы сомневались?
– Не знаю. Все было так странно, так неожиданно.
– А что, у любви есть четкая, ясная программа?
– У меня о нем было совсем другое представление.
– Какое?
– Я в нем видела писателя, вольнодумца, путешественника, любителя приключений, бунтаря.
– Бунтаря? Джакомо Казанова – бунтарь? Ха! Более консервативного и старомодного человека я в жизни не видал!
– Может быть. Но супруга в нем я точно не видела. Да и вообще, я не хотела выходить замуж. Понимаете? Я его не узнала, когда он мне сделал предложение. В тот момент он был мне чужим. Я разочаровалась, испугалась.
– А Вы знаете, что после Вашего отъезда у него были неприятности с венецианским государством?
– Неприятности?
– Когда Вы гостили в Венеции, власти попросили его не общаться с графами дю Нор и их свитой. По каким-то дипломатическим причинам, как я понимаю. Но месье Казанова продолжал общаться с Вами, вопреки просьбе его государства.
– Правда?
– А после неожиданного и скоропостижного отъезда русской делегации отношения между Венецией и Россией слегка испортились, и месье Казанову подозревали в политической измене. Он рисковал попасть в тюрьму, делая Вам предложение, мадам Снежинская.
Александра ушла в себя на секунду.
– Это поразительно, Ваше Сиятельство.
– Что?
– Я тогда не представляла, что вокруг нас велись какие-то политические интриги. Но сейчас я прекрасно понимаю, как венецианцы могли обидеться после нашего скоропостижного отъезда. Ведь они так великодушно нас принимали. Я даже помню, как вся площадь Сан-Марко была наполнена недоумевающими лицами, когда мы отчаливали. Как поднималась вода. А потом… да, конечно! Потом наш гофмейстер, граф Салтыков, поговорил с цесаревичем и убедил его, что с венецианцами нельзя ссориться. Да, сейчас я все понимаю!
– Мадам, а можно Вам задать один вопрос? Можно Вас спросить, почему цесаревич внезапно решил покинуть Венецию? Как мне рассказывал месье Казанова, отношения между русской делегацией и венецианцами были очень хорошими; договаривались о каких-то взаимных действиях, проектах; венецианцы ждали от цесаревича какого-то решения. И вдруг, без уведомления, русская делегация покидает город. Почему? Что случилось?
Глаза Александры начали блуждать по кабинету. Ей стало душно. Она посмотрела на окна, но они уже были полностью открыты.
– Вы мне недавно предложили рюмку бренди, граф?
– Конечно.
Граф аккуратно передал ей рюмку, и она сделала маленький глоток, заметив, с какой повышенной любознательностью он ждет ее ответа.
– Я думаю, Ваше Сиятельство, при каждом дворе есть свои правила игры.
– А при петербургском?
– Еще до того как делегация отправилась в Европу, моего отца уволили из Академии наук за то, что он высказался против одного государственного декрета, еще больше ограничивающего свободу крепостных. Ему было запрещено выезжать из нашего поместья.
– О!
– Я уже состояла в фрейлинском штате великой княгини. Многим придворным было весьма странно, что моего отца уволили, потому что он никого не оскорблял, уж не говоря о самой короне. Потом цесаревич мне сказал… наедине… что он вступится за моего отца.
Александра сделала паузу.
– Хм.
– Он был вежлив, решителен. И я…
– Я все понял, мадам.
Однако граф почувствовал, что Александре не было противно вспоминать тот период. Наоборот, разговаривать о нем для нее было облегчением.
– Я была глупая, очень глупая. Цесаревич, конечно, ничего не сделал. Он только обещал и обещал и таким образом держал меня на привязи. У меня еще были какие-то надежды, когда мы уезжали в Европу.
– Как обидно.
Она сделала еще один глоток.
– Его ревность была нечеловеческой. Когда мы вернулись в Петербург, он отстранил меня от своего двора. В качестве метрессы он взял мою подругу, думая, что этим мне отомстит.
– А Ваш отец?
– В конечном итоге ему было позволено передвигаться свободно. Но в академии его место отдали другому. Он продал часть нашего поместья и жил на частные уроки. К тому времени я уже начала преподавать в институте. Замуж я никогда не выходила.
– Как?
– Все претенденты были неинтересные. И как ни парадоксально, при каждом новом предложении я думала о Джакомо.
– Правда? То есть Вы передумали…
– Не знаю. Знаю только одно: время, проведенное с ним тогда в Венеции, было бесподобным, даже несмотря на то что мы виделись каких-то коротких пару дней. Какой смысл тогда мне было выходить замуж? Вы понимаете?
– Вот это да! – граф привстал и налил себе рюмку. – Давайте выпьем, мадам.
– За что?
– Как за что? Вы дописали его мемуары!
– Спасибо. Однако это не совсем так, Ваше Сиятельство. Остается период его жизни, проведенный тут, с Вами.
– А, да, ну я как-нибудь потом… я что-нибудь придумаю.
Они засмеялись.
– Граф, расскажите, пожалуйста, про его последние дни, – спросила она серьезным тоном.
Граф посмотрел в окно.
– Я даже не знаю, с чего начать. Он заболел в начале года. В апреле болезнь усугубилась. Для него и так было морально тяжело переносить события в Венеции, а тут его начала терзать и физическая боль. В апреле он еще спускался, ходил в библиотеку, гулял. Но в мае он слег и уже почти не вставал. В конце мая к нему приехал муж его племянницы Карло Анджолини из Дрездена. Карло его не оставлял. Я тоже его часто навещал. Он рассказывал анекдоты, шутил, старался скрыть свою боль. Врачи уже ничего не могли поделать. Я вызывал священника. Но, вместо того чтобы раскаиваться, месье Казанова с ним обсуждал теологию. «Вы нерелигиозный человек», – сказал священник. «Я ничего против религиозных людей не имею. Многие из них тоже верят в Бога», – ответил венецианец. Священник упорствовал: «Вы отрекаетесь от Сатаны, чтобы прийти к Богу?» Месье Казанова отвернулся и горько вздохнул: «Сейчас не время обзаводиться новыми врагами».
– Правда? Он так сказал?
– Ну, на самом деле это когда-то сказал месье Вольтер. Месье Казанова очень любил цитировать француза. А на следующий день он сам попросил меня вернуть священника, перед которым он извинился и гордо объявил, что умирает настоящим христианином.
– Слава богу.
– А затем, буквально за день до его смерти, я зашел к нему в спальню и вижу: он сидит согбенный за письменным столом, что-то пишет. Целый день он там просидел, как мне потом сказал Карло. Целый день! Откуда взялись эти силы?
Александра задумалась.
– Ваше Сиятельство, а Вы не помните точную дату его смерти?
– Сейчас посмотрим.
Граф вышел из кабинета, колокольчиком вызвал своего камердинера и попросил принести ему регистр смертей.
– Да, да, вот, – граф сел за письменный стол и открыл тяжелую книгу в старом кожаном переплете. – Вот апрель, май, июнь. Да. Вот: Джакомо Казанова – 4 июня. Он скончался у себя в спальне, в кресле. Рядом был Карло. У них были очень теплые отношения. Месье Казанова ему все завещал. Карло мне сразу показался человеком… Мадам! Что с Вами?!
Александра смотрела на него в оцепенении, бледна как простыня. Из ее рук падали листы бумаги.
– Граф, письмо, которое я от него получила, датировано 3 июня…
* * *
Они спустились в сад и пошли по тропинке вдоль пруда, в котором росли кувшинки и плавали белые лебеди. Небо было ясным, и яркое солнце играло на поверхности воды. Вдали, за пределами имения Вальдштейна, за безмолвными полями и лесами, маячили низкие пушистые горы.
Граф привел Александру к небольшой семейной часовне. Позади нее располагался ухоженный погост. Там, в самом заднем ряду, где начиналась густая дубовая роща, он указал на скромную могилу, и Александре, увидевшей вырезанное на каменной плите имя:
IACOB HIERON CHASSANAEUS
VENETUS
уже представлялся иной ландшафт: она видела высокую красно-кирпичную кампанилу с зеленным пирамидальным шпилем, изящные прибрежные фасады из белого истрийского мрамора и бухту – ту тихую мглистую свинцовую бухту…
Примечания
1
Все события и персонажи, описанные в этом романе, являются исторически достоверными, за исключением одного.
(обратно)2
Peota – роскошно разукрашенная венецианская лодка среднего размера с как минимум восемью гребцами, участвовавшая в регатах.
(обратно)3
Меня зовут Франческо Пезаро. Добро пожаловать в Венецию, граф и графиня дю Нор!
(обратно)4
Честь имеем, светлейшие господа!
(обратно)5
А вот и моя свита!
(обратно)6
Кабина гондолы.
(обратно)7
Изумительно!
(обратно)8
Совет государственной безопасности.
(обратно)9
Головной убор дожа, имеющий форму рога.
(обратно)10
Сардины, замаринованные в уксусе и луке.
(обратно)11
Венецианские крабы с длинными ножками.
(обратно)12
Соус из фруктов, маринованных в горчице и сиропе.
(обратно)13
Сказки.
(обратно)14
Табарро – широкий плащ, трикорно – треуголка, ларва – маска с выступающей остроконечной нижней частью, оставляющей рот и подбородок открытыми.
(обратно)15
Общее название костюма, состоящего из трикорно, ларвы и табарро.
(обратно)16
А не поплясать ли нам маленько, дорогая? (нем.).
(обратно)17
Вперед!
(обратно)18
Венеция, я тебя люблю.
(обратно)19
Где ты?
(обратно)20
Спокойно, Джакомо, спокойно.
(обратно)21
Один огонь, и больше ничто.
(обратно)22
Шлюха.
(обратно)23
Моя радость, моя жизнь.
(обратно)24
Обедневший венецианский патриций.
(обратно)25
Главный этаж палаццо.
(обратно)26
Франческо Морозини (1619–1694) возглавлял защиту Кандии на острове Крит во время осады города турецкими войсками (1648–1669). После вынужденной сдачи города он по возвращении в Венецию был обвинен в трусости и измене, но вскоре полностью оправдан и восстановлен во всех своих почетных званиях. В 1688 году был избран дожем.
(обратно)27
Деньги (чисто венецианский термин).
(обратно)28
Я очень рад, мой дорогой.
(обратно)29
Славься, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя.
(обратно)30
Любимый мой. Кто мой сладкий и нежный волчонок?
(обратно)31
Венецианское название базилики Санти-Джованни э Паоло.
(обратно)32
Закуски.
(обратно)33
Стакан вина.
(обратно)34
Арпеджо – способ исполнения аккордов, при котором звуки следуют один за другим.
(обратно)35
Ниша.
(обратно)36
Не гони, дорогой, не гони.
(обратно)37
Боже мой! Два цехина! Это же благословение! Возвращайтесь скорей! Буду ждать здесь! Не тронусь с места!
(обратно)38
Какой ужас!
(обратно)39
Я не понимаю!
(обратно)40
Боже мой!
(обратно)41
Что это такое?
(обратно)42
Это дьявол.
(обратно)43
Негодяи!
(обратно)44
Дорогая.
(обратно)45
Полицейский.
(обратно)46
Давай, бык!
(обратно)47
Давай, собака!
(обратно)48
– О, Боже! Посмотри на этого человека, Эдуард!
– Должно быть, он забыл ключи. Идем, Бэтти. Хватит смотреть. Это невежливо. (англ.).
(обратно)49
Тюремные камеры в подвале Дворца дожей, постоянно заливаемые водой.
(обратно)50
Рад с Вами познакомиться (итал.)
(обратно)51
Дорогой, светлейший друг!
(обратно)52
Мир тебе, святой Марк, евангелист.
(обратно)53
О, да, это очень интересно.
(обратно)54
Главный этаж.
(обратно)55
Нет! Главный этаж. Дом! Дом! Это находится в доме!
(обратно)56
Это горизонтальная поверхность в доме!
(обратно)57
Бар.
(обратно)58
Входите, пожалуйста, мадам.
(обратно)59
Очень приятно с Вами познакомиться.
(обратно)
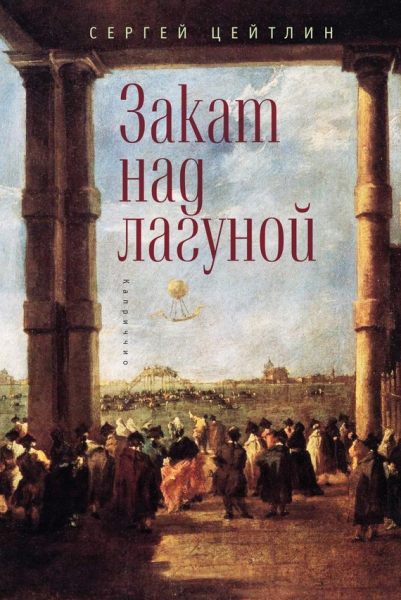
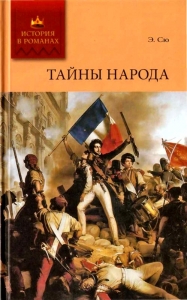


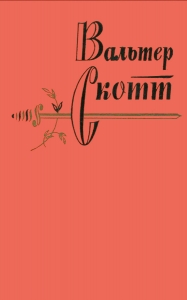


Комментарии к книге «Закат над лагуной. Встречи великого князя Павла Петровича Романова с венецианским авантюристом Джакомо Казановой. Каприччио», Сергей Цейтлин
Всего 0 комментариев