Рой Якобсен «Стужа»
Часть первая
Случившееся дважды
— Кто ты? — вскричал отец, глядя на новорожденного сына, с припухшего личика которого еще и кровь стереть не успели. Вскричал он так не потому, что перед ним явилось чудище, и не потому, что привык встречать таким возгласом рождение своих детей; не было в его возгласе и предощущения, что этого сына его будут помнить еще и через тысячу лет, а может статься, вообще так долго, пока живы на свете люди, сведущие в грамоте; слова эти сорвались у него с языка просто по нечаянности, но их запомнят и, пока мальчуган подрастает, будут повторять как побасенку или предзнаменование, коли тут вообще возможно отличить одно от другого.
— Кто ты?
Торгест Торхалласон родился в усадьбе Йорва, на западном берегу реки Хитарау, там, где долина распахивается навстречу сверкающим песчаным равнинам, которые в ясный день медленно, но верно увлекают взгляд в море, навевая нестерпимую тоску, — родился в тот год, что по нашему летосчислению должно называть 993-м от Рождества Христова, либо годом раньше или позже; отцом его был Торхалли, задавший упомянутый примечательный вопрос, а матерью — Тордис; этим свободным, хоть и не особенно зажиточным бондам[1] удалось вырастить лишь двоих детей из семерых — кроме Торгеста, дочь по имени Аслауг, двумя годами старше его.
Однако подрастал сын невообразимо мешкотно, казалось, не имел он в жизни иных намерений, кроме как лежать себе лежнем. А коли надумывал встать, опять же ни играми, ни ученьем не интересовался, говорить начал поздно и в восемь лет выглядел как слабогрудый пятилеток; был он так мал, что ему и имя вполовину укоротили, с тех пор и стали звать просто Гест, Чужак, только вот уступчивости да общительности в мальчонке от этого не прибавилось.
Но все же в маленьком теле Геста кое-что происходило. За одно лето он превзошел сверстников гибкостью и проворством, ловко уворачивался от большинства тумаков и пинков, что сыпались на него, начал отпускать ехидные замечания, почем зря строил рожи и нисколько не заботился о том, нравится окружающим или нет, исключение составляли родители, которых он впоследствии, имея в запасе уже не только односложные слова и избитые выражения, будет проникновенно изображать как людей безыскусных, надежных и богобоязненных, хотя они толком не слыхали о том Боге, коего он призовет в свидетели.
Смекалки Гесту опять-таки было не занимать, он мигом учился всему, просто подражая другим, в особенности отцу, за которым ходил как на привязи; наловчился чинить сбрую, ремонтировать дома, загоны для скота и лодки, ведь Торхалли — кузнец и мастер на все руки — трудился по всей округе. И скоро Торхалли по достоинству оценил своего странного сына, которому мог сказать, что надобно сделать то-то и то-то, и он неукоснительно исполнял порученное. Нежданно-негаданно Гест снискал славу настоящего волшебника, во всяком случае, по части ножа да топора, тогда как речи его и повадки по-прежнему во многом вызывали неодобрение.
Когда Гесту сравнялось семь лет, отец подарил ему нож в искусных кожаных ножнах, прошитых серебряными нитями; Торхалли сам украсил ножны незатейливым лиственным узором и нарек нож Одиновым, потому что, как он уверял, именно этим ножом одноглазый бог прорезал на поверхности земли долину Хитадаль, чтобы побежала по ней река и сделала ее плодородной для людей и животных. И Гест начал резать из дерева маленькие фигурки — птичьи и звериные головы, а не то и узоры, рождавшиеся у него в голове, растительные плетенки, каковые отец называл змеиными гнездами, правда, с оттенком похвалы, ведь он все больше и больше проникался уважением к сыну, который, оказывается, владеет умениями, каким он, отец, не мог его обучить. Откуда же это берется? — спрашивал себя Торхалли, и звучал сей вопрос как отголосок восклицания, слетевшего у него с губ в час рождения мальчика.
Но в одном у отца с сыном не было согласия, а именно в отношении к старым богам: Торхалли любил потолковать о них, тогда как Гест — не в пример своей сестре Аслауг — интереса к ним не выказывал, исключение составлял только Бальдр, бог, который мухи не обижал и все же по недоразумению был убит родным братом, а интересовался Гест Бальдром потому, что до своей трагической смерти тот успел обзавестись сыном, по имени Форсети, и к Форсети могли приходить все, кому не удавалось мирно жить на свете, ибо Форсети был богом счастья, мира и cсправедливости.
Пока отец рассказывал, Гест не переставал гримасничать и, раскрыв рот, бессмысленно ухмылялся, даже когда речь пошла о том, что все сущее — и живое и мертвое — оплакивало смерть Бальдра, и Торхалли осведомился, понятно ли сыну, о чем он говорит.
— Да-да, понятно, — отвечал Гест, продолжая ухмыляться, и Торхалли спросил, помнит ли он, как называлась ладья Бальдра.
— «Хрингхорни», — сказал Гест. — На ней Бальдру предстояло отправиться в Хель, но была она до того тяжелая, что никто не мог столкнуть ее на воду, пришлось богам звать на помощь великаншу Хюрроккин, которая явилась верхом на волке, а поводьями ей служили змеи…
— Неужто ты запоминаешь все, что слышишь?
Похоже, что так, — все имена, все рассказы, причем даже те, что ему не нравились. Гест настолько хорошо все помнил, что начал иной раз поправлять отца.
— Ты у нас не чета другим детям, говорил Торхалли. Только вот почему ты вечно ухмыляешься?
На это Гест ответить не мог.
Говорил он по-прежнему мало, да и улыбался, собственно, лишь замыслив поднять кого-нибудь на смех, большей частью он целыми днями пропадал на пажитях, пас овец, уходил подальше от работников и от сестры Аслауг, которые были не прочь помыкать им как рабом-трэлем, сидел себе на травке, вырезая какую-нибудь вещицу, и нет-нет надолго устремлял взгляд в сиянье света над бескрайними равнинами и морем, что лет этак сто назад привело сюда из норвежского Наумадаля его прадеда, со всеми чадами и домочадцами и со всем скарбом, и, наверно, точно так же может и увести прочь отсюда.
Но об этом Гест не думал, его мысли шли другими путями. Аккурат повыше Йорвы в реку Хитарау впадал ручеек, безымянный, просто Ручей, как все его называли; Ручей змеился по зеленой луговине, петлей обвивая две серповидные горушки, которые создавали средь здешнего открытого пространства затишное местечко, где обитатели усадьбы обыкновенно отдыхали от неугомонного проносного ветра, а детвора играла, как летом, так и зимой, потому что благодаря горушкам снег тут не залеживался.
В свое время Торхалли сколотил вместе четыре дощечки, насадил их на круглую спицу и установил в Ручье — соорудил водяное колесо, которое, бывало, унимало Гестовы слезы, когда мальчонка попадал вроде как в безвыходное положение; он любил эту безделку, мог подолгу смотреть на нее, преисполняясь покоя, изнемогая душой и телом.
Однажды теплым летним вечером они с отцом сидели у Ручья, и Торхалли, по своему обыкновению, посетовал, что водяное колесо ни к чему полезному не приспособишь, а Гест, по своему обыкновению, попросил отца рассказать какую-нибудь историю — про то, как родичи приплыли сюда из Норвегии, или про события в округе, или про другие места в Исландии. Однако ж Торхалли поднялся на ноги и ответил, что рассказать ему больше нечего. Да-да, так и заявил:
— Нет у меня больше никаких историй.
Гест недоуменно воззрился на него.
— Я уже рассказал тебе все, что знаю, больше рассказывать нечего, — добавил отец.
Гест с удивлением воскликнул, что не может в это поверить. Отец повторил, что рассказывать больше нечего и дело с концом. Тут Гест вскочил, выдернул из Ручья водяное колесо и, не глядя, зашвырнул на горушку.
— Теперь от него вовсе никакого проку не будет, — коротко бросил Торхалли и зашагал вниз, к усадьбе.
Гест, однако, остался у Ручья, посидел, подумал, потом встал и начал искать колесо, но без толку, не нашел. Тою же ночью он разбудил свою сестру Аслауг, которую считал большой и храброй, и, заливаясь слезами, сказал ей, что потерял Одинов нож и она должна помочь ему в поисках.
Аслауг нехотя поднялась, но, когда они топтались в росистой траве подле Ручья и горушек, вдруг заметила, что нож-то — вон он, висит-покачивается на кожаном ремне у Геста под курткой.
— Та-ак, и что же мы, собственно, ищем? — строго спросила она.
— Водяное колесо, — ответил Гест, прикрывая руками голову, потому что ждал затрещины. И напрасно, Аслауг только рассмеялась, назвала его глупышом и добавила:
— Как можно что-то найти, если не знаешь, что ищешь?
Хорошо сказано, подумал Гест и решил, что врать надобно похитрее. На сей раз он выложил правду: мол, колесо он зашвырнул куда-то со злости, когда отец объявил, что рассказать ему больше нечего, Гест, мол, уже слышал все его истории. Тут Аслауг опять рассмеялась и сказала, что историй на свете столько же, сколько людей, хотя Торхалли, понятно, всех знать не может.
— А сколько на свете людей? — спросил Гест. Аслауг в свой черед спросила, умеет ли он считать.
— Немного умею, — ответил Гест и начал считать вслух.
— Нет-нет, не надо, — остановила его Аслауг, присела на корточки, окунула руку в ручей, зачерпнула горсть мелкого белого песка и пальцем отгребла в сторону несколько песчинок. — Видишь?
— Вижу.
— На свете столько же людей, сколько песчинок на берегах Лангафьорда.
Гест долго смотрел на песчинки, потом спросил:
— Почем ты знаешь?
— Ну, это всем известно, — ответила Аслауг.
Гест еще посидел-подумал, ему и в это не верилось, но мысль была любопытная, и перечить он не стал.
В конце концов они продолжили поиски, и Аслауг нашла водяное колесо. Правда, оно дало трещину, но Гест вырезал парочку деревянных гвоздей и все поправил. Потом они установили колесо на место, между четырех гладко обкатанных камней, и посидели на берегу, глядя на его однообразное круженье, пока у Геста, размышлявшего о песчинках, о людях и историях, голова не пошла кругом и он не начал клевать носом.
Тогда Аслауг сказала, что надо вернуться домой и лечь, пока другие не проснулись, а отцу не говорить ни слова.
— С какой стати не говорить-то? — спросил Гест. Аслауг закатила глаза:
— А чтоб посмотреть, умеешь ли ты хранить секрет.
Три дня спустя Торхалли зашел к Гесту в ягнячий загон.
— Водяное-то колесо опять на месте, — сказал он. — Не ты ли его отыскал?
— Нет, — отвечал Гест, продолжая плести из прутьев перегородку.
Отец не уходил, смотрел на него.
— Кто же его нашел?
— Не знаю, — сказал Гест. Три долгих дня миновало, и наконец-то его старания были вознаграждены.
— Может, Аслауг? — спросил отец.
— Не знаю, — повторил Гест. — Но не я, меня это колесо не интересует, проку от него никакого.
И Торхалли, по обыкновению, сказал:
— Н-да, ты у нас не чета другим детям.
Гесту очень хотелось ответить, что Аслауг тоже им не чета, ведь все это из-за нее и из-за тебя, потому как не знаешь ты, что историй на свете столько же, сколько людей и песчинок. Но вслух он не вымолвил ни слова. Стоял спиной к отцу, заплетал перегородку. Славно поработал, перегородка вышла на диво. Было ему тогда восемь лет.
Изо дня в день все семейство тяжко трудилось, иной раз и голод терпело и прочие бедствия, когда, к примеру, по весне начинался падеж скота, но вдобавок здешнюю округу омрачала еще одна тень — могущественный хёвдинг,[2] что жительствовал в Бьярнархавне, на северном берегу полуострова Снефелльснес, на полночь от Йорвы, в дневном конном переходе оттуда. Имя хёвдинга было Арнгрим сын Торгрима, в народе же его прозвали иначе, потому что видели от него одни только лихие напасти: Вига-Стюр, «vig» значит «битва» и «убийство», a «styr» — «война, распря», ведь посеянные им кровавые раздоры охватили половину Исландии. Стюр грабил и убивал где вздумается, да еще и хвастал, что никогда не платит виру[3] он принадлежал к знатному роду и имел множество друзей, а таким людям все бесчинства с рук сходят. Вдобавок и денег, и скота, и земли у него было немерено-несчитано.
Однажды вечером, когда Гест, насквозь промокший от дождя, который поливал с раннего утра, возвращался с горного пастбища, он заметил между сараем и большим домом чужую лошадь: сгорбленная кляча, вся в мыле, точно в мокром железном панцире, закрыв глаза, что-то жевала. Надо бы в конюшню ее поставить, подумал он и взялся за уздечку, но лошадь яростно забила копытами и злобно уставилась на него совершенно человеческим взглядом.
Гест не двигался, пока лошадь не закрыла глаза, потом вошел в большой дом и в отблесках очага увидел, что отец тихонько беседует с каким-то незнакомцем. Никого из домашних в помещении не было, даже Аслауг и Тордис не видать, а это означало, что Торхалли — или гость — хотел, чтоб никто им не мешал, но Гест невозмутимо скинул мокрую одежду и забросил сушиться на жерди, подвешенные вокруг очага, а заодно прислушивался к негромкому разговору. И мало-помалу ему стало ясно, что с появлением этого незнакомца жизнь в усадьбе полностью изменится, и его собственная, и всех остальных; было ему тогда девять лет.
Звали пришельца Эйнар, а в Йорве он оказался оттого, что искал прибежища на зиму и помощи, чтобы покинуть Исландию, когда корабли снова выйдут в море. Торхалли, однако, несколько раз выслушал его историю и тогда только скрепя сердце согласился предоставить ему приют и помощь, да и то лишь при условии, что он заручится поддержкой соседей с другого берега реки, ведь содействием одного-единственного мелкого бонда Эйнару никак не обойтись, скрывался-то он от Вига-Стюра, который прибрал к рукам все его достояние, — не желал быть рабом на своей же земле.
Эйнар заночевал в Йорве, а наутро вброд переправился через реку в Ярнгердарстадир, где опять-таки сумел договориться с хозяевами, и с той поры жил поочередно то в одной усадьбе, то в другой.
Когда бывал в Йорве, он большей частью сидел в узкой каморке меж обложенной торфом наружной стеной большого дома и внутренней дощатой перегородкой, там Тордис устроила ему постель из шкур и сермяжных одеял. Входил он в дом и выходил через дверь в щипцовой стене, как правило, в потемках, и о своих приходах-уходах никого не предупреждал. Тордис ни с ним самим, ни о нем разговоров не вела, не нравился ей этот гость. Торхалли тоже ему не благоволил, хотя и решил стать на его защиту, чем немало удивил Геста, ведь Эйнар в родстве с ними не состоял, даже среди дальних знакомых не числился.
Зимой Торхалли несколько раз ездил на юг, к боргарфьярдарским родичам, старался выхлопотать Эйнару место на торговом судне, которое ожидается летом и может забрать его в Норвегию. Помог Торхалли переправить в Йорву и кое-что из Эйнарова имущества. А пока отец был в отлучке, Гест и Аслауг иной раз заходили к беглецу, сидели с ним в его каморке.
На первых порах он говорил мало, крупный, задумчиво-печальный мужчина, по годам ровесник Торхалли, только лысый и безбородый, худой и подавленный. Однако ж мало-помалу начал рассказывать о своих странствиях — в Норвегию, в Англию, в Ирландию… да так, что дети прямо воочию видели перед собою чужедальние земли. Эйнар рассказывал о Йорсалаланде,[4] где распяли на кресте Белого Христа. Вдобавок он знал много стихов Эгиля сына Скаллагрима и Гисли сына Сура, великих исландских скальдов, а также был сведущ в законах, и у Геста забрезжила догадка, что по этим-то причинам отец и позволил ему остаться в Йорве; Эйнар хорошо владел красноречием, и там, где недоставало родственных уз, на помощь приходила способность убеждать, а не то и волшебные его рассказы.
Эйнар был христианином, и однажды вечером, наблюдая, как Гест вырезает какую-то вещицу, он сказал, что Одиновым этот нож называть нельзя, Один ножа не имел, да и мир — горы, море, долина Хитадаль — создан не им; начало всему положил своею властью небесный отец Белого Христа и Владыка рода человеческого. Голос Эйнара тихонько угас в набожной улыбке, которая напоминала зарю прелестного вешнего дня.
В ответ Гест пробурчал что-то невразумительное, а вот Аслауг, сидевшая поблизости, резко бросила, что Эйнар сказал свое последнее слово.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Эйнар.
— А то, что мы больше не желаем тебя слушать, не затем нам уши даны.
Гест удивленно посмотрел на нее, отметив про себя, с какой легкостью едва возникший рассказ может опять исчезнуть, кануть в небытие по чужой воле, многозначительно кивнул в знак согласия и пересел поближе к сестре.
А Эйнар вдруг вспылил и в сердцах выкрикнул, что, живя в этакой глухомани, они вообще ни о чем понятия не имеют. Но Аслауг даже бровью не повела, оттого и Гест остался невозмутим, только диву давался, что Эйнар почему-то всегда выглядит скорее удрученным, нежели преисполненным веры, и что эта суровая печаль тяжким бременем лежит и на нем самом, и на его речах, каковы бы оные ни были. И решил до поры до времени держаться от него подальше.
В горах Гест нашел орла с поврежденным крылом и камнем прикончил птицу. Потом срубил карликовую березку и принялся вырезать из комля орлиную голову. Но когда, воротившись домой, показал свою поделку, Аслауг только руками всплеснула и не поверила, что работа его, а мать закрыла лицо руками и смотреть не пожелала, сказала, что она, мол, как живая, и с перепугу убежала прочь.
Эйнар же расхвалил орлиную голову, ужасно обрадовался, когда Гест бросил ее ему, и поспешно спрятал в котомку, которую вечно таскал с собой, а потом сказал, что у Геста особый талант и ему стоит поблагодарить за это Господа. Гест спросил, как это понимать, но Эйнар не ответил, зато предложил рассказать про Вига-Стюра, про хёвдинга, от которого он прячется, мол, пришло время побольше узнать об окружающем мире, о том, какой он огромный.
У Стюра был брат по имени Вермунд, который одно время состоял в дружине норвежского ярла[5] Хакона. Когда пришла ему пора возвращаться в Исландию, ярл решил наградить его, и Вермунд попросил себе двух берсерков[6] из дружины, жестоких буянов, у которых на совести не счесть сколько убийств да иных злодеяний, а Вермунд, по сварливости натуры, успел нажить среди соседей в Исландии немало врагов. Но ярл сказал «нет», полагая, что Вермунду с ними не совладать. Тем не менее Вермунд стоял на своем и в конце концов получил, что хотел. Когда добрались до Исландии, стало ясно, что работать берсерки не желают, оба только ели-пили ровно великаны-йотуны да забавлялись, докучая обитателям усадьбы. В довершение всего один проходу не давал младшей Вермундовой дочери. Делать нечего, Вермунд позвал к себе брата, Вига-Стюра, осыпал его подарками и похвалами и посулил преподнести на прощание еще более богатый дар, имея в виду двух норвежских берсерков.
Однако Стюр разгадал его намерение и сказал в ответ, что этакому дару поистине нет цены и в отплату он может только оставить его Вермунду.
Вермунд сознался, что думал провести брата, и Стюр все же согласился забрать берсерков с собой. Но и в Бьярнархавне дело пошло прежним манером: берсерки знай себе пьянствовали, дрались да приставали к девушкам. Стюр, впрочем, смотрел на все это с непоколебимым спокойствием, дожидаясь, когда любовный недуг окончательно одолеет берсерков, и тогда предложил одному из них в жены свою дочь, взамен же они должны были расчистить дорогу через лавовое поле, отделяющее усадьбу от окружающего мира.
Берсерки трудились день и ночь, а когда закончили работу, Стюр распорядился приготовить им купанье, в бане, которая топилась снаружи. Едва они вошли в баню, как дверь за ними заперли, и Стюровы челядинцы принялись напропалую нагонять жар и через отверстие в крыше ведрами лить внутрь кипяток. Берсерки сумели разнести боковую стену, но из бани выбрался только один, которого Стюр немедля зарубил топором; второй помер от жара. После обоих похоронили в расщелине на лавовом поле, насыпали сверху курган и принесли в жертву скот, чтобы не бродили они призраками. Всего Вига-Стюр убил в ту пору больше тридцати человек и виру ни разу не заплатил.
Мало-помалу Гест начал понимать, с каким противником схватился Эйнар, а значит, и его отец тоже. Напугали его, однако, не три десятка убийств, а ответ, который Стюр дал брату, когда тот попытался хитростью сплавить ему берсерков: «Этакому дару поистине нет цены, и в отплату я могу только оставить его тебе».
Эйнар взглянул на него, видимо интересуясь произведенным впечатлением, и спросил, снились ли ему когда-нибудь страшные сны.
— Нет, — соврал Гест.
— Тогда тебе не понять, что такое страх, — хмуро сказал Эйнар и перевел взгляд на Аслауг, которая все это время молчала и как бы не слушала.
— Почему ты пришел сюда? — спокойно спросила она. — Ведь найдется сколько угодно других мест, где ты мог бы схорониться, а?
И вновь красноречие изменило Эйнару, он лишь пробормотал, что-де так уж получилось, дорога сама привела его сюда, бегство привело, и Гест вновь с удивлением подумал, что, видать, есть на свете страх, который, точно отрава, способен сделать человека живым мертвецом, живым привидением.
Неделю-другую Гест опять сторонился Эйнара, его смущала слабость этого человека, а вдобавок преследовало смутное ощущение, будто Эйнар читает его мысли и видит, что он чувствует, еще прежде, чем он сам успевает разобраться, мало того, переиначивает все это своим собачьим взглядом, прилипшим к Йорве, ровно тюленья кровь к старой деревяшке. За последний месяц Гест говорил с ним один-единственный раз, когда они ненароком столкнулись на холме у реки. Было раннее весеннее утро, река только-только вскрылась, и Эйнар с ходу, без предисловий, спросил, помнит ли Гест стихи, которым он его учил, или уже позабыл.
— Помню, а как же, — ответил Гест и пошел было дальше.
Эйнар, однако, остановил его и попросил прочесть хоть один. Гест просьбу исполнил, Эйнар задумчиво кивнул и зашагал вверх по холму, к усадьбе. Потом оглянулся и повторил, что у Геста особый талант, дарованный не кем иным, как Господом Богом.
Но и теперь Гест не усматривал в этих словах похвалы. Уже несколько ночей они с сестрой не спали, слушая клики лебедей, что вороча́лись из-за окоема, из дальних краев, так бывало каждую весну — возвращался свет, и вместе с ним прилетали лебеди; на сей раз дети еще сказали друг другу, что скоро и Эйнар, и все его грозные тени исчезнут из Йорвы. И в самом деле, через несколько дней в усадьбу прискакал гонец с вестью, что корабль, который заберет Эйнара в Норвегию, стоит в виду Рауданеса.
Проснулся Гест от шума, оделся, выбежал во двор, увидел, что Эйнар выводит из конюшни свою лошадь, и услышал, как отец предлагает одолжить ему одну из их лошадей, под поклажу. Эйнар сперва отказывался, но в итоге дал себя уговорить. И снова Геста встревожила эта его манера отвечать сразу и «да» и «нет», будто оба эти слова совершенно равнозначны. Потом Торхалли сказал, что даст Эйнару в сопровождение двух своих людей, и Эйнар опять надолго задумался, а в конце концов пробормотал, что не знает, добрый это знак или дурной. Тут он заметил Геста, улыбнулся и попросил мальчика подойти.
— Хочу отблагодарить тебя за орлиную голову, — торжественно произнес он, — и за то, что зимой ты ухаживал за моей лошадью, хоть и побаивался ее. Никогда у меня не было такой умной лошади, но в Норвегию я ее забрать не могу, поэтому люди твоего отца приведут ее к тебе, тем более что ты давно уже перестал ее бояться.
Он поблагодарил всех по очереди, в том числе и Тордис, которая стояла скрестив руки на груди и даже не особенно старалась скрыть свое облегчение. Напоследок Эйнар еще раз подмигнул Гесту, украдкой скользнул взглядом по Аслауг, и маленькая процессия двинулась в путь, на полудень по равнине, к единственному броду, преодолимому в эту пору года.
Поднявшись на холм, Гест провожал всадников взглядом, пока они не исчезли, как письмена на песке. Он приметил и облегчение матери, и непроницаемую мину отца и понимал, что у обоих были на то свои причины, и отцовские, пожалуй, значили больше.
Весь день Гест, как обычно, провел с новорожденными ягнятами. Последние несколько недель округа тонула в тумане, поливали дожди, но теперь вдруг прояснилось, вечер полнился светом, небо чистое, словно вода, и, спускаясь к усадьбе, он углядел вдали, на лавовом поле, какое-то движение, не иначе как отцовы работники возвращались — двое всадников во весь опор скакали к переправе.
Гест остановился, глядя, как они перебрались через бурлящий мутный поток, отец вышел из-за ограды пастбища, зашагал им навстречу, они что-то ему сообщили, причем оба явно нервничали. Торхалли, однако, держался спокойно, будто заранее приготовился услышать дурную весть.
Дома Гест узнал, что Вига-Стюр со своим отрядом караулил их в засаде у Вальсхамара. Эйнар первым заметил опасность и велел работникам возвращаться в Йорву — если кому суждено быть здесь убиту, то ему, а не им. Да и отряд у Стюра большой, не одолеть им его.
Работникам эти речи не понравились, ведь они обещали Торхалли защищать Эйнара. Но все ж таки оба отъехали в сторону и издалека видели, как Стюр зарубил Эйнара и тотчас похоронил.
И снова Геста поразило спокойствие отца, который только головой кивал, слушая работников, вместо того чтоб намять им бока за позорную трусость. Позднее в тот вечер он напрямик спросил у отца, в чем тут дело, а Торхалли повел его к реке, в белом сумраке они уселись на берегу, стали смотреть на ледоход, и отец спокойно объяснил, что работники медлили оставить Эйнара не потому, что обещали защищать его, а потому, что заподозрили, будто отсылает он их в надежде, что Стюр погонится за ними.
Гест долго молчал.
В конце концов, он покачал головой и пробормотал, что не понимает, к чему клонит отец. Торхалли с кривой усмешкой обронил, что в свое время он все поймет и согласится с таким ответом, ведь работник — он один, сам по себе, и добавил:
— А мы — семья.
Гест опять ничего не понял. Но предположил, что все это некоторым образом связано с усадьбой Йорва, с неимущими ее обитателями и Стюровой властью над ними. А еще подумал, что вместе в Эйнаром исчезнут все его стихи и рассказы, коли никто не сохранит их в памяти, и сказал себе, что постарается крепко их запомнить.
Без малого неделю спустя им довелось впервые увидеть страшного хёвдинга. Гест, сидя на солнышке меж большим домом и хлевом, играл с котенком, когда во дворе вдруг объявился Вига-Стюр, во главе многочисленного конного отряда. За ревом речного потока никто не слышал, как они заехали в самое сердце усадьбы.
Ростом Стюр оказался меньше, чем представлялось Гесту по рассказам, и много старше, да и одет отнюдь не роскошно, не в пример иным из спутников его, облаченным в яркие рубахи и грозные шлемы, с золоченым оружием. Но взгляд у него был глубокий, спокойный, словно черная болотная вода, а зычный голос перекрыл шум реки, когда он привстал в стременах и велел всем — свободным и подневольным — выйти из домов.
Все столпились во дворе, точно стадо в кольце безмолвных всадников; Стюр пристально посмотрел на Торхалли, затем, словно пробуя на вкус его имя, буркнул: «Бонд Торхалли сын Грима из Йорвы», — попросил его выйти вперед и без долгих церемоний потребовал пеню за то, что он всю зиму прятал здесь Эйнара.
Торхалли молчал. Гест заметил, что глаз он не опустил.
Стюр спешился, приказал двум своим людям привести Олава из Ярнгердарстадира, сам же тем часом принялся молча расхаживать по двору, иной раз, поворачиваясь спиной к йорвовским обитателям, словно мысли его были заняты совсем другим, а происходящее здесь лишь частица намного большего.
Стюровы люди приволокли Олава и его сыновей, которых тотчас обступили кольцом пешие и конные воины. Гест, сидя в траве, навострил уши. В конце концов Стюр приказал Олаву уплатить пеню, иначе, мол, не сносить ему головы, а Торхалли, коего считал главарем, обязал оказывать ему, Стюру, гостеприимство всякий раз, как случится ему заехать в эти края — по пути ли на альтинг,[7] или с альтинга, или по другому какому делу, зимой ли, летом ли. Когда бы он со своими людьми ни явился в Йорву, должно накормить их и обогреть, как положено, и коням сена задать, добавил Стюр, будто знал, что аккурат травы-то здесь и недостает.
Торхалли по-прежнему не говорил ни слова, однако жестом показал, что все понял и согласен на такие условия.
— Для меня не имеет значения, — сухо бросил Стюр, — соглашаешься ли ты по принуждению или по доброй воле, я знаю, ты человек чести, и оттого твердо надеюсь, что ты сдержишь слово.
Когда отряд ускакал прочь, Гест услыхал, как мать напустилась на отца. И с тех пор упорно твердила, что надобно убираться отсюда, лучше всего на юг, в Боргарфьярдар, где у нее родня и можно жить в безопасности. Но Гест видел, что отцу — как ни старался он это скрыть — не по душе ни уговор с Вига-Стюром, ни планы Тордис насчет переезда.
Однажды теплым вечером в начале лета они сидели на огороже пастбища, слушали тишину, как вдруг Торхалли положил руку сыну на плечо и спросил, не видал ли он в отряде Стюра Эйнарову лошадь. Гест сказал, что не видал.
— Значит, они и ее убили, — вздохнул Торхалли. — Норовистая была скотина.
Гест ответил, что до лошади ему нет дела. А вот об Эйнаре он думает. И мнится ему, будто каждый раз, когда он думает об Эйнаре, тот умирает снова. Убийство предстает перед ним так отчетливо, что он невольно повторяет Эйнаровы стихи. Удивительно, как это Гест помнит столько слов, сказал Торхалли, сам-то он даже лицо родного отца не помнит. Но говорил он таким тоном, будто речь шла о совершенно очевидном, столько раз высказанном и подтвержденном, что оно едва ли не утратило важность.
— Ты обратил внимание на молодого парня, что сидел на коне обок Стюра? — спросил отец. — Он не произнес ни слова и вроде как не следил за происходящим.
Гест кивнул.
— Это его младший сын, Онунд. Ты помнишь, как он выглядел?
Гест описал парня, в подробностях, и нарядную одежду, и сбрую коня, и оружие, и рост, и телосложение, упомянул и светлые кудри, падавшие на худые плечи, только относительно возраста не был уверен. Торхалли улыбнулся.
— Эх, если б все это для чего-нибудь пригодилось! — пробормотал он, а потом сказал, что, по слухам, Онунд умнее, спокойнее и сдержаннее своих братьев и, вероятно, по этой причине именно он и унаследует отцову власть и богатства, ведь люди недооценивают Вига-Стюра, даже те, кто якобы ценит его по достоинству. — Правда, мне он показался вялым и бездеятельным, — добавил Торхалли, имея в виду Онунда. — А ты как думаешь?
— Он смотрел на Аслауг, — сказал Гест.
Минуту-другую Торхалли задумчиво молчал, потом негромко обронил:
— Хорошая была лошадь.
В то первое лето Стюр со своим отрядом приезжал в Йорву трижды, каждый раз на одну ночь; они без нареканий съедали и выпивали все, что подавала Тордис, меж тем как кони их паслись на огороженном лугу, ближе к равнине. И каждый раз Гест замечал, что Онунд засматривается на Аслауг, она же на него не глядела, а то и вовсе находила себе занятие подальше от дома и возвращалась только после их отъезда.
Затем они исчезли на несколько месяцев. Но осенью, темным пасмурным вечером, нагрянули вновь, по обыкновению, откуда ни возьмись, будто призраки, без всякого предупреждения, да еще числом свыше сорока человек. И вот, когда они ближе к ночи, сидя у очага, пили брагу, Стюр вдруг начал сетовать на еду. Никто ему не ответил, и тогда он напустился на Торхалли, облыжно обвинив его в том, что он тайком перебил чужих овец на полночь от Хитадаля. Торхалли возмущенно вскочил, заперечил, а Тордис выбранила хёвдинга, обозвала жалким главарем паршивого сброда.
Минуту-другую Стюр смотрел на них обоих, будто забавляясь, а потом вдруг пошел на попятную, прекратил оговоры и уклончиво проворчал, что слух у него, пожалуй, не тот, что раньше, стареет он.
Однако наутро, когда Стюр с отрядом ускакал, Торхалли отвел Геста в сторону и сказал, что теперь у хёвдинга есть повод, которого он искал, и потому им все-таки лучше покинуть усадьбу, не сразу, но в течение ближайшего года. Тордис тоже сызнова принялась толковать об отъезде. А когда домочадцев рядом не было, твердила детям, что вообще-то ей никогда не нравилось в Йорве, этакое мрачное захолустье, живешь все равно что на чужбине, земля тут скудная, серая, как песок, местность пустынная, незащищенная, — рассуждения об этом убожестве окрашивали щеки Тордис румянцем, на губах у нее блуждала отрешенная улыбка.
Гесту эти разговоры были не по нраву, напоминали о Вига-Стюре и недоброй его славе, ведь дед Торхалли занял здешнюю землю потому, что приехал в Исландию, когда в плодородной части острова все уже разобрали, он расчистил участок от камней и построил усадьбу, а затем его сын и внук упорно трудились, расчищали пастбище за пастбищем, ставили новые дома, сооружали ограды, вдобавок налаживали хозяйство, обзавелись сараем на берегу и двумя рыбацкими лодками, которыми, судя по всему, займется Гест, как только подрастет и возмужает.
Однако долгими, дремотными зимними ночами разговоры об отъезде вновь поутихли, дров было в достатке, еды хватало и людям и скотине, никто, кроме ближайших соседей, к ним не заходил, дома стояли под напором штормов как утесы, а в безветренную погоду всюду царила синяя вечность, ведь зимой спала и река, из-под льда доносился лишь невнятный плеск, точно голос северного сияния или отзвук минувшего лета.
Когда же вместе со светом воротились лебеди, а река вновь помчала к морю свои бурливые воды, Гест успел забыть и о Вига-Стюре, и о туманных планах отъезда; он стоял на коленках в загоне и ножом метил новорожденных ягнят, в точности как учил отец, наносил косой йорвовский знак на верхушки тоненьких, ровно листочки, полупрозрачных ушек, давал некоторым ягнятам имена и вздрогнул от неожиданности, когда отец присел рядом и тихонько сказал, что через неделю-другую они покинут усадьбу, надо уезжать, пока Стюр на альтинге.
— Только вот лошадей у нас недостаточно, — продолжал Торхалли, — за один раз все не увезешь. Но за два раза управимся. — И повторил: — За два раза.
Больше отец ничего не добавил. Лишь строго-настрого наказал Гесту держать язык за зубами, никому ни слова не говорить, будто вокруг сплошь чужие, вражьи уши, а не стадо блеющих ягнят.
Гест кивнул, однако ж не утерпел, поделился с Аслауг. Сестра долго смотрела на него, а потом спросила:
— Ты что же, так и не научился хранить секреты?
— С чего ты взяла?
— Отец сказал мне то же самое. Выходит, ты проболтался. Гест призадумался и, в конце концов, сказал:
— Но только тебе одной.
— Почем мне знать? — возразила Аслауг.
В то утро, когда все было готово, Торхалли решительно объявил, что на первый раз сопровождать его будет работник Ингьяльд, со всеми девятью вьючными лошадьми; дня через два-три они вернутся и заберут остальных домочадцев, работников и скотину.
Гест и Аслауг, сидя во дворе на солнышке, смотрели, как отец вскочил на лошадь. За последние полгода Гест подрос — немного, но все ж таки. И видел, как отец наклонился и что-то шепнул матери на ухо, а она вцепилась в конскую гриву, будто удерживая, и стояла спиной к детям, так что они не слышали, о чем говорили родители, и в лицо им заглянуть не могли.
Торхалли выпрямился, посмотрел на них. Гест сидел на заросшем травой бугорке, который отец специально насыпал, чтобы мальчик, вставши на него, мог взобраться на лошадь. Гест понимал: надо бы что-то сказать отцу. Порывисто вскочил на ноги и стал на бугорке, сравнявшись ростом с Аслауг. Отец улыбнулся. А Гест вскинул руки над головой и словно еще вырос. Торхалли, широко улыбаясь, коротко кивнул детям, тронул поводья, и караван двинулся в путь, но не через песчаные равнины, а к речному броду и дальше, вдоль подножия горы Сварфхольсмула в долину Храундаль, к так называемому Перевалу, окольной дороге в Боргарфьярдар, — крюк, конечно, немалый, зато и любопытным на глаза не попадешься.
Гест обратил внимание, что мать не обернулась, когда вереница коней исчезла из виду, а прошла к ограде, села и принялась теребить солому. Тут он услышал, что Аслауг плачет. Было ему тогда десять лет, Аслауг — двенадцать.
Лишь спустя две недели в Йорву снова прибыли всадники, трое, и не те, кого там ждали. Приехали хёвдинг Торстейн Гисласон из боргарфьярдарского поместья Бё, его шестнадцатилетний сын Гуннар и незнакомец, которого в Йорве никогда раньше не видали.
Торстейн, человек богатый, влиятельный, славился умом и миролюбием, а женат он был на Хельге, старшей сестре Тордис, и обещал им помочь обзавестись новой землею в Боргарфьярдаре.
Спешившись, Торстейн без улыбки поздоровался со всеми, обернулся к незнакомцу, что приехал с ним, и, ни на кого не глядя, сказал:
— Это мой тингман[8] Стейнар сын Стейна, он кое-что вам расскажет.
Тордис побледнела лицом, крикнула Гесту, чтобы он позаботился о лошадях, и опустилась в траву. Торстейн поднял ее, обнял за плечи и отвел в дом; там он сел на то место, где привык сидеть, бывая у них в гостях. Когда Гест вошел, он как раз сообщил, что живет Стейнар в маленькой усадьбе в долине Скоррадаль, в горах меж Боргарфьордом и южными равнинами. Так вот, намедни явился к нему йорвовский работник Ингьяльд, пешком пришел, до смерти перепуганный спешил в Вик[9] надеялся сесть там на корабль и покинуть Исландию.
Закончив эту вступительную речь, Торстейн умолк и устремил повелительный взгляд на бонда Стейнара. Тот собрался с духом, неловко кашлянул и рассказал, что накормил Ингьяльда и приютил его на ночь, а работник в свою очередь поведал ему о хлопотах с переездом из Йорвы и о том, как у водораздела в Храундале они приметили всадников, конный отряд Вига-Стюра, и заспорили меж собой, как быть. Ингьяльд предлагал повернуть назад, в Йорву, Торхалли же твердил, что не видит за собой никакой вины, что он свободный бонд и волен поступать как вздумается. Тогда Ингьяльд сказал, что в таком случае хотя бы один поскачет назад, за помощью. Торхалли согласился.
И лишь через несколько дней Ингьяльд доведался, что Торхалли учтиво приветствовал Стюра и даже выразил удивление, что в пору альтинга встретил хёвдинга в здешних краях. Стюр ответил, что он-то аккурат рассчитывал на встречу с Торхалли, хотя, кажется, вполне четко разъяснил и ему, и другим, что не терпит, когда народ покидает округу по собственному усмотрению.
Засим он приказал своим воинам схватить Торхалли, а тот мигом спешился, вскочил на камень и принялся отбиваться мечом, да так ловко, что в отряде начали строить насмешки над хёвдингом: дескать, что это он все сидит да смотрит. К тому времени Торхалли уже притомился и был тяжело ранен, так что Стюру ничего не стоило зарубить его топором. Убитого тотчас похоронили, лошадей с поклажей перегнали в Бьярнархавн, а после этого отправились на альтинг. Однако на сей раз Стюр не объявил об убийстве[10] не как в случае с Эйнаром.
Торстейн сын Гисли был одет в длинный синий плащ, а на поясе у него висел кожаный кошель с нашитой английской серебряной монетой — из тех, что отчеканил король Адальрад[11] и отдал норвежским викингам, откупаясь от их набегов. Пока Торстейнов тингман вел свой рассказ, Тордис без устали теребила пальцами этот кошель. Аслауг сидела, опустив голову на руки, так что волосы падали на лицо, а Гест — он оставил дверь открытой — внимательно изучал растерянную физиономию Стейнара, освещенную уличным светом.
Торстейн кашлянул и с коротким смешком осведомился, уж не решила ли Тордис его ограбить. Она тотчас выпустила кошель, будто он обжег ей пальцы, и пустым взглядом уставилась на детей. Хёвдинг сказал, что, по его мнению, Ингьяльд не иначе как слышал этот рассказ от кого-то из Стюровых людей, сам-то он не видел происшедшего.
— Если, конечно, он изначально не был Стюровым соглядатаем, — добавил Торстейн, — ведь у вас тут вроде уже случилось предательство, когда убили Эйнара?
Слова его прозвучали как вопрос, но ни Тордис, ни дети не могли дать ответа, не замечали они за Ингьяльдом вероломства, хотя прожил он у них всего полтора года и не отличался ни дружелюбием, ни особой разговорчивостью.
Стейнар заговорил снова, рассказал, что, когда он встал на следующее утро, Ингьяльда уже не было и с тех пор никто его не видел. Но на стене комнатушки, где ночевал, он вырезал крест — может, просил у Белого Христа прощения за что-то?
И на это никто не ответил. А Стейнар шмыгнул носом — Гест даже вздрогнул от неожиданности — и добавил, что, как убежденный язычник, истребил этот крест.
Тордис наконец открыла рот и пробормотала, что в Йорве никто слыхом не слыхал, будто Ингьяльд принял новую веру, и почему он не вернулся, его же никто ни в чем не подозревает, и куда он подевался…
Гест по-прежнему глаз не сводил со Стейнара.
Минувшие две недели показались ему длиннее всей остальной его жизни, Тордис уже на другой день после отъезда Торхалли закрылась в опочивальне, и разговаривала с ней одна только Аслауг, когда приносила еду.
«Чем она там занимается?» — однажды спросил Гест.
«Ткет», — ответила Аслауг.
Но ткала Тордис всего-навсего узкие, в палец шириной, ленточки, локоть за локтем, такие она вплетала в косы Аслауг, когда та была поменьше и не умела сама плести косы.
«И она не хочет говорить, о чем думает», — добавила Аслауг.
Гест почти все время сидел у Ручья, возле водяного колеса. И пока не видел усадьбы, отец благополучно держал путь к Боргарфьярдару, сидел на лошади с той же улыбкой, которую увез с собою из Йорвы; беззвучно ступали копыта, вздымая сверкающие золотом облачка пыли. А отец запрокидывал голову, наслаждался солнечным светом и легким ветерком и не замечал, как море захлестывает его, не видел коварных альвов,[12] которые, обхватив лошадь за холку, влекли ее в открытые воды, не в глубину, нет, ведь Торхалли, точно корабль, плыл по разгульным волнам, и топор не касался его головы, а в вышине парили стая лебедей да черный ястреб — словно знамение, замершее над загадочным видением.
Гест только-только вышел за порог, как кто-то окликнул его по имени. Был это Гуннар, худой, голенастый, ровно цапля, не по годам рослый. Обычно он прямо-таки лучился бодростью и весельем, но сейчас очень серьезно спросил, намерен ли двоюродный брат уехать из Йорвы.
Озадаченно взглянув на него, Гест вытащил нож и принялся стругать палку.
— Не знаю, — в конце концов ответил он.
— Стейнар правду говорит, — помолчав, сказал Гуннар и сел рядом с ним. — Отец сам ездил к нему посмотреть на то место, где был вырезан крест.
— Невелика хитрость — поставить метину на бревне, — заметил Гест, меж тем как стружки колечками вились из-под ножа.
Гуннар выдержал паузу, потом сказал:
— Не один свидетель может подтвердить, что Ингьяльд был там. Стейнар в самом деле говорит правду.
— Почему же он тогда не вернулся, ведь должен был за помощью ехать?
— Испугался.
— Еще не зная, что случилось?
Гуннар призадумался.
— Ты хоть и молод, а головой работать умеешь! — воскликнул он. — Тут я ничего сказать не могу, зато я знаю другое: коли Ингьяльд не убит Стюром, то быть ему убиту Торстейном, моим отцом, ежели Ингьяльд еще жив, а это вряд ли.
Оба помолчали.
— Нет, все ж таки не верится мне, — сказал Гест. — Ингьяльд был нам другом, не предавал он ни Эйнара, ни моего отца, и неизвестно, убил ли его Стюр, тот ведь покуда об этом не объявлял.
Он швырнул палку в реку, спрятал нож в ножны и зашагал вверх по долине. Сел между горушками у Ручья и смотрел на водяное колесо, пока за ним не пришла Аслауг, а к тому времени настала светлая, мерцающая серебром ночь.
— Ты плакал? — спросила Аслауг.
— Нет. А вот ты плакала. Сестра молча села рядом.
— Ты не виноват.
— В чем?
— Ингьяльд, конечно, долго жил здесь, но никто знать не знал, откуда он явился.
Гест задумался.
— Он пришел после того, как убили Эйнара.
— Да нет, — возразила Аслауг. — Аккурат перед тем.
Они переглянулись, понимая, что в точности не помнят.
Торстейн отрядил в Храундаль дюжину воинов, и у водораздела они нашли Торхалли. Раны на его теле совпали с теми, о которых шла речь в «рассказе Ингьяльда»; воины призвали свидетелей, подтвердивших все, что они обнаружили, а затем доставили останки в Йорву, где Торхалли был похоронен подле своих предков, на невысоком кряже меж домами и песчаными равнинами.
В тот же вечер Гест поставил на могиле крест. Тордис спросила, на что он нужен. Гест ответил, что крест деревянный, словно это и было объяснение, и что он вырезал на нем узор. Тордис подошла ближе разглядеть узор — все те же петлистые полосы, которые Торхалли прозвал змеиными гнездами, они обвивали маленький крест, вблизи похожий скорее на растение, на цветок. Покачав головой, она опять повторила, что Йорва — проклятое место, неспроста она потеряла здесь пятерых из семи своих детей, потеряла мужа и собственную жизнь, а скоро потеряет и Геста и Аслауг, и не останется от них от всех никакого следа, сколько бы крестов он ни втыкал в эту голую осыпь.
Гест хотел спросить, почему же она тогда не согласилась на предложение Торстейна переехать в Боргарфьярдар. Но мать уже повернулась к нему спиной и пошла к усадьбе. Потом вдруг оглянулась, внимательно посмотрела на него. Проверяет, не плачу ли я, подумал мальчик и решил крепиться. Немного погодя Тордис опустила глаза, воротилась к нему, положила руку на плечо и тихонько сказала, что крест получился красивый.
— Даже слишком красивый, — добавила она надтреснутым голосом, как в тот раз, когда притворно хвалила орлиную голову.
Тою же ночью Гест убрал крест с могилы, разбил его о камень, а обломки побросал в реку. Ну а теперь пойду изломаю и водяное колесо, подумал он, раз и навсегда. Но не пошел. Не смог за одну ночь совершить два худых дела.
Торстейн и другие боргарфьярдарские хёвдинги некоторое время поговаривали о том, не возбудить ли на альтинге дело против Стюра. Однако Стюр только посмеялся над их затеей.
— Не каждый раз, когда небо хмурится, идет дождь, — сказал он. Человеку, у которого столько могущественных друзей, опасаться нечего, тем более что Снорри Годи[13] из Хельгафелля, самый хитроумный и самый загадочный из мужей Исландии, доводится ему, Стюру, зятем, а когда на твоей стороне Снорри Годи, тебе почитай что все нипочем.
Словом, дело по поводу убийства Торхалли так и не возбудили. Работник Ингьяльд больше не объявился. Может, сгинул в горах или в море, а может, Вига-Стюр покарал смертью его вероломство. И Гесту подумалось, что Форсети, бог справедливости и мира, тоже исчез, канул в небытие.
Правда, к концу лета Торстейн убедил одного бонда, по имени Торлейк, поселиться в Йорве, взять на себя заботу об осиротевшем семействе. Торлейк принадлежал к небогатому роду, жил на скудных землях и собственности почитай что не имел, зато был поистине непревзойденным кузнецом — сущий Вёлунд,[14] — а вдобавок от него так и пыхало энергией и радостью жизни, что на первых порах казалось совершенно не к месту в усадьбе, которую постигла беда. Тордис обращалась с ним так же, как в свое время с Эйнаром, на дух его не принимала, хотя за те годы, что будет хозяйствовать в Йорве, он увеличит поголовье скота и продолжит расчистку земель, не завершенную Торхалли. Он и в море за рыбой ходил верой-правдой на его лодках, вместе с Гестом и работниками; с большинством людей у него установились добрые отношения, а что Гест поначалу встретил его враждебно, держался особняком и вообще не желал иметь с ним дела, ему ничуть не мешало.
Хуже обстояло с Тордис. По осени она всерьез захворала, а к Рождеству слегла и уже не вставала, толком ничего не ела, разговаривала бессвязно, сердито и, пока тянулась зима, таяла на глазах. Торлейк был христианином, крестился всего несколько лет назад, когда решением альтинга Исландия приняла христианство.[15] И теперь он без устали твердил, что Тордис надобно искать опоры и крепости у Господа Бога, а не позволять себе безропотно вязнуть во мраке земной юдоли.
— Бога нет, — отвечала ему Тордис, — есть только люди.
Еще она говорила, что коли муж ее не сумел живым уйти из этой проклятой усадьбы, то и она не сумеет, умрет здесь.
Теперь в Йорве было пятеро работников да две старухи, Торлейковы сестры, которых он привез с собой. Они исполняли работу, какую прежде делала Тордис, только в управление усадьбой не вмешивались. Весной Тордис отдала ключи Аслауг и сказала, что отныне та в ответе за все, а коли понадобится помощь, пусть обращается к Торлейку, он хороший человек.
— Или потолкуй с Гестом.
— С Гестом? — удивилась Аслауг. — Да ведь он ребенок совсем!
— Нет, — сказала Тордис. — Гест сильный. Сильнее нас всех.
Через три дня она умерла, иные говорили, мол, оттого лишь, что так решила. Рано утром вышла из дому, легла в траву на речном берегу. Земля уже подтаяла. В вышине перекликались лебединые стаи. Похоронили ее подле Торхалли, и все — как те, что считали покойницу малодушной трусихой, так и те, кто уверял, что она усмотрела в Гестовой орлиной голове знак проклятия, — теперь шепотом твердили, как они были правы в своих догадках.
Гест после этого впал в какое-то зябкое забытье. И привиделось ему, будто на болота в долине набросили белый покров, и он было подумал, что это снег. Однако ж, подойдя ближе, обнаружил, что не снег это, а тончайшая ткань, которая приподнималась от легкого ветерка и вновь опадала. Она укрывала мать, и лицо Тордис просвечивало сквозь покров, как живое. Гест разрыдался, слезы хлынули неудержимым потоком. Позднее, рассказывая о своем детстве и юности, он не вспоминал о тех годах, о времени, когда в Йорве жил Торлейк. А вот гримасничать перестал, и народ рассудил, что это шаг вперед. Правда, перестал он и говорить, и это народ посчитал уже шагом назад; Гест кивал, качал головой, издавал короткие, заунывные звуки, выражающие презрение или гнев, и на сердитые наскоки Аслауг вовсе не обращал внимания.
Резьбу свою он тоже забросил, словно вместе с речью утратил и этот навык, и все время ему виделась мать — сидела в уголке поварни, украдкой от детей занималась каким-то своим делом и тихонько напевала. Когда Гест был маленьким, она клала руку ему на голову, когда подрос — на плечо, а когда слегла и стала ждать смерти, рука ее лежала у него на колене. Гест запомнил эту руку. И впоследствии просто не мог не поведать о ней — об изящных ее очертаниях, о жилках и мышцах, об овальных бледно-розовых ногтях и мелких шрамчиках, проступавших на загорелой коже, всегда такой теплой.
Но кое-что запомнится ему еще лучше, именно об этом твердила Аслауг: «Ты сильный. Так мама говорила». И еще: «Теперь нас только двое».
Сестра повторяла это каждый раз, когда он пытался увильнуть от работы либо искал прибежища в снах. Три фразы, которые неизменно оказывали на него одно и то же воздействие: будоражили, не давали сомкнуть глаз, как насекомые в потемках.
Целый год Торлейк хозяйствовал в Йорве, когда в усадьбу снова явился Вига-Стюр и, по обыкновению, потребовал еды и ночлега для себя и своих людей: коли Торлейк хочет впредь распоряжаться в Йорве, пускай выполняет и обязательства, кои на нее наложены.
Торлейк был человек прямой и обычно говорил, что думает, не смолчал и на сей раз, сказал, что негоже столь могущественному хёвдингу, как Стюр, этак поступать с уже обездоленным семейством, мелко это и бесчестно. Но Стюр только отмахнулся от него, вволю напился-наелся, выспался и исчез. Той зимою и весной он побывал у них трижды. А затем пропал на целых два года и явился опять по осени, в сырую, холодную пору. Направлялся Стюр на юг, в Ферьебакки, с целью уладить распрю меж двумя своими тингманами, вспыхнувшую из-за коней.
И вновь Стюра сопровождал младший сын, Онунд, еще более долговязый и сутулый, чем помнилось Гесту. Онунд был пятью годами старше его, разодет как важная персона и откровенно заглядывался на Аслауг, которая по-прежнему в упор его не замечала. Посмотришь на него — ровно князь, меж тем как сам Стюр ходил в скромном коричневом плаще, с простым оружием: меч да топор без всяких украшений.
Пользуясь случаем, Торлейк опять спросил, не надумал ли хёвдинг выплатить детям возмещение за убийство отца, ведь Аслауг скоро в невесты пора, а приданого у нее нет, но особенно он напирал на необходимость окоротить мальчонку, сиречь Геста, который год от года становится все более непокорным, странными, опасным.
Гест устроился спать в хлеву, при скотине (он всегда так делал, когда наезжал Стюр), оттуда его и привели к хёвдингу. Тот внимательно оглядел его, отметил, что ростом он по-прежнему мал да и вообще неказист, а затем осведомился:
— Какую же работу ты исполняешь, мальчик?
Гест не отвечал. Стоял и прищурясь смотрел в живые омуты Стюровых глаз, где не мог прочесть ни издевки, ни дружелюбия. Торлейк почел за благо вмешаться, сказал, что аккурат сейчас мальчонка режет торф, причем с большой сноровкой, и добавил:
— Он и во всем другом весьма ловок.
— Так-так, торф, стало быть, режет, — задумчиво проговорил Стюр и повторил эти слова несколько раз, потом перевел взгляд на Торлейка и сказал, что, пожалуй, ни ему, ни другим нечего опасаться от этого бедолаги. — Однако ж, коли, по-твоему, надобно что-то сделать, то я могу дать ему серую овцу, которая никак не приживается в Бьярнархавне, даже шерсть на ней не растет. Думаю, как вира она вполне сгодится, но больше он ничего не получит.
Онунд хрипло рассмеялся, кое-кто из воинов тоже насмешливо фыркнул. Гест и бровью не повел, даже когда Торлейк возмущенно вскочил и предпринял еще одну неудачную попытку вразумить хёвдинга. Мальчик просто повернулся к ним спиной и спокойно вышел вон, но в хлев не вернулся, зашагал к ручью и там, на берегу, нашел Аслауг.
Сидя рядышком, брат с сестрой смотрели на водяное колесо, чьи лопасти лениво подхватывали с поверхности незримые, прозрачные пластинки льда и снова роняли их на воду, точно звенящие стеклышки. Говорили они о том, что надо бы убрать его на зиму, потом Аслауг спросила, помнит ли Гест отцов рассказ про Тюра, бога войны и справедливости, ну, тот, где речь шла о праве сильнейшего. Он сказал, что помнит. А вот Аслауг путалась, Гест поневоле то и дело поправлял ее, и в конце концов у него возникло тягостное ощущение, будто сестра ошибается нарочно, чтобы он ее поправлял, знакомый приемчик, точно так же она действовала, желая, чтобы он взбодрился или сделал работу, от которой норовил увильнуть, а потому решительно сказал, что сейчас не до рассказов, нужно достать колесо из ручья, пока лед его не раздавил.
Вдвоем они отнесли колесо в хлев, подвесили под стропилом как сугубо летний инструмент, как вещь, которая вновь оживает лишь с возвращением лебедей и кажется тогда сразу и чужой, и хорошо знакомой, ведь они так долго ее не видели, что успели забыть, какова она из себя. На ночлег оба устроились здесь же, подле скотины. Правда, спали недолго: кто-то стоял и смотрел на них, и была это мама.
— Что случилось? — спросила Аслауг.
— Я просто хотела повидать вас. — Мать улыбнулась, совершенно как раньше, когда в здешнем мире еще не было Эйнара, перевернувшего всю их жизнь. — Тепло ли вам под меховым одеялом?
— Тепло, — отвечали они и подвинулись, чтобы она могла лечь между ними.
Наутро Стюр и его люди уехали. А тем вечером, когда в Йорве ожидали их возвращения, Гест, по обыкновению, сидел на холме, присматривал за овцами. Он опять достал нож, к которому не прикасался несколько лет, тщательно навострил его и, вырезая на топорище рыбью голову, вновь ощутил тепло, струящееся от рукояти к ладони и обратно. Как вдруг светлое дерево окрасилось кровью. Гест внимательно осмотрел свои руки — ни одного пореза, однако ж кровь не унималась, капала из рыбьего глаза на сырой снег. Он пропел вису[16] — не забыл, оказывается! — встал и зашагал в усадьбу, отыскал на поварне Аслауг, показал ей топорище и спросил, что может означать эта кровь. Сестра с улыбкой посмотрела на него, взяла в руки топорище, оглядела со всех сторон и удивленно воскликнула:
— Что ты городишь? Нет тут ничего.
— Я вижу кровь, — сказал Гест.
— Может, приснилось тебе?
— Мне снится только то, что уже случилось. Снятся Эйнар и отец. Случившееся дважды может случиться вновь.
Аслауг села, а Гест смотрел на нее и думал, что за эти годы сестра стала совсем взрослой и в своем белом льняном платье очень похожа на мать. Она опять поднялась и с улыбкой сказала, что грядут очень важные события.
— Ты знаешь, что должен сделать?
Гест кивнул, надел на топорище головку, закрепил для прочности клинышком, Аслауг же все это время пристально наблюдала за его руками. И тут, глянув в оконце, они заметили внизу, у брода, вереницу всадников — вернулся Стюр со своим отрядом.
Стояла поздняя осень, вдоль берегов Хитарау лед уже окреп, однако на стремнине до сих пор клокотала открытая вода. Только у Стюрова коня подковы были с шипами, остальные лошади оскальзывались на наледях, поток захлестывал их, приходилось плыть, превозмогая течение, и когда отряд подъехал к усадьбе, кони и люди вымокли до нитки.
— Так я и думала, — пробормотала Аслауг и пошла к задней двери большого дома.
Торлейк, как обычно, встретил гостей приветливой улыбкой, распорядился развести в большом доме огонь пожарче и сказал, что Аслауг и его сестры просушат их одежду на поварне. Воины разделись, ругаясь на чем свет стоит и стуча зубами. Аслауг собрала одежду в охапку, вынесла в поварню, распихала по большим чанам, хорошенько полила водой и выставила на мороз.
Гостей снабдили сермяжными и меховыми одеялами, подали еду, мало-помалу они повеселели, но иные тотчас начали сетовать, что-де Торлейк скупится на дрова. Сперва он прикинулся, будто не слышит. Однако сетования не умолкали, поэтому Гест встал и вызвался сходить за дровами. Вышел во двор, набрал охапку сырых сучьев, вернулся в дом и бросил их в огонь. В комнате немедля стало темно от дыма и чада. Гест шмыгнул за перегородку, в помещение, где прежде ночевал Эйнар, и очутился у Опора за спиной, сквозь щели меж досками он смутно различал затылок хёвдинга. Сердце у него замерло. Неясные фигуры, полуголые тела бестолково топтались в дымной мгле, слышались неуверенные смешки, хриплый кашель, брань. Стюр, однако, сидел спокойно и вроде как забавлялся. Гест по-прежнему стоял в оцепенении. Смотрел на лысый череп с темной вязью жилок над венчиком седых волос. И тут сердце его вновь встрепенулось. Со всей силы он нанес удар, вскрикнул, когда кровь брызнула прямо в лицо, не выпуская из рук топор, метнулся к черному ходу и только на улице обнаружил, что лишился не зрения, а света.
Стюр ничком рухнул в дымящий очаг и более не шевелился, один лишь сын его сообразил, что произошло, вытащил отца из горящих углей, осмотрел обожженное лицо и громовым голосом — Гест на улице и тот услышал — отдал воинам приказ догнать убийцу.
Но Гест к тому времени успел надеть теплую одежду, заранее приготовленную сестрой, нацепил на ноги «кошки», бегом спустился к реке, к самому узкому месту, одним длинным прыжком перемахнул через поток и остановился на другом берегу, наблюдая за преследователями: то и дело падая, они спешили вниз по обледенелому склону, по-прежнему полураздетые, сын хёвдинга Онунд мчался впереди, босой, размахивая обнаженным мечом. Он хотел было прыгнуть следом, но замешкался при виде клокочущей воды. А вдобавок заметил, что на ногах у Геста «кошки» и в руках топор.
— Это не я! — крикнул Гест, ухмыляясь и гримасничая. — Не я! Не я!
Онунд не двигался с места, лед обжигал ему ноги, Гест слышал, что он бранится, и видел, как он из стороны в сторону мотает головой, словно разъяренный пес. Потом Онунд повернулся и исчез во мраке.
Обогнув громаду Сварфхольсмулы, Гест по заднему склону горы взобрался на вершину и оттуда посмотрел вниз, на Йорву, где Аслауг воткнула в снег горящий факел — знак, что она цела-невредима. Но здесь, в поднебесье, он разом почувствовал изнеможение, силы оставили его, а он так в них нуждался, чтобы продолжить путь, ведь кругом раскинулось необозримое безлюдье.
Только сейчас Гест заметил, что все еще сжимает в руке топор, расслабил хватку, повесил оружие на плечо и собрался начать спуск, но внезапно сообразил, что Сварфхольсмула выше всех прочих исландских гор, вулканов и ледников, что отсюда можно увидеть все дома, заглянуть под заснеженные крыши, сдвинутые в сторону могучей дланью, которая решила показать усомнившемуся то, что там сокрыто, — людей в их будничной жизни, спящих в теплых постелях, детей и супружеские пары, рабов-трэлей и хёвдингов. Голова у него кружилась, и когда он, сам того не заметив, очутился на дне долины Храундаль, где снежная буря обрушила на него всю свою мощь, дневной свет так и не забрезжил; Гест ждал дня, а день не наступал, и потому он забрался под скальный уступ, зарылся в снег и исчез.
Уснул Гест, лежа на топоре, и разбудила его боль в спине. Выбравшись из-под снега, он сообразил, что уже вечереет и ветер ничуть не стих, хорошо хоть, света пока достаточно, можно сориентироваться, и он зашагал дальше, на восток, той же дорогой, какой шел отец, сумел на ходу согреться, а спать ему не хотелось — от голода; опять стемнело, пришлось искать затишное местечко и сызнова ночевать под снежным одеялом, однако и на сей раз он выбрался наружу и определил свое местонахождение по давним рассказам и безмолвным ликам гор. Лишь следующим вечером Гест вышел к какой-то усадьбе; если он не ошибся в расчетах, располагалась она на окраине Боргарфьярдара и звалась Мелур — убогая глухомань, но жили там дальняя родственница матери, Гуннхильд, и ее муж Халльдор. Гест лупил топором по укутавшему дом плотному снегу, пока не нашел входную дверь, распахнул ее и рухнул на утоптанный земляной пол, чувствуя, как в лицо ударил свет, и думая о том, что ему по душе белые ночи, но белые не от льда, а от света, с которым возвращаются лебеди, и не по душе далекие голоса, вопрошающие, кто он такой.
Сильное тепло шло не от солнца, а от очага — Гест лежал на жесткой деревянной лавке и смотрел в огонь, вода капала с его волос и одежды, шипела на раскаленных камнях. Прямо напротив, сгорбившись, сидел мужчина, мрачно глядел на него из-под тяжелых бровей — Халльдор, хозяин усадьбы, Гуннхильд же — Гест узнал ее — стояла у мужа за спиной, и на ее сером, увядшем лице играла осторожная улыбка.
Гест сказал, кто он, и тут только почувствовал щекой колючее меховое одеяло, увидел еду на столе, его бил озноб, но тело было сухое, волосы и одежда тоже, руки, правда, покраснели и горели огнем; он приподнял их, сжал и разжал пальцы, будто затянул и опять развязал мешок, потом сел и не спеша начал есть.
— Коли ты Торгест сын Торхалли, — проговорил Халльдор, — то что делаешь здесь, без коня да в этакое ненастье?
Гест ответил не сразу, дожевал, повернулся к Гуннхильд, поблагодарил и тогда только сказал:
— Я убил Вига-Стюра сына Торгрима. И спасаюсь бегством от Снорри Годи.
Халльдор встал, выпрямился во весь свой могучий рост, нерешительно усмехнулся, бросил какой-то вопрос жене, которая в ответ покачала головой и с сосредоточенным видом подошла ближе. Гуннхильд была старше мужа, с невзрачным серым лицом и седыми волосами, но статная и сильная, с широкими узловатыми руками; она села и сказала:
— Важные новости.
Гест рассказал про убийства Эйнара и Торхалли, о которых они уже слыхали, рассказал, как отомстил Стюру и бежал через горы, — то немногое, что запомнил. Халльдор сперва было опять запыхтел, но потом все ж таки подытожил:
— Когда этакий недомерок заявляет, что убил Вига-Стюра, он либо лжет и тогда, стало быть, потерял разум, либо говорит правду и, стало быть, опять же потерял разум, а я в любом случае не желаю, чтобы ты оставался здесь.
Гест продолжал жевать. Гуннхильд пробормотала, что Халльдор не всегда имеет в виду то, что говорит. Он резко махнул рукой: дескать, замолчи, — вскочил и едва не набросился на гостя. Но что-то остановило его, и Гест подумал, что прежде такого не знал — уважения, рожденного страхом.
— Мне кажется, — сухо заметил он, — Халльдор как раз говорит то, что думает.
Подтащив поближе свое оружие, Гест сдернул с жерди над очагом сермяжную куртку, натянул ее через голову, зашнуровал башмаки, а супруги меж тем громко ссорились у него за спиной. Уходя, он слышал звуки потасовки и крики, тотчас утонувшие в снежной круговерти, которая разом окутала его словно черная шерсть.
По-прежнему была ночь, может, уже другая, Гест потерял счет времени. Ветер поутих, но все еще гнал над землей колючие хлопья снега. У Геста зуб на зуб не попадал, прищурясь, он глянул на юг, на заснеженное нагорье, и зашагал в ту сторону, где, как ему казалось, было Бё, поместье дяди, Торстейна сына Гисли. Однако едва успел выйти за ограду, как услыхал оклик — Гуннхильд, с трудом переводя дух, спешила к нему с котомкой в руке, в волосах у нее поблескивал снег.
— Можешь взять одну из лошадей! — выдавила она и потащила Геста в загон, а там подозвала к себе самого сильного жеребца, набросила на него попону и сунула Гесту котомку.
Он припал щекой к шершавой холке, ощутил под крупинками снега биение тепла, поблагодарил Гуннхильд и вскочил на коня.
— Поезжай, только не к Торстейну, — сказала Гуннхильд. — Сперва заручись помощью тех, кто тебе не родня, тогда и Торстейн в поддержке не откажет. Скачи в Гильсбакки к Иллуги Черному, после Торстейна он в здешней округе самый влиятельный хёвдинг и куда храбрее болвана, за которым я замужем.
Гест еще раз поблагодарил и поскакал в том направлении, что указала Гуннхильд.
Глубокий снег лежал по всей долине. Когда забрезжил рассвет, Гест спешился и некоторое время шел пешком, стараясь согреться, потом опять сел на коня, а мороз час от часу крепчал, он заснул и проснулся оттого, что конь стоял на месте. Снегопад прекратился, ветер утих, но стало еще холоднее. Впереди виднелись дома, россыпь огоньков — усадьбы, и среди них та, которую он искал. Гильсбакки.
Гест никогда не встречал Иллуги и знал о нем не больно-то много: что в юные годы он слыл отчаянным сорвиголовой, что мало-помалу нажил и богатство, и влияние, и сыновей; младшего нарекли Гуннлаугом, но все звали его Змеиным Языком, как деда по матери, и парень успел уже снискать воинскую славу. Тут Гесту вдруг вспомнилось, что, по слухам, Иллуги был из числа друзей Снорри Годи. Уж не надумала ли Гуннхильд заманить его в ловушку?
Он поехал вдоль ограды поместья и, заметив меж домами какого-то человека, попросил его позвать хёвдинга.
Иллуги вышел на порог, зажмурился, потом оглядел всадника и спросил, кто он такой. Гест подъехал чуть ближе, но не спешился.
— Холодно, — сказал он.
— Зачем же ты вытащил меня на мороз? Коли нужда у тебя в ночлеге и еде, так мои люди все устроят.
Гест молчал. Иллуги повернулся, собираясь уйти в дом, однако передумал и остановился.
— У тебя какое-то другое дело ко мне?
Хёвдинг был в легкой безрукавке, в ременных сандалиях на босу ногу, и в тусклом свете дверного проема Гест заметил белые шрамы, которые, точно веревки, обвивали могучие предплечья. В свои без малого шестьдесят Иллуги выглядел намного моложе, хотя от косматой гривы, из-за коей он некогда сподобился прозвища Черный, ничего не осталось и под тающим снегом виднелся голый череп. Борода, однако, была по-прежнему черная, лишь кое-где ее прорезали седые пряди, словно реки в застывшей лаве. Гест все так же молчал, и Иллуги шагнул в сторону, чтобы свет упал на его лицо.
— Да ты совсем ребенок! — воскликнул он.
— Я друг Снорри Годи, — сказал Гест.
— Тогда мне ты не друг, — отозвался Иллуги.
— Тогда, значит, и я не друг Снорри.
— Кажется, ответы будут таковы, каких желаешь, — заметил Иллуги.
— Да нет, вряд ли. — Гест стянул с головы шапку и сказал, кто он и почему приехал сюда. Иллуги слушал, с все более недоверчивой миной. Гест пропел вису, которую сложил в этот день, и на лице старого хёвдинга в конце концов проступило подобие улыбки. И Гест решил, что самое время просить о помощи. Однако Иллуги не слушал.
— Конь-то запаленный, только на забой и годится, — деловито произнес он, схватил жеребца под уздцы и встряхнул, так что сосульки пены, облепившие гриву и морду, громко забренчали. Не дожидаясь ответа, он обернулся и кликнул людей из дома. На зов поспешно прибежали двое мужчин, одетые так же легко, как и хозяин, Иллуги велел им забрать коня. Гест спешился без возражений. Когда работники увели жеребца, ему вновь почудилось, что хёвдинг усмехается.
— Ты теперь без коня, — ехидно сказал Иллуги. — А это, поди, означает, я должен дать тебе другого. Чтоб от тебя избавиться, а?
Гест кивнул, притопывая в снегу. Разговор начал действовать ему на нервы, он так и не получил ответа на вопрос, кто ему друг, и никаких поползновений пригласить его в дом хёвдинг не делал. Даже мороз старику как будто бы не докучал, потому что он попросил Геста еще раз повторить всю историю и, слушая ее, явно забавлялся. И вису тоже велел повторить, только обронил, что, на его взгляд, с кеннингами[17] у Геста не все ладно и это неудивительно, коли, описывая убийство самого большого лиходея в Исландии, он желал воздать должное и себе и Вига-Стюру.
Неожиданно Иллуги громадной своей ручищей сгреб Геста за плечо и встряхнул, как давеча жеребца, будто проверял, способен ли парнишка держаться на ногах. Гест едва устоял.
Старый хёвдинг засмеялся и сказал, что теперь можно и в дом зайти, Геста накормят и укажут, где заночевать, а утром дадут коня и он продолжит свое просительное странствие.
— А оно, поди, будет долгим, я вот с ходу и не припомню, кто бы по доброй воле схватился со Снорри Годи. Но сперва езжай к Торстейну сыну Гисли. Он твой родич. И послушай хорошенько, что он тебе скажет.
— Случившееся дважды может случиться вновь, — сказал Гест и уснул, прежде чем на стол подали еду.
Однако последние слова Иллуги не умолкали и во сне: «Послушай хорошенько, что он тебе скажет». Хёвдинг ничего ему не обещал, хотя вроде бы дал совет, чуть ли не призвал рассказать Торстейну, что могущественный Иллуги посулил ему помощь, вернее, намекнул на такую возможность, поэтому Торстейн не сможет сказать «нет», ведь и Гуннхильд обиняками говорила о том же. Или этот помысел внушил ему призрак злополучного Эйнара? Эйнар-то умел найти такие слова, что никто не оставался глух к его просьбам.
Следующим вечером, когда Гест добрался до Бё, все повторилось. Опять темнотища, обитатели усадьбы отошли на покой, но Торстейн, услышав стук в дверь, встал, вышел на порог — в одиночку — и сперва изумился, увидев племянника верхом на заиндевелой кобыле, а слушая его рассказ, смотрел все более недоверчиво и попросту рассвирепел, когда узнал про убийство Стюра.
— Поистине ты решился ума! — вскричал он.
Они не виделись с тех пор, как три с лишним года назад Торстейн и Гуннар привезли в Йорву скорбную весть, поэтому Гест невпопад пробормотал, что, мол, родичи встречаются слишком уж редко, а потом сызнова пропел свою неоднозначную вису. Однако от этого Торстейн не смягчился, только принялся стирать с лошади иней — искал тавро.
— Выходит, тебя действительно прислал Иллуги, — наконец сказал он. — Он что же, и помощь тебе обещал?
— Он дал мне эту лошадь, чтобы я поехал к тебе. Она лучшая в его табуне.
— Иллуги так и сказал?
— Нет, я сам видел. Остальные рядом с ней сущие клячи.
— Н-да, стало быть, плоховато они там живут.
Гест смолчал, однако ж смекнул, что с тем же успехом Торстейн мог сказать: эвон как он спешил от тебя избавиться. В конце концов дядя все же впустил его в дом, хоть и скрепя сердце. Сказал, что он может заночевать здесь или остаться на то время, какое потребуется, чтобы внести ясность в это сложное дело.
— Родичей-то у меня много, — добавил он, указав Гесту свободную спальную комнатку.
Гест лег, но покоя не находил, стужа засела глубоко в костях и в водянистой тьме; он снова видел лысую голову Вига-Стюра и венчик сизых жил сквозь щели дощатой перегородки и хотел зажечь свечу, да только вот дверь его каморки оказалась заперта. От Бё всего-то два полета стрелы до реки Хвитау, отделяющей боргарфьярдарские долины от земель Снорри Годи на севере, Снефелльснеса и Даласислы, думал он, вот о чем толковал Торстейн, Иллуги же проживает в глубине долины, с тылу его защищают горы, а впереди, словно оборонительный рубеж, лежат усадьбы других хёвдингов. Может, выбить дверь и уйти куда глаза глядят? Однако тотчас в ушах прозвучал вопрос Аслауг, не приснился ли ему опять какой-то сон.
— Мне снится только то, что уже случилось, — отвечал Гест и заметил, что смотрит она куда-то мимо него. Он назвал ее по имени, схватил за плечи, желая встряхнуть и оживить, но сестра висела в его руках, вялая, неуклюжая, мало того, на лоб ей вдруг села птица, он хотел прогнать ее, да руки одеревенели, не слушались; он пропел все висы, какие знал, в том числе и свою собственную, про убийство, однако птица сидела не шевелясь, пока из соседней спальной комнаты не вышел отец и не начал разводить огонь в очаге — звуки зимы и защищенности, голос зимнего утра.
— Ты можешь остаться здесь, — коротко бросил Торстейн.
Руки у Геста были совсем белые, как и ноги, он скорчившись сидел у двери и недоуменно смотрел на дядю.
— Можешь остаться здесь. — Торстейн внимательно посмотрел на него и еще раз повторил, громко, словно обращаясь к глухому: — Можешь остаться здесь на зиму! Но сперва съездишь к Клеппъярну Старому во Флокадаль и уговоришь его тоже помочь тебе. А еще надобно…
— Я в Бё… — тихо сказал Гест.
— Что? А-а, ну да, — кивнул Торстейн, протягивая руку.
Тут подбежала Хельга. Вдвоем они подняли племянника, уложили в постель, укрыли горой тяжеленных, будто свинец, одеял, и вот тогда-то, учуяв запах женщины, Гест понял, что сразил его не холод, а страх, и страх этот почти исчез, только когда он замер без движения под своим свинцовым панцирем, точно мертвое тело под беспощадным небом, и думал, что сейчас будет тепло, совсем тепло.
Снорри
Все переменилось. Небо светлое, земля вокруг сияет белизной, тишина беспредельна. Гест видит, как улыбается Хельга, старшая сестра матери, улыбается юной маминой улыбкой; она принесла ему поесть и журит Торстейна, бросая короткие язвительные укоры, что он-де совершенно бессердечно отнесся к ее родичу, а особенно сердится на то, что муж не разбудил ее, когда Гест нежданно-негаданно нагрянул в усадьбу, да еще и запер парня, намереваясь украдкой выставить его за порог. Торстейн вяло оправдывается: он, мол, никого за порог выставлять не собирался, но ведь Снорри Годи давно зарится на Йорву, а Тордис уезжать не хотела… Однако ж роняет он и кое-что обнадеживающее:
— Может статься, добрый знак, что он сумел добраться сюда, в давешнюю непогоду это попросту невозможно. Но ни слова о том, что он здесь! Молчок!
— Мы что же, будем жить в своем дому будто рабы-трэли?
Примешиваются к этому хору и другие голоса, прежде всего три незамужние хозяйские дочери, они возбужденно шушукаются про убийство Вига-Стюра, новость эта уже у всех на устах, сумрачной тенью окутывает она Геста, который больше спит, чем бодрствует, больше грезит, чем живет наяву, грезит об Аслауг с птицей на лбу, не желающей улетать. Но от еды не отказывается и размышляет о том, что сестру не убили, сидит у очага, разговаривает с Гуннаром, который со времени их последней встречи стал еще долговязее и нескладнее и к Гесту относится как к ровеснику, и с младшим его братом, Свейном, который, обуреваемый безграничным детским восторгом, жаждет увидеть орудие убийства и очень разочарован, что на нем нет крови.
— Буря ее стерла, — говорит Гест, показывая ему рыбью голову на конце рукояти.
В кипучих буднях Бё он потихоньку оттаивает. По сравнению с Йорвой эта усадьба настоящее село — четыре больших дома, множество светелок, клетей, овчарен, конюшен и коровников, — и проживает здесь больше пятидесяти душ, а лежит Бё на открытой равнине, вдали округлыми валами высятся горы, кругом загоны для лошадей и просторные огороженные участки. Хвитау, широкая, тихая, плавной дугой огибает все поместье, она совершенно не похожа на вечно беснующуюся Хитарау. А сколько вокруг голосов и улыбок! Гесту разговоры непривычны, здесь же людской гомон не утихает с утра до вечера, в доме чисто, просторно, на стенах светлые ковры, снег вокруг домов аккуратно утоптан, всюду играют детишки. Чтобы постирать, женщинам нет нужды спускаться к реке по глубокому, чуть не по колено, снегу, воду им приносят, и стирают они под крышей, очаг горит круглые сутки, золу выгребают каждое утро, на стол подают мясо и рыбу, молочную сыворотку и хлеб, и голоса, голоса — гудят, точно улей.
Постепенно и Гест начинает разговаривать, сперва с Гуннаром и Свейном, потом с сестрами, а там и с трэлями и домочадцами, рассказывает о Йорве или повторяет услышанные фразы, словно бесценные стихи, и в конце концов уже не может остановить словесный поток. Он опять принимается корчить гримасы, особенно когда хочет развеселить Свейна, который ходит за ним по пятам и клянется, что готов умереть за него. Правда, Свейну гримасы не нравятся, поэтому Гест, спокойно глядя на него, говорит, что он только-только с мороза и гримасничает не нарочно, дрожь от холода пробирает, и вытягивает руки, хочет показать, как они трясутся, но руки спокойны, даже не думают дрожать.
Он отморозил левую щеку и левое ухо, и на одной ноге два ногтя посинели, так что о поездке к Клеппъярну Старому во Флокадаль и речи нет, заботами Хельги. Вместо этого к хёвдингу отряжают гонца, и Клеппъярн сам приезжает в Бё, в сопровождении двух одетых в кольчуги воинов. Из-под тяжелых бровей старик пристально разглядывает Геста — наверно, вот так же он разглядывает выброшенного на берег кита, прикидывает, сильно ли он подгнил, сколько в нем весу, сколько ворвани, а в особенности кумекает, кто бы мог предъявить права на тушу, — а потом они с Торстейном уединяются за закрытыми дверями и до глубокой ночи о чем-то беседуют. Наутро, после отъезда Клеппъярна, Гесту мнится на лице дяди печать новой тревоги, хоть его и уверяют, что Клеппъярн тоже согласился оказать ему поддержку.
Впрочем, выражение лица у Торстейна скоро меняется, становится вроде как решительным; поговорив с Хельгой, он подзывает нескольких работников, тихонько отдает им какие-то распоряжения, после чего те седлают коней и разъезжаются в разные стороны; вся усадьба охвачена суматохой, и в течение следующих дней в Бё один за другим прибывают тяжеловооруженные всадники — Торстейн собирает вокруг себя тингманов и боеспособных бондов, столько, сколько может прокормить, то бишь свыше шестидесяти человек, а Клеппъярн примерно с пятью десятками воинов сидит во Флокадале. К Иллуги и другим сильным бондам шлют гонцов с тою же целью. И за всей этой сумятицей Гесту наконец уясняется, что он не имел ни малейшего понятия, кем, собственно, был Вига-Стюр. Он пытается обратить все в шутку, смеется, но ни Гуннар, ни кто другой не смеется, тогда и Гесту становится не до смеха, и он спрашивает у Гуннара, зачем все эти хлопоты, все эти воины, что заполонили усадьбу, едят-пьют, уничтожают зимние припасы, будто уплатили за них звонкой монетой.
— Они тут не ради тебя, — отвечает Гуннар, рассчитывая успокоить его, но попытка пропадает втуне, ведь он добавляет: — А ради нас.
Торстейн расставил дозоры вдоль реки, от водопадов Храунфосс до самого моря, шлет соглядатаев на полночь к Снефелльснесу и в глубь Даласислы следить за передвижениями Снорри Годи, ведь рано или поздно тот проведает, где прячется Гест, это лишь вопрос времени.
Но наступает Рождество, минует гои,[18] а ничего не происходит, кроме пышного празднества, которое приводит Гесту на ум Эйнаровы рассказы про Йорсалаланд; в усадьбе царит благорасположение и немолчный гул голосов, мужчины беседуют о поединке на альтинге прошлым летом, о подвигах и убийствах, поражениях и союзах, а еще о христианском Боге, который семь лет назад простер над Исландией свои чудесные длани; в доме Бё про Господа говорят одно: Он пришел, чтобы остаться, и пришел во благо.
Гест между тем начинает прислушиваться к себе, не намерено ли его тело вскорости еще подрасти, на эту мысль его наводят женщины, хозяйские дочери и их подружки, не в пример Аслауг начисто лишенные хмурой старосветской серьезности. Работают они играючи, зима не пригибает их к земле, наоборот, окрыляет, словно птиц, посмотришь на них — и Йорва кажется могилой, болотом; к тому же они шлют мужчинам такие взоры, от которых Гест приходит в уныние. Дело я сделал большое, думает он, а вот росту во мне маловато; ему уже доводилось слышать слово «карлик», и он неизменно замечает, что в адресованных ему улыбках сквозит не только одобрение. В сущности, единственный, кого Гестов рост ничуть не смущает, это Свейн, ему вроде бы даже нравится, что он одного роста с героем. И он опять же единственный всегда готов слушать Гестовы рассказы.
— Мы маленькие, — говорит Гест. — Нам надо держаться вместе.
— Верно, — соглашается Свейн, и они ударяют по рукам.
Впрочем, для Геста в этой дружбе есть и хорошее и сомнительное, она едва ли не подтверждает, что детство никогда его не отпустит, а ведь ребенком бываешь для того только, чтобы однажды стать взрослым.
— Хочешь послушать про Йорсалаланд? — спрашивает он.
— Конечно, — отвечает Свейн.
Гест рассказывает о песчаном море, которое, по сути, есть образ несчетного множества людей, живущих на свете, об этой колыбели всех песчинок, но затем повествование внезапно принимает столь драматический оборот, что Свейн пугается и приходится его успокаивать: дескать, в свое время он вырастет и думать забудет об этаких страхах. Гест замечает, что, говоря это, улыбается, ведь он умеет найти истории, какие ему потребны. Хотя вместе с тем испытывает и печаль, при мысли, что когда-нибудь и Свейн будет смотреть на него сверху вниз.
В один из рождественских дней в усадьбу является нищий бродяга, просит еды и ночлега. Зовут его Гисли, он грязен, выпачкан сажей, одет в лохмотья. И попрошайничает не как другие, садится на поварне у очага, затыкает пальцами ноздри и молча пыхтит, пока челядинцы не спрашивают, зачем он этак делает. Он отвечает, что защищается от запахов съестного, иначе-то враз спятит с ума, вот как изголодался.
Гесту не нравится ни сам пришелец, ни смех, который он вызывает, слишком уж хорошо он вписывается в тягостный рассказ, какой в два счета не сочинишь. А Гисли принес новости с запада, и он хорошо осведомлен, слишком уж хорошо.
Для Торлейка убийство Вига-Стюра оказалось не меньшей неожиданностью, чем для собственных Стюровых людей, но он был человек сметливый, велел отнести убитого в поварню и запер там, чтоб никто к нему не прикасался. Тою же ночью он отрядил гонцов на север, известить Снорри Годи, могущественного Стюрова зятя, за которым было последнее слово в этом деле. Снорри прибыл в Йорву уже к следующему полудню, в сопровождении двух с лишним десятков воинов и перво-наперво приструнил освирепевшего Онунда, который всю ночь чинил обитателям усадьбы суровый допрос и аккурат бил одного из работников смертным боем.
Вместе с выбранными людьми Снорри освидетельствовал Стюрову рану, после чего убитого зашили в кожаный мешок, чтобы перевезти домой. Однако снежная буря перекрыла путь через горы, и отряд отправился на запад равнинами, чтобы затем попытать счастья на перевале пониже. При этом им пришлось пересечь не одну полноводную реку, широкая Хавфьярдарау вообще походила на море, и люди и кони измучились, насквозь вымокли и промерзли, когда наконец поздно ночью добрались до усадьбы Хроссхольт.
Бонд, хозяин Хроссхольта, не принадлежал к числу друзей Вига-Стюра, но, услыхав голос Снорри, отворил, разжег в большом доме очаг, выставил на стол еду, затопил и в поварне, чтобы просушить одежду и многострадальный мешок с покойником.
В Хроссхольте жили две молоденькие девушки, хозяйские дочери, четырнадцати и шестнадцати лет от роду. И старшую в эту ночь мучили кошмары, она металась под одеялами и кричала, пока сестра не проснулась и не спросила, что ей докучает.
Опомнившись, девушка объяснила, что всю жизнь слышала разговоры про грозного Вига-Стюра, но никогда его не видала и теперь непременно хочет поглядеть, пусть он хоть тыщу раз мертв.
Сестра попробовала отговорить ее. Но она встала и тихонько прошмыгнула в поварню. Огонь в очаге уже прогорел, только уголья краснели. Кожаный мешок со Стюром не выдержал дорожных тягот, лопнул, разбитая голова торчала наружу. И девчонке вдруг примерещилось, будто покойник сел, холодно уставился на нее, пропел вису и с глухим шумом снова упал наземь.
Она закричала не своим голосом. Снорри, спавший рядом в закутке, прибежал, подхватил ее, попытался унять, да где там — она кусалась и царапалась, колотила его кулаками и никак не успокаивалась, пока отец не отнес ее обратно в девичью светелку. Сестре было велено присматривать за нею, но неистовые вопли не умолкали до самого рассвета, когда бедняжка умерла с безумной улыбкой на губах, которая далеко не сразу изгладилась, уступив место знакомым чертам.
Снорри сказал, что бонд не заслужил этакой платы за свои труды, и хотел дать ему выкуп за утрату. Тот, однако, ответил, что Снорри тут ни при чем, дочка сама виновата, а хочет он только одного: чтобы труп хёвдинга поскорее увезли из его дома.
Уже рассвело, ненастье утихло, и Снорри решил без промедления двинуться в путь. Но усадьба еще не пропала из виду, а с северо-запада на равнины вновь налетел штормовой ветер. Они волокли мешок с покойником по наледям и лаве, по глубокому снегу, он замерз в камень, порвался, стал вовсе несподручным. Когда же опять стемнело, им пришлось укрыться в одной из каменных хижин, где летом жили пастухи. Наутро погода не улучшилась, и Снорри решил похоронить тестя прямо здесь, в горах, а по весне переправить тело в Бьярнархавн, в церковь, ведь Стюр был христианином и должен упокоиться в освященной земле, подле церкви, построенной им самим.
— Стюр будет призраком бродить по округе и мстить всем, кто помогает его убийце! — вскричал Гисли, наконец-то сытый и обогретый. — Ведь ему ни двери, ни стены не преграда.
Тут здешнему гостеприимству настал конец. Призвали Торстейна, он выслушал всю историю и приговорил: дать этому человеку мешок еды, посадить на лошадь, и пусть убирается из округи на юг. Но дело-то сделано, и хотя целой лошади не пожалели, чтоб избыть сей рассказ, он все равно накрепко застрял в стенах усадьбы. Гесту опять начала грезиться Аслауг, которую он оставил в окружении врагов, на лбу у нее по-прежнему сидела та птица, и когда над боргарфьярдарским краем в напряженной тишине прополз еще один зимний месяц, до него наконец дошло, где он раньше видал давешнего оборванца — не Ингьяльд ли это был? Работник, предавший отца?
И он принимается уговаривать Торстейна забрать Аслауг из Йорвы, Торстейн опять медлит, но Гест привлекает на свою сторону Хельгу и Гуннара, даже Клеппъярна уламывает, и однажды, после долгой беседы с Иллуги, Торстейн скрепя сердце соглашается послать на запад двух лучших своих людей, немедля, пока вокруг царит ночная мгла.
Опознавательным знаком для Аслауг будет Одинов нож, который Гест вручает посланцам. Выезжают они в затишье перед очередным бураном. Затем проходит три долгих дня, ветреных и морозных, и за эти три дня кое-что случается: двое Торстейновых дозорных затевают ссору, и прежде чем хёвдинг успевает их разнять, один ранит другого, а Гест, стало быть, снова видит кровь, вдобавок к этому времени он вполне уверился, что пришлый оборванец впрямь был Ингьяльд, Вига-Стюрово проклятие; он не спит ночами, ждет, не смыкая глаз, пока дозорный не кричит, что у брода люди. Всадников не двое, а трое, кони медленно, осторожно одолевают обледенелые камни брода Хаугсвад; Гест выбегает из дома, видит верховых и думает, что один из них не иначе как Аслауг, — а когда она въезжает во двор и останавливает коня, хватает поводья и говорит:
— Я думал, ты умерла.
Он помогает сестре спешиться, замечает у нее на лбу шрам и пристально к нему приглядывается, чтобы не смотреть в глаза, она же стоит не шевелясь, росту в ней еще прибыло, совсем взрослая, но вместе с тем по правде маленькая, в йорвовских обносках и ядреных запахах, гул водопада панцирем окружает ее. Когда Гест наконец превозмогает себя и смотрит ей в глаза, она спокойно рассказывает, что минувшей осенью упала в реку и поранилась. Невинная ложь старшей сестры, в реку-то падал он, да так давно, что она об этом забыла. Ему надо было раньше забрать ее — вот что она имеет в виду, хотя прямо этого не говорит, а рассказывает, что Торлейк умер и они похоронили его рядом с их родителями, ведь Торлейк был добрым человеком, с тех пор она жила в Йорве одна, только с его старухами-сестрами.
— Важные новости, — говорит Гест.
— Ты изменился, — замечает Аслауг.
— Нет, — возражает он, начекаясь увести в конюшню измученную лошадь.
Тут во двор выходит Хельга, встречает Аслауг чин чином, как родную, за нею появляются Торстейн, и дочери, и Гуннар, а Свейн, стоя у брата за спиной, долго во все глаза смотрит на Аслауг и в конце концов спрашивает, не тролль ли она.
— А кто же еще! — отвечает Аслауг и шипит, как кошка.
Все смеются, а Гест думает, что пробыл в Бё уже сотню с лишним дней, что больше не вырастет и обречен остаться маленьким, как ребенок.
Аслауг ночевала в одной комнате с Ревной, старшей дочкой Торстейна, ходила в ее платьях, причесывалась ее гребнями и за столом рядом с ней сидела, и Гест видел, что перемена обрушилась на сестру с тою же непостижимой силой, какая раньше перевернула его собственное существование, но мало-помалу в эту разноголосицу влилась и ее речь, а поскольку она всегда была злая до работы, недели не прошло, как она уже стала естественной частью здешнего уклада, четвертой хозяйской дочерью. Йорва и детство разом отпустили ее, гул водопада утих, к тому же пришла весна, свет оплеснул долину, снова обозначились тропинки, черные и глиняно-рыжие полоски на грязной холстине, которая скоро окрасится блеклой зеленью, в поднебесье пролетали лебединые стаи, а Снорри, могущественный зять Вига-Стюра, все не появлялся.
Торстейн не считал это затишье добрым знаком. Но зима уходила, запасы в его кладовых таяли, и он поневоле отсылал прочь все больше людей. Затем с севера потянулись слухи — пришлось звать всех обратно. С каждым днем не одно, так другое подступало ближе — лето, месть либо загадка, уготованная людям судьбой. Гест выяснил, что отметину на лбу Аслауг оставил Онунд сын Стюра, обухом топора. Но узнал он об этом не от сестры, а от Ревны, которая вдобавок рассказала, что Снорри предлагал Аслауг выкуп за ущерб, однако она от выкупа отказалась да еще и выбранила и самого Снорри, и его приспешников.
— Отрадно слышать, — сказал Гест.
Осенью Ревну отдадут замуж, за человека знатного рода из Хунаватнсислы, и в усадьбе много говорили об этом браке, о союзе с могущественным семейством из северной округи, с которой здешние обитатели не всегда были на дружеской ноге, но в поддержке которой нуждались теперь, как никогда. Начали поговаривать и о подходящем замужестве для Аслауг, и жениха надобно подыскать тут, в Боргарфьярдаре, или по крайности в Хаукадале.
— У меня нет приданого, — твердила Аслауг.
Пищу этим домыслам дал сын одного из Торстейновых дружинников, звали его Гейрмунд, в честь первопоселенца Гейрмунда Крепкая Шкура, от коего вело происхождение его семейство, и с того дня, как Аслауг приехала в Бё, он ходил за ней по пятам, ровно собачонка, говорил с нею и о ней. Парень был весьма видный, высокий, широкоплечий — Гест не отказался бы иметь такую наружность, — вдобавок сведущий в законах и неплохой скальд.
Аслауг же упорно повторяла, что слышать ни о чем подобном не желает, ей надобно думать о Йорве. Правда, в обман никто не давался. И как-то под вечер, когда Гест сидел в Клеппъярновой бане, Аслауг пришла к нему и спросила, что он скажет, коли Гейрмунд в самом деле надумает к ней посвататься.
— Ты ведь мой опекун, — сказала она.
— Я дам тебе тот же совет, какой дал бы тебе отец.
— А именно?
— Ты молода. И Гейрмунд никуда не денется.
— Он из хорошей семьи, — заметила она.
— Мы тоже. Мы происходим от наших родителей. Ты можешь подождать.
— Ты правда изменился.
— Ты не знаешь закона, — сказал Гест. — Твой опекун не я, а Торстейн, мне-то всего четырнадцать зим. Но ты спросила меня, и я дал тебе ответ, какой дал бы отец. Делай с ним, что хочешь. Только мне думается, Гейрмунд ничего тебе не предложит, пока не закончится дело со Снорри Годи, ты ведь не просто бедна, ты еще и моя сестра.
Аслауг, помолчав, тихонько пробормотала:
— Многое теперь по-другому. Но следующим летом тебе стукнет пятнадцать, и тогда…
— К тому времени меня здесь не будет, — перебил Гест. — Однако Торстейн даст тебе нужный совет. Коли он будет здесь.
Настала оттепель. И затянулась на много дней. Снег на дне долины стаял. Потом прошли дожди и опять подморозило, ледяная корка покрыла землю, сызнова студеная зима, лед заиндевел, и мир вновь сиял белизной, когда однажды утром, возвращаясь от Клеппъярна, Гест заметил у брода Хаугсвад всадника, который двинулся через реку. Это был один из Торстейновых дозорных. Выбравшись на берег, он соскочил с коня и, словно перепуганный зверь, метнулся в большой дом. Тотчас же послышались громкие приказания, двор наполнился людьми, оружием, лошадьми, конники разъехались во всех направлениях.
— Вот и пришла пора, — сказал Гест, глядя в спокойно-решительное лицо Торстейна.
Хёвдинг стоял, уперев руки в боки, поворачивая корпус то в одну сторону, то в другую, и временами одобрительно кивал Хельге, которая загоняла в дома женщин и детей. Весь день в Бё прибывали конные отряды, тяжеловооруженные воины, которых Торстейн, а следом Клеппъярн и Иллуги выставили живым заслоном вдоль южного берега реки, перекрыв все броды, от ущелья по-над Хаугсвадом до самого моря, — свыше четырнадцати сотен воинов, большинство на конях.
И вновь настала тишина. Войско прислушивалось к спокойному плеску Хвитау, к тихому гулу, поднимающемуся откуда-то из глубины. Лошади тоже присмирели. И вот наконец на полуночном гребне появился Снорри, заполонив своим отрядом весь видимый горизонт; черная бесформенная масса выплеснулась из-за невысокого кряжа на берег реки — тысяча воинов, а то и больше, пробормотал рядом с Гестом один из Торстейновых счетчиков. Иней вихрился под грохочущими копытами, окутывал всадников тонким маревом, которое опало, только когда отряд распределился по северному берегу, — две самые большие рати в истории Исландии, разделенные двадцатью — тридцатью саженями серых вешних вод. Сквозь тучи пара, вырывающегося из пастей фыркающих лошадей, Гест различал глаза, шлемы, копья, блестящие кольчуги, и тут один из Торстейновых воинов нарушил тишину, ударил мечом по щиту и во все горло грянул нид.[19] Кто-то из отряда Снорри ответил, и долина наполнилась криками, лязгом оружия и топотом коней.
Гест хотел было зайти на коне в реку, но не успел пробиться сквозь строй — от отряда на том берегу отделился одинокий всадник и по моренной отмели не спеша выехал на середину потока. Так Гест впервые увидел Снорри Годи, и был тот невелик ростом, одет, как и тесть его, просто, в темно-синий плащ, без шлема и кольчуги, да и из оружия Гест приметил лишь рукоять короткого меча, притороченного к седлу.
Снорри остановил коня, выждал, пока утихнет шум, и на удивление низким голосом осведомился, кто предводительствует супротивником.
Торстейн, Иллуги и Клеппъярн выдвинулись вперед, назвали себя. Снорри знал всех троих и каждое имя встречал согласным кивком, затем поочередно приветствовал их и наконец обратился к Торстейну — опять же по имени, — требуя выдать убийцу тестя, Торгеста сына Торхалли.
— Мне известно, что оный находится среди твоих людей.
Торстейн открыл рот, собираясь ответить, но в тот же миг в рядах его воинов грянул громовой рык. Гест видел, что Снорри бровью не повел, как и сам Торстейн, который спокойно дождался, когда рык утихнет, приветствовал Снорри в учтивейших выражениях, привстал в стременах, глянул вверх и вниз по реке, словно оценивая численность того и другого войска, а потом вскричал, что ни при каких обстоятельствах не выдаст Геста, ведь тот ему родич и искал прибежища в Бё, оттого что податься ему больше некуда.
Теперь зашумели дружинники Снорри. Гест обеими руками стиснул топор, ожидая условного знака. Но знака не последовало, ни с той ни с другой стороны. Снорри только сдержанно шевельнул рукой, и благоразумные хёвдинги в обеих ратях принялись утихомиривать своих воинов. Клеппъярн, добившись внимания, крикнул, что, если эти полчища сшибутся, катастрофы не миновать, и на северном берегу подхватили его слова.
В наступившей тишине Снорри по всей форме провозгласил, что дальше ему — невредимым — не пройти и что за убийство Стюра он вызывает Геста на суд альтинга будущим летом.
Но тут Гест выехал-таки на берег и закричал хёвдингу, что лучше бы ему отомстить за собственного отца, прежде чем мстить за такого недостойного мерзавца, как Вига-Стюр.
Хёвдинг смерил его взглядом, вроде как слегка усмехнулся и крикнул в ответ, что от этакого маломерка ничего, кроме хулы, ожидать не приходится, тем более что сейчас вокруг него могущественные друзья.
Гест заметил Онунда сына Стюра, взмахнул мечом и пропел нид про него, про Онунда, как он босой стоял на льду возле Хитарау и не рискнул перепрыгнуть за ним на тот берег, а вместо этого ополчился на женщин и челядинцев, чем опозорил себя перед всем светом.
Клеппъярн пнул его ногой по ляжке и велел придержать язык, но Гест, углядевши усмешку на губах Иллуги, приободрился, въехал в реку, повторил оскорбительные стихи, сунул меч в ножны и с вызовом устремил взгляд на другой берег.
Конь Снорри беспокойно пританцовывал на камнях. Начался дождь, а Гест и не заметил. Только теперь он услыхал стук капель по воде, утер со лба испарину, ощутил холод и, не отрывая взгляда от Сноррина коня, думал: эти мужи сошлись тут не затем, чтобы смотреть друг на друга. Но конь Снорри по-прежнему пританцовывал на месте, и хёвдинг смотрел спокойно, потом вдруг тронул скакуна и вскинул вверх вытянутую руку, давая своей дружине знак к отходу.
Воины повернули коней и медленно, в беспорядке двинулись вверх по холму, меж тем как супротивники их оцепенело сидели в седлах, пока поднятая копытами морозная пыль не осела, и они не слышали более ничего, кроме голоса реки да шума проливного дождя.
— Снорри скачет домой, — негромко сказал Торстейн, хмуро глянув на Геста. — Отчего же тогда кажется, будто он идет на нас?
Минувшей осенью Клеппъярн поймал в горах дикого человека, который жил рыбной ловлей, ягодами да тем, что приворовывал по усадьбам. Имя ему было Тейтр, но обычно его звали Горный Тейтр, и молва твердила, что он скорее зверь, нежели человек, скорее призрак, нежели существо из плоти и крови, и наделен силами, которые сделали его скорее злым, нежели добрым. Прежде чем его повязали, он успел вырвать у Клеппъярновой лошади язык, швырнуть оный Клеппъярну в лицо и повредить ему правый глаз. Теперь Тейтр ходил на привязи во дворе флокадальской усадьбы, рычал на всех и щерил зубы, а кормился объедками, что бросал ему народ, больше в насмешку, чем из сострадания, и никто не мог взять в толк, почему его сразу не прикончили и не закопали стоймя либо вниз головой, как делают в Ирландии, чтоб покойник уж наверняка призраком не бродил.
На Пасху во Флокадале устроили игры — конные состязания, забавы с мечом, борцовские схватки, — и собрались на эти игрища едва ли не все местные парни, в том числе сын Иллуги Черного Гуннлауг Змеиный Язык и Гейрмунд, влюбленный в Аслауг. Дети, женщины и девушки сидели на бесснежных окрестных склонах, наблюдая за происходящим. Насколько Гест мог судить, о сватовстве Гейрмунд пока что не думал, он вроде как увлеченно беседовал с друзьями, рисовался перед девушками и веселился, да и Аслауг как будто бы не проявляла к нему особого интереса; кстати говоря, рядом с Гуннлаугом Гейрмунд выглядел не менее смешным и невзрачным, чем Гест рядом с самим Геймундом, но так выглядели поголовно все.
Тут Гейрмунд встал, вышел в круг, попросил внимания и объявил, что вызывает Геста на поединок, пора, мол, знаменитому убийце Вига-Стюра показать, на что он способен, про давешнюю-то его выходку на берегу реки всякое-разное говорят, дескать, этак безрассудно мог вести себя только балованный мальчишка.
До сих пор Гест в забавах не участвовал, Клеппъярн и Торстейн запретили. Но теперь он встал, вышел вперед и, поворотясь к Гейрмунду спиной, крикнул собравшимся, что бороться с ним не станет.
— Гейрмунд даже насмешки моей недостоин. Лучше я померяюсь силой с Тейтром, диким горным человеком.
Народу этот помысел показался странноватым, однако ж смех разрядил напряжение, и Гейрмунд мог с удовлетворенной ухмылкой вернуться к своим дружкам. Тейтра отвязали от столба, привели в круг. Подошел Гуннлауг, спросил, знает ли он правила, и, когда Тейтр только фыркнул в ответ, дал знак начать схватку. Быстро выяснилось, что особых усилий от Геста не требуется, он с легкостью уклонялся от тяжелых кулаков противника, проделал несколько ловких финтов и не один раз сумел выбить Тейтра из равновесия. Но в итоге оказался-таки на земле, с вывернутыми за спину руками, лицом в снежной каше. Плечи и бедра хрустели в суставах, зрители восторженно горланили, хотя и глумливых смешков тоже хватало.
Гуннлауг оттащил Тейтра в сторону и, широко улыбаясь, поднял Геста на ноги. Гест отряхнул снег, отошел на склон, сел подле Аслауг. Когда забавы продолжились, сестра прислонилась к его плечу и тихонько спросила, чего ради он навлек на них этакий срам.
— Что-то затевается, — ответил Гест. — А Тейтру я не доверяю, вот и решил узнать, каков он в деле.
— Он ничего тебе сделать не может, — сказала Аслауг.
— Да. Пока что.
Через три недели после Пасхи, хмурой, мглистой весенней ночью, в Бё нагрянули гости — Иллуги Черный с двумя спутниками и Клеппъярн, тоже с двумя людьми. Все уже спали, но Торстейн вышел навстречу, провел их в дом с черного хода, прежде поручив Гесту отвести коней в загон, к другим лошадям, — никто не должен видеть, что в усадьбе чужие.
Когда Гест вернулся в большой дом, мужчины сидели у очага. Хельга тоже была там, выставила на стол еду и питье, пригласила откушать, но никто к угощению не притронулся.
Торстейн поднял голову, предложил Гесту сесть и послушать. А затем, призвавши гостей в свидетели, сказал, что, как только решится дело со Снорри, продаст Йорву, а вырученная сумма пойдет на приданое Аслауг.
— С кем бы она ни обручилась — с Гейрмундом или с кем другим, — добавил он, испытующе глядя на Геста.
У Геста отнюдь не возникло впечатления, что план этот сформулирован как вопрос, тем не менее он сделал вид, будто взвешивает за и против, и лишь затем кивнул и сказал, что надеется, Торстейн найдет его сестре жениха получше Гейрмунда или предоставит выбор самой Аслауг.
— Она всегда сама выбирала, — заметил Торстейн, и по лицам сидящих вокруг стола Гест понял, что нынче ночью сказано последнее слово.
Торстейн сообщил, что за зиму сумел заручиться поддержкой хёвдингов на юге и на востоке, чтобы, когда придет время, альтинг отклонил притязания Снорри.
— Но Снорри знает об этом, — продолжал он. — И будет мстить, пойдет на нас, правда только по окончании тинга, ведь лишь проиграв дело, он развяжет себе руки.
Торстейн умолк, отхлебнул из кружки, которую поставила перед ним Хельга. Остальные последовали его примеру. А он предоставил слово Клеппъярну.
Старик откашлялся, наклонился над столом и сказал, что в Рейдарфьорде, у Восточного побережья Исландии, стоит корабль, который по истечении двух недель лета отплывет в Норвегию. Кормчий, Хельги сын Скули, возьмет Геста на борт, если предъявить ему условный знак от Клеппъярна.
Гест вопросительно посмотрел на него и пробормотал:
— Это далеко.
— С тобой пойдет Горный Тейтр, — сказал старик, сделав знак рукой.
Только тут Гест обнаружил дикаря, тот сидел в дальнем углу, подобрав под себя ноги, и будто спал, укрывшись дремучими волосами и бородой. Один из Клеппъярновых людей вытащил его на свет, хёвдинг снял с него путы, предложил сесть. Тейтр, растирая запястья и щиколотки, алчно поглядывал на еду, и Торстейн жестом разрешил ему угоститься. Остальные молча, с интересом наблюдали за дикарем.
— Тейтр пойдет с тобой к Восточному побережью и в награду за это останется жив, — сказал Клеппъярн. — Хельги и его возьмет на корабль, коли он захочет уехать. — Он перевел взгляд на Тейтра, и тот, смекнувши, что речь о нем, согласно кивнул. — Но если Тейтр придет один, — продолжал Клеппъярн, пристально глядя на жующего дикаря, — Хельги его убьет. Если же не явится ни один из вас, Хельги пошлет сюда гонца, предупредит меня, и тогда Тейтру не сыскать надежного убежища нигде в Исландии.
Тейтр опять кивнул, высматривая, чем бы запить еду.
— Хельги доставит вас в Трандхейм, — снова заговорил старик, теперь уже глядя на Геста. — Корабль норвежский, однако на борту много исландцев, так что будьте осторожны, не болтайте лишнего. В Трандхейме Хельги передаст вас Эйстейну сыну Эйда, дружиннику ярла Эйрика,[20] он скажет, что вам делать дальше, ведь и в Норвегии тебе грозит опасность.
Клеппъярн отхлебнул из кружки, призадумался, потом добавил:
— Как говорил Торстейн, Снорри заявится сюда не раньше чем проиграет дело на альтинге, но уж тогда заявится непременно. Однако мы полагаем, что произойдет это ближе к осени.
Ныне всем известно, что Гест находится здесь, — для того мы и позволили ему зимой, точно барашку молоденькому, гулять по округе, — и пускай по-прежнему так и думают. Только по прошествии двух недель лета Иллуги, народ из этой усадьбы и я начнем прилюдно говорить, что Геста тут уже нет. Позже-то этого срока мало какой корабль отплывает из Исландии.
Клеппъярн замолчал, взглянул на Торстейна. Тот коротко вздохнул, встал и вышел куда-то вместе с Хельгой, а вернувшись, вручил Гесту кожаный кошелек.
— Ночами теперь светло, — сказал он. — Нынче, однако, пал туман. И вы прямо сейчас отправитесь с Иллуги в Гильсбакки. Я дам вам коней, но их вы оставите у Иллуги и дальше пойдете пешком. Иллуги снабдит вас съестными припасами. А коли еще что потребуется, добывайте в горах, в поселки-то вам спускаться нельзя, ни под каким видом. Держитесь меж ледников.
Хельга дала Гесту мешок с одеждой и одеялами. Он пристально смотрел на них на всех, хотел было сказать, что тяжеленько им сбагрить его с рук, хлопот многовато, да язык не повернулся, вдобавок он был готов к такому повороту, хоть и не отдавал себе в этом отчета. И понимал, почему здесь нет ни Гуннара, ни Свейна, ни Аслауг.
Он поклонился и поблагодарил.
Хельга сказала, что благодарить тут не за что, попрошайки и те не благодарят. Она тоже вручила ему кошелек с несколькими марками[21] серебра и браслетом, сплетенным из серебряной проволоки. Гест опять поблагодарил. Хельга коротко рассмеялась.
Челядинцы пошли седлать коней. А Торстейн, протянув Гесту боевой топор с окованной серебром рукоятью, торжественно произнес, что это прощальный и заслуженный дар, пожелал ему доброго пути и прибавил:
— Но в Исландию не возвращайся.
Тейтра тоже снабдили одеждой и одеялами, только оружия не дали. Хельга расцеловала Геста в обе щеки. А Гест сказал, что напоследок в Йорве ему казалось, будто все его родичи умерли, теперь же он знает: они живы. Потом попросил их позаботиться об Аслауг, сел на коня и поехал было прочь. Но тотчас остановился и спешился.
— Нет, этак не годится.
Он отдал поводья Торстейну, прошел в женскую светелку, прямиком туда, где вместе с Ревной помещалась Аслауг, тихонько разбудил сестру и спросил, сумеет ли она сохранить тайну.
— Я всегда умела хранить секреты. — Аслауг села на постели.
Гест шепотом рассказал ей про план бегства и про предстоящую продажу Йорвы, которая обеспечит ей какое-никакое приданое, а под конец прибавил, что не мог уехать, не сообщив сестре об этом.
— Что ж, теперь ты можешь ехать, — спокойно сказала она, положив руку ему на плечо.
— Да. — Гест выпрямился. — Но я вернусь.
На это она не ответила, только с улыбкой обронила:
— Ты сильный.
— Ты тоже. — Гест провел пальцами по шраму у нее на лбу и вышел вон.
Всю ночь лил дождь. До Гильсбакки они добрались только утром, и Геста ни на миг не оставляло ощущение, будто едут они не в ту сторону, а вдобавок будто они не одни, будто рядом находится какое-то диковинное незримое существо; на придачу он не успел перед отъездом выполнить решение, которое принял, как только понял, что его отошлют прочь из Бё: обойти всю усадьбу, все осмотреть и запомнить, покинуть Бё не так, как покинул Йорву, сохранить в памяти эту большую усадьбу, дома, лица и голоса, ведь ему было там хорошо, пусть даже росту ни на дюйм не прибавилось, и он решил непременно запоминать все хорошее — теплые руки матери и голос отца, заботливость Хельги и трагическую решимость Торстейна, — иначе не стать ему таким сильным, каким видит его Аслауг.
Обитатели Гильсбакки уже разошлись по своим делам. Иллуги запер Геста и Тейтра в овчарне на неогороженном участке, приказав сидеть днем тише воды ниже травы. Гест сразу уснул, и грезилась ему текучая вода. Проснувшись, они с Тейтром не разговаривали. Тейтр даже не смотрел на него, неподвижно сидел на своих одеялах, прислонясь к стене и завесив глаза кудлатой гривой. Поздно вечером пришел Иллуги, принес еду. Когда они закусили, Иллуги вывел их из овчарни к ручью по-над усадьбой, там их ждали мешки с припасами и кой-какое оружие.
От Иллуги Гест тоже получил подарки — топор и меч в искусных ножнах, а еще серебряный крест, хотя Иллуги крещения не принимал.
— Ростом ты не вышел, — сказал он с бесшабашной усмешкой. — Однако ж совершил большое дело. И кто знает, может, помимо отваги, тебе и что другое понадобится.
Гест поблагодарил.
Они распрощались и зашагали прочь, сперва вдоль ручья, пока он не исчез в расщелине, обогнули всхолмье, очутились в мрачном ущелье, которое указал Иллуги — там, дескать, их из домов не увидят, — и двинулись вверх, на Хастапи. Когда перевалили через последний гребень, солнце поднялось над горами, ударило в белые стены ледника Лангайёкуль. Гест сказал, что пора отдохнуть, сел и сам поделил съестное, но позволил Тейтру выбрать. Тот прикинул на глаз, какая из порций побольше, забрал ее и сел, прислонясь к валуну.
— Меж ледниками мы не пойдем, — вдруг сказал он.
Гест впервые по-настоящему услышал его голос, низкий, грубый, но на удивление ясный, при этакой звериной наружности, и вновь ему почудилось, будто рядом есть кто-то еще.
— Пора для этого слишком ранняя, — спокойно продолжал Тейтр. — Мы пройдем севернее ледников, через плоскогорье Арнарватнсхейди, через долины Скагафьярдара, пересечем лавовые поля Храун и южнее переправимся через Лагарфльот.
— Как скажешь, — пробормотал Гест. Никогда в жизни ему не было так одиноко.
Тейтр взглянул на него, едва ли не с любопытством, и расплылся в усмешке. От смущения Гест невольно опустил глаза. Оба молча ели, а солнце между тем поднялось над льдами, засверкало на водах фьорда. Туман мало-помалу растаял, и перед ними открылись боргарфьярдарские долины, словно пухлый зеленый мешок меж черно-белыми кряжами гор и лазурным морем на горизонте.
— Надо спуститься пониже, — сказал Тейтр, будто, глядя на эти земли, которые им суждено покинуть, набрел на нежданную мысль. — Здесь-то, наверху, только лед да камень.
— Как скажешь, — повторил Гест.
Первые дни он шел за Тейтром, с тремя топорами на плече и двумя мечами за поясом, Одинов нож висел у него на шее, на ремешке, и ночами он старался не спать. Но с этим очень скоро пришлось завязать. Стертые в кровь ноги не заживали, а шли они и в мокрый снег с дождем, и при сильном ветре, и в туман, и Гесту упорно казалось, что они не одни, ощущение это приходило и уходило со слезами белого исландского неба, сквозь которое они пробирались, медленно, но верно, пересекали реку, одолевали горную гряду и пересекали новую реку, съестное удавалось найти редко, язвы на ногах у Геста гноились и болели, ему было все труднее поспевать за Тейтром.
На четвертый день он сказал, что оружие понесет Тейтр. А на пятый дикарь взвалил на себя обе котомки и одеяла. Утром седьмого дня, когда нужно было переправиться через реку, по которой шел тяжелый лед, Гест так обессилел от голода и холода, что едва стоял на ногах. Тейтр посмотрел на него и сказал, что они сделают привал в долине чуть повыше. Но Гест не мог пошевелиться.
Тейтр взвалил его на плечи и понес. Сквозь забытье Гест отметил, что расположились они на зеленой лужайке у маленького озерца, в которое вливался быстрый, сверкающий ручеек; он лежал под одеялами, чувствовал тепло солнечных лучей, казалось, слышал плеск йорвовского водяного колеса, но глаза его были открыты, он видел, как Тейтр набрал хворосту и развел костер, видел, как он слазил в котомку и достал подаренный Хельгой браслет. Браслет был сплетен из серебряных нитей разной толщины и чем-то напоминал узоры, которые Гест в прошлой или позапрошлой жизни вырезал на деревяшках. Ножом Тейтр отделил одну проволочку, отрезал кусочек, согнул и скрутил так, что получился крючок с двумя остриями. Когда Гест проснулся, дикарь успел поймать двух форелей и теперь разделывал их у него на глазах — запах рыбьей крови, переливы красок на гладкой коже, трепещущие хвосты… Облака порхали над ним, точно невесомые пушинки в небесной синеве.
— Ты спишь, — сказал Тейтр, — хоть и думаешь, что проснулся.
Показав Гесту крючок, он признался, что испортил браслет. Гест буркнул, что он правильно сделал, и прибавил:
— Но мы здесь не одни.
Тейтр ответил, что никого тут нет, он бы заметил, если б кто за ними следил. Рыба тем временем испеклась. Гест ел, чувствуя, что вот-вот проснется, однако Тейтр снова поверг его во тьму.
— Надвигается непогода, — услыхал он грубый голос. — Вон там под скалой есть пещерка, спрячемся в ней.
Тейтр взял Геста на руки, отнес в пещерку, перетащил туда же снаряжение, потом ушел и немного погодя вернулся с охапкой дров. И тотчас налетел первый шквал, оглушительный рев прокатился по окрестностям, хлынул дождь со снегом, снежные хлопья залетали и в черную пасть пещеры, где их пожирал огонь. Так прошло целых три дня. Гест все это время лежал пластом. А Тейтр ходил рыбачить, ставил силки, собирал хворост. Наконец ветер улегся, снег стаял, но горы утонули в густом тумане.
— Не люблю я туман, — сказал Тейтр.
— Почему? — спросил Гест.
— Слишком высоко приходится подниматься, чтобы слишком низко не спускаться. Да сызнова идти вверх.
Гест сказал, что не понял, о чем он толкует. Тейтр пояснил, что в тумане непременно собьешься с пути, хоть чаянно, хоть нечаянно, поэтому они побудут здесь еще некоторое время. А Гест буркнул, что ему все равно, он так и так помирает.
— Коли б тебе суждено было помереть, — сказал Тейтр, — я бы уже тебя прикончил.
Когда прояснилось, израненные ноги Геста почти зажили, и они двинулись дальше. Гесту казалось, идти стало легче, свежий ветерок обдувал мысли, делал их добрыми и гладкими, как речная галька. Он снова вызвался нести оружие, и Тейтр, протянув ему один из топоров, с кривой усмешкой обронил, что коли он возьмет оружие, то должен нести его до конца.
Гест посмотрел на искусно изукрашенный топор, подарок Торстейна, прикинул на глаз, сколько он весит, и сказал, что Тейтр может оставить его у себя.
Шли они пятнадцать дней, переправились через пять десятков рек, пересекли три десятка долин, Гест все сосчитал. Тейтр научил его держать одежду в сухости, научил отдыхать не перед самой переправой через реку и не сразу после нее, но посреди перехода меж реками. Тейтр умел лечить стертые ноги и знал, как нужно дышать во время песчаных бурь на Спренгисандуре. Спали они на солнце, когда оно светило, и шли, когда солнца не было, зачастую и по ночам. Людей не видали ни разу и на равнину не спускались. Не верилось ему, что такое возможно, сказал Тейтр. Но теперь он знает: оказывается, возможно. Он варил рыбу в горячих источниках и уговаривал Геста искупаться и выстирать одежду, тогда, мол, не будет язв и болячек. Только Гест не слушал его. Не научился он и терпеть голод. Под конец, когда они спускались к реке Лагарфльот, Тейтру опять пришлось тащить его на себе.
Они вышли на летнее пастбище в южной части долины, где стояла овчарня с жилыми помещениями и паслось несколько овец с ягнятами. Тейтр хотел сразу же забить одного из ягнят, но Гест запретил. А Тейтр подождал, пока он уснет, и все-таки зарезал ягненка, освежевал и разжег огонь в очаге. В этой овчарне они провели два дня. Гест ел, спал и почти ничего не говорил, телом он был не просто мал, а прямо-таки постыдно ничтожен, и эта открытая рана не заживет никогда.
Еще два дня потребовалось, чтобы одолеть последний участок пути, пересечь Судурмулу, и когда наконец на горизонте завиднелось море, ноги у Геста опять были вконец разбиты. Он рухнул наземь, не в силах идти дальше. Тейтр сел рядом. Оба смотрели вдаль. День выдался ясный, безветренный. И вышли они прямиком к Рейдарфьорду. Гест сложил вису про шестнадцать сторон света. Тейтр выслушал стихи, потом спросил, что это значит.
— Не знаю, — ответил Гест. — Стихи-то сочиняю не я. Я просто произношу слова, слышанные от человека, который некогда прожил у нас одну зиму.
— Ты и во сне их произносишь, — сказал Тейтр.
— Я их говорю и когда бодрствую, и когда иду. Все время их твержу.
Заночевали они в узкой горной долине, а наутро начали спускаться по обрывистым кручам. Погода по-прежнему стояла тихая, ясная — и вдруг разом стало жарко, тяжелый, решительный летний зной плыл навстречу из фьорда. Потом они увидели корабли — пришвартованные у берега и вытянутые на сушу с северной стороны фьорда. Корабль Хельги сына Скули сразу бросался в глаза — самый большой из тех, что стояли на моренной отмели; с берега на борт вели широкие дощатые сходни, грузчики таскали на корабль товары из больших складских палаток, раскинутых прямо под береговым обрывом. Рядом грузились еще три судна, тоже морские, только куда меньше размером, вокруг толпились кучки людей, вроде бы вели торг.
Гест с Тейтром обогнули вершину фьорда, вышли на скалы над палатками. Тейтр снял с себя оружие, отдал Гесту. Тот смущенно глянул на оружие, закинул на плечо старый топор с рыбьей головой и сказал, что второй, подарок Иллуги, Тейтр может оставить себе. Тейтр мгновенно просиял улыбкой, схватил топор, несколько раз подбросил вверх, но не вымолвил ни слова, только бросал и ловил. Впрочем, немного погодя все же сказал, что никогда прежде не получал подарков и потому хочет поблагодарить. Поблагодарил, плюхнулся на траву, положил оружие на колени и стал внимательно рассматривать, будто увидел впервые или оно преобразилось в тот миг, когда перешло в его собственность.
Сидя на скале, Гест наблюдал за происходящим внизу. На борт корабля Хельги взошел мальчонка с мешочком на плечах, опустил свою ношу на палубу и, увидев, что мужчина, сидевший в сторонке на бревне, кивнул, вернулся на берег и зашагал к палаткам.
Гест быстро спустился вниз и, когда мальчонка с новым мешком направился к сходням, заступил ему дорогу, спросил невзначай, как его зовут, сунул в руку монетку и велел передать Хельги — по секрету, чтоб никто другой не слышал, — что двое пришельцев хотят встретиться с ним.
— Вон там, за утесом. — Он показал, где именно.
Мальчонка кивнул и в некотором замешательстве поднялся на корабль, меж тем как Гест с Тейтром двинулись к означенному утесу и схоронились за ним. Немного спустя пришел Хельги — большеротый здоровяк средних лет, в длинном темно-красном плаще, наброшенном на богатырские плечи; насколько мог видеть Гест, безоружный. Черты лица грубые, ростом примерно как Тейтр. Из-под жестких черных волос смотрели спокойные, любопытные глаза. На правой руке уцелел один-единственный палец — большой. Гест обратил внимание, что по сторонам Хельги не озирался и словно бы ничуть не опасался угодить в засаду. Бросив беглый взгляд на условный знак Клеппъярна — погнутую серебряную монету, — он испытующе воззрился на Тейтра и, наконец, снова посмотрел на Геста.
— Стало быть, ты и есть убийца Вига-Стюра, — задумчиво произнес он. — А это — дикий человек, который шел с тобой через горы?
— Ему тоже надо в Норвегию, — сказал Гест.
Но Хельги вроде как не слышал. Судя по всему, размышлял. Потом кивнул на монету и поинтересовался, откуда Клеппъярн ее взял.
— Она из Англии, — ответил Гест. — Вы же были в Англии с конунгом Олавом. А прежде — в Дании, в дружине конунга Олава Синезубого.
Хельги кивнул, снова погрузился в раздумья, пожал плечами и, указав на расположенный невдалеке мыс, сказал, что в бухте за этим мысом они найдут тюки с сермягой и прочим добром, а также одежду и еду; в этих-то лохмотьях, какие на них сейчас, на люди показываться никак нельзя. Еще им надобно подстричь волосы. А вечером, когда народ угомонится, они должны прийти с товарами на корабль: дескать, торговцы, договорились с Хельги о перевозе. Тейтр пускай изображает немого, говорить будет Гест, и как можно меньше.
— Никто на борту знать не знает, кто вы такие, за исключением Кольбейна Клина, совладельца корабля. Скажете, что вы с полуострова Мельраккеслетта, там ни у кого родичей нет. Отплываем завтра же.
Возле бухты Гест с Тейтром нашли все, о чем говорил Хельги. Большую часть еды Тейтр отдал Гесту, потом спросил, откуда он знает, что ему, Тейтру, тоже надо в Норвегию. Гест озадаченно посмотрел на него:
— Так ведь здесь тебе оставаться нельзя.
— Я никогда не бывал в чужих краях.
— Я тоже.
Тейтр призадумался и сказал, что не уверен, хочется ли ему уезжать.
— Здесь тебе оставаться нельзя, — повторил Гест.
— Я не ведаю, что там. — Тейтр кивнул вдаль.
Гест улыбнулся:
— Там Йорсалаланд и Сикилей.[22]
— А что это такое?
Гест рассказал про Йорсалаланд и про Сикилей, рассказал то, что в свое время слышал от Эйнара о раскаленных морях песка, которые зовут пустыней, о великом множестве людей в белокаменных городах, о несметных сокровищах и дворцах, о языке, на котором говорил новый Бог, тот, что в непостижной мудрости своей отдал на распятие собственного сына, дабы тот кровью своей искупил людские грехи, спас человеков, это скопище грешников и несчастливцев.
Тейтр раз-другой качнул могучим торсом, заслонил лицо, подождал, пока Гестов рассказ уляжется в голове, и тихонько произнес:
— Не по душе мне море. И корабли тоже.
Гест сказал, что корабль Хельги — самый большой кнарр,[23] какой ему доводилось видеть, берет на борт шестьдесят человек с товарами и оружием и притом надежен, как суша.
Тейтр все еще сомневался. Взял в руки нож, которым резал мясо, поглядел на него в точности так же, как немногим раньше смотрел на топор, нежданно ставший его собственностью. Гест невпопад спросил, откуда у него этот нож. Тейтр не ответил, только с усталым видом протянул ему нож и повернулся спиной: дескать, давай режь волосы.
В сумерках они поднялись на борт. Хельги встретил их как старых знакомых, громко завел с Гестом разговор о людях, о которых тот слыхом не слыхал, дал каждому по кожаному спальному мешку и указал место на палубе подле кормового помещения, каковое занимали он сам и Кольбейн. Кольбейн тоже вышел поздороваться, был это опять-таки норвежец, но малорослый, щуплый, намного моложе Хельги, одет в серую сермягу, как все матросы. Подобно Хельги, он заговорил с Гестом как с давним знакомцем, упомянул даже про отца его и про Мельраккеслетту, после чего, посмеиваясь, удалился.
Наутро погода по-прежнему была ясная и безветренная. Тем не менее Хельги приказал спустить корабль на воду и загрузить самый тяжелый товар. Палатки разобрали, перенесли на борт. Кольбейн собирал гребцов. Когда они вышли из фьорда, солнце стояло уже высоко, но ветра все не было и царила мучительная духота.
Ни в этот день, ни на следующий попутного ветра так и не дождались.
Утром третьего дня Гест пропел нид про Онунда и едва успел закрыть рот, как один из исландцев встал с лавки, на которой лежал, и не спеша направился к нему, как будто бы с любопытством. Впрочем, выражение его лица быстро изменилось. Исландец сказал, что знает, кто он такой — убийца Вига-Стюра, Торгест сын Торхалли, а вот сам он в дальнем родстве со Стюром.
Тейтр — он притворялся спящим — смекнул, что происходит, вскочил и стал между ними, размахивая руками и недвусмысленно давая понять, что отправит исландца за борт, коли тот приблизится к Гесту.
Подоспевший Хельги выслушал обвинения, в том числе по адресу Тейтра. Кормчий позволил исландцу высказаться до конца, обезоруживающе улыбнулся и в свою очередь сказал, что утверждения его совершенно беспочвенны, малыш Атли никакой не убийца, да и не скальд вовсе, просто повторяет стихи, слышанные от других.
— Спой-ка нам из Эгиля,[24] — бросил он через плечо.
Гест, помедлив, пропел начальную строфу «Выкупа головы».
— Очень к месту, — сухо заметил Хельги, но добавил, что в знак доброй воли Гест должен уплатить обвинителю небольшой выкуп за то, что произнес обидные стихи про Онунда.
Гест опять помедлил, однако сделал как велено. Исландец, недовольно ворча, принял выкуп, метнул свирепый взгляд на Тейтра и вернулся к веслам. Тейтр пошел за ним следом, сел обок, всей пятерней ткнул себе в разинутый рот, сокрушенно помотал головой, издал горлом несколько натужных рыгающих звуков, в результате исландец брезгливо отвернулся, а все остальные с облегчением рассмеялись.
Гест так и сидел с открытым кошельком в руках и смотрел на подаренное теткой серебро, он успел пересчитать деньги и обнаружил, что там куда больше трех марок. Потом, представив себе Хельгу, поневоле признал, что лицо ее слилось в памяти с материнским, хотя облик и голос не забылись, как наяву он услышал ее слова: «Аслауг получит хорошее приданое». Тут он опять почувствовал голод, и эта мысль исчезла, как и все прочие. Не умею я терпеть голод и холод, подумал он, но сейчас хотя бы солнечно и тихо.
Подошел Кольбейн, положил руку ему на плечо, кивнул на румпель рулевого весла и сказал, что надобно стать спиной к борту, а румпель положить на правое плечо, так действует умелый кормчий, коим ему должно быть.
Слабый ветерок с берега затянул море туманной дымкой, скользнул по недвижным веслам и улетел к серовато-белому горизонту. И снова все замерло. Но ближе к ночи задул попутный ветер. Поначалу вялый, ленивый, он быстро посвежел и усилился, стал крепким, упорным, а Гест, сидя рядом с Тейтром на корме, слушал глухой шум паруса, следил бег корабля по волнам — меж тем как Исландия исчезала в тумане — и чувствовал на сердце великую тяжесть, оно точно свинцом налилось, и бремя это вновь изошло словами. Только на сей раз ветер унес их прочь, да кое-что перехватил Тейтр, который украдкой наклонился к нему и шепнул, что нож ему дал Клеппъярн.
— Но при этом он ничего не говорил, так что я мог делать с ножом что угодно.
И Гест понял, что в странствии через горы он, сам того не ведая, приручил дикого зверя, а может быть, снова необъяснимым образом спас себе жизнь, но в любом случае он остался таким же, каким был до того, как отомстил за отца.
Стрелы
На протяжении всего плавания Тейтр мучился морской болезнью и твердил Гесту, что помрет. Он совершенно пал духом, без конца блевал и на глазах худел; корабельщики смеялись, а дикарь только неуклюже отмахивался от них да бессмысленно рычал, однако ж ни разу не проговорился.
Сам Гест съедал подчистую все, что ему доставалось, чувствуя, как возвращаются силы, но держался наособицу, разговаривал только с Хельги и Кольбейном, который тайком выспрашивал о подробностях конфликта со Снорри, а более всего о положении во Флокадале у Клеппъярна, старинного его друга.
Неугомонный сильный ветер промчал их по всему Норвежскому морю, и уже через пять ночей и четыре дня они подошли к Агданесу. Но когда поплыли меж островов и по фьорду курсом на Нидарос,[25] внезапно настал штиль, а потом с востока потянул легкий встречный ветер и совершенно прояснилось. Хельги приказал убрать парус и сесть на весла, а в следующий миг Гест почуял незнакомый запах.
— Лес, — сказал Хельги, кивнув на темные кручи по обе стороны фьорда, который мало-помалу сужался, точно акулья глотка.
Гест стоял и смотрел на эту диковинную колышущуюся массу, которую сперва принял за черные скалы, но по мере того, как корабль скользил в глубь зеркально-гладкого фьорда, она становилась все зеленее и выше, и ему хотелось очутиться на суше, окунуться в эту зелень, покинуть море и поглощать запахи и растения, каких там наверное полным-полно; того же, видать, хотелось и Тейтру, чья физиономия, несмотря на штилевое море, нимало не порозовела.
Однако недавней беспечности на борту как не бывало, Хельги и тот выглядел сосредоточенным, во всем его облике сквозила предельная настороженность, он отдавал короткие, резкие приказы, даже мечом вдруг опоясался. Корабельщики меж тем налегали на весла, молча, без шума, тоже, поди, призадумались, что же такое струит им навстречу мохнатая пасть под чистым голубым небом и щедрым солнцем, казалось бы предвещающим лишь вечный мир и дремотный летний вечер в богатом краю.
Они миновали несколько больших усадеб на южных склонах фьорда, но не видели ни людей, ни кораблей, ни лодок. Дальше фьорд снова расширился, а кораблей по-прежнему нет как нет. Хельги негромко распорядился грести к берегу, указал на небольшой береговой выступ, где стеною высился густой лес, велел стать на якорь, растянуть навес над палубой и немного поспать — ночь-то коротка.
Корабельщикам хотелось сойти на берег, разжечь костер, прилечь среди вереска, но Хельги сказал, что, может статься, власть тут переменилась, он, конечно, не знает, что произошло за годы его отсутствия, однако ж властители много раз менялись с тех пор, как конунг Хакон Добрый[26] привез в страну новую веру. Следом за ним правил ярл, сумасбродный Хакон[27] из Хладира, затем настал черед конунга Олава Трюггвасона,[28] который тоже целиком посвятил себя Белому Христу и в конце концов погиб в битве при Свольде,[29] после чего наслаждаться властью и хладирскими богатствами вновь выпало ярлу, на сей раз Эйрику сыну Хакона, а он не был ни христианином, ни язычником, сиречь именовал себя то христианином, то язычником, смотря что сулило выгоду ему или многочисленным его соратникам, но самое главное, был Эйрик ярл величайшим военачальником из всех, что когда-либо властвовали на здешних берегах, и оттого недругов имел предостаточно, Норвегия-то большая, глазом не окинешь.
— А я всего лишь купец, — закончил Хельги.
Когда они проснулись, над фьордом лежал густой белый туман. Тейтр сызнова рвался на берег, но уже настолько воспрянул, что дважды ублажил себя едой, а уж пива выпил вовсе немерено. Хельги решил воспользоваться плохой видимостью и пройти на веслах дальше, вдоль южного берега фьорда. Наконец, когда они вошли в узкую бухту, кормчий дал команду сушить весла. Теперь корабль двигался только по инерции.
По-прежнему царило безветрие, на лугу за лесистым мысом они увидели пасущихся коней, потом показались лодки, в большинстве зачаленные у берега, а на суше — морской корабль и три больших сарая, только людей не было в помине. Правда, на самом верху зеленого склона маячили дома. В этот миг сквозь туман пробилось солнце, и Хельги сказал, что теперь все равно не скроешься, можно грести к берегу и вообще делать что угодно — разницы никакой.
На воду спустили челнок, Кольбейн с двумя людьми — все трое при оружии — взялись за весла и направились к берегу, и Гест увидел, как Кольбейн выбрался на полосу отлива и зашагал к лошадям, явно вполне ручным, ухватил одну из них за гриву, присмотрелся к тавру, обернулся и сделал какой-то знак рукой, Хельги опять же ответил условным знаком, и Кольбейн пошел вверх по склону, не торопясь, прямо посреди луговины, хорошо заметный со всех сторон, временами он исчезал в высокой траве, но тогда поднимал вверх копье, словно вымпел. Гест вопросительно посмотрел на Хельги, который не говорил ни слова, и на Тейтра, который, расхрабрившись от пива, схватил свое оружие и стоял у борта, готовый к прыжку, наклонясь вперед, будто драконья голова на форштевне. Хельги взглянул на него и неожиданно сделал резкое движение в его сторону, Тейтр отпрянул, как испуганное животное, а Хельги громко захохотал.
— Здесь живет мой друг, — сказал он и поднес ладонь к уху.
Гребцы, стерегшие челнок, слегка покачали головой; команда по-прежнему сидела на гребных банках, но весла недвижно висели в петлях уключин, на коленях у всех лежали мечи и топоры. Меж сараями на берегу бежал ручей, и Гесту вдруг почудилось, будто журчанье его стало громче, потом он приметил движение в лесу по обе стороны бухты — вооруженные люди норовили окружить Кольбейна и его спутников. Однако Хельги, углядевший их раньше Геста, сказал, что они были там с самого начала, и опять легонько усмехнулся.
Словно повинуясь беззвучному сигналу, Кольбейн повернул назад и спустился на берег в ту самую минуту, когда из лесу вышел незнакомец в синей рубахе, они обнялись и завели громкий разговор, а из чащобы меж тем вынырнули еще несколько человек, Гест услыхал смех, в сторону корабля что-то закричали, челнок столкнули на воду, и Кольбейн, его спутники и человек в синем направились к кораблю.
Власть не переменилась, Эйрик ярл сидел крепко, как и восемь лет назад, когда разбил при Свольде конунга Олава и захватил все его владения здесь, на севере. Правда, Хельги, узнав об этом, вроде бы опять встревожился, уже по иному поводу, одна забота ушла, другая пришла. Он распорядился выгрузить часть товаров и сложить в сараях на берегу; двое из команды останутся тут для охраны, в том числе исландец, который опознал Геста. И Гест долго ломал себе голову, зачем это нужно, но в конце концов волей-неволей и на сей раз пришел к выводу, что подоплека событий ему совершенно непонятна.
Ближе к вечеру они продолжили путь. Фьорд сужался и опять расширялся, усадьбы по берегам стали многочисленнее и богаче, сумерки густели, и к торговому городу они подошли далеко за полночь.
Стоя обок Хельги, Гест смотрел, как за низкими мрачными зарослями, напоминавшими защитные укрепления, поднимается город — сперва разбросанные там и сям дымы, потом дома, теснящиеся друг к другу, точно жерла исландских вулканов, только островерхие. Хельги указал на самое высокое здание: это, мол, церковь Святого Климента, воздвигнутая конунгом Олавом, многие так и зовут ее — церковь Олава. За нею зеленел незастроенный участок, а дальше опять виднелись дома и вторая церковь — Богородицы; когда Хельги покинул город, она была недостроена и, наверно, такой и осталась, если он не ошибается в оценке ярла.
Потом кормчий кивнул на север, в сторону Хладира, усадьбы ярловой, где стояли на якоре два превосходных корабля — собственный Эйриков «Железный Барди» и «Длинный змей», захваченный как трофей после победы над конунгом Олавом, — а помимо того, целый флот датских, исландских и норвежских торговых судов, несколько военных кораблей, украшенных на форштевне драконьими головами, с палатками на палубе и без оных. Было тихо, тепло, возле двух причалов у оконечности мыса Нидарнес тоже виднелись зашвартованные корабли, на берегу горел костер, и средь светлой летней ночи разносились голоса.
Команда рассчитывала пройти на веслах вверх по реке, до постоялого двора, где любила посидеть, но Хельги и на этот раз решил по-своему: якорь они бросят у Хольма, челнок он никому не даст, выпить можно и на борту — бочонки с пивом покуда не опустели.
— Нравятся мне лодки-то, — шепнул Тейтр Гесту, когда они улеглись на свои одеяла, а команда занялась пивом.
Гест закрыл глаза, а немного погодя до него донесся плеск весел, потом о борт стукнула лодка, и незнакомый голос осведомился, кто у них кормчий и откуда они пришли. Кольбейн ответил дружелюбным тоном, но довольно туманно. Когда лодка ушла, Хельги принес две котомки и новое платье, чтобы назавтра оба переоделись.
Итак, Гест в Норвегии. Разбудили его крики чаек. Было очень жарко, капли росы сверкали на палубе, на крыше кормового помещения, на свернутом парусе, на одежде корабельщиков, которые где пили, там и уснули. Над городом тянулись к небу дымы, легкий ветерок доносил звуки человеческого жилья — стук топоров, лязг железа, громыханье телег, гвалт домашней скотины, людские возгласы.
Хельги выбрался на палубу, жмурясь от яркого солнца, и сказал, что ни завтракать, ни будить других они не станут, просто потихоньку покинут кнарр. Они собрали вещи, погрузились в челнок, Тейтр с Гестом взялись за весла и направились к одному из причалов Эйрара.[30] Оттуда пешком зашагали по берегу на юг, миновали две лодочные верфи, где народ аккурат приступал к работе; Гест почуял запах конюшни. Хельги зашел внутрь и тотчас же вышел с каким-то мальчонкой и тремя оседланными лошадьми, дал мальчонке немного денег, и дальше на юг поехали верхом — вскоре город остался позади, вокруг зеленели лесистые холмы.
Гесту хотелось спросить, куда они держат путь, но он смолчал, только изумленно смотрел на лес, прислушивался. Тейтр тоже не говорил ни слова, он заметно растерялся, очутившись под этим зеленым пологом, который, словно зарифленные паруса, многоярусным сводом вздымался над головой. Через некоторое время они сделали привал у ручья и поели, а ручей бежал по краю обширного огороженного участка, и Гест слышал вдали мычанье коров и детский смех. Хельги велел им подождать и куда-то ушел, а вернувшись, сказал, что Эйстейна сына Эйда обычно можно застать у здешнего бонда, с коим они водили дружбу, но, как выяснилось, Эйстейн не появлялся тут уже несколько недель, возможно, сидит при ярле, в Хладире, однако ж туда им ехать нельзя.
— И исландцев в городе слишком много, — добавил Хельги, — так что там тебе опять же делать нечего.
Вдоль огорожи участка они проехали вниз по склону, к сенному сараю. Глухой темный лес высился по ту сторону узкой долины, на дне которой журчал ручей. Гест едва не оглох от птичьего щебета. В сарае оказалось много прошлогоднего сена. Хельги велел им схорониться здесь, разговоров ни с кем не затевать, сидеть тихо и ждать его, он вернется завтра или, может, через неделю, трудно сказать когда, но бонд знает, что они тут, и каждый вечер один из работников будет приносить им еду.
— А лошадей я заберу с собой, — закончил Хельги.
Сидя в дверях сарая, они провожали взглядом Хельги. Гест сказал, что ему все это не по душе. Тейтр согласился и добавил, что особенно ему не по душе лес, он ведь вроде тумана, дальше нескольких саженей вперед не заглянешь, ни направление, ни расстояние, поди, толком не определишь, а в придачу страшенный гомон сонмищ незримых созданий в листве, которая, в свою очередь, распространяет всяческие шелесты и шорохи и переливается несчетными оттенками зеленого, словно бурное море.
— Как думаешь, Хельги вернется? — спросил Гест. — Может, он хочет, чтоб мы сбежали и отвязались от него?
Тейтр пожал плечами и сказал, что вообще ничего не думает, а сбежать хотел еще той ночью, когда они стояли у Агданеса, но Хельги его остановил. Гест проворчал, что он и не заметил. Тейтр съязвил: мол, Гест много чего не заметил, ведь только и делал, что ел да спал. Гест хмыкнул, а Тейтр насмешливо хохотнул.
— Плавать я не умею, — помолчав, сказал он, будто решил пояснить, почему до сих пор здесь.
— А мы в безопасности? — спросил Гест.
— Пожалуй, это зависит от нас самих, — отозвался Тейтр. — Но лес этот мне ох как не нравится, в здешнем шуме ничегошеньки не услышать, да и увидеть тут ничего не увидишь…
Взобравшись на самое высокое место меж огороженными участками, они увидели усадебные постройки на склоне, спускающемся к узкому фьорду. Сели на траву. Солнце стояло высоко в небе. Жужжали насекомые. Птичий хор гремел не умолкая. Гест задремал и проснулся от звука голосов. Тейтр придавил его к земле и шепнул, что лучше им не вставать. Шаги. Приблизились и опять удалились, затихли. Гест с Тейтром не двигались. Наблюдали за усадьбой и своим укрытием, но так ничего и не приметили.
В конце концов Гест решил, что надо спуститься вниз, только в сарай не заходить. Оба притаились поблизости, в высокой траве, и стали ждать. Когда стемнело, опять послышались шаги — работник принес еду. Они видели, как он заглянул в сарай, постоял, безучастно пожал плечами и повернул обратно. Поскольку же узелок со снедью он из рук не выпустил, Тейтр встал и заступил ему дорогу. Работник — он был стар и мал ростом, — словно не веря своим глазам, воззрился на чужака, спокойно поставил узелок на траву, обошел их стороной, держась на почтительном расстоянии, и зашагал к усадьбе.
— Заночуем в сарае, — сказал Тейтр.
Наутро, когда они опять сидели на вершине холма, вернулся Хельги, на сей раз одетый как богатый купец — в шелковом плаще цвета темного бургундского вина, с меховым воротником и расшитой каймой, к луке седла подвешен блестящий щит, седельные сумки новенькие, из светлой кожи. Только лошади те же, и выглядел Хельги еще более встревоженным, чем намедни, перед отъездом. Сообщил, что надобно ехать дальше, в долину Оркадаль.
Путь лежал по узкой тропе, змеившейся через лес, средь высоченных деревьев. Хельги, по всей видимости, хорошо знал здешнюю округу, и в следующей усадьбе, которая была намного больше первой, повторилась прежняя история: он оставил их в лесу, а сам пошел в усадьбу и, вернувшись, указал новый сарай, тоже на отшибе и тоже с прошлогодним сеном, но попрочнее давешнего — дощатый, крытый дерном. С порога они видели огороженные угодья, просторные дома и фьорд. За сараем виднелась частая изгородь, а за ней поднималась к небу горная круча. Тейтр сказал, что тут ему нравится больше, он даже птичий гомон готов стерпеть.
— Здесь живет именитый хёвдинг, — сообщил им Хельги. — Некогда один из самых могущественных в стране, из числа ближних людей конунга Олава. После Свольда Эйрик ярл даровал ему пощаду и ради вящей безопасности женил его на своей родной сестре Бергльот, вот с той поры он и сидит тут на покое, это ему не возбраняется.
Гест спросил, как зовут хёвдинга, однако Хельги будто и не слышал, только проворчал, что в ближайшие дни непременно разыщет Эйстейна и наконец-то свалит с плеч долой это нелепое поручение, продаст товары и отправится на юг, в Бьёргвин,[31] где сбудет остатки, а уж оттуда поплывет зимовать на Оркнейские острова, к семье; после смерти конунга Олава он их там поселил.
— Не по душе мне теперь в Норвегии, — заключил Хельги свою речь, ничего не объясняя, и причин дурного настроения, которое внезапно одолело его, тоже не назвал.
Лошадей он опять забрал с собой.
Время остановилось. Погода была чудесная. И днем и ночью. В сарае они только ночевали, а так все больше бродили в холмах, охотились. Тейтр смастерил лук и учил Геста стрелять. Гест пока что ни разу в цель не попал. Сам же Тейтр добыл нескольких зайцев и олененка, с жадным любопытством освежевал их и разделал. Костры они всегда разводили в низинах, причем в разных местах. День ото дня Гест стрелял все лучше. Тейтр отыскал кустарник с прочной и гибкой древесиной — в Исландии такие не росли — и сделал Гесту лук покороче, из которого тот бил почти без промаха.
Каждый вечер приходил трэль, приносил еду — молоко, мясо, хлеб, иной раз яйца и рыбу. Он всегда молчал, а они ни о чем не спрашивали. Гест заметил, что каждый вечер места себе не находит, мучится тревогой, мыслями о том, что Хельги не возвращается, небось с радостью бросил их тут и уплыл себе восвояси. Но на самом-то деле он просто ждал трэля, невмочь ему было терпеть голод. Ну когда же, когда его тело забудет про это жуткое странствие через всю Исландию?
— Слишком ты мал, — сказал Тейтр, и у Геста не в первый раз возникло ощущение, что дикий человек видит его мысли.
Обитателей усадьбы они видели лишь изредка и неизменно на большом расстоянии. Те начали сенокос — от фьорда вверх по отлогому холму, постепенно и до горной кручи наверняка доберутся; Гест в жизни не видывал столько травы, да и птичий гомон ему теперь не докучал, а Тейтр все чаще твердил, что лес ему по душе, ведь он их прячет, пусть даже в нем не больно-то много расслышишь и разглядишь, но и другие в таком же положении — в общем, все на равных.
Гест с подковыркой заметил, что Тейтр весьма часто меняет свое мнение. Тейтр только плечами пожал: ему-де непонятно, о чем это Гест толкует.
Как-то утром Гест, сидя возле сарая, взял палку и Одиновым ножом вырезал на одном ее конце головку ящерицы. Ящерицу он видел аккурат этим же утром и долго ее рассматривал.
Она словно оцепенела, даже глазки не двигались. А потом вмиг исчезла, ровно сновиденье. Тейтр, пошатываясь со сна, вышел из сарая, заметил Гестову ящерку — она была как живая — и испуганно отпрянул. Гест рассмеялся, выставил палку вперед, будто меч, и помахал ею у дикаря перед носом. Тейтр проворно шагнул в сторону, выхватил у него палку, зубами разгрыз резную головку, а щепки выплюнул на траву.
— Будешь теперь сам улаживать свои дела, — сказал он и зашвырнул палку в лес.
Гест нашел другую деревяшку и, пока Тейтр ходил по нужде в заросли, опять принялся за резьбу. Вернувшись, Тейтр сел поодаль, но украдкой нет-нет сердито на него поглядывал. А немного погодя пересел поближе и спросил, как Гест это делает. Тот показал, и Тейтр тоже попробовал — сперва своим ножом, а затем, поскольку ничего путного не выходило, попросил Гестов. Однако ж, как ни старался, результат был плачевным, и он ломал деревяшки, одну за другой. В конце концов вскочил и в сердцах изломал даже лук, который смастерил для Геста, и все стрелы. Мол, лук этот никуда не годится, надо прямо сейчас пойти в лес, подыскать хорошую ветку, и Гест сам сделает себе новый лук, под его, Тейтровым, руководством. Гест спрятал нож в ножны и сказал, что он не против.
Над луком они трудились весь день. От шкуры, на которой они сидели, Тейтр отрезал полоску для тетивы, снарядил лук и, взявши его в обе руки, сказал, что не верит своим глазам: мол, на своем веку, и в Свенафелле, и во Фльотсли, он перевидал много луков, принадлежавших самым могущественным хёвдингам Исландии и сделанных во Франции, в Ирландии и в Англии, однако равного этому не видел никогда. Но сперва дерево должно просохнуть, озабоченно добавил он, так что снаряжать тетиву должно только перед охотой.
Тут он разом посерьезнел и протянул лук Гесту — как редкостное, но недоброе сокровище, — резко отвернулся и ушел в лес.
Гест окликнул его. Но Тейтр не слышал.
Подождав некоторое время, Гест вернулся к сараю. Тейтра и там не было. Свечерело, настала ночь — Тейтр не появился.
Впервые Гест заговорил с трэлем, который приносил еду, спросил, не видал ли тот его товарища. Трэль помотал головой и вроде как замыслил унести туес с провизией обратно в усадьбу. Но Гест не допустил, забрал съестное и отдал ему пустой туес. Трэль взял его, однако ж уходить медлил, словно о чем-то задумался, и Гест спросил, какая у него печаль. Трэль опять мотнул головой и в конце концов признался, что хотел бы отведать хлеба. Гест озадаченно воззрился на него. А он повторил, что хотел бы отведать хлеба. Гест посмотрел на хлеб, на ячменные лепешки, испеченные либо на плоском камне, либо на железной сковороде.
— Ты что же, голодный? — спросил он. — Не кормят тебя?
Трэль пожал плечами. Гест отломил кусок лепешки, протянул ему, он внимательно рассмотрел мякиш, опасливо сунул в рот и долго жевал. Потом вдруг скривился и все выплюнул, со слезами на глазах, будто наелся отравы. Гест тоже отломил кусочек, пожевал — хлеб как хлеб, вкусный, свежий.
— В чем дело-то? Тебе такой хлеб не дают?
Трэль нерешительно взглянул на него, качнул головой и тотчас поспешно кивнул, словно отрекаясь от признания, пока оно не обернулось бедой. Тут Гесту пришла в голову одна мысль:
— Кто дает тебе еду? Ту, что ты приносишь нам?
— Никто.
— Никто? Это как же?
— Одд, управитель, наказал мне каждую ночь приходить к лавке возле поварни, забирать приготовленный там туес и относить сюда. Говорить с вами мне не велено, и вообще не велено никому про это рассказывать. А продолжаться так будет до тех пор, пока на лавку выставляют туес с едой.
Гест легонько усмехнулся:
— А ты вот поговорил со мной.
Трэль попятился, в замешательстве глянул по сторонам. Стояла светлая лунная ночь, в небе кое-где мерцали блеклые звезды, над головой тихонько шелестели пышные кроны осин.
— Другим ты тоже про это говорил? — опять спросил Гест.
— Нет, — решительно ответил трэль.
На вид ему лет шестьдесят, подумал Гест, удовлетворенно отметив, что ростом трэль ненамного выше его самого. Правда, глаза были красные, испуганные, как у измученной рыбы, в верхней челюсти недоставало одного зуба, и говорил он шепеляво, будто рубил слова тупым ножом, а одет был в рванье, вроде тех лохмотьев, в каких Гест с Тейтром впервые встретились с Хельги.
— Ладно, — сказал Гест, — я тоже никому не скажу, что ты пробовал хлеб. А теперь можешь идти.
Трэль опасливо покосился на него, несколько раз поблагодарил и бесшумно исчез в высокой траве.
Ночевал Гест в одиночестве. И спал плохо. Грезился ему снег, глубокий, по самые подмышки, и холод, который, поднимаясь от стоп вверх, в камень оцепенил пах, затем пополз еще выше, в желудок, а когда уже грозил парализовать грудь и остановить дыхание, он углядел у края снежной равнины Аслауг, окликнул ее, но она увлеченно смеялась чему-то находящемуся вне его поля зрения, он позвал снова, проснулся от собственного крика, обнаружил, что весь мокрый от ног до пояса, и воспринял это как дурной знак.
Впрочем, звуки леса говорили ему, что ничего не случилось, и он вдруг сообразил, что лесные голоса стали для него такими же понятными и узнаваемыми, как гул водопада дома, на Хитарау, а потому встал, спустился к ручью, помылся и пошел на то место, где Тейтр резал заготовки для луков.
Он успел подметить, что все луки, сделанные ими до сих пор — в том числе и последний, самый красивый, — теряли силу, едва лишь натяжение превышало некий предел, будто упругость древесины стремительно убывала; ему пришло на ум, что, возможно, дело тут в форме заготовок.
Вырубив два побега, прямо под корень, Гест выровнял их по длине и с одного конца согнул дугой, потом вернулся в сарай, сделал на них зарубки и соединил, обмотав стык кожаным ремешком, так что получилась рукоятка, осталось только надеть тетиву, и лук готов, но с этим он решил подождать до прихода Тейтра.
Тот явился после полудня, мрачный, задумчивый и явно голодный. Гест полюбопытствовал, где он пропадал, однако вместо ответа Тейтр спросил, нет ли чего пожевать. Гест принес еду и сказал, что смастерил новый лук, для него. Тейтр, не отрываясь от еды, взглянул на его работу и буркнул, что никакой это не лук:
— На змею похоже.
Гест предложил ему надеть тетиву, причем арку гнуть не как обычно, а в противоположную сторону. Тейтр, вскинув голову, отказался наотрез: дескать, лук этот ему без надобности. Гест спорить не стал: пусть поест, а там, глядишь, и передумает. Ждать пришлось долго. Наконец Тейтр все ж таки взял лук, нехотя выполнил Гестовы указания и увидел, что согнутые концы распрямились и встали как надо, а тетива легла в зарубки. На пробу он оттянул ее, отпустил, оттянул еще раз, посильнее, и во все глаза уставился на Геста.
— Откуда ты это знаешь? — воскликнул он, оттягивая тетиву в полную силу, отпустил, и она откликнулась чистым звоном.
С громким смехом Тейтр повторил фокус. Потом развязал мешок и вытряхнул в траву двух зверьков с пушистыми хвостами и какие-то железки.
— Это вот, по-моему, белки. — Он ткнул ногой в одного из зверьков и с торжеством в голосе продолжил, подбирая железки: — А это — наконечники для стрел!
Гест взглянул на них — не плоские, а выкованные крестом, если смотреть с острия.
— Их называют жалом, — сказал Тейтр. — Они пробивают хоть кольчугу, хоть медвежью шкуру, был бы только надежный лук. Идем!
Он быстро зашагал в лес, к тому месту, где росли кусты с прочной древесиной, и велел Гесту резать заготовки для стрел, указывая, какие именно побеги годятся, — сам, однако, даже и не думал браться за нож. Позднее, когда они вернулись в сарай, Тейтр объяснил Гесту, как установить жало и накрепко примотать шнурком к древку. В конце концов он одобрил Гестову работу, взял новый лук, вышел на лужайку, насадил стрелу, до упора оттянул тетиву и выстрелил прямо вверх. Стрела исчезла в небесной вышине.
— Стань рядом со мной, — сказал Тейтр. — Ветра нет, и если стрела прямая, то упадет она в одном-двух локтях от нас. Ну а кривая может упасть где угодно.
— Если стрелял ты прямо вверх, — заметил Гест, не двигаясь с места.
Тейтр сердито покосился на него, а он продолжал:
— Не то ведь и стрелу потеряем, и жало.
На это Тейтр ехидно обронил, что потерять кривую стрелу, с жалом или без жала, беда невелика. И немедля расплылся в широкой улыбке — Гест-то начал поглядывать ввысь — и сказал, что, не будь стрела прямая, незачем было бы и стоять на том месте, где он, Тейтр, сейчас стоит, но стрелял он как надо, по-другому не умеет, и стрела была прямая, ведь сделал ее Гест.
Тут Гест все ж таки быстро стал с ним рядом, и тотчас чуть впереди в траве послышался тихий шорох. Тейтр рассмеялся, поднял стрелу, обтер ее и сказал, что теперь Гесту надобно нарезать побольше струн для тетивы, сам же он перемотает рукоятку, а то она малость дает слабину.
Гест старательно отрезал длинную, тонкую полоску кожи. Тейтр принес миску воды, положил туда полоску, срезал обмотку и уважительно покачал головой, увидев идеально ровный стык плеч лука на месте рукоятки, и принялся тщательно обматывать его сырой кожей, витки ложились тугой мягкой спиралью. Закончив, он поднял лук вверх и объявил, что в жизни не держал в руках такого красивого оружия.
Потом он положил лук на солнце, чтобы подсох, а Гест тем временем резал стрелы для остальных наконечников. Затем Тейтр одну за другой выстреливал их прямо вверх, и все они падали прямо к его ногам.
В ближайшие дни Тейтр подстрелил взрослого оленя и нескольких зайцев, а Гест — большую лесную птицу. Ночевали они под открытым небом, Тейтр все время смеялся и без устали нахваливал Гестову сноровку. Потом Гест предложил на пробу пострелять из другого положения.
— Держи лук более наклонно — сказал он. — Вот так или, наоборот, вот так, вообще вертикально.
Тейтр сделал как велено, промазал и буркнул, что не все Гестовы придумки одинаково удачны. Но Гест упросил его продолжать, и мало-помалу дело пошло на лад. Правда, настроение у Тейтра от этого не улучшилось, и он сызнова стал стрелять по-старому. Гест, однако, не отступался, стрелял, держа лук вертикально, и начал превосходить Тейтра меткостью. Тот сел, положил лук на колени, сказал, что Гест обидел его, и добавил:
— Хорошо, что ты маленький. — Долго он сидел так, потом со вздохом встал и начал стрелять на Гестов манер.
Наутро пошел дождь, впервые за все время, что они находились в Норвегии, и был он совершенно не похож на мелкую исландскую морось, тут лило как из ведра, целый день вода потоками хлестала с неба; ручей, возле которого они разбили лагерь, вышел из берегов, то и дело в воду обрушивались небольшие оползни. Все вокруг затянуло туманом, и, возвращаясь к сараю, они нигде не видели ни души, усадьба словно вымерла, поэтому Тейтр собирался запалить костер, чтобы просушить одежду. Но едва оба вошли в сарай, как услышали стук копыт и конское ржание, а потом голос Хельги — кормчий стоял у двери, в том же темно-красном купеческом платье, насквозь мокрый. Ему, сказал он, удалось разыскать Эйстейна сына Эйда, исландец внизу, в усадьбе.
Тейтр вышел на порог, пристально оглядел Хельги — словно одичавшее домашнее животное, которое необходимо заново приручить. И протянул ему лук. Хельги одобрительно осмотрел оружие, кивнул, но тотчас же показал свою искалеченную руку: дескать, такое оружие не для него. А затем сделал нетерпеливый жест в сторону усадьбы.
Однако Тейтр взял его за плечи и, глядя прямо в глаза, объявил, что Хельги может на него положиться. Так и сказал:
— Ты можешь на меня положиться.
Хельги вопросительно уставился на него, потом коротко бросил:
— Ладно.
Тейтр довольно кивнул и закинул лук на плечо.
Дома оказались куда больше, чем представлялось с горы, прочные, бревенчатые. Войдя в главный дом, они сперва миновали два помещения и только после этого попали в пиршественный зал. В первом помещении их встретил трэль, тот, что приносил еду, вынырнул откуда-то, как призрак, и попросил отдать оружие. Хельги оружия при себе не имел, Гест отдал свое без возражений, а вот Тейтр с луком расстаться не пожелал, вручил старику только стрелы.
Они вошли в просторное вытянутое помещение, по обоим концам которого в очагах горел огонь, по стенам никаких признаков спальных комнаток, только два длинных стола, лавки по обе стороны да еще небольшой столик обок верхнего очага, где стояли котлы и блюда, маленькие бочонки и кружки; одна стена сплошь увешана коврами, и в трепетном свете факелов, которые горели на столах, Гест разглядел, что на коврах вытканы целые картины. Он различил фигуру Христа, постройки с куполами и шпилями, должно быть церкви, мужчин в красочных долгополых одеждах и золоченых шлемах, какой-то диковинный корабль, похожий на сундук, и множество всадников на малюсеньких лошадках, напоминающих овец, все с крестами на щитах, а вытканы до того живо, что он, как наяву, слышал пение птиц в сияющей лазури, простиравшейся над грандиозным войском.
Хельги указал им место подле троих мужчин, что сидели в конце одного из длинных столов и молча ели; Гест устроился на лавке и стал рассматривать сцену, изображенную за спиной у Тейтра: люди в длинных одеждах, овцы и несколько горбатых лошадей держат путь по горячему морю светлого песка. Только когда взгляд уперся в золотую звезду над горизонтом, он заметил в конце другого стола, под потухшим факелом, еще одного человека — погруженную в тень внушительную фигуру, глаз не видно, они скрылись в глубоких складках. Черты лица резкие, угловатые; голова крупная, широкая; густые волосы, золотистые с проседью, гладко зачесаны назад; могучие руки спокойно лежали по сторонам большой деревянной миски, но к еде он не притрагивался, на гостей внимания не обращал, только тихонько беседовал с двумя маленькими мальчиками, игравшими на полу.
Гест встал, подошел к нему, поздоровался. Мужчина сдержанно кивнул, но все так же смотрел в сторону. Из тени за очагом вынырнула собака, обнюхала Гестовы ноги, ощетинилась и зарычала, Гест всполошился, однако тут снова появился трэль, вместе с какой-то старухой, которая подала на стол еду и пиво и низким мужским голосом пригласила их откушать.
Гест осторожно отведал угощение, совершенно уверенный, что это последняя трапеза в его жизни. И снова взгляд его углубился в сказочный пустынный ландшафт, где теперь обнаружились три персонажа, три пеших странника с посохами в руках, один, совсем черный лицом, роскошью одеяния затмевал все те богатства, что помнились Гесту по самым ярким Эйнаровым рассказам. Он попросил Тейтра обернуться, взглянуть на ковер, но тот сосредоточенно ел и посоветовал Гесту заняться тем же, он ведь вечно думает о еде, а еда тут отменная — копченая рыба, и хлеба полным-полно, и молоко, и мясо… Отчего Гест не доверился спокойствию Тейтра, чутье которого за все время знакомства ни разу их не обмануло? Теперь вот Тейтр сумел и леса укротить, поскольку извлекал уроки из того, что не происходит, из опасностей, которые не кончаются бедой.
Тут воротился Хельги, в сопровождении незнакомца, и Гест сразу смекнул, что это и есть Эйстейн сын Эйда, их предполагаемый спаситель, исландец, о котором толковал Клеппъярн.
Правда, кое-что в облике Эйстейна удивило Геста: во-первых, он оказался очень молод, всего на год-другой старше его самого. Во-вторых, на голове у него не было ни единого волоса, и он досадливо смахнул с лысины капли дождя, направляясь вместе с Хельги к хёвдингу и почтительно его приветствуя. Великан и на сей раз сдержанно кивнул, обменялся с ними несколькими словами, но не встал, а потом опять сосредоточился на играющих мальчиках.
Хельги подошел к Гесту и шепнул, что им с Тейтром надо выйти наружу.
— А еда? — с полным ртом буркнул Тейтр.
А ковры? — подумал Гест.
Они забрали свое оружие, пересекли свежескошенный луг и вошли в рощу; Хельги смотрел на них и словно чего-то ждал. Настала ночь. Гест опять приготовился к тому, что могло случиться, с таким же любопытством и страхом, с каким ждал падающие стрелы. Дождь тяжелой пеленой висел над лесами, птицы молчали, только вдалеке слышался гул водопада, как неотъемлемая часть оцепеневшего ненастья; Гест обхватил ладонью рукоять топора и заметил, что Тейтр стоит, прикрывая его спиной, как всегда, когда хотел защитить, но тут Хельги внезапно улыбнулся.
— Это Эйстейн сын Эйда, — сказал он, положив беспалую руку на плечо Геста. — Он приехал помочь тебе.
Сейчас Эйстейн выглядел еще моложе, хотя был почти одного роста с Тейтром и одет как человек состоятельный и знатный, станом стройный, правда, сутуловат немного, за поясом меч, на плече топор, изукрашенный серебром; на голову он натянул капюшон, пришитый к вороту рубахи, и стоял, безучастно глядя в пространство.
В темноте за спиной у Геста переступали копытами кони. Хельги сообщил, что хёвдинг там, в доме, это Эйнар сын Эйндриди, по прозванью Брюхотряс, и повторил, что он сражался при Свольде вместе с конунгом Олавом, но ярл даровал ему пощаду и женил на своей сестре Бергльот.
— Стало быть, если кто надумает искать убийцу Вига-Стюра, то сюда явится в последнюю очередь.
Гест почувствовал, что опять дышит свободно, отвел Эйстейна в сторону и поведал свою историю, но еще задолго до того, как досказал до конца, сообразил, что исландец понятия не имел, зачем его сюда притащили. Пока Гест рассказывал, Эйстейн с досадой поглядывал на Хельги, затеявшего шуточную потасовку с Тейтром, сокрушенно качал головой в мокром капюшоне, а потом заявил, что не верит ни единому слову Гестовой истории.
— Откуда мне знать, что ты впрямь подвиг столь многих добрых людей помогать тебе, и здесь, и в Исландии?
Гест вытащил кошелек с условным знаком Клеппъярна, перстнем, кажется привезенным из Миклегарда,[32] протянул Эйстейну, и тот долго и пристально его разглядывал.
— Брат Вига-Стюра был дружинником у Хакона ярла, — веско произнес он. — Я дружинник Эйрика, сына его. Так что в норвежском краю тебе надобно опасаться не только исландцев. Однако ж и здесь, у Эйнара, ты остаться не можешь, ведь на самом деле Хельги ошибается, говоря, что ярл доверяет Эйнару. Эйрик ярл не доверяет никому.
— Ничья власть не вечна, — усмехнулся Хельги. Сидя верхом на поверженном Тейтре, он молотил его по груди. — В том числе и власть Эйрика ярла.
Эйстейн попросил кормчего стать на ноги и объяснить, с какой стати он тащил его сюда да еще и повод придумал: Эйнар-де хочет с ним встретиться! Хельги пропустил вопрос мимо ушей, а Эйстейн кивнул на Тейтра, который врастяжку лежал в мокрой траве.
— Он что, тоже кого-то убил?
— Не в Норвегии, — быстро сказал Гест.
Исландец надолго задумался, потом буркнул, чтоб они шли за ним, в лесу ждут лошади. Все четверо вскочили в седло, берегом фьорда поскакали к кораблю и поднялись на борт. Эйстейн распорядился грести к городу.
Гест лежал в потемках и думал о коврах — черный человек и двое белокожих в желтом, как песок, шатре, подле них стол, а на нем три больших золотых шара, которые, как он теперь догадался, вовсе не из золота, это плоды, ведь все непонятное, что люди видят, врезается в память и требует объяснения, трепещет внутри, точно страх или голод, нарушает спокойное течение мыслей, только вот почему он не видит того, что видит Тейтр, ни опасностей, ни защищенности? Сейчас дикарь, лежа возле борта, храпел, как издыхающий бык, сам же Гест нетерпеливо ждал, когда сон наконец избавит его от голода. Но заснул не раньше, чем услыхал по ровному дыханию Хельги, что и того сморил сон.
Когда он проснулся, вокруг по-прежнему было темно, правда, сызнова жарко и душно, солнце нагрело настил над головой, он был один, корабль не двигался.
Распахнув люк, Гест сразу увидел Тейтра: тот сидел на солнцепеке, прислонясь спиной к борту и полузакрыв глаза. Тихо — слышно лишь легкий плеск зыби о борта, крики чаек да отдаленные звуки города; они снова стояли у Хольма, пришвартованные к кораблю Хельги, но никого из команды не видать, Хельги и Эйстейна тоже.
— На берег поплыли, — сказал Тейтр, и Гест, к своему удивлению, заметил, что на лбу у дикаря залегла озабоченная складка; он теребил тетиву нового лука и прятал глаза. Гесту вспомнилось, как однажды в исландских горах он спросил, из каких Тейтр мест и какого роду-племени, а тот обвел взглядом окрестности и ответил: «Я родом отсюда».
— О чем ты думаешь? — полюбопытствовал он и, заметив на бочке возле мачты миску снеди, жадно накинулся на еду.
— Ни о чем, просто думаю, — ответил Тейтр и молча продолжил это занятие.
Не отрываясь от еды, Гест некоторое время наблюдал за ним, потом спросил:
— Небось прикидываешь, не сбежать ли?
Тейтр с досадой покосился на него и снова закрыл глаза.
— Коли ты сейчас выстрелишь из лука в город, — весело сказал Гест, — то наверняка кого-нибудь убьешь.
Однако ж Тейтр и о луке говорить не желал, попросил Геста посидеть на носу и помолчать, устал он от него и от его чудной болтовни.
Гест пожал плечами, отошел подальше, улегся ничком на палубу и стал смотреть на город. Солнце пригревало спину, он задремал, а Тейтр все думал. Было уже изрядно за полдень, когда от Эйрара отчалила лодка и направилась к ним, сидели в ней только двое — Хельги и Эйстейн, который смотрел все так же недружелюбно, однако несколько более решительно. Он сунул Гесту мешок с одеждой, велел переодеться, потом смерил оценивающим взглядом, на пробу повесил ему на плечо топор, но тотчас же опять снял и в конце концов сказал, что на зиму Гест может остаться при нем. Гест поблагодарил и сразу же спросил:
— А Тейтр как?
— Он останется с Хельги.
Гест посмотрел на силача, который по-прежнему сидел с закрытыми глазами и, судя по всему, знал об этом решении, прошел на корму и стал прямо перед ним в новом своем наряде. Тейтр поднялся на ноги, глянул на него и скривился от отвращения. Гест спросил, намерен ли он отправиться с Хельги на Оркнейские острова. Тейтр ощерился, челюстные мышцы желваками вздулись под свалявшейся бородой. А Гест с улыбкой вручил ему меч, полученный в Бё от Торстейна: мол, отныне этот меч тоже принадлежит ему, и, стало быть, он получил от Геста два оружия или даже три, считая вместе с луком. Тейтр меч принял и долго растроганно таращился на него.
— У меня никогда не было друга, — сказал Гест.
Тейтр наконец открыл рот и пробормотал, что у него тоже.
Повернувшись к Хельги, Гест поблагодарил его за помощь и особо подчеркнул, что он всегда может положиться на Тейтра. Ведь Тейтр не таков, каким кажется с виду. Понятное дело, улыбнулся Хельги, он давно это понял. Когда же Гест хотел отдать Хельги половину денег, полученных в Бё, тот наотрез отказался. Тогда Гест протянул ему поврежденный тетушкин браслет и сказал, что такой маленький дар даже Хельги отвергнуть не может.
— Великоват он тебе, — засмеялся кормчий.
— Что верно, то верно, — кивнул Гест.
Они попрощались, Эйстейн с Гестом сели в челнок и поплыли к берегу. В тот же вечер Хельги снялся с якоря и при легком восточном ветре вышел из фьорда.
Бог
В Норвегию Эйстейн сын Эйда перебрался всего два года назад. Он был христианином, но снискал уважение и среди язычников, и среди единоверцев, потому что редко с кем ссорился, а вдобавок умел при случае дать людям нужный совет, так он сам сказал, с легкой досадой, будто жить в окружении одних только друзей не очень-то и хорошо.
Гест кивнул, правда без улыбки.
Они зачалили челнок у Эйрара и зашагали в гору, сперва меж домов, потом по тропинке меж двух желтеющих ячменных нив и опять вниз, к постройкам, разбросанным вдоль реки, то ли незаконченным, то ли полувымершим. Один из домов пострадал от пожара, на другом двое мужчин ставили крышу, стайка мальчишек везла тачку со щепой к реке, где возле маленького шаткого причала виднелось несколько пришвартованных лодчонок, а больше людей почитай что и нет, как и домашней скотины. Эйстейн сказал, что конунг Олав собирался воздвигнуть здесь свой город, во имя Господа, до самого мыса, однако ж ярлы всегда жили в Хладире и теперь все опять сосредоточилось там.
Наконец они вышли к недостроенной церкви — три стены и ползвонницы, звалась она церковью Богородицы, а священником в ней служил один из Эйстейновых друзей, Кнут сын Горма, уроженец датского Хедебю, со времен конунга Олава проживавший в Трандхейме. Теперь он день за днем упорно трудился, стремясь потихоньку достраивать церковь и при этом не привлекать излишнего внимания трусоватой паствы. Гесту священник сразу не понравился — пришибленный какой-то и глаза прячет, видно, тоже не по своей воле вызвался приютить его, наверняка Эйстейн поднажал; выглядел Кнут священник испуганным, слабосильным, хилым.
Гесту отвели комнатку над конюшней, что стояла рядом с церковью; там он будет ночевать, днем же его место в Хладире. В ярловой усадьбе он будет представляться личным Эйстейновым слугой-свейном и должен держать язык за зубами, безропотно выполняя все, что прикажут, как раб-трэль. Гест, не прекословя, принял означенные условия, скользнул взглядом по сонной серой реке, которая вкупе с морем превращала мыс — и город — в этакий каплевидный полуостров; наверно, здесь легко держать оборону, но, с другой стороны, и сбежать отсюда непросто, мелькнуло у него в голове. Хотя, в сущности, ни то ни другое его ничуть не заботило.
— Я голоден, — сказал он.
И Кнут священник накормил его, правда, сперва велел помолиться, а после смиренно поблагодарить, сам же с плохо скрытым презрением наблюдал, как он ест.
Всю зиму Гест исправно выполнял уговор, сидел за спиною Эйстейна, когда тот трапезничал с дружиной или с иными важными особами, и подле него, когда он трапезничал один, спал в Хладире на лавке у дверей Эйстейновой опочивальни, чистил ему платье и оружие, обихаживал лошадей, как слуга, и рот открывал редко. Однако ж смотрел во все глаза и слушал во все уши, особенно когда поблизости случались прославленные скальды — Халльдор Некрещеный, Эйольв Дадаскальд, а тем паче Скули сын Торстейна, внук Эгиля Скаллагримссона, не только легендарный воин (при Свольде он сражался на носу «Железного Барди»), но поистине неиссякаемый кладезь стихов о давних конунгах и ярлах, каковые охотно произносил, только попроси. В особенности высоко Гест ценил знаменитую «Бандадрапу»[33] Эйольва, где рассказывалось о том, как Эйрик ярл всего лишь двенадцати лет от роду убил отцова тестя, после чего бежал в Данию и начал свои достославные военные походы, на веки веков останется в памяти поколений взятие викингской крепости Йомсборг на заливе Хьёрунгаваг. Гест наизусть запомнил эти стихи, все до единого.
Несколько раз довелось ему видеть с близкого расстояния и ярла, Эйрика сына Хакона, который произвел на него огромное впечатление — достоинством в осанке, лице и всей наружности, какого он не ощущал ни в ком другом, даже в Снорри Годи; о ярле Гест сложил множество стихов, но вслух их не произносил, только бормотал себе под нос и досадовал, что в этой стране он всего-навсего жалкий беглец, непрошеный гость, которого всяк может выгнать прочь, а ему хотелось заделаться скальдом, окруженным почетом и осыпаемым богатыми дарами, — словом, он опять мечтал о несбыточном.
Кнут священник хоть и не сразу, но приметил его восхищение ярлом и однажды вечером сказал, что на самом-то деле Эйрик просто смехотворный спесивец и запомнится разве только кровавыми банями, которые учинял и из которых умудрялся выйти живым.
— Он ведь ни во что не верит, — сказал Кнут. — И не собирается употреблять свою власть для иных целей, кроме удержания оной.
Гест счел, что это заявление вполне под стать трусоватой и кроткой натуре клирика, но не тому грандиозному впечатлению, какое составилось у него о ярле. Однако Эйстейн тоже усмехнулся, узнавши мнение Кнута, и рассказал Гесту, что, принимая крещение, отец его, он сам и братья поклялись в вечной верности конунгу Олаву и Белому Христу и с той поры не ведали сомнений ни в чем, небесном ли, земном ли, и не испытывали страха.
Но Гест только головой покачал и сказал, ему-де странно, что Эйстейн служит такому государю, как Эйрик, ведь тот был заклятым врагом конунга Олава и убил его.
Эйстейн с любопытством взглянул на него и ответил, что не он решает, кому властвовать в Норвегии.
— А кто же тогда? — спросил Гест. — Если не дружина?
Эйстейн рассмеялся:
— У Господа наверняка есть свой замысел и насчет Эйрика.
Он закончил разговор, привычно напустив на себя непроницаемый вид, — для Геста это был знак оставить его в покое.
Той осенью корабли из Исландии не приходили, и в жизни Геста мало что менялось, если не считать того, что он наконец забыл о голоде и снова ощутил малую толику защищенности, какой не ведал с той давней поры, когда Хитарау, словно сама вечность, с шумом мчалась сквозь его детство. Иной раз Эйстейн с дружиной уходил из города, и тогда Гест жил в конюшне возле церкви, которую Кнут священник втайне именовал церковью Олава, хотя так называлась совсем другая, построенная по личному распоряжению конунга; впрочем, церковная жизнь в обоих храмах сейчас не слишком процветала. В иных случаях Гест обретался в Хладире, и дружинники мало-помалу привыкли к нему, вернее сказать, к невысокой тени, что неотступно следовала за гордым Эйстейном сыном Эйда, подавала ему оружие и кружки с пивом, словно испытывая от этого особую радость, — рабская душонка, покорный, бессловесный норвежский пес, как и было задумано.
Шло время, и Эйстейн постепенно оценил Гестов ум, частенько, понятно наедине, называл его светлой головой и не скрывал, что любит потолковать с ним, особенно о новой вере, хотя эта тема интересовала Геста куда меньше, нежели саги и стихи, слышанные от скальдов. Но он по-прежнему, как наяву, видел перед собою ковры на стенах в доме Эйнара из Оркадаля, отчего все его существо охватывало смутное беспокойство, последний отголосок не то голода, не то стужи. И вот в одну из рождественских ночей Эйстейн разбудил его и сказал, что они пойдут в церковь к Кнуту священнику послушать мессу.
Клирик, недовольный безразличным отношением Геста к Господу, при всяком удобном случае изводил его своими sermo necessaria, то бишь нравоучительными проповедями. Вот и эту полуночную мессу он начал с вполне заслуженной нотации, обращенной ко всей дрожащей от холода пастве:
— Я сильно подозреваю, что для кой-кого из вас напев церковных колоколов значит не многим больше, чем блеяние овцы или мычанье коровы… Но когда родился Христос, весь мир был переписан в документы, в том числе и норвежцы, сколь ни были они тогда сбиты с толку, и арапы, и русичи, и трэли, и конунги… А отсюда явствует, что Сам Господь вписал имена избранных Своих в Книгу жизни! И не случайно родился Христос в Вифлееме, ибо слово это означает «дом хлеба», а Сам Господь сказал: Я есмь хлеб живой, сошедший с небес…
Гесту эти слова понравились, они нахлынули на него с тем же рокочущим шумом, как стихи или истории. А когда паства причастилась таинства евхаристии, вкусила от тела Господня, Эйстейн сказал ему, что сейчас они пойдут в дом Кнута и подождут там, клирик хочет с ними поговорить.
Было уже далеко за полночь, ясно и очень морозно. Эйстейн разжег огонь в очаге, поставил на стол еду. Вскоре пришел Кнут и, устремив горящий взгляд на Геста, сказал:
— Христос прямо с креста сошел во ад к умершим. Он распахнул огромные железные врата, попрал пятою сатану и оковал его огненными цепями. Засим простер Он руку Свою над всеми праведными душами из всех времен и всех народов и вывел их из царства мертвых, как я много раз тебе рассказывал, только ты не слушал. Но дело в том, что Он еще и даровал людям свободную волю, а стало быть, поставил их превыше ангелов, у коих нет иной воли, кроме воли Господа, и сделал так, чтоб был мир меж ними, мир меж теми, понятно, что обладают доброю волей, вот и хочу я спросить тебя, Торгест сын Торхалли, есть ли у тебя добрая воля.
Клирик прищелкнул языком, словно желая удостовериться, что слова его имели надлежащий вкус, но ответа явно не ожидал, поскольку тотчас взглянул на еду, выставленную Эйстейном, взял ломоть хлеба, полюбовался им, ровно откровением, и сказал, что теперь Гест может задать ему вопрос.
Гест недоуменно воззрился на Кнута. Никаких вопросов у него не было, и он лишь пробормотал, что месса вышла на славу, в особенности же ему запало в память сказанное Кнутом про слова, которые могут означать и то, что означают, и совсем другое…
— Ладно, ладно, — нетерпеливо перебил клирик, отправляя в рот кусочек хлеба. — Вопрос у тебя есть. Подумай хорошенько.
Гест надолго задумался, потом обронил:
— Убийца моего отца был с тобой одной веры.
Кнут священник перестал жевать, бросил на него то ли оживленный, то ли ободряющий взгляд: не превратит ли он эту фразу в вопрос? Гест сказал, что слыхал в дружине стихи Эйвинда Погубителя Скальдов, сына Финна, в которых речь шла о сынах Эйрика Кровавой Секиры,[34] убивших первого конунга-миссионера в Норвегии, Хакона Воспитанника Адальстейна; эти убийцы тоже были христианами, а вдобавок конунг приходился им родным дядей по отцу.
Кнут священник в свою очередь задумался.
— Злоупотребление словом Божиим старо, как сама вера, — наконец проговорил он, — то бишь старше, чем весь род Прекрасноволосого?[35] Есть настоящие христиане и ненастоящие, сиречь обманщики и еретики…
Однако Гест перебил его и заявил, что не позволит ни осенить себя крестным знамением, ни тем паче крестить (коли Кнут клонит к этому), пока не получит надежных доказательств милосердия и мудрости Белого Христа.
К его удивлению, и Эйстейн и Кнут сказали, что он имеет на это полное право.
— Но теперь ты слышал слова, — усмехнулся Кнут и хлопнул себя по ляжкам, как бы подводя итог.
Гест заметил, что Эйстейн улыбнулся, а это не сулило ничего хорошего.
Кнуту священнику было под тридцать, небольшого роста, стройный, с непокорными светлыми волосами и живыми, улыбчивыми глазами, которые постоянно смотрели вниз или в сторону, словно он боялся, что его застигнут врасплох. Руки он всегда прижимал ладонями друг к другу, будто молился, или потирал одну о другую, или, может, почесывал длинным ногтем, — в общем, руки у него всегда были сплетены, как враги, которые не в силах держаться на расстоянии, и Гест подумал, что это первая симпатичная черта, обнаружившаяся у загадочного клирика.
Всего две недели спустя ярл послал Эйстейна с двумя кораблями вдоль побережья на юг, собирать ополчение, и Гесту довольно долгое время пришлось жить у клирика, который днем никуда его не отпускал: то он колол дрова для дома, то обихаживал лошадей и свиней, то помогал старому конюху истреблять крыс да мышей в амбаре с зерном.
Вдобавок он хочешь не хочешь слушал бесконечные Кнутовы речи, кое-что тот читал вслух по книгам и сразу переводил, кое-что цитировал по памяти, иные жития мог повторить слово в слово, и книг у Кнута в сундуке было изрядное количество, благодаря долгой и смиренной службе у конунга Олава: проповеди Папы Григория, «Собеседования» Кассиана,[36] составлявшие источник вечных диспутов меж Кнутом и Асгейром, священником церкви Святого Климента. Были там и собственные Кнутовы извлечения из «De civitate Dei»[37] и «Historia ecclesiastica»,[38] в особенности же он дорожил «Gemma animae»[39] Гонория, полученной при рукоположении от архиепископа Бременского. Там подробно описывалось, что должно иметь на мысли служителям веры, когда воздвигают они дом Господень на непаханой земле: угловые столпы церкви суть четыре евангелия, северная и южная стена — евреи и языческие племена, Бог Отец — передняя стена, соединяющая сии враждебные племена, алтарь — Христос, сиречь любовь в высочайшем ее достоинстве, пол — смирение, а потолок — последняя надежда и для верующих, и для Геста, и для вконец заблудших.
Сейчас в Кнутовой церкви недоставало лишь одной торцевой стены, ее заменял побуревший парус от кнарра, не пускавший внутрь ветер и снег. Гест твердил, что недостает аккурат Бога Отца, связующего звена меж христианами и язычниками, и сказал клирику, что может возвести эту стену, вместо того чтоб слоняться по пятам за старым конюхом, у которого ровно столько работы, сколько он может сделать своими руками.
Кнута Гестовы насмешки сердили, да и бревен у него не было, и как знать, придется ли по нраву ярлу и его непредсказуемым приспешникам достроенная церковь, вон как они помыкают Асгейром и его армянскими братьями — что ни крестины, то риск для жизни.
Когда становилось невмоготу, Гест по ночам тайком уходил в город и помаленьку облюбовал там один трактир, где угощался пивом — если рядом не было никого из дружины. В трактире же он, пока имел деньги, свел знакомство и с распутными женщинами, которые относились к нему по-матерински и были куда краше той, что захаживала к Кнуту. Иные дарили Геста благосклонностью и когда он не имел денег, ведь как-никак он был мужчиной, пусть маленьким и с кожей гладкой, словно у ребенка, но мужчиной. Эти женщины напоминали ему о девушках из Бё. Только вот краса их была куда как недолго вечна и могла вмиг исчезнуть — от одного неуместного слова, от дурного запаха, от неловкого прикосновения. Он слушал застольные разговоры, играл с хозяином в тавлеи[40] а вернувшись в свою комнатушку, спал до полудня. Гест жил в ночном городе и держал эту жизнь в тайне и от Кнута священника, и от Эйстейна.
Во время своих вылазок Гест слышал всякие пересуды про клирика и его труды — зачастую насмешки, сплетни про интрижки с женщинами, а иной раз и похвалы — и постоянно ловил себя на том, что норовит стать на его защиту, хотя в общем не мог не признать справедливость едва ли не всех этих суждений. К примеру, многие в городе считали, что Кнут священник был смельчаком, пока за спиной у него стояла железная власть, то бишь конунг Олав сын Трюггви, но как только остался в одиночестве со своею верой, и сила его, и храбрость вмиг сошли на нет, ведь по натуре он был сущая размазня, вечно шел на поводу у других, позволял вертеть собой почем зря. Даже немалое число верующих разделяло это нелестное мнение.
Однако же Геста все больше и больше раздражало, что церковное здание этак вот приходит в упадок; конечно, незавершенное никак не может прийти в упадок, тем паче церковь, вдобавок такая, как эта, прелестная в своей печальной простоте, словно беспомощное дитя. Когда парусина висела на месте, слова Кнута священника звучали гулко, будто произносились внутри колокола, и даже самые безучастные слушатели порой на миг забывали обо всем.
Перед ледоставом Гест видел, как по реке сплавляли бревна и доски, видел, как на Нидарнесе и в Хладире воздвигаются постройки, да и сам, бывало, вместе с отцом ставил дома, и однажды вечером, когда трактир заполонили дружинники, он вернулся в конюшню и взялся за резьбу: решил смастерить небольшой пюпитр, чтоб Кнуту священнику было чем подпереть книги во время службы. По лицевой стороне пустил лиственный узор, который подсмотрел на одной из лавок в доме ярла, а с боков вырезал лики двух бородатых апостолов, непохожих друг на друга, он видел таких в иллюминованной Кнутовой книге.
Через неделю Гест вручил готовый пюпитр клирику, тот призадумался, помрачнел и наконец спросил, где он украл эту вещь.
— Я не крал ее и не покупал, — отвечал Гест. — Я ее сделал, своими руками.
Он повел клирика в конюшню и показал ему, как работал. Одиновым ножом. Но про это не сказал. Священник сел на мешок с сеном.
— У тебя дар Божий, — сказал он. — Поди, не только это умеешь?
— Да, — кивнул Гест. — Могу поставить тебе церковную стену, в точности такую, как остальные, а работать стану позади паруса, и никто не увидит, чем я занят, пока стена не будет закончена.
Кнут священник долго размышлял над неожиданным предложением, а неугомонные его руки все оглаживали пюпитр.
— Ежели строить тайком, чего доброго, только неприятности наживем, — буркнул он. — Может, лучше работать потихоньку, не спеша, не привлекая внимания, закончим, а никто и не заметит, по крайней мере сразу не заметит, и все, так сказать, исподволь привыкнут к готовой стене и толком не вспомнят, какая она была раньше.
Гест улыбнулся.
Два дня спустя он по льду пересек реку и поскакал в верховья долины — налаживать связь с богатым бондом, который разрешил Кнуту порубку в своих лесах.
Гест не раз видел, как нидаросские корабелы клиньями расщепляют бревна. Но это требовало уйму времени и знания внутренней сущности древесины, каковым Гест, как неожиданно выяснилось, увы, не обладал. Не мог он определить по коре и ветвям качество древесины. Потом нужно было обтесать доски топором — тоже задачка не из простых.
Каждый вечер он садился на коня и возвращался в город, только на ночлег, а утром чуть свет снова исчезал. Снег на склонах уже начал подтаивать, когда наконец все было готово; Гест решил доставить свой небольшой груз в низовье на санях, а стало быть, ночью, по насту.
Наутро он немедля принялся отмерять, пилить, размечать и вырубать пазы. На шум явился Кнут священник, а за ним и любопытствующие — ребятня, соседские женщины, торговцы… Кнут священник стал их разгонять, но прежде спросил, не может ли Гест работать потише.
У корабелов Гест подсмотрел, как надо резать деревянные гвозди-нагели. А глядя на готовые стены, смекнул, как ставятся доски, и заглубил их на два фута в яму, которую по его просьбе вырыл один из Асгейровых монахов. Затем с помощью нагелей доски надлежало скрепить затяжкой, предварительно проделав в ней продольный паз. Медленно, очень медленно новая стена обретала форму, а Кнут священник все время сновал вокруг и теребил парусину, то погружая строителя в потемки, то выставляя на солнечный свет: либо — либо, по-другому не получалось.
И вот однажды утром к ним пожаловал старик, опять-таки привлеченный здешним шумом, и объявил, что решил помереть тут, в Кнутовой церкви. Кнут знал пришельца с тех самых пор, как приехал в Норвегию, и на некоторое время отвлекся от Геста.
Звали старика Гудлейв, и был он отъявленным язычником, пока Олав сын Трюггви самолично не обратил его и не совершил над ним обряд крещения. С того дня он жил по заветам Белого Христа в запущенной усадьбе на краю города, в смиренной бедности, а теперь и помереть вознамерился в том же духе, в достроенной церкви.
Кнут поместил его в комнатке над конюшней, где ночевал Гест, и велел выносить за ним горшок, держать в чистоте и кормить, ведь свои последние силы Гудлейв истратил на то, чтобы дотащиться сюда.
Гест не возражал — во всяком случае, на первых порах. Но уже через несколько дней старик отказался от пищи, решил поститься, дело-то шло к Пасхе. А наутро объявил, что хочет помереть как можно скорее, потому что испытывает боли и слышит голоса из тех времен, когда жил в неведенье. А одобрить самоубийство Кнут священник нипочем не мог, ведь это козни Одина и дьявола. Он ссылался на Писание, на церковный собор в Браге и иные авторитеты, но Гудлейв оставался глух к его доводам, только закрывал глаза, будто слушал как раз ими, и продолжал жить в своем кротком безмолвии.
Тогда Кнут придумал размачивать хлеб в молоке с медом и кормить его во сне, старик чавкал и глотал, но глаз никогда не открывал. А проснувшись, корил и священника и Геста: они-де мучают его, принуждают жить на этом свете, тогда как он хочет только одного — воссоединиться на небесах со своими предками. И однажды ночью Геста разбудил голос, вроде не Гудлейвов, но странно знакомый:
— Мне видится бескрайнее море, которое ты переплыл.
— Кто переплыл? — крикнул Гест в другой конец чердачной комнаты.
— Ты, — послышалось оттуда. — Я вижу одинокий корабль, он никогда не причаливает к берегу, кружит под парусом в открытом море, а команда мрет, один за другим, от голода и…
Гесту было невмоготу слушать все это. Днем он трудился над церковной стеной, но как бы во сне, а по ночам слушал старика, будто собственный свой голос. Его опять одолевал страх. И однажды утром пришлось-таки позвать Кнута священника — с мрачного смертного одра доносились совсем уж безумные вопли.
Они подошли к Гудлейву, который тем временем уже мирно спал и удовлетворенно причмокивал губами, пока они смотрели на него в первых лучах солнца, проникавших сквозь оконце в крыше. Кнут решил, что старик, поди, сызнова проголодался, сходил вниз, принес хлеб и кружку молока и начал совать в беззубый рот размоченные кусочки. Гудлейв, задумчиво чмокая, съел все подчистую, меж тем как тело его издавало довольные звуки, и они подумали, что это голос смерти.
Но тут старик открыл глаза и сказал, что видел своего сына, самого младшего, любимого, который погиб в огне, теперь его страшные раны зажили, вся кожа ровно как у новорожденного младенца, и оба глаза зрячие.
— Мы снова станем детьми? — спросил он, с мольбой глядя на Кнута священника, который попробовал улыбнуться.
— Да, — быстро ответил Гест. — Жизнь возвращается к своему началу.
Произнося эти слова, он вздрогнул и заметил, что Кнут священник посмотрел на него, удивленно и одобрительно. Кнут священник выделил Геста. Видел в нем главную свою задачу, ученика, который не ведает, что творит, душу, живущую иной жизнью, не такой, как его собственная. Невыносимо.
Гест опять от всего отстранился и строительство тоже забросил, так и не закончив стену, вернулся к уступчивым кабацким бабенкам, к пиву, к вялым ночным объятиям. Вот так обстояли дела, когда воротился Эйстейн, — церковь не достроена, Гудлейв по-прежнему живехонек.
В тот день река вскрылась, солнце и вода превратили дороги и улицы в потоки грязи, тени исчезли, зима с шумом и громом покинула Нидарос, новый запах повис над городом, вонь стоков и клоак, прежде скованных морозом, и средь этой внезапной весны возник Эйстейн сын Эйда; как никогда встревоженный, он коротко поздоровался с Кнутом священником и тотчас же отвел Геста за конюшню, надо, мол, поговорить с глазу на глаз, а там сообщил, что ближе к Троице в город потянутся военные отряды — с юга, сиречь с Вика,[41] и с востока, из Свитьода,[42] — в них наверняка есть исландцы, вдобавок и корабли снова пойдут, так что Гесту лучше подыскать другое пристанище.
Гест молчал, и Эйстейн прибавил, что за ним кое-кто следит, поэтому надо срочно собирать вещи и быть наготове.
Три дня спустя, когда Гест, сидя в конюшне, чинил парусину, снова пришел Эйстейн, один, с мешком в руке, и Гест смекнул: пора, время не ждет, в мешке съестное, одежда и те немногие вещи, какие он держал в Хладире.
— Уходим прямо сейчас.
На лодке они переправились через реку и вошли в низкий лесок, где Эйстейн достал из тайника оружие — короткое копье и меч, не считая топора с рыбьей головой на рукояти, — и сказал, что решил подарить Гесту оружие, так как не смог обеспечить ему лошадь и не сумел устроить его на корабль.
Вообще-то, сказал Гест, это он должен бы сделать подарок Эйстейну.
— Ничего подобного, — отрезал Эйстейн.
Приют Гест найдет на севере, в Халогаланде,[43] у богатой вдовы по имени Ингибьёрг дочь Эйвинда. Она была замужем за военным вождем, который ходил в викингские походы с Эйстейном и Хельги, да и с Клеппъярном Старым тоже, а потом погиб при Свольде в войске конунга Олава.
— Вот возьми. — Эйстейн протянул Гесту серебряную монету с какими-то непонятными значками на ней; она, мол, из Серкланда,[44] и Ингибьёрг как увидит ее, так сразу все поймет.
Гест спрятал монету в кошелек, а потом пропел стихи, которые сложил про ярла, и спросил, нравятся ли они Эйстейну. Тот кивнул и добавил, что они бы и ярлу понравились. Тогда Гест сказал, что он может пропеть их ярлу и получить награду.
— Но ведь сложил стихи не я, — возразил Эйстейн.
— Я же дарю тебе и стихи, и награду, какую даст за них ярл.
Дружинник передернул плечами и мрачно произнес, что Гест человек умный и не иначе как намекает, что служит он одному государю, а верность хранит другому, но говорить об этом незачем, он и сам все знает, и такие разговоры его только обижают. Гест даже бровью не повел. Эйстейн поблагодарил его за подарок и объяснил дорогу на север, Гест повторил, на том они и расстались.
Гест поднялся на холм и сделал то, чего, увы, не успел, покидая Бё, — посмотрел на город, который оставлял позади. Красивый какой, гораздо краше сейчас, чем когда он сюда приехал, невзирая на смрад. Многие дома разрисованы до самого конька, на улицах масса народу и коней, крохотные подвижные фигурки, у Эйрара и у Хольма корабли, борт к борту, с верфей доносится стук молотов, хриплый свист точильных камней, далекие командные возгласы, крики чаек. Таким он будет вспоминать этот город, увиденный сверху погожим весенним днем. С Кнутом священником и с Гудлейвом он не попрощался. Выходит, и тут кое-что забыл.
Дети
По совету Эйстейна Гест обошел стороной большие селения в Стьёрдале, Вердале и на озере Мёр, разговаривал только с пастухами да с бондами, если нуждался в еде или сбивался с дороги. Одиннадцать солнечных восходов миновало, когда он наконец перевалил через очередной горный кряж и спустился к фьорду, на берегу которого, по его расчетам, находится усадьба Сандей, то бишь Песчаный Остров, где живет Ингибьёрг.
Правда, в последние дни он шел то берегом моря, то, думая, что впереди полуостров, прямиком через горы, а оттого очень и очень опасался, что либо проскочил слишком далеко, либо, наоборот, еще не добрался до нужного фьорда, между тем усадьбы, а значит, и пропитание встречались все реже. Он ловил рыбу на Тейтров серебряный крючок, ставил силки на птиц, вокруг же цвело лето, опаляло его тяжелым, томительным зноем. Гесту нравилось спать в свежей мураве. И он шел куда ноги несли.
По словам Эйстейна, Сандей располагался на плоском мысу с северной стороны фьорда. Но, выйдя на откос, Гест не увидел ни построек, ни плоского мыса, только черные скалы, обрывавшиеся в воду. Он хотел дойти до вершины фьорда и взобраться на следующий кряж, однако фьорд оказался длинным, конца не видно, свечерело, солнце клонилось к закату, а день выдался жаркий, поэтому он повернулся спиной к материковым горам и зашагал к устью фьорда, заночевал на солнышке, на свободном от снега лужке, а наутро отправился дальше, держа путь на запад и спрашивая себя зачем.
Горная гряда начала понижаться, скалы окрест стали округлыми, гладкими, тропа вела Геста к морю, было тепло и безветренно, солнце светило в лицо, он шел себе и шел, в глубине души сознавая, что опять выйдет к очередному полуострову.
Как вдруг ему почудились голоса.
Детский плач. Или это птицы? Гест вышел к обрыву, глянул вниз — усадьба, зеленая лужайка меж двух серых холмов, которые вилкой выдавались в море, конец дороги, край земли. Между этими зубцами дугой выгибался белый песчаный пляж с лодочным причалом и двумя сараями, катки напоминали руны на песке, ни людей, ни скотины не видать, только лодка на берегу, чем-то вызвавшая у него тревогу.
Снова послышались голоса, откуда-то с горы. Гест сел и навострил уши, потом встал, прошел несколько шагов вспять. Птичий щебет гейзером рвался ввысь из зарослей над обрывом. Он подполз к самому краю, глянул вниз и заметил в глубине, на осыпи, красное пятно, сиречь кого-то в красном, затем еще и еще — всего три маленькие фигурки, трое детей, а между ними четвертый, поменьше остальных, лежит не шевелясь, словно упал и никогда больше не встанет. Гест зашагал прочь.
Но когда вышел на взгорье, откуда открывался вид на море и на усадьбу, и снова увидал лодку, остановился, сел и подпер голову руками. Лодка была с пробоиной. Он поднялся и пошел обратно. Дети все так же сидели вокруг безжизненного тела. Резкие крики воронов звучали в ушах как шум злобно клокочущего потока. Гест отыскал расщелину, спустился вниз, подошел к детям. Они сидели к нему спиной — мальчик лет одиннадцати и две маленькие девчушки. Мальчик медленно повернул голову и с криком бросился на него. Гест отскочил в сторону и стукнул его по затылку — мальчик упал, да так и остался лежать. Девочке, которая плакала, было лет шесть или семь, не больше, она устроилась на коленях у сестренки, той было лет одиннадцать, она не двигалась, закрыв лицо руками.
Гест положил оружие наземь, сел рядом, разулся и начал растирать ноги. Мальчик, не вставая, наблюдал за ним. Гест назвал свое имя и спросил, кто этот мертвый ребенок. Мальчик сел и, помолчав, ответил, что это их брат Эйвинд, он упал с обрыва.
— Вон оттуда, — кивком показал он.
Гест скользнул взглядом по каменной круче, потом спросил, что они делали так далеко от усадьбы. Младшая девочка, которой разрешили посмотреть на него, опять заплакала. Сестра стала ее успокаивать. Все трое бледные, грязные, в глазах пустота.
— Как тебя зовут? — спросил Гест у мальчика.
— Ари, — ответил тот и добавил, что старшую девочку зовут Стейнунн, а младшую — Халльбера.
Продолжая разминать ступни, Гест повторил давешний вопрос:
— Что вы делали в горах?
Ари нехотя рассказал, что несколько дней назад в усадьбу явились лиходеи, поэтому они убежали на гору, в лес, и оттуда слышали крики, видели, как горят дома. Потом лиходеи ушли, но они не посмели спуститься вниз, хотя очень проголодались. А потом Эйвинд упал.
Гест развязал котомку, отдал им остатки своих припасов. Дети жадно накинулись на еду, просительно поглядывая на него: нет ли еще?
— Ари пойдет со мной в усадьбу, — решил Гест, — а вы, девочки, подождете здесь.
Ари идти отказался.
— Ты должен, иначе нельзя, — сказал Гест, взял на руки мертвого мальчика и пошел, прямо в гущу зарослей, вдоль ручья, где нашлась тропинка. Ари поплелся следом.
Усадьба была больше, а земельные угодья намного обширнее, чем казалось сверху. Три дома частью сгорели, на лужайке валялись искалеченные трупы животных, посреди двора — куча мертвых тел, родители ребятишек, работники, трэли, раздетые догола, облепленные полчищами мух и чаек. Гест крикнул Ари, чтобы тот тихо-спокойно сидел за одним из сожженных сараев, пока он не позовет.
В большом доме он обнаружил множество убитых — трэли, судя по одежде, и какая-то полураздетая женщина; почти вся мебель и утварь разбита и искорежена. Отрезав лоскут от юбки одной из убитых, Гест завязал себе нос и рот, вышел на улицу и начал перетаскивать трупы вниз, к морю. Туда же отнес и Эйвинда.
Ари так и сидел за обугленными развалинами. Гест велел ему найти лопату или другой какой инструмент, чтоб вырыть яму. Мальчик будто не слышал. Тусклым взглядом смотрел в пространство. Гест спросил, где ему взять лопату. Ари молчал. Тут до них донеслось негромкое блеяние. Оглядевшись по сторонам, Гест заметил на горном склоне двух ягнят.
— Может, изловишь? — спросил он.
Ари по-прежнему молчал. Гест сел рядом, в памяти его оживало забытое, годы меж убийством отца и местью Вига-Стюру, блеклые, выпавшие из времени годы, когда руки его двигались по собственному произволу, снежные равнины и стужа, что вгрызалась в кости, подступала к сердцу.
В конце концов он встал и пошел на поиски инструмента, нашел лопату и кирку, начал хоронить убитых. Управился уже ночью, но ведь летом ночи светлые. Трупы скотины он оттащил к бухточке в стороне от причала и оставил на корм птицам. Ари сидел на том же месте, крепко обняв руками ягнят.
Гест разжал ему руки, велел сходить за девочками. Несколько раз повторил, только тогда Ари ушел. Гест зарезал ягнят, разложил посреди двора костер, отыскал в доме кой-какую посуду, приготовил еду. Дети не шли.
Он поднялся на гору и нашел их там же, на осыпи, Ари сидел в стороне, Халльбера спала на коленях у Стейнунн. Гест посадил малышку на закорки, взял Стейнунн за руку и стал спускаться вниз. Ари пошел следом.
Накормив детей прямо на лужайке у костра, Гест решил прибрать в доме, принес воды, попробовал отмыть кровь. Девочки ночевать в доме не хотели. Гест сказал, что если они потерпят еще немного, то смогут поспать на солнышке, которое уже вставало над островами на севере, белое и холодное. Но обеих тотчас сморил сон. Гест отнес их в дом, уложил в одну постель. Ари устроился в своей постели, сам Гест — в родительской. Тишина была такая, что ему чудился за дверью гул водопада и негромкие шорохи будничных материнских хлопот. Кнут священник, думал он, сказал бы, что сюда его привел Бог, а еще он думал о Тейтре и об отце, которые помогали незнакомым людям, это и утешало, и грозило смертельной опасностью, а ведь он тоже страдал этим недостатком, и тут вдруг до него дошло, что старшая девочка до сих пор не произнесла ни слова.
Гест поднялся, открыл дверь в соседнюю комнатку. Девочки не спали, сидели, прижавшись друг к дружке, прислонясь к дощатой перегородке. Халльбера тихонько плакала. Стейнунн молчала. Гест спросил, как ее кличут. Она качнула головой, глядя мимо него. Гест не двигался с места, пока девочка осторожно, с опаской не посмотрела на него, и тогда только повторил вопрос.
— Ты же знаешь, — ответила она.
— Сколько тебе зим?
— Одиннадцать.
— Стряпать умеешь?
Она кивнула. Гест велел им вставать: помогут ему сготовить поесть. Тут он обнаружил, что Ари на месте нет. Гест нашел его на пригорке за домом. Сел рядом, спросил, есть ли в усадьбе оружие, которое не унесли грабители.
— Почему ты спрашиваешь?
— С оружием мы сможем защищаться. Весна только-только началась, а они, поди, на север ушли?
— Не знаю, — сказал Ари, но потом кивнул: — Да, на север.
— Стало быть, снова вернутся на юг.
Мальчик недоуменно воззрился на него:
— Никто не защитится от Транда Ревуна.
— Как называется ваша усадьба?
— Хавглам, то бишь Шум Моря.
Гест завел речь о лодке, что лежала на берегу, с пробитыми в нескольких местах бортами. Спросил, есть ли в сарае паруса и весла, найдется ли инструмент для починки.
Ари опять кивнул и поднялся. Они поели, спустились к лодочному сараю, и Ари показал весь наличный инструмент и материалы. До вечера оба чинили лодку. Гест говорил мало, Ари вообще молчал.
— Ты не должен бояться, — сказал Гест, когда оба наконец сели отдохнуть. Лодку они залатали. Между тем свечерело. Закатное солнце низко стояло над морем, было по-прежнему тихо, безветренно. — Страх не дает думать, и тогда ты не сможешь защищаться.
Ари мотнул головой.
— Минувшим летом, — продолжал Гест, — я оказался в Оркадале, в темном лесу, вместе с людьми, которых совсем не знал. Напади они на меня, я бы не сумел защититься.
— От Транда Ревуна никто не защитится, — повторил Ари.
— Ладно, пошли к дому, надо поесть.
Стейнунн все перемыла-перестирала, прибрала и еду сготовила. Халльбера плакала, забившись в угол между лавкой и стеной. Неужто девчушка просидела там весь день? — спросил Гест. Стейнунн не ответила. Гест приметил поблизости несколько каменных котлов, взял с полки веретенце, покрутил меж ладонями, а потом запустил кружиться в котле. Услыхав жужжание, Халльбера села и засмеялась. Стейнунн и Ари даже бровью не повели. Гест запустил веретенце еще раз, оно вертелось долго, но мало-помалу замедлило скорость и упало.
— Сейчас отлив, — сказал Гест. — Нынче работать будем допоздна, сколько сможем. А после поспим.
Они поели и спустились в бухту меж холмов. Вход в нее был узкий, посреди пролива виднелся небольшой риф, окруженный колышущимися бурыми водорослями, вокруг на зеленой воде покачивались гагары. Гест сказал, что надо спустить лодку на воду и наложить в нее камней, сколько выдержит. Сказано — сделано, камней наложили почти вровень с бортами. Тогда Гест зашел в воду, отвел лодку во внешний пролив, сел на борт — лодка зачерпнула воду и затонула, глухо ударившись о дно, возник новый риф.
— Теперь от этой лодки вовсе никакой радости! — воскликнул Ари.
Гест выбрался на берег. Халльбера опять заплакала:
— Мне хочется поиграть с Эйвиндом.
— Эйвинд умер, — сказал Гест, взял ее на руки и понес к дому. По дороге она уснула.
Наутро пропала Стейнунн. Гест отправился на поиски и нашел ее за свежими могилами. Она вскочила, бросилась бежать по гладким прибрежным скалам. Гест догнал ее, остановил. Девочка сказала, что не хочет стряпать. Гест сел, силком усадил ее рядом, рассказал о себе: он, мол, исландец, жил в усадьбе Йорва, а предки его родом из Норвегии, из Наумадаля, что всего в нескольких днях пути на полудень от Хавглама. Рассказал о сестре, о матери, о бегстве за море, но словом не обмолвился об отце и Вига-Стюре. Стейнунн все так же безучастно смотрела в пространство. Тогда он пропел стихи, велел ей повторить. Она повторила.
— Женщины петь стихи не умеют, — сказал он. — А вот ты теперь умеешь.
Они вернулись в дом, приготовили поесть. За едой Гест рассказал про Йорву Халльбере и Ари. Но на сей раз поведал и про отца, и про Вига-Стюра.
— Я не маленький, — добавил он. — Я убил одного из самых могущественных хёвдингов Исландии, так что бояться вам нечего, а о боге Форсети вы когда-нибудь слыхали?
Дети молчали. Гест снова взял веретенце, запустил кружиться в котле, потом сказал:
— Нынче придется поработать еще больше.
— А что будем делать? — спросила Халльбера.
— Будем добывать себе новую лодку, — ответил Гест.
Они спустились к берегу. Гест велел девочкам собирать камни, относить на холм и складывать на вершине, над входным проливом. А они с Ари пойдут в лес рубить деревья. Свалив полтора десятка стройных березок, они оттащили их вниз. Гест видел, что девочки больше играют, чем носят камни, но корить их не стал. Попросил Ари сходить в лодочный сарай за веревкой.
Когда мальчик вернулся, он показал на серую вершину:
— Вон там мы поставим настил из жердей. И насыплем поверх камней. Коли Транд и его люди вернутся, они обязательно пройдут под ним, другого пути нет.
— Их одиннадцать человек, — сказал Ари.
— Зато мы умнее, — возразил Гест.
Он поинтересовался, какие постройки есть на островах, к северу и к югу. Ари сообщил то немногое, что знал: мол, берега там безлюдные, непроходимые.
Когда настил был готов, они вдвоем затащили его наверх. Там Гест подвел под жерди каток и привязал к нему веревку. Затем они стали собирать камни и сваливать их на настил. Трудились до самого вечера. И еще два дня. Закончив работу, Гест сказал, что этот день надо запомнить. С моря сооружение выглядело как обветшалый каменный знак, а с пролива его вообще не было видно.
— Теперь буду учить Ари владеть оружием, — объявил Гест.
Ари ответил, что он не против, но все же надеется, что Транд больше не вернется.
— Ты еще ребенок, вот в чем дело. Но ведь если они не вернутся, ты не отомстишь. А не отомстив, никогда не станешь мужчиной.
Они пошли к ручью, который бежал с гор восточнее усадьбы. Гест велел Ари взять заранее приготовленное длинное копейное древко, подбежать к ручью, с разбегу воткнуть древко в русло и перемахнуть на другой берег. Так он будет прыгать с берега на берег, пока точно не поймет, как надо держать древко.
Для начала Гест прыгнул сам, показал, как это делается. Ари попробовал — и упал в ручей. Девочки засмеялись. Ари выбрался на тот берег, попробовал еще раз. Гест сказал, что он неправильно держит древко.
— Держать надо в вытянутых руках и одной ладонью обхватывать его внизу, на уровне правого колена.
Ари сделал новую попытку.
— Но ведь так еще труднее.
— Верно. Только держать надо именно так, уколы из этой позиции самые опасные. Продолжай.
Ари упражнялся снова и снова, пока Гест не остановил его.
— Я научился этому в дружине Эйрика ярла, — сказал он, воткнул древко в землю и крепко обхватил обеими руками, а потом велел Ари тоже взяться за древко и, посильней оттолкнувшись ногами, бросить тело вверх и в сторону, чтобы оно стало как бы поперечной планкой к древку, наподобие перекладины креста. Ари попробовал, несколько раз. Когда у него более-менее получилось, Гест отпустил древко. Ари упал. Гест велел ему упражняться в одиночку, держать равновесие как можно дольше и стараться приземляться на ноги. Отныне Арии должен повсюду ходить с копейным древком, как можно чаще отрабатывать равновесие, прыгать через ручей и непременно держать древко так, как он теперь научился.
— Лучше научил бы меня рубиться топором, — сказал Ари.
— Нет. Копье — самое подходящее орудие для маленьких мужчин в схватке с большими. И копье у тебя будет длинное, потому что бросать ты тоже не умеешь. Но я могу сделать тебе лук, если хочешь.
— И мне тоже сделай! — вставила Халльбера.
— Конечно сделаю, — обещал Гест.
Стейнунн сказала, что ей лук не нужен.
Они пошли в лес, нарезали заготовки. Гест смастерил два лука, один совсем маленький.
— Я видел у вас в сарае ларь с железом, — сказал он. — Там были наконечники для копий, глядишь, и жала для стрел найдутся, а?
Ари пожал плечами: дескать, кто его знает. Они пошли в сарай и, порывшись в ларе, нашли несколько жал, после чего Гест принялся ладить стрелы. Дети во все глаза следили за работой. Гест невзначай поинтересовался, христиане они или язычники. Ари вопросительно глянул на сестер и ответил, что не знает. Тогда Гест сказал, что поведает им одну историю — про негодяя и обманщика Савла, который по велению царя Иудейского взялся ловить и карать христиан, препровождая их в золотой город под названием Дамаск. Путь туда был долог и лежал через пустыню, через раскаленное море песка, пленники мучились жаждою и голодом, сам же Савл сидел на коне под навесом и питья имел вдоволь. Как вдруг с неба послышался ясный голос, вопросивший, отчего Савл так жесток к рабам Божиим.
Понял Савл, что с ним говорит Господь, и пал наземь, моля о пощаде, и спросил, что велит ему Господь. Голос молвил, что он должен встать и продолжить путь, а в городе будет ему весть, на что употребить свою жизнь. Савл радостно вскричал, что сделает как велено. Но, вставши на ноги, обнаружил, что ослеп. Не видел он ни солнца, ни песчаного моря, ни собственных рук. И пленники, жертвы Савловы, сами повели его в город.
Гест посмотрел на детей и прибавил, что слышал эту историю от одного священника, но не понял ее и не спросил, что она означает, так как не очень любил разговаривать с этим священником. Однако ж сама история не забылась, а стало быть, наверняка что-то означает.
— Вы-то как думаете?
Ответом было молчание, дети не сводили глаз с его рук и с ножа, стругающего стрелы.
— По-моему, — сказал Гест, — эта история говорит вот о чем: христиане настолько добры, что спасают даже своих тюремщиков, хотя должны бы их убить.
— А почему он ослеп? — спросил Ари.
— Не знаю, — ответил Гест. — Но они отвели его в Дамаск, и там он три дня и три ночи сидел в каменной крепости, не говоря ни слова. А потом пришел к Савлу мальчик по имени Анания и положил руки ему на глаза, вот так. — Он положил ладони на глаза Халльберы. — И зрение вернулось к Савлу. Тогда он вновь пал на колени и спросил мальчика, кем тот послан. «Господом, — отвечал Анания. — Он желает, чтобы стал ты Его учеником и проповедовал истинную веру». — «Почему я?» — спросил Савл. «Потому что ты грешил и знаешь об этом», — сказал мальчик.
Затаив дыхание, Гест внимательно осмотрел стрелу, которую держал в ладонях, и проворчал, что этого он тоже не понимает и, доведись ему выбирать себе спутника, предпочел бы человека, на которого может положиться, а не такого, что терзал его и мучил. Ари с ним согласился. Стейнунн же сказала, что ей безразлично, кто придет ей на помощь, лишь бы помог.
Гест успел заметить на ней дорогое украшение — золотую брошь, которой она сколола платье на узенькой груди, — и подумал, что не мешало бы выяснить, где она ее взяла. Но сейчас повернулся к Халльбере и спросил, каково ее мнение об истории Савла. Девочка ответила, что ей нравится Анания, он милый и добрый, однако сегодня она больше не хочет слушать истории.
— Тогда пойдемте на лужайку, постреляем, — решил Гест и вручил Халльбере тупую стрелу.
Гест отнес на вершину холма, к настилу с каменной пирамидой, овечью шкуру и несколько одеял. Там он проводил ночи. А нередко и дни, поочередно с Ари. Порой они видели в море паруса, но все корабли шли мимо. Еще они бродили по горам, отыскали кой-какую домашнюю скотину. Ари знал рыбные места, и они ловили неводом с берега и тянули жребий, кому лезть в ледяную воду и расправлять сети и грузила. Иногда находили птичьи яйца. Шли дни, и Гест все больше жалел, что затопил лодку, ибо эта лодка с пятью парами весел вполне могла бы доставить их на полночь, в соседний фьорд, где жила Ингибьёрг, сиречь если она там жила, ведь Геста одолевало неотвязное ощущение, что они находятся совсем не в том мире, в котором он родился и который знал. Однажды вечером Ари сказал:
— Напрасно ты затопил лодку.
— Пожалуй, — согласился Гест. — Но я думал, они вернутся в тот же день или на следующий. Подождем еще неделю. Коли не явятся, мы поднимем лодку.
Каждый день Ари упражнялся с копейным древком. Гест показал мальчику, как держать его, чтобы обороняться от меча и топора. Дети стреляли из лука по мишеням и ни единого разу не завели разговора о своих родителях, рассуждали только о том, как покинут усадьбу, и недоумевали, почему нельзя сделать это прямо сейчас.
Гест не мог дать им ответа.
Как-то ночью, когда Ари караулил возле каменной груды, он поднялся на гору, обвел взглядом море и острова. Странно все-таки, что нигде нет построек и что корабли сюда не заходят. Он начал подниматься на гребень, но не сумел отыскать тот уступ, который впервые привел его сюда; местность кругом непроходимая, изрезанная расщелинами, заросшая густым кустарником, заваленная каменными глыбами, он то карабкался, то шел и в конце концов добрался до высшей точки — солнце стояло на севере, а на востоке, насколько хватало глаз, тянулись сплошные расщелины, и Гест подумал: слепой случай подыграл ему.
На обратном пути ветер усилился, полил дождь, над головой парил орел, и снова Гест не нашел дороги — ни первой, ни той, по которой только что сюда добрался, спустился в Хавглам уже по третьей; Ари спал под овчиной возле камней. Гест разбудил его и спросил, были ли в усадьбе лошади.
— Да, были раньше, — ответил Ари. — Только их на лодках привозили.
Гест отыскал старое копье, снял с него наконечник и насадил на Арино древко, сказав, что теперь мальчик знает, как держать копье и как на него опираться. Рассказал им предание, которого они не поняли и обсуждать не пожелали. Погримасничал — Халльбера смеялась, а Стейнунн даже не улыбнулась, лишь обронила, что у Геста глупый вид. Он рассказал им о своей сестре Аслауг, о том, какая она сильная и несгибаемая, вот и им, мол, никак нельзя сдаваться, и теперь надобно привести в порядок сожженные дома. Однако ж он по-прежнему не узнавал мира, в котором родился. Коли бы все люди умерли и земля опустела, они бы тут ничего не заметили. Без лодки им вообще ничегошеньки не заметить. Увидев, что Халльбера и Стейнунн рвут цветы, он спросил, зачем они это делают.
— Мы всегда собирали цветы, — ответила Стейнунн. — Вместе с мамой.
Тут-то Гест наконец и почел уместным выяснить, откуда у нее золотая брошь.
— От мамы, — сказала девочка и накрыла брошь ладошкой. А потом поинтересовалась, зачем Гест спрашивал, христиане они или язычники, она и сама думала об этом, еще прежде чем услыхала его рассказ про Ананию и ослепшего Савла.
— Я хотел узнать, ставить ли кресты на могилах. Стейнунн задумалась, потом спросила:
— А крест — это хорошо?
— Я не знаю, — ответил Гест. Глядя в ее открытое, искреннее лицо, он понял, что не способен дать ей тот ответ, какого она желает, такой ответ может дать перепуганному ребенку только верующий, причем более праведный, чем даже Кнут священник. Но все-таки сказал, что, собственно говоря, крест — это человек, замученный, но спасенный и оттого счастливый, обретший вечную жизнь.
— Что значит спасенный? — спросила Стейнунн.
Той ночью, когда явились они, Гест сидел на холме и смотрел на север, прямо навстречу челну. Он даже не сразу сообразил, что это челн, ведь царило безветрие, воздух полнился глубокой синевой, и ему подумалось, что там мираж, или утес, или кит, но потом он разглядел, как взблескивают лопасти весел.
Гест бросился в дом, разбудил детей. Девочки расплакались. Он схватил их за руки, вытащил на лужайку и велел схорониться в росистой траве — вот как замерзнут, так вправду будет повод для слез.
Вместе с Ари он снова взобрался на холм, к каменной пирамиде. Челн приближался, они уже слышали плеск весел. Ари дрожал всем телом, Гест ладонью похлопал его по спине.
— Я вижу только пятерых, — шепнул он.
Челн скользнул в пролив, исчез из виду, донесся глухой стук, потом они снова увидели корму, которая бесшумно прошла прямо под ними. Гест заметил, что двое мужчин, сидевшие на веслах, гребли одной рукой; один человек безжизненно лежал на парусе, еще один — на кормовом настиле, а на носу, облокотясь на собственные колени, сидел одетый в серое великан, будто спал.
— Это Транд, — прошептал Ари.
Передний гребец обернулся, посмотрел на берег, что-то сказал, серый великан поднял голову, но не оглянулся. Халльбера и Стейнунн встали на ноги и заревели. Гест схватил камень, запустил им в челн и попал в человека на корме, Ари угодил камнем в ближнего гребца. Вторым броском они достали лежавшего на парусе, третьим — другого гребца. Из челна не донеслось ни звука, словно там не люди, а призраки. Ари опять задрожал, выпустил древко копья и камни бросать отказался.
Гест метнулся к катку, рванул веревку — лавина камней рухнула вниз, в челн и на воду, тут наконец раздались крики, пронзительно громкие в тишине ночных гор; двое кое-как сумели подняться, Транд недвижимой тушей обвис на борту; громкий плеск, сдавленные вопли — челн перевернулся. Гест сбежал на берег, бросился в воду и раскроил топором череп первому, что сумел стать на ноги, потом хотел вернуться на сушу, но, поскользнувшись на гладких камнях, упал и волею случая уберегся от Трандова меча. Во рту чувствовалась горечь морской воды, ему было зябко, однако он успел заметить, что Транд бьет левой рукой. Выбравшись на берег, где его ждал Ари, он гаркнул в лицо мальчишке, что надо бежать в дом.
— Это же всего-навсего дети! — послышалось за спиной.
Девочки оставили дверь открытой. Гест вбежал внутрь, велел им спрятаться в спальне, запереться на засов и не выходить, пока он не разрешит; Ари пускай станет за входной дверью и по первому его зову выскакивает с копьем наружу.
Через черный ход Гест выбежал из дома, прокрался вдоль стены и увидел двоих — Транда и еще одного, они ковыляли по лужайке, прямиком к двери большого дома. Гест метнулся к ним и всадил копье в спину Транда, тот рухнул ничком, сбив с ног своего приспешника.
Дверь распахнулась, Ари выскочил на лужайку, споткнулся и вонзил копье в бедро Трандова приспешника. В следующий миг Гест добил врага и крикнул Ари, что Транда надо связать, сам кинулся на великана сбоку, заломил ему руки за спину, услышал стон и сообразил, что правая рука у Транда сломана.
Ари не двигался.
Гест кликнул девочек. Тоже безуспешно. Он чувствовал, что великан под ним шевелится, а у него самого изо рта течет слюна. Стукнул Транда по затылку обухом топора, оглушил, встал, утер рот, яростно глядя на Ари, который все так же молча сидел на корточках подле мертвеца.
Пришлось Гесту самому идти за веревкой и связывать Транда. Потом он выпрямился и сверху вниз глянул на себя.
Страха не было. Тягучая слюна снова текла изо рта прямо на грудь. Он дрожал всем телом. Но страха не было. Рана от копья на спине Транда кровоточила, на шее виднелся старый шрам. Темные волосы висели сальными космами, великан открыл глаза, лицо у него было опухшее, землисто-бледное, одна нога тоже со шрамом.
— Жалкая смерть для мужчины, — простонал он, прищурясь на Геста, который опять утер подбородок и спросил, где Транд получил свои увечья.
Тот не ответил, даже и не пытался. Гест полюбопытствовал, удалось ли им взять на севере дань, вообще-то причитающуюся трандхеймскому ярлу.
На сей раз Транд открыл рот, прошипел, что пришел сюда не затем, чтоб отвечать на дурацкие вопросы, и с громким стоном закусил зубами бороду.
— Значит, ты пришел, чтобы умереть?
— Твоя власть, тебе и решать. Кстати, кто ты такой?
— Ты умрешь той смертью, которую заслужил.
Гест принес кувалду, вколотил посреди двора толстый кол, посадил Транда к нему спиной и привязал, накинув на шею петлю.
— Ступай приведи девочек, — велел он Ари, сам же потащил мертвеца вниз, к бухточке, где были свалены трупы скотины. Возле берега обнаружились еще три покойника — двое утонули, третьего уложил Гестов топор, — их он тоже отволок в бухточку.
Когда Гест вернулся, девочки стояли во дворе, испуганно глядя на связанного пленника. Гест плюхнулся перед ним на траву и опять спросил, много ли богатств он награбил на севере.
— К чему ты клонишь? — буркнул Транд.
— Хочу знать, что у тебя за враги, — сказал Гест. — Можно ли мне тебя убить.
Транд промолчал.
— Пощады будешь просить?
Транд по-прежнему молчал, выпучил глаза, дышал с трудом. Гест ослабил удавку у него на шее, повторил вопрос. Транд молчал.
Гест принес еще два кола, вбил в землю перед пленником, привязал к ним его ноги, так что сидел тот теперь враскоряку и не мог вырваться. Они запалят костер у него между бедер, сказал Гест. Услышав это, Транд дернулся всем телом, закричал:
— Убейте меня сразу! Пытки — это позор!
Ари сходил за берестой, Гест наколол дров. Стейнунн принесла из дома горячих углей, зажгла бересту. Транд пытался вырваться из огня, оглашая светлую ночь пронзительными, несусветными криками, чайки над падалью умолкли, с гор потянуло прохладным ветерком, а орлы, что все время парили над усадьбой, улетели за горизонт.
— Я мог бы устроить тебе кровавого орла,[45] — буркнул Гест, меж тем как дикие вопли не стихали ни на миг.
От костра у Транда занялись волосы и борода, горящее тело выгнулось дугой, в горле булькало, казалось, он вот-вот разломится надвое. Внезапно Стейнунн ринулась вперед, схватила палку и ткнула ему в левый глаз, голова дернулась в сторону, палка хрустнула, но обломок застрял в глазу. Ари подхватил колун, валявшийся в траве, ударил Транда по лицу — только зубы затрещали. Мальчик ударил еще раз, выронил колун и в ужасе убежал прочь. Между тем одежда Транда сгорела, огонь вгрызался в нутро. Но он был еще жив.
Гест сказал детям, чтобы они принесли воды и погасили костер, после, мол, разожжем снова.
Однако все трое, сидя на пороге дома, неподвижно, отрешенно смотрели в пространство, как тогда, когда он нашел их на осыпи. Он сам сходил за водой, раскидал дымящиеся головешки, опустился на корточки перед безжизненной фигурой.
— Слышишь меня, Транд Ревун?
Ответом был едва внятный стон. Гест назвал свое имя, сказал, откуда он родом, ведь Транд Ревун вправе знать об этом, и добавил, что умрет он завтра или, может, послезавтра, так что есть у него время поразмыслить о лиходействах, какие он учинил здесь, в Хавгламе.
Вместе с детьми Гест спустился к причальному берегу; вдвоем с Ари они зашли в воду и вытащили на песок перевернувшийся челн — он пострадал от камнепада, но починить можно. В челне нашлись кой-какие товары, большей частью кожи, но вдобавок оружие и кожаный кошель с тремя золотыми браслетами, слитками серебра и несколькими монетами, в остальном же только одежда да спальные мешки.
— Отличная лодка, — сказал Гест, когда они затащили челн повыше и крепко зачалили. Он заметил, что Ари все еще дрожит, но девочки были спокойны. — Вы думали о Боге?
Они переглянулись. Все трое.
— Нет, — ответила Стейнунн и положила руку на золотую брошь. Впервые Гест увидел у нее на лице улыбку, отблеск далекой грезы преобразил ее — он в жизни не видал девочки краше. Чем-то она напоминала Аслауг, и он прекратил расспросы. Челн лежал на боку, в нем плескалась зеленая вода, колыхала парус. Гест отвязал его, вытащил из челна и раскинул на вешалах, где обычно сушили сети и рыбу. Ари стоял меж лодочных катков, бросал в воду камешки. Знает ли он, что такое праща, спросил Гест.
— Нет, — отозвался Ари.
Гест отрезал два куска веревки, привязал по бокам к кожаному лоскутку, объяснил, как действует праща, и метнул камень. Дети проводили его взглядом — камень птицей исчез в вышине, потом возник снова, взблеснул на волнах, так далеко, что они невольно засмеялись. Следующим за пращу взялся Ари. За ним Стейнунн.
— Целиться — вот что труднее всего, — сказал Гест и, когда настал черед Халльберы, велел им отойти в сторонку. Так они и метали камни, пока над северными островами не встало солнце.
Тогда они вернулись в усадьбу, сделав большой крюк вокруг Транда Ревуна, похожего на красную, закопченную тушу, и вошли в дом, потому что Гест велел ложиться спать.
На сей раз Гест бодрствовать не стал. Проснулся только под вечер следующего дня, в голове клубился жаркий туман, рядом слышался спокойный голос Эйстейна сына Эйда, который, точно старый дуб, склонялся над ним. На лысом черепе Эйстейна поблескивали капли росы, но взгляд был дружелюбный, голос — ласковый, и он спрашивал, не захворал ли Гест.
— Нет, — ответил Гест, однако не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.
Эйстейн сказал, что сходит за травами и эликсиром, который взбодрит его, и воротился с кувшинчиком синего стекла. На просвет Гест разглядел, что и содержимое тоже синее, и закрыл рот. Но Эйстейн ножом разжал ему зубы, пролил несколько капель на распухший язык и спросил, каково зелье на вкус. Гесту оно показалось сладким, как ягоды, и он попросил еще. Хотя рот закрыл. Правда, Эйстейн опять сумел разжать ему зубы. Капля за каплей падали в больное горло, но в конце концов Гест сумел-таки пошевелить руками и остановил Эйстейна.
Ему хотелось сказать «хватит», только почему-то произнес это слово Эйстейн, а сам он ничего сказать не мог.
Он сложил вису, но и стихи звучали странно, голос был не его, а Стейнунн. Девочка сидела рядом, подтянув коленки к подбородку, и смотрела на него, подняла руку, положила ему на плечо, потеребила и тихонько сказала, что надо вставать и чинить лодку. Твердила снова и снова: лодка, лодка…
Но у Геста не было сил подняться.
— Я болен, — сказал он и велел ей привести Ари.
Мальчик пришел, и Гест сказал, чтобы он взял топор с рыбьей головой и убил Транда, одним ударом, если получится, иначе ему опять станет страшно и он может наделать глупостей. Потом надо набрать хворосту и бревен от полусгоревших домов, сложить большой костер и сжечь Транда там, где он сидит. А после этого поступить так же с трупами у бухточки.
Только через неделю Гест сумел выйти на лужайку, дети помогли. День выдался дождливый, густая серая пелена наползла с моря. На кострище, где ушел из жизни Транд Ревун, уже пробивались зеленые травинки. Гест подставил лицо дождю. Спросил, не прилив ли сейчас. Ари кивнул. Тогда Гест велел отвести его на берег, сел в дверях лодочного сарая и сказал, чтобы они затащили челн как можно выше по склону и подперли борта чурбаками. Потом объяснил, как надобно чинить, давал указания и советы, Ари со Стейнунн работали, Халльбера смотрела. Еще он сказал им, что, когда закончат, надо будет покрыть борта смолой, замазать раскраску и приготовить парус, оставшийся от отца, хоть он и маловат, — главное, чтоб никто не подумал, будто на челне идет Транд Ревун.
— А теперь помогите мне вернуться в дом.
Пока Гест хворал, девочки спали в его комнате, тогда как Ари ночевал на лавке за дверью, при оружии. Гест называл его своим храбрым защитником и упорно пытался выяснить, почему сюда никто не заглядывает.
— Усадьба-то лежит на пути кораблей, верно?
Но дети твердили, что не знают.
— По горам мне Халльберу не донести, — обронил Гест в забытьи.
Дети не поняли, о чем он.
Гест посылал их за дровами. Пора птичьих яиц миновала, но Ари рыбачил, и они отыскали еще одного ягненка. Ари забил его и разделал. Иногда они помогали Гесту спуститься к берегу, и он сидел на солнышке, давал советы насчет починки челна. Как-то Халльбера спросила, не расскажет ли он еще что-нибудь про Ананию или про что другое. Гест опять рассказал про Аслауг, про то, какая она сильная, взглянул на челн и подумал, что нельзя ему умирать, пока дети не закончат работу; он думал только о сестре и о челне и оттого держался на плаву.
— Расскажу-ка я вам о смерти Бальдра, — предложил он как-то раз, когда они, сидя на траве, ели рыбу. — Бальдр — это бог, до того красивый, мудрый и добрый, что его мать Фригг взяла со всех земных созданий клятву никогда не причинять ему вреда.
Дети отвечали, что эту историю послушают с удовольствием.
— И вот орлы и огнедышащие горы, море и болезни, змеи, люди и великаны-йотуны — все поклялись, что никогда не причинят Бальдру вреда. Но упустила Фригг взять клятву с омелы, ведь омела всего-навсего маленький слабосильный кустик, этакое деревце-дитя, и Фригг подумала, что от дитяти нельзя требовать клятвы, оно все равно не сумеет ее сдержать.
— Но мы-то умеем! — воскликнула Стейнунн.
Гест улыбнулся и продолжал:
— А с той поры, как Бальдр сделался неуязвим, боги придумали себе забаву: бросали в него камни и метали стрелы, да и сам Бальдр охотно участвовал в игре. Один только Локи, стыд и позор всего племени богов-асов, затаил злобу, и вот однажды нарядился он женщиной, пошел к Фригг и разузнал про омелу, а засим отправился на то место, где забавлялись боги, и увидал там Бальдрова брата, Хёда, который стоял чуть в стороне от других. «Почему ты не играешь с остальными?» — спросил Локи. «Потому что я слеп, — отвечал Хёд, — и не вижу, где Бальдр». — «Так я тебе покажу, — сказал Локи, — и ты тоже выстрелишь в него, этой вот стрелой». Хёд послушался и выстрелил. Омела пронзила Бальдра, и он бездыханным упал наземь. Великая беда постигла людей и богов; асы плакали, и стенали, и не находили слов, чтобы выразить свою скорбь, а больше всех горевал сам Один, слезы ручьем катились из единственного его глаза, отчего он стал таким же слепцом, как Хёд, ведь Один лучше всех других понимал, какую утрату понес мир.
— Ну вот, Халльбера опять плачет, — сказал Ари.
Гест посмотрел на девчушку:
— Ты слушай, что было дальше. Фригг объявила всем живущим во всех мирах, что тот, кто дерзнет отправиться в подземное царство к Хель и уговорит ее отпустить Бальдра, получит в награду ее любовь и благорасположение. И знаете, кто вызвался?
Дети покачали головой.
— Хермод, — сказал Гест. — Он тоже был сыном Одина, но не от Фригг, сиречь приходился Бальдру сводным братом. Один дал ему своего коня, восьминогого Слейпнира, и поскакал Хермод в царство мертвых и поведал Хель, что и боги, и великаны, и люди не смогут жить, коли Бальдр не вернется, так они горюют и скорбят. Но Хель ему не поверила — быть не может, чтоб кого-то этак любили! — и сказала: «Давай-ка посмотрим, вправду ли все существа охвачены скорбью, и если нет, Бальдр останется у меня навеки». Тогда боги повелели всему миру скорбеть, и все плакали-горевали — великаны-йотуны, и карлики-дверги, и звери, и люди, — все, кроме одного. И кто же это был, как думаете?
— Ясное дело, Локи, — сказал Ари, печально глядя в морскую даль.
— Верно. — Гест перевел дух, и в груди у него захлюпало, с таким звуком гвозди входят в мокрое дерево. — Только на сей раз он прикинулся великаншей, по имени Тёкк.
— Тёкк? — переспросила Халльбера.
— Да, — ответил Гест.
— Странное имя,[46] — заметила Стейнунн. — И это все?
— Нет. Перед смертью Бальдр успел обзавестись сыном, которого звали Форсети, и к Форсети могут прийти все, кому не удается жить мирно, все, что воюют меж собою, ибо Форсети способен примирить всех, кто бы они ни были и о чем бы ни спорили. Он бог справедливости и всем утешитель, надежда для тех, кто никогда не имел надежды.
На миг повисла тишина.
— А теперь всё? — опять спросила Стейнунн.
— Нет, — сказал Гест, — но мне надо подумать о другом.
Думал он о челне. Вроде как наладили его. Тою же ночью он тихонько, не разбудив девочек, слез с кровати, открыл дверь и растормошил Ари. Мальчик удивленно поднял голову и спросил, что ему нужно. Гест прошептал, что, когда он помрет, Ари придется позаботиться о сестрах; управлять маленьким парусом не так уж и трудно, надо лишь дождаться попутного ветра и идти на полночь, непременно на полночь, и не забыть взять с собой вещи, в том числе и его скарб, и рассказать Ингибьёрг все, что она спросит, но не больше, и отдать ей серебряную монету, которую Гест получил от Эйстейна, тогда она примет их под свою опеку.
— Ты не помрешь, — сказал Ари.
Гест же велел ему принести кошелек и достал монету с загадочными письменами. Ари не хотел ее брать, но Гест твердо сказал, что выбора нет, взять придется. Ари глянул на монету.
— А молитвы Богу помогают? — спросил он.
— Не знаю.
— А жертвоприношения?
— Не знаю.
Ари и девочки продолжали трудиться над челном, а через несколько дней после того, как Ари получил монету — и не единожды тщетно пытался вернуть ее, — все трое пришли к Гесту и объявили, что работа закончена. Гест кое-как добрел до границы прилива, пошатываясь, спустился вниз и помог столкнуть челн на воду. Прямо у них на глазах он наполнился водой и камнем пошел ко дну. Гест с трудом перевел дух и сказал, что так и надо, дерево должно разбухнуть. Это ведь карве, двенадцативесельный челн, тяжелый и прочный, как Бальдров «Хрингхорни».
Только спустя неделю с лишним Гест снова сумел встать с постели.
Он велел детям принести побольше желтых и синих ягод, что уже поспевали в округе, и они набрали сколько могли черники и морошки. Ари нашел еще одного барашка и забил его. Стейнунн стряпала на всех, вдобавок они ловили рыбу. Но только когда начали созревать и красные ягоды, Гест достаточно окреп, чтобы выйти из дома без посторонней помощи. Он вконец отощал, в лице ни кровинки. Халльбера сказала, что с виду он чисто мертвец. Гест рассмеялся и скроил жуткую рожу: он, мол, такой и есть, призрак, на ее счастье, ведь при нем Транд Ревун здесь являться не станет.
Халльбера кинулась наутек, спряталась за кустом. Все засмеялись. А Гест сказал, что супротив нынешнего сил у него вряд ли намного прибудет, поэтому им нужно собрать все свое добро — домашнюю утварь, одежду, инструмент, одеяла, оружие — и погрузить в челн, из которого уже в четвертый раз вычерпали воду, так что он держался на плаву как сырая пробка. Для него самого надо устроить меховую постель между гребными банками за мачтой.
Дети все исполнили.
На другой день задул попутный ветер, но Гест опять лежал пластом.
— Молитвы Богу помогут? — спросила Стейнунн.
— Нет, — отвечал Гест. — Но вы же сильные. Справитесь.
На следующий вечер с юго-запада налетел шторм. Дети ушли по ягоды и домой не вернулись. Гест лежал и слушал, как буря с ревом набрасывается на постройки, как все вокруг — море, небо, горы — полнится гулом, как дрожат стены комнаты, а он не в силах пошевелиться.
Кое-как он подполз к краю кровати, вывалился на пол, добрался до двери, открыл ее, да так и остался лежать, под хлещущим дождем. Там дети и нашли его утром. Ари и Стейнунн. Халльбера пропала.
Вдвоем они оттащили его в постель. Гест велел им идти искать сестру. Ари ответил, что они уже искали, причем очень долго. Но Гест сказал, что искать надо, пока не найдут, иначе он их убьет, замучает и сожжет, аккурат как Транда Ревуна.
И опять уснул.
А когда проснулся, сразу увидел Халльберу. Девчушка стояла в дверях, не сводя с него своих черных глаз, мокрые волосы облепили голову, лицо, узенькие плечи. За ее спиной топтались Ари и Стейнунн, тоже насквозь промокшие. Ари похлопывал по ляжке пращой и прятал глаза. На дворе был белый день, ветер улегся, солнце ярко сияло в дверном проеме.
— Где вы так вымокли? — спросил Гест, когда мокрые волосы Халльберы мазнули его по лицу, потому что дрожащие девочки юркнули к нему под одеяло. Ему хотелось спросить про челн, но Ари, предвосхищая расспросы, деловито сообщил:
— Челн штормом вынесло на берег, там он и лежит. Но повреждений нет, и вещи мы почти все разыскали, только несколько весел пропало.
— Где вы нашли Халльберу? — спросил Гест.
— Да уж нашли, несколько дней назад. Она пряталась.
— А мокрые-то вы почему?
— Добро спасали.
Гест неотрывно смотрел на пращу, которая все покачивалась туда-сюда, хлопая по стройной ляжке, и вдруг ощутил то, о чем без малого год не вспоминал, — голод.
Он сел в постели, попросил Ари принести ему поесть. Не спеша принялся за еду и, еще не насытившись, сделал передышку. Потом продолжил трапезу.
— Стейнунн говорит, Халльберу нашел Бог, — сказал Ари, провожая взглядом очередной кусок, который Гест отправил в рот. — Еще она говорит, что Бог снова напустил на тебя болезнь, чтобы шторм не застиг нас в море, и еще: если, мол, ты опять очнешься, то мы спасены.
Гест велел мальчику переодеться в сухое и пойти с ним на берег. Лес подернулся сероватой желтизной, в горах искрились первые осенние краски, ветер задувал с северо-запада, Гест почувствовал, что начинает зябнуть.
— Зато я очнулся! — воскликнул он.
Челн, словно колыбель, лежал меж верхними катками, парус и несколько вымокших овчин сохнут на вешалах, остальное добро аккуратно сложено в сарае.
Гест уселся на солнышке, объяснил Ари, как снять рулевое весло и мачту, велел убрать гребные банки, донный настил и вообще все, что можно, — лишь бы облегчить челн. Потом послал его на холм к давешнему настилу, за березовой жердиной. Вдвоем они подвели под днище рычаг и развернули челн кормой к береговой линии — прямо на катках. Гест подпер борта чурбаками и снова сел. Точно древний старик, он сидел на пороге сарая, глядя, как Ари ставит такелаж и рулевое весло. Мальчик не нуждался в указаниях, но Гест все равно командовал, мол, этакий герой, как Ари, должен работать проворней, зима-то не за горами. Потом засмеялся:
— Я голоден. И хочу искупаться. И вспомнил все, что случилось за годы, минувшие после убийства моего отца.
Он рассказал про то, как снова обрел в Бё дар речи, и пропел несколько стихов; Ари между тем, нерешительно поглядывая на него, носил вещи в челн. В конце концов мальчик тоже рассмеялся, но Геста опять одолела слабость, и Ари пришлось под руки вести его к дому.
— Я голоден, — опять сказал Гест.
Они поели и легли спать. А наутро, когда проснулись, их встретил теплый, мягкий день, с легким юго-восточным бризом.
— Надо захватить с собой дров, — сказал Гест.
Вдова
В тот же вечер они вышли в море. На веслах Ари провел челн вокруг мыса, где скелетом диковинной птицы торчали остатки настила, и взял курс на север. Никто из детей назад не оглядывался. А Гест оглянулся, он будто вновь покидал Йорву, только огонек в снегу уже не означал, что он оставляет кого-то, огонек означал, что он в пути вместе со всеми. Сидя за рулевым веслом, он объяснял Ари, как надо управлять фалами, парусом и шкотами. Ари сказал, что давным-давно все это знает, вдобавок Гест ему никакой не ярл.
Когда Гесту требовался отдых, рулевое весло забирал Ари, а Стейнунн управлялась с парусом. Гест и ей в ярлы не годился. Халльбера всю дорогу мучилась от морской болезни и лежала подле него на одеяле, а если он держал рулевое весло, клала голову ему на колени.
Плыли они день, ночь и еще день. Ночами было уже темно и холодно. Потом ветер стих. Они легли в дрейф, и течение вынесло их к широкому фьорду, в устье которого со стороны моря рассыпались низкие острова. Надо сесть на весла и грести, решил Гест, всем, в том числе Халльбере. Причалив в бухточке одного из островов, они сошли на берег, отыскали бочажок с дождевой водой, развели костер и устроились на ночлег. По расчетам Геста, фьорд был тот самый, о котором толковал Эйстейн. Утром пал туман, но над белыми его клубами высились могучие кряжи гор, со свежим снегом на вершинах, Эйстейн говорил, их ни с чем не спутаешь.
А вскоре с запада налетел ветер.
Ровный крепкий ветер мчал их по фьорду, и вот на широком плоском мысу завиднелась усадьба, которая по мере приближения все вырастала в размерах: каменная пирамида-тур на островке перед мысом, на самом мысу восемь больших домов и множество мелких построек, на пастбищах лошади и коровы, два корабля у широких каменных пирсов и множество лодок, зачаленных в устье реки, что разрезала зеленые выгоны на две почти одинаковые луговины. Меж усадьбой и горами поднимался лес, а на вершинах гор повсюду белели снега.
Они пришвартовали челн к одному из пирсов. Однако навстречу никто не вышел. Если не считать скотины, усадьба казалась вымершей. Гест решил послать девочек к домам. Стейнунн накрыла ладошкой золотую брошь, взяла сестренку за руку, и скоро обе исчезли за лодочными сараями. Ари вопросительно посмотрел на Геста. Тот пожал плечами.
Немногим позже к причалу спустились пятеро мужчин, все при оружии, один из них назвался Хедином, управителем усадьбы Сандей. Гест оставил оружие в челне, захватил с собой только нож, а еще взял кошелек и попросил Ари не забыть арабскую монету.
Усадьба была опоясана двумя каменными оградами. Одна сбегала к лодочным сараям и кольцом охватывала все возделанные участки, вторая окружала три самых больших дома, а между ними, на свежевыкошенном лугу, паслось стадо коров и несколько лошадей. Гест заметил, что в реке копошатся какие-то люди, и спросил, что они там делают.
Ответа он не получил.
Хедин провел их в самый большой дом, в длинное помещение со светлыми ткаными коврами по боковым стенам, только на этих коврах были не картины, а ломаные узоры, спиралями сходившиеся к центру, к косой звезде, все одинаковые, но разного цвета. Вокруг очага кольцом уложены белые, до блеска начищенные каменные плиты, лавки и столы из светлого дерева, у одной из торцевых стен — два больших ткацких постава. Хедин попросил их подождать.
— Где же Стейнунн и Халльбера? — спросил Ари, опасливо озираясь по сторонам.
— Не знаю, — отозвался Гест.
На другой короткой стене по углам висели две алебарды — подобное оружие он видел только в усадьбе ярла, — большой, окованный серебром круглый щит с изображением червленого льва, несколько топоров, шлемы, а посредине — кольчуга, будто человеческий торс.
У этой стены располагалось почетное место и несколько низких табуретов, Гест подошел поближе, хотел рассмотреть резьбу на боковинах почетного сиденья и лежавшую на нем вышитую подушку винно-красного шелка; на полке, что тянулась вдоль всей стены, выстроились в ряд чаши из мыльного камня и всевозможные серебряные кубки, три стакана цветного стекла и книжный переплет из благородного металла, но книг не было.
Тот, у кого средь бела дня открыто лежат этакие ценности, подумал Гест, живет в мире и окружен преданными людьми.
Вошла Ингибьёрг, с Халльберой и Стейнунн. Высокая, худощавая, лет около сорока, с ясными синими глазами, белокожая, будто никогда не бывала на солнце, с чуть выступающими скулами, с прямыми черными волосами и носом тонким, как лезвие ножа. Рот с виду решительный, жесткий, но Гесту показалось, что от улыбки он мягчает, а она улыбнулась, когда села на почетном месте на подушку и внимательным ясным взглядом смерила его с ног до головы, словно раздела донага.
От неловкости он начал переминаться с ноги на ногу.
На Ингибьёрг было коричневое платье со светлым узором по вороту, рукавам и подолу — вроде как вышивка серебряной нитью.
Гест шагнул вперед, учтиво приветствовал ее, сообщил, кто он и почему очутился здесь, но не упомянул о конфликте со Снорри, сказал только, что в Исландии у него могущественные недруги. Поведал о зиме в Нидаросе, о схватке с Трандом Ревуном, хотя не обмолвился о том, как они его убили.
Ингибьёрг сосредоточенно слушала, потом, приподняв брови, заметила, что он сделал большое дело, ведь Транд Ревун держал в страхе все побережье.
Но тотчас же взгляд ее посуровел. Она посмотрела на детей, сказала, что разрешает им остаться здесь, а вот Гесту приюта не даст, ибо в словах его нет правды.
Он озадаченно воззрился на нее и велел Ари достать монету. Ингибьёрг мельком глянула на нее: дело не в этом, а в самом Гестовом рассказе, он ведь пытался обманом втереться к ней в доверие, и коли б Эйстейн знал про его нечестность, то нипочем бы не стал ему помогать.
Халльбера заплакала.
Ингибьёрг велела ей унять слезы и отослала детей на поварню, там их накормят. Потом кликнула Хедина, который не замедлил явиться, и распорядилась отвести Геста в дальний сарай, что расположен в стороне гор, пускай поживет там, пока не окрепнет, она же видит, что он хворал, а уж потом придется ему уйти.
Хедин спустился с Гестом к причалу, взять одеяла. Гест заметил, что оружия его на месте нет, и спросил, куда оно подевалось. Хедин пожал плечами, невозмутимо озирая серый фьорд.
— Я ведь не знаю, что ты ей наговорил, и по какой такой причине она решила прогнать тебя прочь.
Гест буркнул, что и сам этого не знает. Хедин не вызывал у него доверия — одет он был в кожаное платье, как лучники в Эйриковой дружине, ершистые черные волосы росли низко, вровень с верхними морщинами на лбу, и густотой не отличались. Глаза расставлены широко, подбородок круглый, безвольный, борода жидкая. Гесту чудилось, будто перед ним как бы два человека в одном или этакая помесь — рыба с куницей, мелькнуло в голове, когда они прошли через калитку во внешней ограде и зашагали по берегу реки мимо работников-трэлей, тут-то Гест и разглядел, чем они заняты.
— Мост строят, — сказал он.
Но Хедин и на сей раз промолчал; чуть повыше строительства они вброд перешли реку, пересекли еще один свежевыкошенный участок и оказались на опушке леса, где стоял большой бревенчатый сарай. Внутри было чисто и пусто, снаружи на дверях красовался солидный засов. Гест полюбопытствовал, для чего предназначен этот сарай.
— Можешь принести сена, вон оттуда. — Хедин кивнул на два дома ниже по склону, повернулся и пошел прочь.
Гесту сарай не понравился, но он сходил за сухим сеном, устроил себе постель из овчинных и сермяжных одеял, потом достал нож, выковырял гвозди из двери, выпрямил их на камне и прикрепил засов изнутри. А засим лег спать.
Вечером пришли Халльбера и Стейнунн, принесли еду. Гест заметил, что обе чисто вымыты, одеты-обуты во все новое, и спросил, как к ним относится Ингибьёрг. Девочки ответили, что она вполне доброжелательна, а кормят их вволю и молока дают сколько хочешь. И не только их, но и Ари тоже. Гест кивнул и молча принялся за еду.
Когда он поужинал, Халльбера уходить не пожелала, юркнула в сарай и улеглась на его постель. Стейнунн ушла одна. Немного погодя явилась Ингибьёрг, увела малышку. Не говоря ни слова. Гест тоже промолчал. Ночью он спал спокойно. Однако на другой день Ингибьёрг вернулась, вместе с Хедином, который в полном вооружении стал в двух шагах за ее спиной.
Ей теперь все известно про смерть Транда Ревуна, сказала Ингибьёрг, и, по ее разумению, подвергать человека, даже мерзавца вроде Транда Ревуна, таким мучениям малодушно и не по-христиански. Гест улыбнулся, пропел вису. Ингибьёрг отмахнулась: незачем ей слушать его стихи, она в них не разбирается, да и сам он, поди, тоже.
— Случившееся дважды может случиться вновь, — обронил Гест.
Она стояла перед ним, опустив руки, на шее поблескивала плетеная серебряная цепочка.
— Почему ты не рассказал про Транда вчера вечером? — спросила Ингибьёрг.
— Так ведь ты теперь все узнала, от Стейнунн и Халльберы.
— От Ари, — уточнила она. — А ты промолчал, потому что гордиться тут нечем, поступок не только жестокий, но и трусливый. И мне думается, о детях ты заботился лишь затем, чтобы я помогла тебе, а не из сострадания к ним.
— Как хочешь, так и думай, дело твое. Когда я нашел детей, они хворали. А теперь все трое здоровы. Месть их исцелила.
Ингибьёрг фыркнула, отвернулась и ушла. Но Хедин задержался и, по-прежнему стоя чуть поодаль, обронил в пространство, что Ингибьёрг христианка, женщина суровая, однако справедливая.
— Она никогда не делала людям зла. Поэтому я не могу отдать тебе оружие или оказать иную помощь, могу только оставить двери нынче ночью открытыми, а там поступай как знаешь.
— Двери и без того открыты, я сам позаботился, — сухо бросил Гест.
Хедин глянул на засов и криво усмехнулся. А Гест смекнул, что прошлой ночью он уже побывал здесь.
Начался снегопад. Гест спал и из сарая не выходил. Утром его разбудили крики Халльберы. Он отворил, девчушка стояла на пороге, со стрелами и маленьким луком, звала его играть. Но Гест сказал, что ему не до игр, надо кой о чем поразмыслить. Немного погодя пришли Стейнунн и Ари. Принесли поесть. Ари спросил, правда ли, что он уйдет отсюда. Нет, отвечал Гест, уходить он не собирается. Коли им охота его выставить, пускай лучше убьют. Когда дети ушли, он снова лег спать.
В следующие дни Гест словом с Ингибьёрг не обмолвился. Потеплело, снег опять стаял, он сидел на пороге под бледным осенним солнцем, смотрел на будничные работы в усадьбе, на рыбаков, что выходили в море и возвращались с уловом, который разделывали тут же, на берегу, средь белых туч крикливых чаек; порой меж рыбаков был и Ари. Стейнунн трудилась на поварне или на земельных участках, и видел он ее все реже, Халльбера играла с другими детьми, но каждый день приходила поболтать о новых друзьях (ей было на что пожаловаться) или вздремнуть у него под одеялом.
— Ведь сейчас ночь, — говорила она.
Немногим позже Гест будил ее:
— Утро уже.
Потом он перебрался к реке, стал наблюдать за постройкой моста: тринадцать трэлей, согнувшись в три погибели, таскали гладкие, круглые булыжники, наполняя ими два бревенчатых ряжа, поверх которых ляжет прочный настил и соединит берега. Здешняя река была поуже, чем Хитарау, и поспокойнее, хотя сейчас в русле мчался бешеный бурный поток талых вод. И Гест наконец-то смог поднять камень и держать его на вытянутой руке. До сих пор он был посторонним, еще неделю назад даже Бог не подвиг бы его поднять этот камень, который он сейчас с легкостью, точно птичку, держал в руках и присовокупил к трэлевским, опустив в левобережный ряж, и ему глубоко безразлично, как посмотрит на это работник, надзирающий за строительством. Гест взял с воза второй камень, положил рядом с первым. Он строил мост, который соединит два земельных участка в горах Халогаланда, строил сообща с безмолвными трэлями, работал, как они, только медленнее, а наутро надзиратель привел Хедина, который, стоя на правом берегу, долго смотрел на него со своей кривой рыбьей усмешкой. Потом пожал плечами и ушел. А Гест продолжал работать.
Хедин рассказал, что первоначально здесь было две усадьбы, в одной выросла Ингибьёрг, в другой — ее муж, Халльгрим сын Орма, теперь обе усадьбы объединятся, под одним именем и одним хозяином, сиречь хозяйкой, Ингибьёрг занималась этим с тех самых пор, как Халльгрим погиб при Свольде, да все никак не могла закончить. Хотя, вероятно, она и не стремилась заканчивать, по правде-то говоря, просто ждала мужа, ведь насчет этого сражения ходило множество загадочных слухов, и по сей день — по прошествии девяти лет — случалось, что воины, в нем участвовавшие, живыми возвращались домой.
Но так или иначе у Ингибьёрг была усадьба — она называла ее Сандей, по меньшей усадьбе, где сама родилась и выросла, — еще она занималась морским промыслом, а вдобавок владела несколькими железоплавильнями в горах Отрадаля и залежами мыльного камня, который добывали на горном склоне повыше Гестова сарая, свозили на телегах к причалам и складывали в пакгаузе возле лодочных сараев. Оттуда камень на больших челнах отправляли на юг, один-два раза за лето. В общем, у Ингибьёрг хватало причин строить мост, это ведь тоже способ ждать, подумал Гест, вот так и Аслауг ждала его, а Ингибьёрг не имела ни детей, ни братьев, и все ее родичи жили южнее, на озере Мёр.
Ингибьёрг неукоснительно соблюдала выходной день, с той поры как много лет назад отец ее принял новую веру, еще от конунга Хакона Воспитанника Адальстейна. И каждое воскресенье она в одиночку ходила в горы, поначалу Гест думал, что она наведывается в каменоломню, но однажды утром пошел за ней следом и застал ее в молитве на вершине горы, где у ног ее было море и острова, а на скале перед нею выбито изображение креста.
Она услышала его шаги, закончила молитву и принялась подробно расспрашивать, чем он занимался в Исландии, пока не пришлось ему уехать сюда, и ее манера задавать вопросы живо напомнила ему Кнута священника, когда тот, в порядке исключения, слишком страдал от одиночества, чтобы читать ему, Гесту, нотации, а она выглядела прямо-таки отчаявшейся.
Отвечал Гест, как он полагал, уклончиво и приблизительно, но оказалось, Ингибьёрг была весьма хорошо осведомлена, по причине дружества с Эйстейном и, конечно, с Хельги, оба они плавали с ее мужем к западным островам, да и в Сандее не одну зиму прожили; и в Исландии у нее были родичи, первопоселенцы, издавна обосновавшиеся на севере, в Эйяфьярдаре, она даже назвала кой-какие имена, правда совершенно ему незнакомые.
Наконец она повернулась к нему спиной и начала спускаться вниз, тело ее под темным платьем напряглось, точно струна лука. Наверно, ей лет тридцать пять — сорок, думал Гест, вроде красивая, а вроде и нет, рот бы ей лучше не сжимать этак крепко. Он опять шел за нею следом, чуть что не наступая на пятки, она остановилась и с минуту пристально смотрела на него, потом выражение ее лица изменилось, и она неожиданно спросила, знает ли он, откуда у Стейнунн золотая брошь.
Вопрос застал Геста врасплох.
— От матери?
Ингибьёрг покачала головой:
— Нет, от старшей сестры. Ее тоже убили в Хавгламе. Они тебе не сказали?
— Нет.
— Ты похоронил ее вместе с родителями, подумал, наверно, что она из трэлей.
Гест кивнул.
— Они все были без одежды. В том числе и мужчины.
— А кресты на могилах ты не поставил?
Гест помотал головой. Ингибьёрг прошла несколько шагов и опять остановилась.
— Ее звали Ауд, и было ей пятнадцать зим. Когда Транд Ревун явился в Хавглам, она дала Стейнунн эту брошь и велела ей вместе с братишками и сестренкой бежать в горы, чтобы сберечь брошь, ведь это самая дорогая вещь, какая у них есть. Потому они и оставались на горе.
Гесту вспомнилось убийство отца, и он догадывался, что она, скорей всего, права и растерянное облегчение способно стереть даже огромную скорбь, но не мог взять в толк, отчего так важно, кому принадлежала брошь — матери или сестре, И берегли ли дети золото, или изнывали от страха, или то и другое сразу, и в конце концов сказал, что, как ему думается, брошь принадлежала их матери и что дети все равно бы остались в горах, не пошли бы на бойню, они же понимали, что случилось, дети все понимают.
— Нет, — возразила Ингибьёрг. — Она спасла их. Сестра.
Гест был заворожен этой женщиной.
Когда Гест пробыл в Сандее целый месяц, причем все это время разговаривал только с детьми да со стариком, надзиравшим за постройкой моста, — трэли рта не открывали, — однажды вечером к нему в сарай пришел Хедин и сказал, что его ждут в усадьбе, Ингибьёрг желает с ним побеседовать.
Она восседала на почетном месте, под кольчужной фигурой, в платье посветлее того, в каком он видел ее последний раз. Вдобавок она улыбалась. Дети тоже были здесь. Ингибьёрг предложила Гесту сесть на лавку, Хедина же отпустила, приказав ждать за дверью.
— На улице, — уточнила она.
Гесту подали угощение, Ари забавлялся со шлемом, то надевал его на голову, то снимал и держался так, будто всю жизнь тут прожил. Ингибьёрг учила Стейнунн заплетать косы и между делом обронила, что решила позволить Гесту остаться.
— Не только потому, что за тебя просили дети, но ради Господа, а не ради тебя самого, ведь ты по-прежнему полон лжи.
Гест встал, подошел ближе, поблагодарил, потом вынул из кошеля крест, полученный от Иллуги Черного, и протянул ей.
— Почему ты отдаешь его мне? — удивленно спросила она, не сводя глаз с креста. — Он ведь и тебе самому может пригодиться.
— Отдаю потому, что это самое ценное мое достояние, — отвечал он.
Ингибьёрг посмотрела на него, будто желая удостовериться, что он не насмешничает, и снова устремила взгляд на крест, усыпанный каменьями и в свете очага поблескивающий тускло-красными искрами.
— Красивый, а судя по узору, явно ирландский. И думается мне, не иначе как норвежец-язычник отнял его у какого-то христианина, а впоследствии отдал другому язычнику, который вовсе им не дорожил.
Гест с улыбкой сказал, что, возможно, так оно и было, во всяком случае, он получил крест от язычника, и язычник этот ему помог.
— Сейчас ты хотя бы говоришь правду, — заметила Ингибьёрг. — Но, коли крест теперь мой, я, наверно, могу делать с ним, что хочу?
Гест согласно кивнул.
— Тогда я подарю его Стейнунн, — сказала она, подзывая девочку к себе. — А Халльбера получит другой, вот этот.
— Да пожалуйста, мне все равно.
— Но ты останешься здесь лишь при одном условии, — продолжала Ингибьёрг, не сводя глаз со Стейнунн, которая смеялась и восторженно хлопала в ладоши.
— При каком же? — спросил Гест.
— Ты примешь христианскую веру.
— Я не хочу.
— Почему?
— Говорят, конунг Олав считал, что полагаться можно только на того, кто принимает веру по доброй воле, а ты не больно-то даешь мне тут свободу выбора.
— Умный ответ, — с ехидным смешком сказала Ингибьёрг. — Но ты плоховато осведомлен, коли думаешь, что конунг Олав не использовал силу. Использовал, при необходимости. Ладно уж, все равно оставайся, хотя ты, конечно, человек опасный и только с виду маленький.
Гест еще раз поблагодарил и сказал, что скоро она узнает, что на него можно положиться. Дело за нею, не за ним.
Тою зимой Гест много времени проводил в обществе Хедина. Порой управитель был совершенно таким, как Гесту представлялось, порой совершенно иным, говорил мало, в задумчивости накручивал на пальцы свои длинные волосы, а в задумчивость Хедин впадал частенько, ибо, как выяснилось, поразмыслить ему было о чем и раздумьям он предавался с большою охотой, однако ж неукоснительно следил, чтобы Гест прилагал побольше усилий, нежели он сам. Они ходили рыбачить, и Гест, как правило, сидел на веслах, иной раз вместе с Ари и другими усадебными работниками. Из отрадальских лесов в верховьях фьорда они вывозили дрова и брус и на лодках переправляли в усадьбу. Тогда Гест правил рулевым веслом, а Хедин на коне ехал по берегу. Вместе с Ари Гест охотился, в остальном же трудился в поте лица, наравне с трэлями. Укладкой настила меж мостовыми ряжами руководил опять-таки он, и что Хедину, что надзирателю пришлось терпеть, ведь один только Гест знал, как это делается.
— Я сам до этого дошел, своим умом, — сказал он Хедину.
Но Хедин волей-неволей похвалил его, когда он распорядился поставить две закрепленные расчалками мачты, по одной на каждом берегу, и соорудил меж ними подобие люльки, которая не давала громадным бревнам свалиться в реку, прежде чем их успевали закрепить с обеих сторон.
Ари быстро рос, голос у него ломался, и как-то вдруг он стал выше Геста. Теперь и стрелы его попадали в цель куда точнее, и длинное копье в руках словно бы изрядно полегчало, двигался он как охотник, держался как ратник и не замечал, что Хедин и трэли чуток над ним подтрунивают.
Однажды они сидели под скалой, отдыхали, сине-белая зима легким покровом раскинулась над морем и сушей, северный ветер заволакивал им глаза тонкой пеленою сухого снега, так что шхеры и мелкие островки то исчезали, то вновь являлись глазу на яркой зелени моря, будто грезы.
— До чего же похоже на Исландию! — воскликнул Гест и хотел было продолжить разговор о своей родине, но Ари перебил его и рассказал о старшей сестре, об Ауд, ведь, насколько он понял, Гест про нее знает.
— Хочу поблагодарить тебя за то, что ты помог нам отомстить, — добавил он.
Совсем недавно Ари подстрелил бегущего зайца, и Гест похвалил его, теперь же он взглянул на мальчика и усмехнулся:
— Ты стал таким взрослым, что способен поблагодарить?
Ари отвернулся, нехотя посмотрел вдаль.
— Мы должны были сберечь золото, — серьезно сказал он.
Гест кивнул и подумал, что, взрослея, Ари не обойдется одним убийством Транда, взрослел-то мальчик точно так же, как сам Гест и другие мужчины. Наклонясь вперед, он посмотрел вниз, на усадьбу: дорога от каменоломни черным ужом змеилась по белому снегу, пересекала замерзшую реку и сбегала на берег фьорда, к самому большому пакгаузу, издали доносились удары молотов. Не нравилось ему, что Ари похож на него; коли б существовал Бог, многое было бы по-другому, люди не походили бы этак друг на друга, однако ж не обладали бы и свободной волею, были бы подъяремными, аккурат как ангелы, которые, по словам Кнута священника, не имели иной воли, кроме Боговой, и забавы ради он полюбопытствовал, не знает ли Ари, отчего Ингибьёрг так осерчала, что они сожгли Транда Ревуна.
— Нет, не знаю, — ответил Ари.
— Оттого, что считает нас язычниками, — сказал Гест, — которые думают, будто в следующей жизни станут вольготно жить со своими родичами в Вальхалле,[47] чего бы ни натворили в этой жизни. И мы, дескать, пытали его, чтобы смерть его не была легкой. А Ингибьёрг христианка, она думает, что карать грешников — дело Господа, Он посылает их в ад, на вечные муки. Вот и скажи мне, какой вывод у тебя напрашивается?
Ари усмехнулся:
— Выходит, христиане не лучше нас? Мы-то мучили его только один вечер и одну ночь.
Гест рассмеялся, но тотчас опять посерьезнел:
— Ты примешь эту веру по первому слову Ингибьёрг.
Ари сказал, что ни во что верить не станет, пока не поверит Гест. Гест возразил: мол, незачем Ари оглядываться на него, пусть думает о себе и о сестрах и делает, как велит Ингибьёрг. Покуда не затронута честь, заноситься негоже, до поры до времени.
Порой Ингибьёрг приходила к сараю потолковать с Гестом, обыкновенно о вере. Снаружи, у входа, Гест соорудил очаг и, когда она приходила, разводил огонь и большей частью сидел на пороге, тогда как она стояла в снегу по другую сторону очага, скрестив руки на груди и склонив голову набок.
Он давно уже рассказал, что сам не знает, почему выбрал дорогу на Хавглам, вместо того чтобы идти вдоль фьорда, и она тогда заметила, что шаги его направлял Бог и точно так же Бог покарал его болезнью за то, что он мучил Транда Ревуна, а вдобавок все лето вел корабли мимо Хавглама, даже те, что везли соль и железо, и сделал Он так, чтобы продлить Гесту наказание.
Гест пробурчал, что то же самое говорила Стейнунн, хоть она совсем еще малое дитя и не знает веры.
— Есть грехи и поболе неведения, — сказала Ингибьёрг, — а Бог вездесущ, Он и в детях тоже.
— Но не в Хавгламе весенней ночью в минувшем году?
Она не ответила.
С ехидной усмешкой Гест спросил, не надоело ли ей приходить сюда с разговорами про Белого Христа, коли он восприимчив ко всему этому не больше, чем те бревна, из коих он соорудил ей мостовой настил, и тотчас добавил, что прошлой зимою жил у священника, но договорить не успел — Ингибьёрг повернулась и ушла, как всегда, когда их беседы заходили в тупик.
Впрочем, на следующий вечер она снова пришла к сараю, громко стукнула в бревенчатую стену и крикнула, что хочет остаться у него на ночь. Гест крикнул в ответ, что не возражает. Отворил дверь и опять закрыл за нею, так что в сарае стало совершенно темно. А потом сказал, что от нее разит тухлой рыбой и что не мешало бы ей прежде искупаться. Ингибьёрг рассвирепела, влепила ему звонкую пощечину и ушла.
Два дня спустя, причалив к берегу — вместе с Ари и двумя трэлями он ходил в море за рыбой, — Гест заметил, что баня, стоявшая на отшибе за верхней каменной загородкой, явно жарко натоплена, велел Ари и трэлям заняться уловом, а сам поднялся к бане, постучал и спросил, не Ингибьёрг ли там.
— Нет, — откликнулась она, — ступай прочь.
Гест вошел в баню и долго пробыл там вместе с Ингибьёрг. После этого она приходила к нему на ночь и уходила, пока все еще спали. Спускалась в собственную усадьбу, ровно тать, украдкой. Ночью она была совсем не такая, как днем, не разговаривала, глаз не открывала, при свете ли, в темноте ли, постанывала, но держалась вполне решительно. Подчас во всем ему уступала, словно ласковый ручной зверек, он же был по-детски игривым и резвым и по-мужски сильным, ведь Ингибьёрг не походила на невзыскательных нидаросских бабенок, она как бы блуждала по кругу, то радовалась, то горевала. А днем хоть не подходи к ней — натянутая, хмурая, шипит, чтоб он и думать не смел стоять с нею рядом, по крайней мере прилюдно, ведь она высокая, а он маленький.
Гест смеялся и все равно становился обок. Тогда она давала ему тумака или в ярости спешила прочь. В усадьбе стали поговаривать, что она не иначе как вскорости его прогонит. Однако те, кто знал ее лучше других, — Хедин, надзиратель, женщины-трэли, работавшие на поварне и за ткацкими поставами, — не сомневались, что Гесту ничего не грозит, что у него все благополучно, возможно даже благополучнее, чем у них самих, поскольку в довершение всех прочих странностей, случившихся с нею этой зимой, Ингибьёрг еще и смеяться начала, при ней постоянно видели девочек, все более нарядных, она без устали причесывала Стейнунн и учила ее тому, чему бы учила родную дочку, а Стейнунн подрастала, так же быстро, как Ари, до того быстро, что, когда Гест намедни назвал ее прелестным ребенком, она потупилась и заговорила о другом, попросила рассказать какие-нибудь истории.
— Зачем? — спросил он.
— Ингибьёрг любит их слушать. Особенно когда знает, что они рассказаны тобой.
Гест рассмеялся:
— Могу рассказать про смерть Бальдра.
— Про это она слушать не хочет.
— Ну и зря. Ведь Бальдр похож на Белого Христа. А стихи, которым я тебя научил, ты пела?
— Да, только их она тоже слушать не пожелала.
— Неудивительно, их сложил Эгиль сын Скаллагрима, а он был из детей Одина. Ладно, научу тебя стихам Халльфреда сына Отара,[48] которые я слышал в дружине у Эйрика; Халльфред тоже великий исландский скальд, притом христианин, сам конунг Олав крестил его.
Стейнунн сказала, что это, пожалуй, будет Ингибьёрг интересно.
— Но почему женщины не умеют слагать стихи? — спросила она.
— Ты ребенок, — ответил Гест, — а дети умеют то, чего другие не умеют.
На следующую ночь Ингибьёрг была немногословна и одежду не сняла, даже после долгих забав. Поинтересовалась, не расставил ли Гест ей западню, и он сказал, что не понимает, к чему она клонит. Помедлив, она наконец спросила, много ли он знает стихов про сражение при Свольде. Гест отвечал, что кой-какие ему известны, и пропел три из них, сложенные очевидцем, Скули сыном Торстейна,[49] который в битве стоял на носу «Барди» Эйрика ярла, и Халльдором Некрещеным,[50] который был вместе с Олавом на «Длинном змее». Пропел он и стихи Халльфреда сына Оттара про эту загадочную битву, ведь иные до сих пор верили, будто конунг вышел из нее живым. Правда, Халльфред при сем не присутствовал, а потому полного доверия не заслуживал.
Ингибьёрг внимательно выслушала стихи и попросила Геста истолковать непонятные ей кеннинги. Он исполнил ее просьбу, хотя одежду она так и не сняла, а вдобавок попробовал истолковать и те, каких не понимал сам. В одном из стихов Халльфреда упоминался «Журавль», корабль, на котором муж Ингибьёрг был кормчим, и она снова и снова просила повторить этот стих. В конце концов Гесту это надоело, и он сказал, что коли она пришла обсуждать поэзию, то может уходить, добавить ему больше нечего, к тому же Халльдора не зря прозвали Трудным Скальдом, не верил он в Бога конунга Олава, разве что нет-нет крестил пиво, которое заливал себе в глотку, — вот и вся вера.
Но Ингибьёрг рассмеялась и сдернула с плеч платье, так что груди ее, словно белые форели, вмиг выпрыгнули наружу. Правда, она тотчас опять спрятала их под платье, отворила дверь, босиком выскочила в снег и, скорчив Гесту ехидную гримасу, убежала.
Гест сидел, провожая ее взглядом, смотрел на ее спину, которая, словно хрупкое растение, покачиваясь, сбегала вниз по склону в звездно-синей ночи, и вновь подумал, что заворожен этой женщиной, не красавицей и не дурнушкой, не молодой и не старой, не похожей ни на кого, даже на Аслауг, самым удивительным человеком из всех, кого он знал, если не считать его самого.
Свое оружие Гест получил назад еще поздней осенью, вдобавок Ингибьёрг снабдила его кой-какой одеждой, так что выглядел он как вполне солидный мелкий бонд, почти под стать Хедину, хотя работал по-прежнему наравне с трэлями и до сих пор не предпринимал попыток отлынивать от дела. Когда собрались ставить новые вешала для рыбы на скалах у входа в причальную бухту, надзиратель пришел к Гесту в сарай и нехотя спросил, что он об этом думает, ну, о вешалах то есть.
— Ты спрашиваешь моего совета? — усмехнулся Гест.
— Меня прислала Ингибьёрг, — хмуро бросил надзиратель. Звали его Тородд сын Скули, а кликали Белым, потому что борода и волосы у него были белые как снег; в Сандее он жил с юных лет, доводился Ингибьёрг приемным отцом и теперь походил на крепкий, прочный белый крюк. — Раньше мы уже ставили там вешала, — продолжал он, глядя на фьорд и словно указывая взглядом, сколько там всяких трудностей. — Да ветра они не выдерживают, падают.
— Понятно, — кивнул Гест.
— Хотя лучшего места для сушки зимнего улова не найти — земли там нет, рыба не пропылится.
Гест опять кивнул и спросил:
— А пиво у вас в усадьбе не варят?
Тородд недоуменно воззрился на него:
— Почему? Варят, конечно.
— Что ж меня-то никогда не угостят?
Тородд прикинулся, будто не верит своим ушам.
— Ну как же, на Рождество-то угощали тебя.
— В дом, однако, не приглашали. Ингибьёрг и мессу служила, а ведь даже текста не знает, и меня не позвала.
Тородд недоуменно посмотрел на него, покачал головой и опять уставился в землю.
Через два дня начали ставить вешала. Гест спустился к полосе прилива, сел там и стал смотреть, как трэли нагружают две лодки жердями и гребут к самому большому камню, который видом напоминал кита и оттого так и назывался — Кит. На самом верху его, заложив руки за спину, стоял Тородд, собирался руководить четырьмя трэлями и Ари, а они уже взялись устанавливать первые стояки.
— Я пришел не затем, чтобы вам помогать! — крикнул Гест, но Тородд притворился, что не слышит. — Я пришел посидеть тут да посмеяться над вами!
Тородд и это пропустил мимо ушей.
День выдался мягкий, вроде как весна ненароком забрела во фьорд — вкрадчивые дуновения ветерка, немножко солнца, птицы, несущие предвестия грядущих перемен. Вскоре пришла Халльбера, уселась рядом с Гестом. Работа на Ките как будто бы спорилась. Тородд знал свое дело. Халльбера со скуки принялась бросать камешки в одного из трэлей. Гест велел ей перестать. Но трэль сказал, пусть, мол, бросает, для него это какое-никакое развлечение. Всю зиму Гест трудился бок о бок с этим трэлем, но голос его впервые услышал только сейчас. Еще раз велел Халльбере перестать. Девочка опять бросила камешек, попала трэлю по спине, и оба громко расхохотались.
Тородд подозвал работников к себе, спросил, отчего они этак копаются.
— Укороти стояки! — вдруг нетерпеливо крикнул Гест. — Здесь такие высокие без надобности. Тогда люди смогут раз весить рыбу, стоя на камне.
Тородд крикнул в ответ, что не слышит, о чем он толкует.
Гест окликнул трэля, прыгнул к нему в лодку, и они поплыли к Киту, где он и изложил Тородду, как, по его мнению, надо действовать. Старик кивнул трэлям: мол, обрубите стояки, как говорит Гест.
Когда море отступило, Гест вброд вернулся на берег и пригрозил Халльбере — она сидела на прежнем месте, бросая камешки в трэлей, — что если она сию минуту не прекратит, то получит шлепка, вот так. И дал ей такого шлепка, что она заревела. Гест посадил ее на закорки и зашагал вверх по склону, к большому дому. Под ногами была ледяная каша, а перед домом вообще гладкий лед, и он сердито думал, что девочка совсем не такая тяжелая, как ему казалось. Халльбера смеялась и кричала, что лошадь из него нерадивая, с ленцой. Гест не смеялся. Поставил ее наземь, зашел на поварню и, обратившись к одной из стряпух, которая варила мясо, сказал, что ему нужен бочонок пива. Женщина посмотрела на него, не говоря ни слова, будто решила, что, если промолчит, требование его исчезнет само собою. Но не тут-то было.
— Где пиво-то? — опять спросил Гест. Ответа он не получил, а потому сам пошел на поиски, отыскал пиво, взял под мышки по бочонку и отнес в сарай, после чего пил, пока не заснул. Той же ночью снова пришла Ингибьёрг. И на сей раз одежду сняла и о стихах про сражение при Свольде не вспоминала. Спросила только, долго ли Гест рассчитывает здесь оставаться.
— На то Божия воля, — ответил он.
Ингибьёрг попыталась в тусклом утреннем свете перехватить его взгляд, но тщетно: Гест закрыл глаза, от стыда, ведь эта женщина так крепко держала его в своих когтях, что он ни о чем другом думать не мог, ни днем ни ночью.
Сразу после Пасхи Хедин, Ари, Гест и трое трэлей морем отправились в Хавглам, нагрузив большую лодку бревнами и досками. Хотя за зиму Ари очень вырос и возмужал, а вдобавок сам же выпросил эти бревна, он совершенно пал духом при виде черных развалин, торчавших из бурой, некошеной травы, которая, точно гнилые колосья, устилала землю, и при виде гор, что отвесными кручами вздымались к небу и словно бы грозили капканом сомкнуться над головой. Потерянный, дрожащий, Ари сидел на веслах, не в силах пошевельнуться.
Хедин с трэлями перетащили груз на берег и занялись домами, а Гест пошел к могилам, ставить кресты, три креста, и делал он это с радостью, ради детей и ради Ингибьёрг, словно приносил благородную искупительную жертву. Совсем не так обстояло с тем крестом, что он когда-то, вроде как ненароком, поставил на могиле отца и опять вырвал, поскольку этот крест только смущал его. И теперь у него возникло ощущение, что, вероятно, тут есть какая-то связь с любовью, с уважением или с честью и покоем, а вдобавок с совершенно непостижимым обстоятельством, что он, полуязычник, сидел тут с тремя искусно вырезанными христианскими крестами, на которых значатся три чужих имени — родителей и старшей сестры уцелевших детей; он ставил кресты ради живых, ведь люди не всегда понимают, что творят и зачем, довольно и того, что они правильно чувствуют.
Целый день Ари лежал в лодке или бродил по берегу у самой воды и бросал в море камешки. Ночевали все в большом доме, но Ари и на ночь не пожелал оставить лодку, ни под каким видом, а наутро Гест спустился к нему и сказал, что в свое время Ари станет хозяином этой усадьбы и потому должен теперь помочь привести ее в порядок, к тому же полезно и дома строить научиться, вешала-то для рыбы ставить — это так, пустяки.
Ари, однако, заартачился, объявил, что ни сам он, ни сестры в Хавгламе никогда жить не будут, продадут они эту усадьбу, — вот так же и Гесту хотелось продать Йорву, чтоб забыть о ней. Гесту не понравилось, что мальчишка не промедлил бросить это ему в лицо, и он твердо сказал, что Ари еще ребенок и, хочет он того или нет, должен помогать, в усадьбе надо навести порядок, а продадут они ее или станут в ней жить, покуда значения не имеет. И Ари подчинился, нехотя, как в свое время Гест подчинился Аслауг. Примечая в мальчонке все больше сходства с собой, Гест испытывал недовольство, а поскольку Ари силой похвастаться не мог, сам он работал как никогда, со всем неистовым исландским рвением восстанавливал эту разоренную усадьбу, будто желая изничтожить самые жуткие из всех воспоминаний.
В порядке исключения Хедин тоже приналег на работу, тусклое его лицо озарилось каким-то холодноватым светом — он разговорился, спрашивал у Геста совета, интересовался обстоятельствами в Хладире, выпытывал, как Гест жил в Исландии, и откровенно радовался, что лучше Геста умеет сводить венцы.
Работали они, пока не израсходовали весь запас бревен, неделю с лишним, но Ари так и не повеселел, страждущий незваный гость в собственной отчине. Воспрянул он только по возвращении в Сандей.
Воротились они поздним вечером, в воздухе уже явственно пахло весной, на пашни успели вывезти навоз, лиственный лес под горой понемногу закипал птичьим щебетом, а на берегу сидели Халльбера и Стейнунн; после их отъезда они сидели там каждый вечер. И теперь обе решили заночевать в Гестовом сарае. В конечном счете Халльбера оставалась при нем несколько ночей кряду, да и днем ходила за ним хвостом: надо, мол, присмотреть, чтоб сызнова не пропал.
— Мы всего-навсего ездили в Хавглам, — сказал Гест.
— Куда? — переспросила девочка.
— В Хавглам, — повторил Гест.
Но она вроде как не поняла, сказала только:
— Ты уезжал.
Потом пришла Ингибьёрг, забрала девочку и позвала Геста в большой дом, ей надобно кое-что с ним обсудить: летом священник приедет крестить детей, так, может, и Гест примет теперь это прекраснейшее из таинств?
Гест сердито засопел, представив себе три креста, установленные в Хавгламе, и едва они уложили Халльберу, вывел Ингибьёрг наружу, рассказал, что Ари не хочет жить в родной усадьбе, ни под каким видом, и спросил, не найдет ли она ему покупателя, тогда он сможет обзавестись в Сандее снаряжением и товаром и отправиться в путь вместе с ним, с Гестом.
Она удивленно посмотрела на него, спросила:
— А ты-то куда собираешься?
Гест замялся, буркнул что-то насчет Исландии и Онунда сына Стюра, который рано или поздно его отыщет, а по вполне определенным причинам ему бы не хотелось, чтоб нашли его именно в Сандее, где живут она и дети. Тут на губах у Ингибьёрг расцвела улыбка, прелестная как никогда, словно она вот сию минуту услышала от него дивно прекрасное объяснение в любви. Но Гест остался неколебим.
— Разве нынешней весной что-то случилось? — спросила она.
— Нет.
— Тогда я рискну, — беззаботно обронила она. — Я не боюсь.
— Не забывай, есть еще Ари и девочки, — напомнил Гест, весна тревожила его и смущала, кресты и теплый ветер, свет и ее всепонимающая улыбка. — А у Хедина не хватит людей, чтоб противостоять крупному отряду.
— Людей у меня будет столько, сколько потребуется. Харек сын Эйвинда с Тьотты — мой друг и не откажет в необходимой помощи.
— Так ведь он и ярлу тоже друг?
— Когда друг, а когда и не очень, смотря по обстоятельствам, к тому же ярл отвернулся от Бога и надолго в стране не остается. Кстати, у тебя что, какие-то претензии к ярлу?
Совершенно без сил, Гест в конце концов сухо пробормотал, что об этом надо поразмыслить.
Однако поездка в Хавглам сидела в нем как заноза — и сама усадьба, и девочки, которые ждали его возвращения, будто он им ближайший родич, и Ари, который твердил, что в Хавгламе является призрак, но это не отец его и не родичи, а скорей уж Транд Ревун, мальчонка каждую ночь во сне разговаривал, как Гест в Йорве после убийства отца. Только чудак Хедин вроде бы ничего не замечал, без устали повторяя, что усадьба — сущее загляденье, и земли плодородной полным-полно, и местоположение защищенное, лучше не бывает. Юность Хедина прошла на Южных островах,[51] и родичи его жили в Ромсдале, на побережье, у моря он чувствовал себя как дома и рассуждал о Хавгламе так, будто был бы не прочь там поселиться.
Как-то раз, когда они оба наблюдали за трэлями, которые набивали коптильную печь можжевеловыми и березовыми ветками, Гест полюбопытствовал, много ли денег Хедин заработал за все годы, что служит у Ингибьёрг.
— А тебе какое дело до моих денег? — буркнул тот.
Гест вскочил, обеими руками вцепился ему в волосы и со всей силы рванул к себе. Хедин потерял равновесие, упал, коротко вскрикнул, ударившись головой о камень, и замер без движения. Гест сел на него верхом, выхватил нож и поднес к его лицу, целясь в левый глаз.
— Как думаешь, я мог бы убить тебя? — спокойно спросил он.
Хедин отвел мутный взгляд, от кончика ножа, посмотрел в лицо Гесту, потом на трэлей, столпившихся на почтительном расстоянии, и наконец кивнул, скорее смущенно, нежели с обидой. Гест встал, поднял его на ноги, и Хедин нетвердой походкой заковылял под гору, к домам, бормоча себе под нос проклятия, прижимая одну руку к ушибленной голове и бестолково размахивая другой, словно старался отогнать разъяренных пчел.
Вся эта сцена разыгралась на глазах у Ари, и немного погодя мальчик спросил, как же Гест рискнул тягаться с этаким человеком, он ведь воин, ходил в походы с Хареком и с Халльгримом и снискал недобрую славу.
— Я придумал, как с ним совладать, еще когда в самый первый раз его увидел, — резко сказал Гест. — И тебе не мешает завесть такую привычку, когда с новыми людьми встречаешься.
Ари не ответил.
— Через год-два, — продолжал Гест, так же резко, знаком приказав трэлям вернуться к работе, — пойдешь со мной в викингский поход и научишься всему, что я умею. А когда вернешься, никаких призраков в Хавгламе уже не будет, и ты сможешь там поселиться, стать бондом, ведь ты именно бонд, и бояться тебе нечего, Транд Ревун сгорел! — выкрикнул Гест и услышал, как голос его прокатился над Йорвой, может заброшенной теперь, а может перешедшей в чужие руки.
Ари все еще молчал. Правда, на сей раз он вроде бы не сообразил, к чему клонит исландец, и Гест облегченно вздохнул.
Тем же вечером Гест пошел к дому, где вместе с трэлями жил Хедин. У него была там отдельная комната с двумя дверьми, одна вела наружу, другая — во внутреннее помещение. Рукоятью топора Гест постучал в наружную дверь и спросил, дома ли Хедин.
— Да, — отозвался тот, — но я не выйду.
— Я пришел с выкупом за ущерб, который причинил тебе сегодня, — сказал Гест. — Этот меч я получил от Эйстейна сына Эйда, он не только дороже твоего собственного, он — знак дружбы.
Хедин медленно отворил дверь, с недовольным видом, в одной рубахе вышел на порог, молча глядя то на Геста, то на блестящее оружие, лилово-желтый синяк тянулся от правого глаза вниз по щеке. Корявым ногтем он провел по больному месту и, вдруг просияв широкой улыбкой, воскликнул:
— Я беру его! Беру!
Опять зарядил снег, на целую неделю, то сыпал серой крупкой вперемешку с дождем, то падал тяжелыми сырыми хлопьями. А потом пришла настоящая весна, короткая и бурная пора, когда Халогаланд оттаивает, горы одеваются зеленью, а море набирает синевы, и происходит все это быстро, за считанные дни, ни людям, ни животным не сидится на месте, жажда деятельности, жажда движения гонит сон прочь, кругом только и слышно мычание, блеяние да щебетание, река набухает, становится бурой, однако ж новый мост стоит крепко, ветер дышит теплом, небо вздымается высоким куполом, все толкуют о поездках, о полевых работах, мужчины пьют, дети смеются, а Ингибьёрг подолгу пропадает на горе, у скалы с крестом, где даже в это хлопотное время преклоняет колена пред Господом — возносит молитву обо всех тех утратах, о которых не может сказать вслух, и смотрит, как солнце опускается в море, словно камень в горячий мед, а мысли меж тем тяжелеют от бремени воспоминаний, да так, что одинокой женщине не выдержать их гнета. В такую вот ночь она, спустившись с горы, заходит к Гесту и говорит, что ночевать к нему больше не придет.
Ему бы надо сказать, что она с Пасхи тут не ночевала, но вместо этого он произносит:
— Ты пришла сообщить мне об этом?
Он сидел возле своего сарая, вырезал узор на изогнутой полукругом деревяшке с проушинами по концам, сквозь которые была пропущена скрученная проволока, — это будет ручка для каменного котла. Ингибьёрг смотрела на его руки, а он смотрел на нож, молча; нож он затачивал уже столько раз, что лезвие стало узким, как тростинка, не мешало бы завести новый, и он спросил, не даст ли ему Ингибьёрг другой нож.
— Конечно, — быстро сказала она. — Это тот самый нож, которого боится Ари?
— Да, — отвечал Гест. Ари много раз твердил, что Одинов нож ему не по душе, дурной он какой-то. — Я получил его от отца, в подарок… Но ты ведь не за этим пришла?
— Сама не знаю, зачем я пришла, — сказала Ингибьёрг, а он рассмеялся ей в лицо:
— Священник, у которого я жил прошлый год, говорил, что истинно верующие плодятся не похотью, а вот так же, как двое людей берутся за руки, или как человек поднимает глаза и смотрит, или как птица опускается с небес, когда ветер не держит ее крылья, или как спокойное море набегает на берег…
— Красиво сказано, — заметила Ингибьёрг, когда он умолк. — Ты что же, помнишь все это слово в слово, как проповедь?
— Тогда, — продолжал Гест звучным голосом Кнута священника, — дети будут рождаться без греха и без боли и земля вновь станет раем, каким сотворил ее Господь, ныне же она сущий ад, мрачная юдоль страданий и смерти, и все по нашей воле, мы за это в ответе, ты и я…
Ингибьёрг было улыбнулась, но улыбка тотчас погасла.
— Меня ты не напугаешь, — сказала она, обхватив плечи руками.
— Безрадостную и бессильную веру предлагает нам Белый Христос, — обронил Гест. — Свободную волю, которой так легко злоупотребить, а ведь мог бы сделать нас ангелами. Ты пришла говорить со мной об этом?
Она пожала плечами.
— Нож-то когда мне дашь? — спросил Гест. — Я все время режу по дереву, а для этого мой больше не годится, сойдет разве что как оружие, но у меня тут ни с кем распрей нету.
— Завтра, — быстро сказала Ингибьёрг. — Сперва надо поспать, и я все же останусь здесь, хоть и не ведаю, кто ты таков.
Она и раньше так говорила, и впредь не раз повторит, Гест знал это, ему ли не знать, свет-то ныне вон какой яркий, все насквозь видно, круглые сутки сияет, аж глазам больно.
Помимо каменоломни над усадьбой, Ингибьёрг принадлежали в отрадальских горах несколько костров для выжигания угля и железоплавильни. Там из болотной руды добывали железо, за которое Ингибьёрг выручала хорошие деньги. Этой работой летом и занимались Гест, Ари и кое-кто из трэлей. Слитки они грузили на вьючных лошадей и свозили к реке, что протекала по долине, а оттуда на лодках доставляли в Сандей, где кузнец ковал из них корабельные заклепки, рыболовные крючки, наконечники для стрел, обшивку для лопат, а самые чистые отправляли в Нидарос либо на север, к Хареку, который держал оружейную мастерскую.
Руководили работами двое вольноотпущенников, бывшие трэли, которым Ингибьёрг теперь платила. Старшим был Тородд Белый, ее приемный отец, который не только ходил в морские походы и с ее отцом, и с ее мужем, но и промышлял зверя в Биармии на Белом море, покуда не состарился и не пришлось ему неспешно присматривать за постройкой моста, вялением рыбы да добычей железа.
Хедина, как понял Гест, Тородд недолюбливал, и после того позора, какому Гест подверг управителя, старик будто нашел в Гесте союзника и начал прямо говорить ему об этом.
Однажды ночью, когда они сидели возле плавильни, Тородд без обиняков сказал, что ему совершенно невдомек, зачем Ингибьёрг держит Хедина, эту продувную бестию с Южных островов.
— Наверно, потому, что ей хотелось иметь мужчину, — заметил Гест. — А потом оказалось, что он не тот, кто ей нужен.
Тородд коротко хохотнул:
— Может, ты и прав, исландец, но почему она его не выгонит?
— Почем ты знаешь, что не выгонит?
— То есть как?
— Просто она не успела пока его выгнать.
Тородд снова издал короткий смешок.
Белыми у него были не только волосы и борода, но и лохматые брови; ходил он всегда в сшитой собственными руками куртке из тюленьей кожи, понимал по-ирландски, умел толковать и писать руны, а когда находились охотники послушать его, твердил, что мудрость человека измеряется лишь его знаниями о жизни и делах предков. С особым интересом он относился к Норвегии и к конунгу Харальду Прекрасноволосому сыну Хальвдана, который более ста лет назад собрал воедино норвежские земли. Однако ж Харальд соединил их одною только властью, а не верою, и оттого вновь раздробил страну на куски и раздал их своим никчемным сыновьям — бездумно растратил свои же победы.
Позднее и Хакон Воспитанник Адальстейна, и Олав сын Трюггви пытались вновь собрать страну, причем сплотив ее под святым крестом, только вот в игру неизменно вступало то загадочно-неуловимое, чем отмечен весь род Прекрасноволосого, который и собирал, и снова дробил, так что теперь в Трандхейме расселся вздорный и неразумный хладирский ярл, почитай уж десятый год сидит…
— Рати у Эйрика могучие, — сказал Гест. — А бонды либо хранят верность ярлу, либо боятся его. Вдобавок при нем был мир и годы благополучия.
— Но у него нет веры! — гнул свое Тородд. — Я бывал в других краях и видел: нигде властителям не удалось противостоять новой вере, при всем их могуществе.
— Мне-то мир повидать не довелось, — сказал Гест. — Но я видел Исландию, у нас там нет ни конунгов, ни ярлов, и все же мы приняли новую веру, хотя мир по этой причине не настал, да и справедливости не прибавилось.
Тородд малость сник и пробормотал, что рано или поздно Исландия тоже окажется под норвежской рукой и законом.
— Ведь Богу нужен конунг, а конунгу нужен Бог, это все владыки уразумели. И тут уразумеют, можешь мне поверить, — заключил Тородд, озабоченно тряхнув длинными волосами, будто высказал слабую надежду, а не твердую уверенность.
Гест посидел-помолчал, потом спросил, где Тородд крестился, и старик рассказал, как однажды летом ходил с Олавом сыном Трюггви в поход на Англию и они так разорили побережье, что король Адальрад предложил им десять тысяч фунтов серебра, лишь бы они ушли. Но через несколько лет они снова вторглись в страну, и Адальраду пришлось откупаться еще большими суммами. А зимой он пригласил Олава к себе в Андовер почетным гостем, и Олав принял приглашение. Вернулся же он к своей дружине совсем другим человеком, куда более спокойным и полным достоинства, в нем сквозило нечто поистине царственное, он принял веру, и крестным отцом ему стал сам король Адальрад, злейший его враг.
— И Олав заставил все свое войско сделать то же самое?
— Нет, мы крестились добровольно, — сказал Тородд. — Смекнули, что увидел он такое, что отвергнуть невозможно. Вдобавок он сколько лет говорил, что надо вернуться в Норвегию и потребовать себе отчее наследство, а многие из нас не были дома целую вечность. И когда пришла весть, что путь домой открыт, оставалось лишь выйти в море и доплыть до Вика, где нас встретили с распростертыми объятиями, даже в Трандхейме Олаву достаточно было просто появиться, чтобы взять власть в свои руки, ведь тренды[52] сами расправились со своим предводителем, Хаконом ярлом, и все это благодаря вере, Бог простер свою длань над Олавом с того дня, как конунг принял крещение, тут никто не может усомниться.
Тородд умолк, сглотнул и словно бы вмиг постарел.
— Вплоть до Свольда? — обронил Гест, с виду невозмутимо.
— Н-да, что-то там пошло не так, не знаю, что именно, я был слишком стар, чтоб участвовать в походе, и многие годы мы верили, что Олав уцелел. Но увы, не уцелел он, нет, достаточно посмотреть, как самоуверенно сидит в Нидаросе Эйрик, а он-то был при Свольде…
Второго вольноотпущенника звали Рунольв, был он силен как бык и в свое время снискал славу умелого и отчаянного воина, но в одном из походов в Ирландию получил тяжелое ранение и онемел, утратил речь, и в Сандее, когда кто-нибудь не хотел отвечать на вопрос, он обычно говорил: спроси у Рунольва.
Однако Рунольв, хоть и онемел, глухотою не страдал, слышал почитай что все, а когда ему непременно хотелось что-то сказать, рисовал палочкой на песке — рыбу, миску с едой, солнце; ветер он изображал, проводя палочкой линию в нужном направлении, и нажимом указывал его силу; народ говорил, что у Рунольва есть значки чуть ли не для всего на свете, только вот истолковать их все способен один Тородд. Как-то раз Гест полюбопытствовал, почему Тородд не научил его рунам.
— Он во многом кумекает, — ответил Тородд, — но не такой головастый, как ты.
Рунольв и Тородд знали друг друга давно, с той поры, когда Рунольв остался круглым сиротой и Тородд взял его под свою опеку, много лет они ночевали в одном помещении, а на Халльгримовом корабле место обоих было на носу. И несколько лет назад, когда Ингибьёрг решила дать Тородду вольную, он согласился только при условии, что она отпустит и Рунольва.
— Почему? — спросила она.
— Мы не сможем остаться друзьями, если он по-прежнему будет трэлем, — ответил Тородд.
— Ты же, в сущности, никогда трэлем не был, — заметила Ингибьёрг, и сказала она так не только потому, что Тородд доводился ей приемным отцом, и она до сих пор советовалась с ним по всем важным вопросам, но и потому, что не очень-то понимала, зачем Рунольву свобода.
— Как вольный человек он сможет уехать отсюда после моей смерти, — сказал Тородд, — если ты будешь плохо с ним обращаться.
Однако Ингибьёрг сомневалась насчет Рунольва, поскольку он не чурался рукоблудия, занимался им более чем охотно, притом отнюдь не стараясь укрыться от посторонних глаз, в Ирландии ему дали прозвище Клакайреахт-Рональд, сиречь Рунольв Рукоблуд, и Ингибьёрг не хотелось выпускать его из-под надзора, ведь он так и остался необузданным и своевольным.
Тем не менее Тородд стоял на своем, мало того, считал, что хорошо бы дать вольную и рабыне Торгунне, поженить ее и Рунольва и взять с обоих клятву на святом кресте, что они вовеки будут верны Ингибьёрг; Рунольв никогда не нарушит такую клятву, как и Торгунна, которая выросла вместе с Ингибьёрг и всю свою нелегкую жизнь верой-правдой работала на нее не покладая рук.
Ингибьёрг призадумалась и в конце концов уступила. И Рунольв с Торгунной зажили вместе и родили двух сыновей, один был чуть постарше Халльберы, другой — чуть помоложе. Звали их Равн и Гейр, и оба охотно играли с нею.
Рунольв был еще сравнительно молод, силен и необуздан, женитьба его не утихомирила, поэтому он не любил сидеть сложа руки возле плавилен или присматривать, чтобы трэли чин чином резали торф, — куда интереснее пойти с Гестом на охоту. А Гесту он напоминал Тейтра, двигался как Тейтр, пружинисто, уверенно, бесшумно, и от него веяло такой же надежностью: ничего не может случиться, когда рядом Рунольв.
За свою жизнь он завалил пятнадцать медведей и все шкуры отдал Ингибьёрг, теперь же хотел уложить еще одного и подарить шкуру Торгунне. Но этим летом им не удалось выследить ни одного медведя, и как-то вечером, когда горные склоны снова окрасились желтизной, а пушица трепетала на ветру словно первый снег, Рунольв порывисто начертил на рыжем железистом песке несколько резких линий и скроил горестную гримасу, показывая, как он разочарован безуспешностью охоты, удача явно ему изменила.
— Может, стоило бы все-таки обещать шкуру Ингибьёрг, — сказал Гест.
Рунольв начертил на песке крест: дескать, он христианин и чужд глупых суеверий.
В тот вечер Гест вырезал из соснового корня дородную женскую фигурку и подарил ему. Рунольв пришел в восторг, завращал глазами и рассмеялся, смех его звучал странно, по причине отсутствия языка, — в Сандее обычно говорили, что Рунольвов смех распугивает орлов аж в Свитьоде. Гест тоже смеялся будь здоров как, всех лебедей в Исландии на крыло поднимал. Рунольв сунул фигурку за пазуху и зажал под мышкой, покачиваясь взад-вперед: мол, большое спасибо, уж я использую ее по назначению, но втайне от Торгунны, — все это Рунольв умел выразить телодвижениями, понятными тому, кто способен видеть.
Пока Гест со товарищи был в горах, Хедин распоряжался работами в усадьбе, причем куда как сурово, видно, решил, что после унижения, которому его подверг Гест, иначе нельзя. Когда летняя страда закончилась, Ингибьёрг сказала, что намерена послать его в Тьотту с корабельщиками, которые повезут железо, пусть он попросит тамошнего хёвдинга, Харека сына Эйвинда, прислать в Сандей на зиму побольше воинов, на ее кошт.
Гесту она ни словом про это не обмолвилась. Только когда они вернулись с гор, призвала его и Ари к себе в большой дом и спросила мальчика, вправду ли он не желает вступать во владение Хавгламом. Летом Гест тоже частенько говорил с Ари об этом и раз-другой слышал от него, что он, пожалуй, все-таки мог бы туда вернуться. Теперь же Ари сызнова заколебался, сызнова завел речь о призраках, которые бродят в Хавгламе. Ингибьёрг ехидно заметила, что тут ему винить некого, кроме себя самого да Геста, вон ведь как жестоко расправились с Трандом Ревуном, но, коли он хочет, она могла бы продать его усадьбу Хедину, которому многим обязана и очень бы хотела помочь обзавестись собственной землей, Хедин и сам говорил с нею об этом, ну а Ари со временем станет хозяином в Сандее.
— У меня-то сыновей нет, — добавила она в тишине, которая повисла после этого беспримерного заявления, и со злостью глянула на Геста, — а у присутствующего здесь мужчины не хватает мужества попросить о том, что, как он знает, я могу ему подарить, я вдова и сама все решаю.
Гест увидел, как она залилась румянцем, и невольно рассмеялся:
— Ты хитрая женщина. Мы с Ари в большом долгу перед тобой. Однако ж с решением он подождет до следующего лета.
— А теперь ступайте отсюда! — вскричала Ингибьёрг. — Я сказала все, что нужно, и повторять больше не стану!
Гест попросил Ари проводить его немного, хотел расспросить про священника, который нынешним летом крестил хавгламских детишек и сыновей Рунольва и Торгунны.
— Ты чувствуешь какую-нибудь перемену? — полюбопытствовал он.
— Не знаю.
— Выходит, вовсе не крещение навело тебя на другие мысли по поводу Хавглама?
— Нет, не крещение.
— Сандей ты никогда не получишь, — с неожиданной твердостью сказал Гест. — Это тебе понятно?
Ари посмотрел на него, снова в полном недоумении. И Гест пояснил: Ингибьёрг говорит такие слова, чтобы поставить на своем, на чем именно — подчас лучше и не знать, сказанное взрослому еще хоть к чему-то обязывает, но тому, что говорят ребенку, вообще не придают большого значения, а Ари пока ребенок.
Мальчик кивнул, сказал, что ему все понятно. Ничегошеньки тебе не понятно, подумал Гест. И почувствовал вроде как облегчение оттого, что Ари все ж таки не вполне похож на него.
Следующей ночью Ингибьёрг пришла к сараю и кликнула Геста наружу. Сказала, что в сарай заходить не станет, у нее есть другие дела, кстати, он прямо сейчас переберется в дом, к ней, что бы там люди ни говорили насчет разницы в их росте, происхождении и возрасте.
Гест опять невольно рассмеялся, однако сказал, что нисколько не возражает, прошлая-то зима была студеная, и он предпочел бы провести нынешнюю в не столь скверных условиях, а потом попросил Ингибьёрг подойти к двери, сесть с ним рядом и напоследок заночевать тут, на сеновале. Заночевать она не пожелала, хотя рядом ненадолго присела. Гест сказал, что слыхал от Тородда, будто за годы вдовства к ней многие сватались, но она всем дала от ворот поворот. Почему?
— Потому что они приходили как просители, — ответила Ингибьёрг, не глядя на него. — Упрашивали меня. А супруг мой просителем не был. Как и мой отец. Потому я не могу выйти за просителя.
Гест всмотрелся в ее резкий профиль.
— Я тоже стану твоим рабом.
— Сомневаюсь, — мрачно буркнула она, встала и пошла прочь, но походка ее, как мнилось Гесту, выдавала, что она давно не была так довольна собою, внешнее смятение миновало; развеялось оно и у него в голове.
На другой день он перенес свои вещи в большой дом, помогавший ему Рунольв остановился на пороге просторной опочивальни, вращая глазами, пихая Геста локтем в бок и делая рукоблудные жесты, меж тем как взгляд его скользил по комнате, по меховым одеялам, из коих многие были добыты им самим. Гест сказал с улыбкой:
— Ты человек умный. Все понимаешь.
А вот старый Тородд не понимал. Во всем, что касалось Ингибьёрг, он так и остался трэлем и новость о Гесте и Ингибьёрг встретил ожесточенным молчанием и мрачной миной. Геста он теперь на дух не принимал, на вопросы Ингибьёрг отвечал односложно и невпопад, а вдобавок все время шушукался с Хедином, который наконец оправился от унижения. Девочки и те жаловались Гесту на Тородда: старик больше не хотел рассказывать им истории, побил Халльберу и из лодочного сарая их прогнал, хотя Рунольвовым сыновьям, Равну и Гейру, по-прежнему разрешал сидеть там сколько угодно.
Взглянув на Халльберу, Гест спросил, правда ли Тородд побил ее.
— Да, правда, — отвечала она.
— А почему он тебя побил?
— Потому, что он плохой.
— Не потому, что ты это заслужила?
— Нет.
— Но ты все равно хочешь быть подле него?
— Да.
— Ладно, тогда я научу тебя новой игре, — сказал Гест, дал им по прутику и достал кусок ткани, концы которого Торгунна, по его просьбе, сшила между собой, так что получилось кольцо, окружность, а потом велел взять прутики в рот и двигать тряпичное кольцо по кругу, не роняя его. Правда, вдвоем толком не поиграешь, куда лучше вчетвером, к тому же непременно нужен взрослый, он будет судить игру и награждать победителей.
Девочки сбегали за Равном и Гейром, Гест сел на траву и некоторое время наблюдал, как идет игра. А потом спросил, не заметили ли они в этой игре кой-чего особенного.
— Нет.
— Побеждают всегда двое, — сказал Гест. — Меня научил этой игре один армянский монах в Нидаросе.
В тот же день Ингибьёрг отправила Хедина к Хареку, на корабле с грузом железа, а Гест вышел из усадьбы и зашагал по берегу к верховьям фьорда, к небольшому заливу, который раньше служил гаванью родовой усадьбе Ингибьёрг. Там стоял обветшалый большой дом и несколько лодочных сараев, в этом месте Тородд вырос и по сей день не отказался от привычки погожими вечерами выходить на лодке в залив и ловить рыбу, в детстве он звал этот залив своим морем, был владыкой над крохотными корабликами, которые мастерил из коры и дощечек. Гест подошел, как раз когда он собирался столкнуть лодку на воду, и сказал, что сядет на весла и составит ему компанию.
— Мне помощь не нужна, — сердито буркнул Тородд. Но Гест взялся за весла, и старик, помедлив, взгромоздился на кормовую банку и хмуро уставился в темноту, которая уже наплывала с гор на зеркальную гладь залива. Гест ничего не говорил. Греб себе потихоньку и ждал. В конце концов старик не выдержал гнета тишины и стал рассказывать про свой сон, а приснилось ему, как он бродил по Румаборгу,[53] любовался красой Вечного города.
Гест кивал, потом сложил весла и встал во весь рост, широко расставив ноги и покачиваясь взад-вперед, так что вода заплескала о борта.
— Хочу рассказать тебе притчу, загадку, — сказал Гест.
Что ж, он не прочь послушать, отозвался Тородд. В таком случае, предупредил Гест, слушать надобно очень внимательно, загадка непростая. Тородд энергично кивнул.
— Два человека ловят рыбу, — начал Гест. — И коли первый, что поклоняется Белому Христу, поймает две крупные рыбины, а другой, что поклоняется старым богам, — две мелкие, то язычник выбросит больших рыбин в воду и скажет, что нынче они обойдутся мелкими. Коли же, наоборот, тот, что поклоняется Господу, поймает двух мелких рыбешек и вздумает отправить крупных в воду, язычник швырнет за борт его самого и утопит. Какой вывод ты отсюда сделаешь, а?
Тородд задумался.
— Ты опять строишь насмешки над, Господом?
— Нет, — сказал Гест.
— Мне угрожаешь, да? — спросил старик. — Хочешь меня вышвырнуть?
— Зачем? Ты был добр ко мне. Стало быть, ответ снова отрицательный.
Тородд сказал, что в таком разе он сдается, к тому же устал от этих вопросов, пускай Гест сам разобъяснит.
— Ладно, — сказал Гест, — но сперва повторю загадку еще раз. — Так он и сделал. Посмеиваясь. Тородд тоже посмеялся, не слишком уверенно.
— Я и теперь ничего не понимаю, — признался он, — хотя, может, ты над старыми богами насмешничаешь?
— Нет, они тут ни при чем.
Гест опять сел и рассказал другую историю, как несколько лет назад два человека сидели на берегу исландской реки и не могли перебраться на ту сторону, река-то была широкая, глубокая, и по ней шел лед. Один из этих двоих, маленький, слабосильный, так измучился в долгом странствии, что хоть ложись да помирай. Второй же был большой и сильный. И пока они сидели, глядя на дальний берег, он рассказал своему малорослому спутнику эту загадку, и тот засмеялся. А в следующий миг силач столкнул его в воду и сам прыгнул следом. И оба они вправду одолели реку.
Тородд долго смотрел на него, потом сказал, что теперь и вовсе теряется в догадках.
— Какое отношение имеет этот рассказ к тем двум рыбакам?
— Маленький слабак — это я, — ответил Гест. — А большого звали Тейтр, народ кликал его Горным Тейтром, и все — что сторонники новой веры, что приверженцы старых богов — считали его полоумным и чуть ли не чудовищем. Но я-то знаю, те и другие ошибались, потому что он спас мне жизнь, без него я бы наверняка помер.
Тородд долго сидел, не говоря ни слова.
Затем кротко сказал, что у этой истории слишком много смыслов, ему их нипочем не уразуметь, сколько бы он ни ломал себе голову.
И в приступе неприязненного раздражения он добавил, что никогда больше не станет говорить с Гестом о новой вере.
— Выходит, ты впрямь мало что уразумел, — сказал Гест. — И не воображай, будто знаешь, кто я такой. Когда мы сидели возле плавильни, и я рассказывал тебе о своих странствиях, ты не очень-то прислушивался, следил только, чтобы мой рассказ совпадал с тем, что ты слыхал от Ингибьёрг и Хедина. Нынче вечером ты был внимателен, потому что боялся.
Тородд подпер голову руками и долго сидел молча.
Гест опять взялся за весла, развернул лодку носом к берегу и замер, глядя на беззвездное небо, куполом опрокинувшееся над головою старика, над стертыми костяшками пальцев, которые он запустил в белоснежные волосы.
— Помру я через год-два, — пробормотал Тородд. — Ну, может, приведется прожить и три либо четыре. И каждый день со страхом думаю, как бы не случилось чего с Ингибьёрг.
— Теперь перестанешь, — сказал Гест, начал грести и снова остановился, глядя на капли, которые, словно текучая смола, падали с весел на черную воду. — Завтра будешь думать об этой рыбалке, снова и снова, и по-прежнему изнывать от страха, как бы я не предал Ингибьёрг, ведь она для тебя больше чем дочь. Но так и должно быть, ни больше ни меньше. А еще ты будешь думать о том, что я тебя унизил. Ведь духом ты не больно силен, раз позволяешь гнусным суждениям изничтожить прежние свои героические дела. Вдобавок я тебе нравлюсь. И ты стар.
Тородд взглянул на него, но промолчал.
— Опасный ты человек, — медленно проговорил он немного погодя. — Ты похож на самые черные мои мысли.
Прошло несколько дней, и вот вечером дозорный на мысу закричал, что на подходе корабль. Хедин вернулся из Тьотты, а с ним пятеро его людей и четверо дружинников Харека. Ингибьёрг и Гест, услышав крики дозорного, спустились к причалу встретить корабль; было полнолуние и светло, как в зимний день, а по причине затянувшегося безветрия корабельщикам пришлось взяться за весла, и к берегу они причалили, обливаясь потом и выбившись из сил. Ингибьёрг внимательно их оглядела, смерила каждого с головы до ног, оценила, спросила, как звать, какого они роду-племени и откуда.
— Не знала я, что дела у Харека так плохи, — заметила она, — всего-то четверых людей смог прислать.
Хедин вышел на берег, отвел ее в сторонку и сообщил, что, по словам Харека, ей хватит своих людей да этих четверых, ведь родичей у Транда Ревуна мало, а друзей и того меньше, вдобавок он рассорился с ярлом, потому что много лет кряду грабил народ на севере, забирал дань, причитающуюся ярлу. Кстати, именно Харековы воины так сильно потрепали шайку Транда, что Гест с Ари сумели ее одолеть. Стало быть, что до мести, то она вполне может обрушиться и на Харека.
— Значит, трусости его мы обязаны этакой жалкой помощью?
— Ты же просила людей вовсе не из-за Транда Ревуна, — сухо бросил Гест, когда Хедин удалился.
— Накорми их и устрой ночевать! — крикнула Ингибьёрг Тородду. — Они останутся здесь и работать не будут, разве что сходят с Гестом да с Рунольвом на охоту зимой, коли я попрошу. Но… — Она осеклась и подошла поближе к дружинникам, которые выгружали на берег оружие и снаряжение. — Вот он мне знаком, совсем ребенок еще… Кто ты?
Невысокий парень сошел на берег, стал перед нею, сорвал шапку с головы, почтительно поздоровался и сказал, что зовут его Грани, отец ему Тормод сын Гейра, а воспитывался он у одного из Харековых дружинников.
Ингибьёрг, положив руку парню на плечо, смотрела ему в глаза, он спокойно выдержал ее взгляд.
— Господь велик! — прошептала она и вдруг залилась краской, глаза закрылись, грудь бурно вздымалась и опадала, словно она бегом бежала от усадьбы до креста на скале. Потом резко повернулась и твердым шагом направилась к дому.
Грани впрямь был очень молод, немногим старше Ари, волосы светлые, курчавые, нос заостренный, рот широкий, скулы чуть выступающие, фигура стройная, движения по-кошачьи мягкие, гибкие. Он вдруг вопросительно посмотрел на Геста, но ответа не получил и явно испытывал недоумение.
Руки и одежда Грани выдавали, что на веслах ему сидеть не пришлось, и Гест спросил себя: кто не гребет, когда все поневоле берутся за весла? Вслух же сказал, что, если Грани будет чем недоволен, он может обратиться к Хедину как к здешнему управителю, и Хедин слышал эти его слова. Однако уже два дня спустя Грани пришел к нему, к Гесту, и объявил, что намерен работать, а не лежать лежнем да есть, ровно богач какой, тут не вейцла,[54] и он не попрошайка. С той поры он присоединился к Рунольву и Гесту, ходил с ними в горы и в море или занимался разными делами в усадьбе.
Гест не спросил у Ингибьёрг, почему, увидев Грани, она так странно себя повела. И первое время вообще его избегала. Но Гест заметил, что она украдкой наблюдала за парнем, однако, стоило тому посмотреть на нее, тотчас прятала глаза; она о чем-то усиленно размышляла, что-то искала в памяти и, увы, не находила. Вопрос все равно остался. А вот осень ушла. Быстро сменилась вьюжной зимою, которая тоже ушла, ближе к Рождеству ветер утих, и воцарилась та ледяная стужа, что тянется без конца, точно плывешь на парусной лодке при восточном ветре под сверкающим звездопадом; для Геста все это было испытанием, поскольку ничего не менялось, только вот почему он хотел перемен? И тишина вдруг стала совершенно нестерпимой. Напоминала о смерти, о мире, который он оставил. А однажды ночью он проснулся от громкого голоса Ингибьёрг, лицо у нее было умиротворенное, как у умирающего Гудлейва в священниковой конюшне, но губы осторожно шевелились, и из пухлого рта звучал низкий мужской голос — напевная литания, в которой Гесту мнилось что-то знакомое. Он разбудил Ингибьёрг, спросил, кем она была.
— Я Ингибьёрг, — отвечала она с закрытыми глазами. — Дочь Раннвейг и Эйвинда сына Эйрика, сына Харальда, сына Торира…
— А кто такой Грани?
— Сын Ингибьёрг и Сигурда сына Хрута-Транда, сына Горма, сына Падрека священника… — Тут она проснулась, уставилась на него во все глаза. — Кто ты?
— Торгест сын Торхалли сына Стейнгрима, сына Торгеста сына Лейва, что приплыл в Исландию и поселился в Йорве, когда Норвегией правил Харальд Прекрасноволосый.
Он рассказал, почему находится здесь и что Ингибьёрг очень ему помогла, потому что она добрая христианка. И все время легонько поглаживал ее нежную белую шею, и щеки, и плечи, и грудь, а Ингибьёрг смотрела на него, то открывая, то закрывая затуманенные глаза, и повторяла, что Грани — ее сын, что его еще младенцем отослали прочь, так как Халльгрим не верил, что это его ребенок, и не ошибался.
— Каждый день я молила Бога, чтобы мальчик остался жив. И он жив. Но что со мной — сплю я или бодрствую?
— Ты и спишь, — сказал Гест, — и бодрствуешь. А почему Харек прислал к тебе сына именно сейчас?
— Тут и думать нечего. — Она обняла его за шею. — Просто он не хотел давать мне много людей.
— Почему не хотел?
— Потому что Эйрик ярл задумал созвать морское ополчение, а Харек решил от него уклониться, но для этого ему требуются крупные силы.
— Так ярловы люди, поди, и сюда явятся?
— Да, но об этом нас известят заранее, и все вы — ты, Хедин, Грани и люди Харека — уйдете в горы, так что в усадьбе останутся только дети да челядь.
— Нет у меня привычки пускаться в бега.
— Наоборот, как раз есть.
Гест засмеялся:
— Среди ярловых людей и исландцы будут?
Ингибьёрг открыла глаза, призадумалась.
— Нет, — сказала она, потом беспокойно встрепенулась и сызнова завела свою литанию, тем же хриплым голосом.
Гест поежился, будто ему внезапно въяве предстало скорбное зрелище, какого он даже во сне никогда не видел. Невольно он сел на постели, сложил вису. Рядом лежала большая женщина, и он смотрел на нее: светлая и темная, молодая и старая, мать и жена, красивая и тяжелая, вроде того утра, когда они с Тейтром сидели на горе, глядя, как солнечные лучи огненными стрелами вонзаются в боргарфьярдарские долины и словно бы внушают ему, что он никогда не вернется назад и вообще ничто не вернется. Но ведь можно остаться в Сандее. В тишине и покое.
Он встал с постели, обулся, вышел из дома. Погожее утро. Ночью выпал снежок. От задней двери большого дома к сараю, где жил Грани, цепочкой тянулись следы. Гест и раньше их видел, а сейчас пошел к сараю, отворил дверь и увидел Стейнунн: девочка спала подле Грани, под его одеялом. Гест тронул ладонью ее щеку, подождал, пока она откроет глаза, и произнес:
— Я, Торгест сын Торхалли, пришел сказать тебе, что ты будешь спать в одной постели с Халльберой и не придешь сюда, пока не станешь взрослой.
Не сводя с него перепуганных глаз, девочка выбралась из-под одеяла. Гест подхватил ее под мышки, поставил на пол, шлепнул пониже спины:
— Беги!
Он закрыл дверь, вернулся в дом, лег рядом с Ингибьёрг. Она проснулась от его смеха, спросила:
— Над чем смеешься?
— Бога повстречал, — ответил он и засмеялся еще громче.
Снегу нынешней зимою выпало много. Рождество справляли, как повелось в роду, по доброму христианскому завету конунга Хакона, каковой Ингибьёрг почитала делом чести укреплять год от года. В усадьбу съехались соседи с островов и из горных долин, свободные бонды, родичи да семейство северян-лопарей. Всех их, согласно рангу и званию, чтоб никого не обидеть, разместили в большом светлом доме, где Халльгримова кольчуга мрачной своей суровостью напоминала каждому, что усадьба сия взрастила героя, павшего в служении Господу. Коли же они своим умом этого не постигали, их непременно просвещала Ингибьёрг. Она сама служила мессу и на Рождество, и на второй день, постоянно поглядывая на Геста, а после спросила, правильно ли запомнила все слова.
— По-твоему, я знаю?
— По-моему, так ты все знаешь. Отвечай на вопрос!
— Думаю, ты их хорошо запомнила, — сказал Гест, а попутно сообщил то, что сам слышал про Вифлеем, сиречь дом хлеба: мол, с таким добавлением ее домашние проповеди только лучше станут. — Но почему ты не поручишь это дело Тородду? Тут ведь никто не разбирается в вере так хорошо, как он.
— Всего тринадцать лет назад Тородд был язычником и не принимал христианскую веру, пока конунг Олав силком его не заставил, даже Халльгримовы увещевания на него не действовали.
— А мне он иначе рассказывал, — заметил Гест.
— Тородд рассказывает тебе только то, что я велю.
— И в свое время он помог тебе отослать Грани отсюда? — с досадой сказал Гест, он весь вечер пил пиво и опасался, что и эта ночь уйдет на разговоры, как в тот раз, когда она желала снова и снова слушать стихи про Свольд, но сказанного-то не воротишь.
— Что ты сказал? — переспросила она. И опять заговорила о Вифлееме, о людях, записанных в перепись, в книгу Господа, их оттуда не вычеркнешь, что бы они ни делали. Диковинное толкование, подумал Гест. Но Ингибьёрг была чудо как хороша, и он не мог сдержаться, обнял ее, за стеной слышались шаги, смех, веселые голоса гостей, падающих в хрусткий снег, однако ж все звуки тонули во вздохах этой большой женщины, которая, кусаясь и царапаясь, яростно сражалась с маленьким исландцем из-за чего-то, совершенно им обоим непонятного и вовек неодолимого.
Фьорд сковало льдом, можно было посуху дойти до песчаного островка, который дал имя усадьбе, и Ингибьёрг сказала, что с детства такого не видала, а потом добавила, что это хорошо, ведь ярловы корабли сюда не доберутся. Вообще никто не доберется.
На землях усадьбы было несколько лопарских землянок, в горах, в стороне Свитьода, там они устраивались зимой, охотились, и там их застал тот вешний день, когда вскрылись реки, а из усадьбы явился запыхавшийся посланец, с сообщением, что им надо еще на некоторое время задержаться в горах: в усадьбу пришли люди ярла, и Ингибьёрг предоставила им кров.
Ари и Рунольва при сем не было.
Накануне Гест уложил медведя, который только-только вышел из берлоги. Он спокойно стоял с рогатиной за спиною и, когда зверь напал, бросился наземь, как учил Рунольв, так что медведь напоролся на острие. Оказалось, самец. Они съели сердце, подремали на весеннем солнышке. Гест освежевал добычу, а шкуру отдал Рунольву, но тот изобразил на лице гордо-завистливую мину и отказался, Гест же, подтрунивая над ним, стоял на своем, ведь он вдобавок хотел, чтобы Рунольв проводил в усадьбу Ари, который сильно поранил руку, и в конце концов немой сдался, забрал с собой и шкуру, и Ари, правда с крайне недовольным видом, и отправился в усадьбу.
Потому-то, когда явился посланец, Гест решил пренебречь советом Ингибьёрг и прервать охоту. Грани и Харековы дружинники воспротивились, попробовали было удержать его, да разве такого остановишь! И они все вместе двинулись в усадьбу, по горной дороге через Отрадаль. Но не сумели переправиться через реку, пришлось снова подняться повыше в горы. Целый день потратили, шагая по вязкой, глубокой снежной каше. Только наутро, ближе к полудню, спустились по склону позади усадьбы и увидели по обоим берегам Сандау оттаявшую бурую землю, людей за работой, скотину, лошадей, обдуваемых первыми вешними ветерками, а к выходу из фьорда, в сопровождении двух небольших кнарров, шел огромный морской корабль.
Ингибьёрг заметила их и стояла во дворе, с серьезным, чуть ли не оскорбленным видом, скрестив руки на груди, как скала. Гест хотел задать ей вопрос, но, услышав у пристани детские крики, поспешил туда и нашел Стейнунн и Халльберу примерно в таком же состоянии, в каком обнаружил их два года назад, — оцепеневших, растерянных, с помертвелыми глазами; Стейнунн без всякого выражения твердила, что ярловы люди увели Ари, забрали с собой, увезли! А Халльбера, словно придавленная к земле, умоляла Геста спасти его. Гест рывком поставил ее на ноги и сказал, что Ари сильный, он сам спасется и очень скоро опять будет здесь. Не задумываясь о том, слышат они его или нет, он снова и снова повторял эту фразу, пока вел их к поварне, где передал обеих на попечение Торгунны, сам же наконец подошел к Ингибьёрг и сказал, что она несколько перестаралась, позволив забрать мальчика.
— А что мне было делать? — отозвалась Ингибьёрг, едва ли не безучастно. — В усадьбе ни одного мужчины, а их больше шестидесяти человек.
— Раньше-то ты никогда не терялась.
— Я и теперь не растерялась. Дала ему ту монету, ну, знак, который ты принес от Эйстейна. Эйстейн поможет.
— Эйстейн пробыл у ярла четыре зимы, — сказал Гест. — И собирался нынешним летом в Исландию, если не отправился туда еще в прошлом году, и в любом случае Ари с ним не отпустят.
— Ты так говоришь, будто он ребенок, — сердито бросила она. — И будто ты ему отец.
— А ты говоришь так, будто у тебя нет сына, — отрубил Гест и пошел искать Рунольва, не нашел, но встретил Торгунну, и та рассказала, что ярловы люди не то и его забрали, не то он по доброй воле с ними пошел, в точности она не поняла, да и особого волнения не выказывала. Гест немного успокоился, но допросил сперва Стейнунн, а затем и Тородда о подробностях случившегося. Девочка сообщила, что Ингибьёрг велела ей спрятать золотую брошь, надеть на шею крест, серебряный крест Иллуги, и носить его напоказ, а вдобавок вымазать сажей лицо и руки и растрепать волосы, чтобы дружинники на нее не заглядывались.
Тородд же, по всей видимости, разделял практический подход Ингибьёрг. Когда Гест спросил, не кажется ли ему странным, что ярловы люди забрали с собой только желторотого Ари, да еще Рунольва, хотя у Ингибьёрг полно крепких трэлей, старик ответил, что, видать, ярлу не требовалось много народу, и прикинулся усталым, как обычно, когда надо было соврать или напустить туману.
Ночью Гест не смыкал глаз, лежал и прислушивался к дыханию спящей женщины, которой прежде успел наотрез отказать, теперь же подумывал, не разбудить ли ее и не спросить ли, почему, препираясь с ним во дворе, она словом не обмолвилась про Рунольва, хотя такое известие успокоило бы его куда больше, чем разговор про никчемную монету. Вопрос этот не давал уснуть — выходит, она не хотела его успокаивать? — разрастался в потемках, заставил вернуться мыслями к минувшему Рождеству, когда он, лежа тут, под тем же одеялом, слышал, как она, совершенно ублаготворенная, произносит, что однажды записанного в книгу Господа оттуда уже не вычеркнуть, а это, насколько он знал, шло вразрез с поучениями Кнута священника насчет ненастоящих христиан, коих ждет впереди такое же беспросветно-мрачное будущее, как и грязных язычников. В конце концов Гест встал, пошел в сарай к Грани, разбудил парня, велел сесть и навострить глаза и уши, иначе не понять ему, что он, Гест, имеет сказать.
— Сейчас ты пойдешь в дом и ляжешь в мою постель, я же посплю здесь. Ингибьёрг сама попросила об этом, а она привыкла, чтоб ее просьбы выполняли. Но ты ее не буди, ложись в постель и делай то, чего ждут от мужчины.
Грани усмехнулся, быстро оделся и ушел. Гест лег на его место и уснул, а проснулся от громких криков Ари, слышались ему и другие голоса, его собственный и девчоночьи, но, открыв дверь, он увидел одного лишь Грани. На дворе был день. Погожий вешний день. И тишину в Сандее как ветром сдуло.
— Ну, что сказала Ингибьёрг? — спросил Гест.
— Сказала, что она мне мать, — в ярости бросил Грани. — Почему ты так поступил?
— А она не сказала?
— Чего?
— Почему я так поступил?
Грани мотнул головой и буркнул, что не расположен играть в загадки.
— Она держала родство с тобой в тайне, потому что сперва хотела посмотреть, достоин ли ты стать хозяином этой усадьбы, — сказал Гест. — И отослала Ари прочь, оттого что не хотела выполнять обещание, которое дала ему насчет этой же самой усадьбы. Стало быть, ты оказался человеком достойным и можешь готовиться к…
Грани, сжимавший в руке топор, в безудержной ярости ринулся вперед, но Гест увернулся, выскочил за порог, на подмерзшую за ночь землю, и остановился там, язвительно посмеиваясь. Глянул себе на ноги. Лед обжигал ступни. В голове роились мерзкие мысли, повторялись снова и снова. А Грани стоял и смотрел на него, тоже в недоумении.
— Я могу убить тебя, — тихо сказал Гест. — Или ты можешь обещать мне, что летом отправишься со мною к ярлу. Как по-твоему, что лучше — жалкая смерть прямо здесь и сейчас или подвиг в ярловом походе?
Грани уронил топор наземь и, чтобы отдышаться, наклонился, упершись ладонями в колени.
— Не знаю, могу ли я дать тебе такое обещание, — сказал он, с трудом переводя дух. — Потому что не уверен, что сумею его сдержать.
— Сумеешь, — отозвался Гест. — Только не говори Ингибьёрг, не то и усадьбы лишишься, и головы.
Грани с трудом оторвал ладони от коленей, плюхнулся на порог, устремил рассеянный взгляд на фьорд.
— Она вечно рассуждает о Боге, — вздохнул он. — А сегодня ночью говорила о Сигурде сыне Транда, погибшем при Свольде… — Он вопросительно взглянул на Геста. — Это мой отец?
— Кроме нее, о том никто не ведает, — сказал Гест. — Но сдается мне, все в этой стране погибли при Свольде.
Первая половина лета выдалась теплая, тихая, день и ночь все росло, кипело жизнью; они рыбачили, работали в поле. В горах снова плавили железо, и Гест с Хедином дважды плавали в Хавглам, возили доски и трудились не покладая рук, однако ж тамошняя усадьба как была, так и оставалась воспаленной зияющей раной — для всех, кроме Хедина.
После того как ярловы люди забрали Ари и Рунольва, Гест опять вернулся в свой сарай — Ингибьёрг его не удерживала — и почти все время проводил вместе с Грани, в том числе и в горах. С Тороддом он теперь разговаривал нечасто, ведь, скорей всего, старик-то и дал Ингибьёрг роковой совет отослать мальчика прочь — мальчика, спасенного Гестом и ставшего частью его существа.
Девочки тоже отдалились от Ингибьёрг, все больше водили компанию с сыновьями Рунольва. Если поблизости не было Геста. Иначе они с утра до вечера ходили за ним по пятам, слушая предания о пропавших горемыках, которые целыми-невредимыми возвращались домой из страшнейшей неволи. Он учил обеих ездить верхом. Они помогали вывозить с гор железные слитки, а когда Гест, нагрузив лодку товаром, выходил в море, им разрешалось править рулем. Дни шли за днями, и они все меньше говорили о брате. Гест тоже не заострял внимания на этой теме. Но в глубине души дивился, как скоро они все забыли, точно Грани полностью заменил им брата, Грани, который был всего двумя годами старше Ари, не страдал ни унынием, ни туманными недомоганиями, нет, он был резв, горазд на неожиданные выдумки и готов терпеть что угодно, лишь бы находиться подле Стейнунн.
Посреди лета мягкий восточный ветер сменился юго-западным, который дул неделя за неделей, нагоняя с моря тяжелые тучи, хлещущие потоками дождя. Затем он переменил направление, налетел с севера — сразу же захолодало и прояснилось, а следом с юго-запада вновь пришло ненастье. Грани время от времени вопросительно поглядывал на Геста — скоро ли тот потребует от него исполнить нелегкое обещание. Но Гест как бы не замечал его взглядов, пусть лето идет, он полагается на Рунольва, который, быть может, в благодарность за медвежью шкуру отправился к ярлу. Он даже говорил об этом с Тороддом, однако старик, тряхнув седыми кудрями, сказал, что не ведает, отчего нелюдим по доброй воле убрался из усадьбы, впрочем, Рунольв вечно искал приключений и не мог подолгу сидеть на месте, один Бог знает, что ему на роду написано. А еще Тородд добавил:
— Морское ополчение — это не беда.
Эйрик ярл словно бы разом обернулся вожделенной альтернативой переменчивым, безрассудным потомкам Прекрасноволосого, словно бы именно он установит в стране христианский закон и порядок. От меня пахнет мертвечиной, думал Гест. В глазах у него метались вороны. Враждебность Ингибьёрг. Он спросил, кто стоял во главе ярловых людей, но ответа опять не получил — Тороддово неведенье либо отсутствие интереса поистине не имело предела.
На исходе лета меж Сандеем и Тьоттой часто ходили корабли; у Харека ярл тоже забрал людей, правда с согласия хёвдинга, и было объявлено, что Эйрик готовится к походу на Англию, по требованию датского конунга Свейна Вилобородого,[55] его тестя и давнего союзника в борьбе против конунга Олава. Поэтому Харек решил вернуть своих дружинников из Сандея. О Грани он не упомянул, и тот остался в усадьбе, ведь она и была его домом. Ночевал он в комнате подле Хединовой, то бишь положением как бы сравнялся с управителем. Но от Ингибьёрг по-прежнему держался на расстоянии и слова Геста ставил выше суждений главных здешних распорядителей — матери своей и Тородда; Грани был вольной натурой, однако сейчас его переполняла любовь — любовь к Стейнунн, а путь к Стейнунн вел через Геста.
Осенью, когда началась путина, Гест позаботился, чтобы и сам он, и Грани получили в свое распоряжение по челну с командой из четырех многоопытных трэлей, которые чуть не всю жизнь провели в море и в самых ужасных обстоятельствах творили сущие чудеса. Шхеры у входа во фьорд были на редкость коварны и стояли густо, но как раз за ними располагались лучшие рыбные банки. И вот однажды, когда ветер разбушевался не на шутку, лов пришлось прервать, и Гест приказал зарифить паруса на обоих челнах.
Они вошли в шхеры, как вдруг среди пенных бурунов прямо по носу Гест заметил какое-то движение — вроде как птицы, бакланы на скале, но нет, это оказались люди и разбитый корабль, не то двадцатиместный челн, не то кнарр, который напоролся на риф и в этот миг еще балансировал на краю обрыва, однако очень скоро превратится в обломки и канет на дно.
Гест взмахнул рукой, подавая знак Грани. Парень тоже заметил разбитый корабль, налег на рулевое весло, подстроился в кильватер, и оба направились к терпящим бедствие людям, цеплявшимся за камни и жгуты бурых водорослей, кто в воде, кто на самом рифе, рты у всех разинуты, как у мертвецов, но крики тонули в реве ветра, и Гест никак не мог определить, сколько там человек, то у него выходило десять, то четырнадцать, то всего шесть. Он приказал трэлям чуток прибавить парусов и лавировать. Они прошли несколько саженей против ветра, взяли курс прямо на риф и аккурат в последнюю минуту успели лечь в дрейф, иначе бы уперлись носом в скалу, и тут Геста вновь поразила та же леденящая мысль, что так упорно вела его к Хавгламу: как наяву, он увидел разбитую лодку на зеленой траве, услышал голоса, оказавшиеся детским плачем, — и, надвинув капюшон на глаза, он крикнул Грани:
— Знающий эти места на риф не напорется!
Они опять зарифили паруса, Гест велел трэлям сесть на весла, подойти к рифу с подветренной стороны, и там, покачиваясь на пенной зыби, ждать, пока Грани станет рядом, борт к борту.
— Кто ваш предводитель? — крикнул Гест мокрым, оборванным горемыкам, которых наконец сумел пересчитать: их было одиннадцать человек. Один привстал на колени, раструбом приложил ладони ко рту:
— Я Онунд сын Стюра, исландец, — с трудом расслышали они. — Со мною исландцы и люди ярла, держим путь в Тьотту.
Гест уже узнал Онунда — или чутьем угадал, что это он, — крикнул в ответ, что они работники из Сандея, знаком велел Грани табанить и сказал ему, что перво-наперво каждый из них доставит на берег трех человек, потом они возьмут еще четверых, а кормчего снимут со скалы последним, таков здешний обычай.
Грани вопросительно посмотрел на него, но перечить не стал. И Гест прокричал все это людям на скале. Онунд кое-как призвал своих спутников к порядку, по его команде они один за другим бросались в пенные буруны, откуда их поднимали на борт, измученных, закоченевших, потерявших дар речи, не способных ни грести, ни парусом управлять. Но боковой ветер благополучно привел челны в Сандей, где у причала ждал Хедин. Гест попросил управителя сделать вместе с Грани еще один рейс и снять с рифа оставшихся людей — всех, кроме кормчего.
— Он проделал долгий путь из Исландии, чтобы встретиться со мной, и я не могу лишить его такого удовольствия.
Хедин тоже вопросительно посмотрел на него, коротко фыркнул, подозвал четверых отдохнувших трэлей и сел за рулевое весло. Гест отвел потерпевших кораблекрушение в усадьбу, где Ингибьёрг встретила их с обычным радушием, распорядилась дать им сухую одежду, накормить, перевязать раны.
Потом Гест вышел вместе с нею во двор и сказал, что придется ей как следует пораскинуть умом, ведь это все люди Онунда сына Стюра, а сам Онунд до поры до времени сидит на рифе. Сначала Ингибьёрг не поняла, о чем он толкует, Гест повторил еще раз, и тогда губы ее скривились в недоброй усмешке:
— Еще с весны мы отвернулись друг от друга.
— Верно, — кивнул Гест. — Однако ж все можно изменить.
— Для кого я должна это сделать — для себя или для тебя?
— Ни для кого из нас, — резко бросил он. — Мне твоя помощь не нужна, я перво-наперво об этом позаботился, а уж потом обратился к тебе. — С такими словами он зашагал вниз, к причалу.
Но Ингибьёрг окликнула его, попросила подождать. Гест выполнил просьбу. Она догнала его и остановилась чуть ниже по склону, как бы сравнялась с ним ростом, чтобы обоим нелегко было спрятать глаза.
— Ты знаешь, как обстоит со мною? — спросила она.
— Да, — нехотя ответил он.
— И тебе известно, что ребенка я жду от тебя, а не от кого-то другого?
— Да.
— Мне не нужны сыновья-сироты, — сказала Ингибьёрг. — И мужчины без сыновей тоже. Поступай с этим болваном как хочешь, но будь осторожен, а я присмотрю за его людьми.
Секунду Гест с удивлением смотрел на капельки слюны, скопившиеся в уголках узкого рта Ингибьёрг; эта женщина с крестом на шее и ветром во взгляде снова нашла выход, нашла лазейку, и он, толком не сознавая, по душе ему это или нет, все же поблагодарил ее, чопорно и торжественно, как чужак благодарит за щедрую трапезу, и спустился в бухту. Вскоре подошли Хедин и Грани, доставили остальных, из которых один находился между жизнью и смертью, кроме того, на борту было двое погибших.
Гест взял с собой троих трэлей, среди них Эгиля, в которого Халльбера некогда бросала камешки и который с той поры смотрел на Геста как верный пес, готовый без колебаний пожертвовать собой.
— Ветер сильный! — крикнул Хедин им вдогонку.
— Ветер сильный, — эхом повторил Гест.
Они шли вдоль берега, пока не добрались до устья фьорда, подняли парус, приблизились к рифу, и Гест, приказав трэлям табанить, прошел на нос.
— Ближе подойти не могу! — крикнул он одинокой фигуре, упорно цеплявшейся за гладко отшлифованный камень. — Бросай на борт свое оружие, легче будет одолеть буруны!
Неугомонное море мотало Онунда туда-сюда; отчаявшийся, измученный, он медленно соскользнул в пенный прибой и передал на борт свое оружие — меч и топор, — которое Гест тотчас бросил в море. Онунд опешил:
— Что ж это за помощь такая?!
— А та самая, что требуется покойнику! — гаркнул Гест, сдернув с головы капюшон. — Давай на борт или так тут и останешься!
Онунд вскарабкался в челн, и Гест велел ему сесть на весла, чтобы согреться, а сам зажал под мышкой рулевое весло и положил на колени топор, тот самый, с рыбьей головой.
— Поднимай парус! — крикнул он Эгилю, когда они отошли от опасного рифа. — Идем к южному берегу фьорда.
Только теперь Онунд узнал его. Или только теперь поверил своим глазам. Сам Онунд, по обыкновению, был одет как человек знатного рода, в светло-красную, порванную сейчас куртку, перехваченную широким ремнем с пряжкой, на бедре болтались пустые ножны от меча, он дрожал от холода, длинные светлые волосы облепили покрытое ссадинами лицо, из глубокой царапины на шее сочилась кровь. За минувшие годы он возмужал, заматерел, и сейчас они с Гестом являли еще более разительный контраст.
— Сдается мне, нынешняя наша встреча пройдет не лучше той последней, — прохрипел он, будто загнанный конь.
— Как надо, так и пройдет, — сказал Гест. — Однако я спас тебе жизнь, и ты, поди, не собирался забрать за это мою?
Онунд не ответил. Не мог.
— Греби, — сказал Гест. — Не то насмерть замерзнешь.
Онунд греб, хотя челн шел на всех парусах, греб изо всех сил, и приходилось ему очень нелегко, поскольку он повредил правое плечо.
— Не расскажешь, что нового в Исландии? — спросил Гест.
— Нет, не расскажу.
— Стало быть, ничего там не случилось. А давно ли ты в Норвегии?
— С прошлого лета.
— То-то успел сыскать меня. Кто же навел тебя на след?
Онунд не ответил, и Гест спросил о Снорри Годи, о нем-то говорить было куда проще, хёвдинг занимался большой тяжбой после пожара на юге страны, старался примирить враждующие семейства.
— А ты хочешь замириться? — спросил Гест.
— Я виру за родного отца не возьму, — сказал Онунд.
— Твой отец не платил виру ни за отцов, ни за сыновей. Но что ты скажешь, коли я дам клятву никогда не возвращаться в Исландию, а вдобавок заплачу тебе двойную виру серебром?
Онунд сложил весла, схватился за правое плечо и некоторое время, скривившись от боли, покачивался взад-вперед.
— Скажу, что это смехотворное предложение, — простонал он. И, помолчав, добавил: — Я знал, что Тейтр не убил тебя. Так люди сказывали: мол, дикарю этому заплатили, чтоб он убил тебя. А он не убил. И я это знал.
— Кто тебе это говорил?
— Все. У тебя нет друзей. Ни здесь, ни в Исландии.
К южному берегу они подошли уже хмурым вечером, ветер поутих, но дождь моросил по-прежнему. Гест высмотрел проход меж скалами и направил челн к белопесчаному берегу. Минуту-другую он сидел, глядя на дрожащего пленника и размышляя, не стоит ли хорошенько выспросить его, например, об Аслауг и других людях, о которых ему бы хотелось что-то узнать, но в конце концов отбросил эту мысль, словно не желал слишком много знать про Онунда, про то, как он думает.
Выпрыгнув на песок, Гест велел Онунду следовать за ним, и оба зашагали в гору, прочь от моря — Онунд шел впереди. Когда челн скрылся из виду, Гест приказал пленнику лечь навзничь.
— Решил убить лежачего?! — воскликнул Онунд.
— Я ростом не вышел, — сказал Гест, посмотрел ему в лицо, стукнул обухом топора по голове, удостоверился, что Онунд потерял сознание, привязал его к камню, точно лодку, и спустился на берег.
— Отлив еще не начался, — сказал он Эгилю, который вроде как не уразумел, что произошло. — Поднимай парус.
Уже совсем стемнело, когда впереди завиднелся сигнальный огонь на мысу. Ингибьёрг сама зажгла его и стояла у причала, ждала, промокшая, озябшая, но явно обрадованная, что они вернулись.
— Где Онунд? — спросила она.
— На южном берегу фьорда, — ответил Гест.
— Живой?
— Коли не помрет от беспамятства.
Ингибьёрг посмотрела на него. Потом топнула ногой и громко, чтобы слышали трэли, закричала, что он выставил себя круглым дураком и она видеть его больше тут не желает. Онундовы люди рассказали, что плыли они на трех кораблях, но в непогоду потеряли друг друга, хотя два других корабля наверняка сумели добраться до Харека.
— И рано или поздно явятся сюда!
Гест пожал плечами и сказал, что в таком случае мог бы и убить Онунда, разницы-то никакой. В нынешней ситуации ему понадобится не меньше трех дней, чтобы обойти вокруг фьорда.
— Если, конечно, он рискнет прийти сюда, — добавил Гест. — А тем временем я исчезну. Мы сделаем вот что, — продолжал он, поднимаясь вместе с Ингибьёрг по дорожке меж лодочных сараев. — Завтра ты прогонишь меня, под каким-нибудь предлогом, но так, чтобы его люди слышали. Дай мне челн, на котором перевозишь железо, и трех человек, в том числе Эгиля, обещаю, они вернутся.
Ингибьёрг сказала, что один-два челна ее не волнуют, лишь бы усадьбу не разорили из-за каких-то там мужиков, потом опять спросила, почему он все-таки не убил Онунда — силой не вышел? Испугался? Искал повод сбежать из Сандея? Или воображал, что нелепая милосердность обеспечит примирение?..
— Значит, Онунда я убить мог? — ехидно перебил он. — А Транда Ревуна нет?
Этого Ингибьёрг слышать не желала.
— Почему ты так поступил? — крикнула она, совершенно вне себя.
Гест опустил глаза, пробормотал:
— Не знаю. — Он не кривил душой, но тотчас прибавил: — Чтобы отомстить.
— Наверно, это правда. — Она резко тряхнула головой, волосы облепили лицо, точно мокрая трава. — Но ты поступил так в первую очередь ради нас. Бог велел тебе.
— Да не все ли равно? — Гест почувствовал облегчение: нашлось хоть что-то, способное их примирить, к тому же она носит под сердцем его дитя. У него голова шла кругом при одной мысли о слабости и зависимости, какую несет с собою любовь. Интересно, поймет ли Онунд когда-нибудь, что именно это и уберегло его от смерти. Вдобавок, что ни говори, он все же отомстил, ведь там, на южном берегу фьорда, под холодным моросящим дождем, Онунд очнулся в бесчестье и унижении, по-прежнему одержимый неуемной жаждой мести.
Этой ночью Гест тоже лег спать в одной комнате с Грани. Но едва только парнишка уснул, пришла Ингибьёрг и вызвала Геста из дома. Она переоделась в сухое, и Гесту опять подумалось, что она изменилась, напряжена, огорчена и очень серьезна, а одновременно нерешительна, как ребенок, прямо-таки нежна и ласкова, хотя рот мог бы выглядеть и помягче. Она спросила, спит ли Грани.
— Да, — отвечал Гест. — Можешь сказать мне все, что имеешь сказать.
Ингибьёрг протянула ему кожаный кошелек и сказала, что на юге страны у нее есть родич, дядя по отцу, живет он на западном берегу озера Мёр, в Рингерики, а зовут его Ингольв сын Эрнольва.
— Он поможет тебе. А не захочет, покажешь ему этот перстень.
Гест открыл кошелек, увидел перстень и много серебра. Поблагодарил и сказал, что перстень возьмет, а серебро нет.
— Не возьмешь деньги — не получишь и перстень, — произнесла она тоном, не оставлявшим сомнений, что терпение ее иссякло.
Гест еще раз поблагодарил и согласился взять серебро. Потом добавил, что не прочь вздремнуть. Ингибьёрг помедлила, глянула на него, скрестила руки на груди, снова уронила, так что они закачались словно маятники.
Гест разбудил Грани.
— Помнишь обещание, которое дал мне весною?
Грани кивнул.
— Теперь исполнять его нет нужды. Ведь если я не ошибаюсь, Ари цел и невредим. Поэтому ты останешься в усадьбе, когда меня завтра отправят прочь отсюда, и будешь заботиться о Стейнунн и Халльбере и о ребенке, которого носит Ингибьёрг, отец его я, и ты обязан опекать брата.
— Вот так новости, — сказал Грани. — Куда же ты пойдешь?
— Завтра утром Хедин и его люди отведут меня на один из кораблей Ингибьёрг и скажут — громко, чтобы слышали Онундовы люди, — что они только сейчас узнали, кто я такой, и решили передать меня в руки ярла. Но Ингибьёрг спрячет на борту мое оружие, а корабельщики развяжут меня, как только усадьба скроется из виду. Я поселюсь в другом месте. Сделай так, чтобы Халльберы и Стейнунн на пристани не было, и, пока люди Онунда не покинут усадьбу, не говори им, что я в безопасности, ведь иначе те все прочтут по их лицам. Обещаешь?
Грани кивнул: мол, о чем разговор.
— Но ты рассказываешь все это по какой-то другой причине, верно? — спросил он.
— Верно. Причина в том, что ты мог бы пойти на Хедина с топором, думая, что он отсылает меня к ярлу. Так вот, проследи, чтобы никто другой этого не делал, ведь план известен только Ингибьёрг да Эгилю, даже Хедин ни о чем не ведает.
— Хорошо, что Рунольва здесь нет, — улыбнулся Грани.
— Да, — согласился Гест. — А теперь давай спать.
Хедин и его люди явились на рассвете, громко потребовали, чтобы Гест вышел из дома. К тому времени он успел собраться. По-прежнему лил дождь. Хедин с широкой ухмылкой торжественно объявил, что у него приказ заковать Геста в железа и отправить в Нидарос.
— Ладно, как велено, так и поступай, — сказал Гест.
Они отвели его в челн и привязали к кольцу у кормовой банки. Присутствовали при сем двое Онундовых людей и большинство населения усадьбы. Впереди стоял Грани с топором в одной руке и длинным копьем в другой, словно намереваясь пресечь в зародыше любые протесты. Ингибьёрг не видно. Зато Тородд тут как тут, отодвинул Грани в сторону, подковылял к челну, поднялся на борт, сел рядом с Гестом и потрепал его по колену — этакий благодушный мудрец.
— Ингибьёрг говорит, ты его не убил, — тихо сказал он. — Видать, в Исландии у тебя могущественный враг?
— Да, — ответил Гест, тоже шепотом. — Будь у нас в Исландии ярлы и конунги, Снорри Годи был бы хладирским ярлом. Но пока Онунд ищет меня, Снорри не станет докучать моим друзьям, как в Исландии, так и здесь.
Тородд задумался.
— Серьезная причина, — обронил он и опять умолк.
— Почему ты пришел сюда? — спросил Гест.
— Потому что не знаю тебя, — ответил старик. — И потому что сомневался, можно ли тебе доверять. А ты что же, хочешь, чтоб он вечно тебя преследовал?
— Пусть его ищет, сколько получится.
— Если кто другой его не убьет, — проворчал старик, встал, небрежно хлопнул его по плечу и уковылял на берег. Гест проводил его взглядом. Девочек он нигде не заметил.
— Доброго тебе пути, исландец! — крикнул Грани, а Хедин велел корабельщикам подняться на борт и приготовиться к отплытию, тем самым троим трэлям, что ходили к рифу снимать Онунда, все они были вооружены. Хедин стоял опустив голову, глядя на береговой настил.
— Смотри веселей, Хедин! — крикнул ему Гест. — Ты ж за этот подвиг Хавглам получишь в награду!
Хедин вскинул голову:
— Придержи язык!
— Почему это? Тебя же Бог наградит, только Бог, а больше никто.
Эгиль со товарищи вывели челн во фьорд и подняли парус. Напоследок Гест увидел тот сандейский сарай, где жил на первых порах. И вновь ему вспомнилось давнее утро, когда они с Тейтром смотрели с высоты на боргарфьярдарские долины и он думал, что история его переберется за море и сызнова продолжится в другом краю, надежда эта была слабая и возникла так давно, что тотчас же развеялась, ему было холодно и опять хотелось есть.
Часть вторая
Месть
Пока плыли на юг, погода все время была скверная, до Агданеса добрались через четыре дня и три ночи в сильный шторм, пришлось искать укрытия в окруженной густым лесом бухте, примерно там же, где три с лишним года назад Гест вместе с Хельги ступил на берег. Поставили палатку, заночевали. А утром Гест объявил трэлям, что остается здесь, они же пусть возвращаются на север.
Каждому он дал немного серебра, полученного от Ингибьёрг, всем поровну, и сказал, что они могут отправиться куда угодно, сами вольны решать. Эгиль искоса взглянул на него:
— Мы могли бы забрать побольше серебра и уйти, если б сделали это, когда ты был привязан к лодке. Только куда нам идти?
Гест склонил голову набок, посмотрел в непроницаемое лицо. Эгиль опустил глаза.
— Пусть Ран[56] наполнит ветром твой парус, — сказал Гест.
Он так и стоял на берегу, пока они шли на веслах к выходу из бухты и ставили парус. Потом закинул за спину котомку и двинулся на восток. Снова начал пешее странствие. И снова обходил усадьбы стороной, намереваясь на сей раз незамеченным добраться до Оркадаля, по торному тракту перевалить через горы на юг, прежде чем весь край погрузится в зимнюю спячку.
Но шагал он тяжелой походкой, все медлительнее, в конце концов, уже брел нога за ногу. На третий день очутился в лесу над усадьбой Эйнара сына Эйндриди, хотя направлялся вовсе не туда. Его терзали сомнения: в Йорве он оставил Аслауг разбираться с алчущим мести Онундом, в Сандее свалил все на Ингибьёрг и детей, сам же пустился в бега, земля горела у него под ногами, все равно, убил он или не убил, — и вот он здесь, в лесу посреди Норвегии. Ему вспомнился Тейтр и его слова о том, что в тумане человек непременно заплутает, как раз оттого, что старается не сбиться с пути, а значит, самое милое дело — сидеть на месте.
И он сидел на месте.
Сарай, где они с Тейтром последний раз ночевали, был заперт, Гест устроился в лесу и сразу начал замерзать, медленно, но верно, смотрел сквозь густой черный ельник на красную осеннюю луну, меж тем как стужа вгрызалась в спину и ныла рука, сжимавшая нож. Он словно чего-то ждал, то погружаясь в полузабытье, то снова из него выныривая, как набрякшее водой суденышко на бурном море. Потом вдруг услышал стук, удары топора, вскочил, но никого не увидел, кругом лишь солнце и безветрие. День оплеснул леса желтым, легким светом. На склоне холма напротив работали дровосеки, два с лишним десятка трэлей, одни рубили деревья, другие правили лошадьми, оттаскивали бревна. В чистом, прозрачном воздухе их голоса звучали уютно, по-домашнему, но спина у Геста по-прежнему была скована стужей, и почему-то он не мог спуститься вниз и выйти к ним со своими вопросами насчет дальнейшего пути.
Гест остался на месте. Сидел в ельнике, смотрел на усадьбу, а вечером увидел самого хёвдинга, Эйнара сына Эйндриди, тот вышел из большого дома и стал седлать вороного жеребца. Немного погодя дверь отворилась, и во двор выбежал мальчик. Эйнар посадил его в седло и повел коня в сторону лесосеки, смеясь и о чем-то разговаривая с мальчиком, тем самым, что играл у его ног в пиршественном зале, когда там были Гест с Тейтром. Гест хотел молча заступить им дорогу, но Эйнар уже остановился.
— Выходи из зарослей и назови свое имя. Иначе я прикажу схватить тебя и убить.
Гест услышал шорох за спиной — четверо мужчин стояли на склоне, пристально глядя на него. Он вышел на тропу, опустился на колени перед хёвдингом.
— Я не Бог, — бросил Эйнар и велел ему встать. — Но кто ты?
Гест ответил, что был здесь три года назад, вместе с Тейтром и Эйстейном сыном Эйда. Эйнар сказал, что никогда раньше не видел его, и хотел было продолжить путь. Гест возражать не стал, сказал, это, мол, вполне возможно, а сказал он так потому, что в голове начал принимать очертания некий план, и добавил: чтобы идти дальше, ему требуется совсем немного — приют на две-три ночи да чуток еды, тем временем он разузнает, есть ли в городе исландцы и по-прежнему ли Эйстейн находится при ярле.
Эйнар запрокинул голову и негромко рассмеялся.
Тут только Гест заметил, что у мальчика, сидящего в седле, вдавлен висок, а один глаз слепо глядит куда-то вбок, и по наитию сказал, что с ним обстоит ненамного лучше, чем с этим мальчиком на коне.
— Коли с тобой обстоит так же, как с Хьяльти, — разом нахмурившись, проговорил Эйнар, — моя помощь тебе не требуется.
Хёвдинг прошел несколько шагов вверх по склону, сказал что-то одному из четверых стражей, тот кивнул и направился к Гесту, а Эйнар, ведя вороного в поводу, зашагал дальше по тропе и исчез из виду. Гест снял с себя оружие, положил на землю. Но Эйнаров человек велел ему все поднять.
— Эйнар говорит, что ничего для тебя сделать не может. Однако сарай, где ты прежде ночевал, будет открыт сегодня ночью и завтра. Только будь осторожнее, чем раньше.
Гест наклонил голову.
— Еще Эйнар говорит, что Эйстейн нынешним летом уплыл в Исландию, но тебе надобно разыскать Рани сына Тородда из Скагафьярдара. Он друг Эйстейна, тоже служит у ярла и поможет тебе.
Направляясь в сарай, Гест уже понимал, что за горы не пойдет. Он отыщет Ари и вернет его в Сандей, это было единственное, что имело хоть какой-то смысл в море тумана — для Ари, Стейнунн, Халльберы и для него самого; вдобавок уж где-где, а в Сандее Онунд станет искать его в последнюю очередь. Но вдруг Ингибьёрг рассердится, что Ари вернулся? Может, мне стоит воротиться в Исландию? — думал он. Прикидывал так и этак — итог получался неутешительный: наградой людям, которые ему помогали, были одни только тяготы и смертельная опасность. И еще кое-что сбивало с толку: Тейтр пощадил его, а Ингибьёрг полюбила, и обоим он нужен был таким, как есть, а вот этого Гест не понимал, потому что не воспринимал себя как доброго человека, доброго в толковании Кнута священника, он вообще не привык оценивать себя в целом, только-только начал учиться, и как раз это смущало его. Кто ты? — спрашивал отец, и теперь в этом вопросе сквозил страх.
Откуда ни возьмись, вдруг появился трэль — меж тем настала полночь, — тот самый трэль, с ключами, с тем же вкусным хлебом и копченой рыбой.
Правда, он больше не боялся, спокойно сел на пороге и стал смотреть, как Гест подкрепляется. Гест спросил, не желает ли он угоститься. Трэль с улыбкой покачал головой.
— Как тебя звать? — полюбопытствовал Гест.
— Пришлым кличут.
— Ты что же, нездешний? — удивился Гест.
Трэль засмеялся, помотал головой.
— Намекаешь, что тебя зовут по-другому?
Трэль снова засмеялся и тряхнул головой: мол, давай спрашивай дальше.
— Ты знаешь, кто я?
Тот кивнул.
— Можешь объяснить мне, зачем ярл собрал во фьорде столько кораблей, хотя дело идет к зиме?
— Нет. Ты сам знаешь.
— Как это понимать?
— Знаешь. Война.
Гест с досадой посмотрел на него, хотел попросить подробных объяснений, но трэль вскочил на ноги, отбежал в сторону, остановился, бросил на него опасливый взгляд.
— Ты посланец! — крикнул он.
— Какой такой посланец? — раздраженно буркнул Гест и тоже поднялся. Трэль отбежал еще на несколько шагов, но остановился, поскольку Гест вдогонку не устремился, только покачал головой и попробовал изобразить улыбку. — Ночью я тут в безопасности? — спросил он, протягивая трэлю туес.
— Да. Спи спокойно. Посланец, — повторил трэль, выхватил у него туес и побежал вниз по склону, будто за ним гнались демоны.
Гест спал. Спал крепко, спокойно под красной луной, которая походила на Бога, а рядом сидел Кнут священник, бормотал сквозь зубы:
— Filius meus es tu, ego hodie genui te — Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя.[57] Так молвил Господь в тот день, когда вызволил Христа из ада кромешного. Мне бы надо сказать по-другому, но ты ведь и так все понимаешь, верно?
— Нет! — вскричал Гест. — Я не из числа твоих грешников! — Швырнув эти дерзкие слова в лицо настырного клирика, он испытал большую радость. Лицо это было сперва зеленое, потом красное, потом вообще никакое, но сокол воспарит к небу в одном краю и полетит за море с письмом в клюве — Кнут называл веру теплым ветром с юга, это был глас Белого Христа и Его послание. Тут Гест открыл глаза, сытый, полный сил, отдохнувший.
Он берет свое оружие и отправляется в путь. Идет в ту сторону, куда ему должно идти, к броду через Таулу, где встречает трех купцов-русичей с тяжело нагруженными лошадьми, один из них говорит по-норвежски, рассказывает, что они собираются продать в городе кожи и солод, а затем обеспечить себе места на торговом судне, которое до наступления зимы уйдет в Данию.
Вместе с ними Гест вступает в Нидарос.
Но едва они окунулись в кислые запахи города, как угодили в шумную людскую толпу, огромное сборище под уныло-серым осенним дождем, теснившееся вокруг двух женщин, которые, судя по всему, дрались не на жизнь, а на смерть, одна, лежа навзничь в грязи, истошно вопила, другая сидела на ней верхом и колотила ее курицей, только пух да перья летели.
— Убей ее! — орала толпа. — Убей!
Гест в изумлении смотрел на эту картину. Он знал обеих женщин по трактиру, где ярловы дружинники пили пиво. Молодая обыкновенно была сговорчива и брала за это плату; старшая — лупившая ее растерзанной курицей — славилась своими целительными руками, умением ворожить и тонким пониманием человеческой души, к тому же она была христианкой.
Тут он заметил на заднем плане шестерых всадников на могучих вендских конях — ярла и пятерых его дружинников. Гест хотел было выбить курицу из рук драчуньи, но в тот же миг предводитель ярловых дружинников — устрашающая фигура в железном шлеме и серебрёной кольчуге под меховой курткой — дал шпоры коню, обнажил меч и въехал прямо в толпу, раздавая направо и налево удары плоской стороной оружия. Толпа кинулась врассыпную, как стадо перепуганных овец, а дружинник схватил женщину с курицей за волосы, протащил по улице, швырнул в грязную лужу и рявкнул толпе:
— Женщина тоже Божия тварь!
Старуха поднялась на ноги и пошла на него, пронзительно вереща и по-прежнему сжимая в руке свое оружие — растерзанную курицу. Толпа радостно заулюлюкала. Всадник поворотил ставшую на дыбы лошадь, молниеносно нагнулся и, с размаху двинув старуху в челюсть, свалил ее наземь, потом медленно обвел взглядом зевак и приказал им вернуться к работе — сей же час.
— Или убирайтесь домой, в свои халупы. Забаве конец, а ярл запретил в городе сборища. Прочь отсюда, живо!
Не дожидаясь, когда неразбериха уляжется, он без спешки подъехал к ярлу, тот кивнул и слегка усмехнулся, затем поворотил коня, и все шестеро ускакали прочь.
Гест приметил крест на щите Эйрика, хладирского ярла, который некогда принял в Дании крещение, но по-прежнему не оставлял Тора и Одина без должного прибежища здесь, в Трандхейме, в собственной своей твердыне, ярла, который вот только что явил еще один пример того, в чем он понимал толк лучше любого другого, — убедительной демонстрации власти.
Узнал Гест и двух ярловых спутников. Один был Эйольв Дадаскальд из Сварфадардаля, что в Северной Исландии, сочинитель «Бандадрапы». Второй же — единственный среди них безоружный, с непокрытой головой, как и ярл, на протяжении всей этой сцены он неподвижно сидел на коне, сгорбившись, как скромный гость или забитый слуга, хотя могучая стать не позволяла причислить его к этой категории, — второй был Рунольв.
Гест распрощался с русичами и пошел дальше, к мысу. Стемнело, но, собираясь свернуть к реке, он увидел на месте церкви Олава обугленные развалины, черные балки торчали из глинистой земли. Вокруг валялись обломки досок, какие-то тряпки, мокрая солома и объедки, как на свалке.
Он продолжил путь вдоль реки — церковь Кнута священника стояла целехонька, больше того, стена, которую начал Гест, была достроена и просмолена, появился и притвор, с резною рамой вокруг стрельчатого проема, а над фронтоном возвышалась башенка с черным деревянным крестом наверху.
Вот и конюшня, но ему пришлось несколько раз громко стукнуть в дверь, пока наконец отозвался мужской голос, Гест узнал конюха и крикнул ему, что он друг Эйольва Дадаскальда, пришел к Кнуту священнику за советом. Он надвинул капюшон на лоб, хотя кругом было темным-темно.
Голос велел ему обождать, потом послышался снова и сообщил, что клирик встретит его за церковью. Свернув за угол, Гест тотчас увидел его, Кнут стоял, сжимая в руке короткий меч, надвинув на голову капюшон, словно монах.
— А-а, неверующий малыш-исландец, — сказал он, с облегчением и вместе разочарованно, затем отвесил насмешливый поклон и сунул меч в ножны.
— Уже не неверующий, — сказал Гест. — Я пришел принять крещение.
Язвительная усмешка пропала.
— Нет. Ты пришел, потому что тебе нужна помощь, чтобы сызнова спрятаться или продолжить кровавый поход мести. Верно, так и будешь просить других о помощи, и в этой жизни, и…
— Я уверовал, — настойчиво повторил Гест. — Хочу креститься и останусь у тебя, пока не смогу уехать в Исландию.
Кнут как будто бы смягчился, но руки, по обыкновению, суетились, а глаза нервно озирались в дождливой темноте. Потом он вместе с Гестом зашел в конюшню и торжественно провозгласил, что разрешает ему до поры до времени пожить здесь и еще раз попробует обратить его в истинную веру, а уж там видно будет, крестить его или нет…
— Как вышло, что твоя церковь осталась цела-невредима, — перебил Гест, прежде чем клирик завел свои нравоучения, — а Олавова церковь Святого Климента лежит в развалинах?
— Да мужики это. Пришли ночью толпой, до полусмерти избили Асгейра и монахов, выгнали их из города, а церковь, конюшню и лодку спалили. Случилось все на Пасху, с тех пор я тут один…
— Ты не ответил на мой вопрос, — сказал Гест.
Кнут закашлялся, сделал вид, будто не слышал. Потом вдруг в припадке бешенства затопал ногами, зашипел:
— Замолчи! Не начинай все сызнова! Ну ни на что нельзя положиться!
Гест недоуменно смотрел на него, слыша, как в денниках топают по земляному полу кони, судя по звуку, их было много, над дровнями висели два дорогих седла с седельными сумками, сена полным-полно, а у одной стены штабель новеньких бочонков, должно быть соленья и пиво.
— Я смотрю, тебе живется неплохо? — осторожно спросил он. — И по какой же причине ты…
— Да ни по какой! — злобно перебил клирик. — Просто Гюда дочь Свейна, супруга ярла, дочь датского конунга и истинная христианка, приходит сюда время от времени, любо ей поговорить с земляком о вере…
— Вон оно что.
— Ну да, — уныло кивнул Кнут священник. — Иногда и сына с собой приводит, Хакона, он, поди, станет ярлом после Эйрика, конца-то этому не предвидится, вот я и стараюсь вдолбить ему слово Господне, только он не больно-то интересуется, его больше занимают женщины, заигрыванья да старые героические истории про отца… Время от времени приходит и Бергльот, ярлова сестра, что замужем за Эйнаром из Оркадаля, слыхал о нем?.. Бергльот тоже любит потолковать о вере, этим, верно, и объясняется, что я еще жив, ведь храбрецом меня не назовешь. Но почему ты вернулся? И где провел эти годы?
— Я же сказал, что вернулся принять крещение. А сейчас не мешало бы поесть, я проголодался.
— Да-да, само собой, для чего только не нужен священник!
Кнут велел Гесту подождать возле лестницы, пока он сходит за едой, вернулся, кивнул: дескать, поднимайся наверх, — и приложил палец к губам, потому что старик Гудлейв по-прежнему лежит там при смерти и мешать ему нельзя, сразу начнет голосить.
— Опять к войне готовятся, — задумчиво обронил Кнут, когда Гест принялся за еду. — Ярл не иначе как решил вместе с тестем, с моим конунгом, завоевать всю Англию. И все это они рассказывают мне, а я-то знать ничего не хочу…
— Прошлой ночью ты явился мне, — насмешливо фыркнул Гест, — и сказал: Filius meus es tu, ego hodie genui te. Потому я и вернулся. Еще ты спросил, знаю ли я, что эти слова означают. Господь сказал их Сыну Своему, когда вызволил Его из ада…
Кнут священник вконец приуныл.
— Не забыл, значит, мои уроки? Переиначиваешь маленько, однако ж, я и подумать не мог…
— Я и молитвы помню. Orare idem est quod dicere.[58] — Он начал читать Псалтирь, и Кнут священник благоговейно закивал, впадая в тот же ритм.
Клирик будто постарел на много лет, лицо землистое, волосы коротко стриженные, серые, как пасмурный день, глядит отрешенно, но этак ангельски, и все же от него веет какой-то загадочной силой. Он осенил себя крестным знамением, вздохнул в лад с движениями рук.
И вдруг опять рассвирепел:
— Зачем ты соврал, что хочешь воротиться в Исландию?
Гест озадаченно посмотрел на него и проворчал, что другой страны не знает, а в Норвегии оставаться не может. Ему стало не по себе от ясного взгляда Кнута, и он осторожно сглотнул, словно приметил западню, но жажда добыть приманку была сильнее.
Кнут священник полюбопытствовал, как ему жилось в Халогаланде, и сел поудобнее на охапке сена, слушая Гестов рассказ. Гест присочинял совсем чуточку, зато тщательно отбирал, о чем умолчать, — убийство Транда Ревуна и то, что Ари забрали в дружину, было закручено в один клубок с фактом, что раньше этим вечером он видел в городе Рунольва, — хоть и не отдавал себе отчета, почему священнику не надо об этом знать, ведь сейчас лицо его светилось интересом и доверием, н-да, лицо у клирика больше, чем у Бога. Кнут прищелкнул языком, словно вознамерился прижать к стенке очередного еретика, и сказал:
— Эйстейн рассказывал мне про эту Ингибьёрг, и признаться, я удивляюсь, что ты покинул ее, хотя Онунд и отыскал тебя там. Удивляюсь и тому, что ты оставил детей, которых Бог отдал в твои руки. И ответ у меня на это только один: ты опять лжешь, и явился сюда с совершенно другой целью.
Тут Гест заявил, что клирик волен думать как угодно, а ему надобно выспаться. Решение, которое привело его в Нидарос — а не через горы на юг, — снова заволокло туманом, как в тот вечер, когда он пришел в Оркадаль.
Несколько дней спустя Кнут священник уехал из города, чтобы отслужить в усадебной церкви заупокойную мессу по лендрману[59] из Медальхуса, церковь эта была единственной в окружении великого множества языческих капищ, и клирик потребовал себе трех сопровождающих.
На первых порах Гест вышел за дверь всего один раз, потолковать с неким корабелом на Эйраре. А так сидел тишком, большей частью валялся в постели, терзаясь мыслью о том, как же он мог оставить Ингибьёрг. И Стейнунн с Халльберой. Пустота вместо них на каменном причале, когда он уезжал. День за днем он думал об этом в чердачной комнатушке, где Гудлейв хлебал жидкую кашу, бросал вверх, к стропилам, невразумительные фразы и требовал помощи, чтобы молитвенно сложить скрюченные руки. Прошли те времена, когда он был связан и с земным, и с небесным миром, народ в городе потерял к нему интерес, и Гесту мнилось, что и в клириковой латыни сквозило изрядное нетерпение, будто не только душе старика, но и его смердящей плоти пора поскорее отойти в загробные края.
Отыскав у конюха кой-какую одежду, Гест отправился в город и узнал от корабела, что Рани сын Тородда стоит на якоре у Хольма, тот исландец, который, по словам Эйнара, может рассказать ему об Ари. Наняв лодку, Гест наведался на корабль. Рани, однако, смог всего-навсего сообщить, что морским сбором в Халогаланде руководил Сэмунд сын Халльфреда. Впрочем, пусть Гест заглянет к нему через день-другой, он постарается тем временем навести в городе справки.
Гест тихонько воротился к конюшне, удостоверился, что Кнут священник все еще в отлучке, спустился к реке, на клириковой лодке переправился на другой берег и пешком одолел долгий путь до Хладира, решил порасспросить бродяг и божедомов, слонявшихся возле ярловой усадьбы в ожидании объедков со стола властителя, в лесу неподалеку от пристани возникло целое становище — женщины и дети, разорившиеся торговцы, пропащие дряхлые старики, увечные воины, с утра до вечера причитавшие вокруг костров.
Гест подкупил одну из женщин, трудившихся на поварне, про Ари она ничего сказать не могла, зато знала про некоего Рунольва, он ночевал в одном из воинских домов, вместе с восемнадцатью другими дружинниками, кое-что говорило о том, что его держат под надзором, во всяком случае, оружия он не носил и в одиночку нигде не появлялся.
Под покровом темноты Гест обошел вокруг постройки, через новый нужник пробрался внутрь, отыскал в глубине помещения своего друга и сумел растолкать его, не разбудив других. Рунольв закашлялся, захлопал глазами и сперва было просиял, как ребенок, но тотчас отвел взгляд и энергично мотнул головой, когда Гест позвал его выйти из дома, даже попробовал отпихнуть его своими ручищами. Гест знаком показал, что, если Рунольв не выйдет, он учинит скандал. Нехотя Рунольв последовал за ним на улицу, спустился к морю.
Гест спросил, отчего он не сбежал, ведь тут что уйти, что войти проще простого. Рунольв сел на камень, взял палочку, начертил на песке круг, воткнул палочку в центр и пальцем торжественно пихнул себя в грудь: мол, узник он. Потом изобразил лодку и вопросительно взглянул на Геста.
— Нет, — ответил тот. — Я здесь один, и лодки у меня нет. Но где же Ари?
Сперва Рунольв посмотрел на него, спокойно, невозмутимо. Потом перевел взгляд на черную поверхность моря и склонил голову набок.
Гест сглотнул.
— Кто?
Рунольв покачал головой, на сей раз уныло, показывая, что ничего не знает. Гест не поверил. Рунольв снова покачал головой, ничуть не более убедительно, взял палочку, нарисовал двух человечков, одного возле другого, две маленькие фигурки — наверно, сыновей своих изобразил, решил Гест, — и во взгляде его опять возник вопрос.
— У них все хорошо, — сказал Гест, — Торгунна тоже жива-здорова. Но неужели ничего нельзя было сделать?
Рунольв помотал головой.
— Почему же ярл держит тебя под надзором? Не доверяет, что ли?
Рунольв ухмыльнулся, качнулся взад-вперед.
— Боится, что ты станешь мстить за Ари?
И опять Рунольв мотнул головой, еще энергичнее, и показал на человечков на песке.
— Боится, что ты сбежишь домой?
Рунольв кивнул.
— Так что ж ты не сбежишь?
Рунольв приложил руку к сердцу: дескать, он дал обет.
— И все-таки ярл тебе не доверяет? — не отставал Гест, словно не замечая, что Рунольв вконец пал духом и растерялся. — Нет, я ничего не понимаю, ты что, в Англию собираешься?
Рунольв просиял, начертил на песке множество маленьких кружочков, условный знак богатства, сжал кулак, поднес к лицу Геста, медленно разжал руку, показывая, что она совершенно пуста, и стукнул себя в грудь.
— Богатство и почет, — сказал Гест, выхватил у него палочку, быстро нарисовал на песке лодку, резко перечеркнул ее и зашагал прочь.
Рунольв встал, поспешил за ним.
— А как насчет Бога? — с жаром воскликнул Гест, обернувшись.
Рунольв вздрогнул, однако пожал плечами и безучастно перекрестился, явно больше в угоду Гесту, нежели Господу.
Гест молча пошел дальше, миновал становище босяков, углубился в лес. Рунольв следовал за ним. Гест остановился.
— Тебе не пора возвращаться?
Рунольв печально смотрел на него. Гест продолжил путь. Рунольв не отставал. На полдороге к реке Гест еще раз остановился, начался дождь, он замерз как собака, стоять было невмоготу.
— Послушай, Рунольв. Тебе надо вернуться.
На этот раз силач даже головой не покачал, просто пошел за ним дальше, в трех шагах позади. Вот и река, Рунольв сел в лодку, взялся за весла. Гест больше не пытался отослать его, сел на корме, потерянно кивнул в сторону пристани на другом берегу.
— Ари нет в живых, — сказал он.
Рунольв едва заметно кивнул, повернул голову, устремил взгляд на пристань.
— Я знал, — обронил Гест, показывая ему, где надо причалить. — Он так и не успел стать сильным.
В конюшне сидел Кнут священник. Он вскочил, по привычке приложив палец к губам, потом увидал Рунольва и испуганно отпрянул назад.
— Кто это? Он что, будет здесь жить?
Рунольв издал клекочущий звук, тот самый, от которого аж в Свитьоде орлы разлетались. Кнут застонал, схватил Геста за плечо. Гест попросил его успокоиться, сходил за попонами и сказал клирику первым подняться по ступенькам.
Гест сразу же улегся в постель, укрылся одеялом до самого подбородка и зажмурил глаза, но озноб не отпускал. Кнут священник сел рядом, удостоверился, что помирать он не намерен, и проворчал, что Гест не сдержал обещания сидеть дома. Гест сообщил, где был, и добавил, что уговорил Рани переправить его в Исландию, стало быть, вскорости клирик опять сможет жить тихо-спокойно.
Кнут, помолчав, сказал, что это дурной знак.
— Что — дурной знак? — раздраженно спросил Гест.
— Не знаю.
Священник испуганно глянул в темный угол, где Рунольв устраивался на попонах. А Гест потихоньку, однако настойчиво завел речь об Иосифе и его братьях, нараспев, как сам Кнут священник, и заключил рассказ так: лишь тот, кто верен своим родичам и друзьям, идет по стопам Господа и пользуется Его милостью. Кнут долго сидел в раздумье, потом сказал, скорее испуганно, чем возмущенно:
— Этому я никогда тебя не учил.
— Но я именно так понял твой рассказ. Того, кто предает брата своего, ждет вечная погибель.
— Не вечная, — быстро сказал Кнут, — всему есть прощение.
— Но не всем.
— Что ты имеешь в виду? И почему мы об этом говорим?
Но глаза Геста были закрыты. Дрожь унялась, тело понемногу обмякало, он разглядел слуховое окошко, глаз ночи, наступал новый серый день, из угла доносился сиплый храп Рунольва, вперемежку с легкими вздохами Гудлейва.
— Ты мой брат, — неожиданно произнес Кнут священник. — И все же я не могу на тебя положиться. Почему?
— Потому что ты человек умный, — отозвался Гест. — И потому что ты очень долго прожил под ярловым ярмом и уже не понимаешь, что правильно, а что нет, ведь ты не боишься за свою жизнь, как я.
Кнут поспешно встал и повторил, что никогда не встречал человека, подобного Гесту, натуры столь изломанной и опрометчивой, но тем не менее готов совершить над ним обряд крещения, как только он пожелает, ведь, надо полагать, это единственное его упование.
Однако же в этих словах сквозила приглушенная мольба, и Гест в конце концов признался, что пришел в Нидарос, чтобы отыскать Ари и вместе с ним вернуться в Сандей.
Он не видел Кнутова лица, но слышал, как изменился его голос, стал глубоким, задумчивым, когда клирик произнес, что оная затея грозит опасностью и самому Гесту, и ему, и церкви…
— …но почему ты рассказал мне об этом?
— Потому что уверен, ты все равно меня не прогонишь, — ответил Гест. — И потому что больше не нарушу тайком данного обещания не выходить отсюда, хотя скоро мне надо будет уйти, чтоб встретиться с Рани.
Кнут встал.
— Благослови тебя Бог, сын мой. Благослови Бог нас всех.
Когда Гест проснулся, Рунольв сидел у его постели и негромко ворчал. Сложив ладони чашкой, он уперся обрубком языка в большой палец: мол, есть охота ужас как. Дождливый день за слуховым оконцем клонился к вечеру, и Гест смекнул, что великан сидит этак уже давно.
Он встал, спустился вниз, нашел конюха и услышал, что Кнут священник куда-то уехал, взяв с собой запасного коня. Когда оба поели, Рунольв знаками показал, что хочет получить оружие. Гест покачал головой. Рунольв настаивал, но, когда Гест сдался и бросил ему короткий меч, неодобрительно оглядел оружие и отшвырнул от себя. Гест засмеялся, сходил в Кнутову кладовую и принес другой меч, больше похожий на произведение искусства, с изогнутым эфесом и усыпанным каменьями шаром на конце рукояти, каменья были черные, красные и голубовато-зеленые, а ножны из светлой кожи прошиты серебряными нитями и украшены серебряными же накладками. Рунольв провел пальцем по тупому лезвию, недовольно скривился. Гест показал ему, как наточить меч.
— А в Хладир ты вернуться не собираешься?
Рунольв сосредоточенно точил оружие и не ответил. Гест сказал, что завтра будет уже слишком поздно. И внезапно спросил:
— Я могу положиться на Тородда?
Рунольв энергично кивнул.
— Знаю, ты ему доверяешь. Но могу ли доверять я?
Рунольв опять кивнул.
— А Хедину можно доверять?
Рунольв задумался и вновь кивнул, правда не так уверенно.
— Я в Сандее чужой, — продолжал Гест. — Будет ли Тородд верен мне так же, как он верен Ингибьёрг?
Рунольв с досадой глянул на него и пальцем ткнул себе в зад, недвусмысленно давая понять, что Гест болтает чепуху и пора бы ему замолкнуть.
Они пошли в город, но не по улицам, пересекли поле и проулками спустились к Эйрару. Нашли лодку и поплыли к Хольму, на веслах сидел Рунольв. Пришвартовали свое суденышко к якорному канату корабля Рани и стучали в борт, пока кормчий, перегнувшись через планшир, не глянул вниз, явно раздосадованный, что Гест явился снова, да не один.
— Этого человека я уже видел, — сказал он, глядя на Рунольва, когда оба гостя поднялись на палубу. — Он из людей ярла.
— Все мы — люди ярла, — сказал Гест.
Статью Рани был поистине богатырь, однако ж легкий на ногу, с буйными черными волосами и бородой до самых глаз, со смешливыми морщинками в уголках. Маленькие глазки поблескивали в этих черных зарослях точно бусины, придавая ему веселый, чтоб не сказать забавный вид. Он подхватил Геста под мышки, посадил на бочку с солониной.
— Тот, кого ты ищешь, убит, — сказал он. — Кажется, за воровство. Одним из людей Сэмунда. Зовут его Одд сын Равна с Мера. Но он великий воин и ночует в покоях ярла, так что ты к нему и близко не подойдешь.
Гест посмотрел на Рунольва, тот разочарованно склонил голову набок.
— Ничего себе новость. Но я пришел не затем, чтобы услышать, чего я не могу. Где мне найти этого Одда и заплатит ли он выкуп за убийство?
Рани ответил на второй вопрос:
— Нет.
Гест спрыгнул с бочки, забегал кругами по палубе.
— Что это с ним? — спросил Рани, имея в виду Рунольва, который стал перед ним и вынудил поневоле попятиться. Рунольв же шагнул ближе, упорно таращась на него, совершая непристойные телодвижения и размахивая руками. Гест заметил, что происходит, подошел. Он успел разглядеть, что корабль готов к отплытию, и спросил:
— Ты снимаешься с якоря?
— Да, — ответил Рани. — Как только задует попутный ветер.
— Это из-за меня?
Рани промолчал.
— К тому же ты без оружия, — заметил Гест. — А вахтенный твой спит.
— Ты о чем?
— По-моему, Рунольв имеет в виду, что тебе известно про этого Одда что-то такое, о чем ты не хочешь нам говорить.
— Я знаю, кто ты, — ответил Рани. — Ты исландец. И зовут тебя не Хельги, а Торгест сын Торхалли. Ты убил Вига-Стюра, и врагов у тебя больше, чем у кого-либо другого.
Гест сказал, что для него это не новость.
— У Одда в городе есть женщина, — продолжал Рани. — Он ходит к ней наперекор воле ярла, ведь супруг ее тоже служит в ярловой дружине. Больше я ничего сообщить не могу, так как ничего больше не знаю. А теперь вам пора уходить.
Гест усмехнулся.
— Ари не был вором, — сказал он, кивнул Рунольву и спустился в лодку.
Кнут священник в ту ночь не вернулся. И на следующий день тоже. Гест ничего не предпринимал. Лежал в постели, не вставая. Белые просторы расстилались под закрытыми веками, пелена, как в тот раз, когда мысли оцепенели, все та же слабость, думал он, и толку от этих мыслей нет никакого, они разили его будто камни, размягчали, он мерз и не вставал.
Регулярно заходил Рунольв, сидел на табурете возле Гестовой постели, большой, укоризненный, клал на колени блестящий священников меч и разглядывал его как настольную игру, медленно вытаскивал из ножен и снова прятал, вытаскивал и прятал, вытаскивал и прятал. Кроме того, пытался накормить Геста. Но тот от еды отказывался, пил тоже мало, а говорил еще меньше, даже когда Рунольв тряс его и рычал, лихорадочно и красноречиво размахивал руками, зажимал себе нос, показывая, что от него воняет. Однако ж Гест не вставал.
Мысли его были мучительны и тягостны, Ари легко, словно перышко, перелетал через ручей, Халльбера, стоя на берегу, смеялась, а Стейнунн возгласами ободряла брата; Ари, которого преследовали призраки Хавглама и который принял крещение, не имея от него никакой выгоды, может, в Гесте копилась сила Господа, а может, справедливое негодование Форсети или все та же болезненная слабость.
Так минула неделя. Наконец-то вернулся Кнут священник и нашел его запущенным и исхудалым, засуетился, дал ему попить.
— Ты чего разлегся тут как сущая развалина?
Гест ответить не смог. Но вскоре обнаружил, что и с клириком что-то произошло, он уже не казался до смерти перепуганным, хотя руки его по-прежнему непрерывно отирались друг о друга. И, в конце концов, спросил:
— Скажи, дети — святые?
Кнут посмотрел на него:
— И дети, и взрослые суть твари Божьи. Но святы лишь очень немногие, например Дева Мария, или святой Андрей, или святой Георгий… Правда, дети не грешат так, как взрослые, ты это имеешь в виду?
— Возможно. — Гест закрыл глаза. — Только вот не знаю, на что Господу опереться, коли в детях нет святости.
На миг оба умолкли, слушая ворчание Рунольва.
— Я знаю, о чем ты думаешь, — сказал клирик, встал и вышел вон.
В ближайшие дни Гест медленно, но верно оклемался, снова встал на ноги. Но был печален, замкнут и никак не желал взбодриться, ничто не помогало — ни робкие увещевания Кнута, ни представления Рунольва, который, подражая ему, пронзительно рыдал и корчил плаксивые гримасы.
— Ты бы вернулся в Хладир, — говорил Гест.
Однако Рунольв смеялся, а Гест достал нож и занялся резьбою, вырезал орлиную голову, вроде той, что сделал дома, в Йорве, но у этой был только один глаз, на месте второго виднелась ямка. Рунольв вопросительно ткнул в нее пальцем. Гест объяснил, что вставит туда камень, может даже драгоценный. Рунольв схватил ножны клирикова меча, срезал красную стеклянную бусину и, точно сияющую драгоценность, протянул ему на большом куске грязной кожи. Гест покачал головой — красный глаз ему не надобен — и, желая порадовать Рунольва, в свою очередь протянул ему орлиную голову. Рунольв взять ее отказался, знаками изобразил, что Гест безнадежный, неправильный и несчастный, а резную голову зашвырнул в угол.
Потом пошел, достал голову из угла, смиренно поблагодарил, несколько раз проведя ладонью по груди и склонив свою большую голову — дескать, вот, возьми ее, пожалуйста. И тут Гест наконец рассмеялся.
— Ты выяснил, где живет та женщина, к которой ходит Одд сын Равна? — спросил он.
Рунольв встрепенулся, потащил его наружу. Гест остановил его, спросил:
— Как ты это узнал?
Рунольв зашевелил губами. Оба снова рассмеялись. Гудлейв что-то испуганно крикнул в потемках. Гест вырезал рыбу, длинную, в палец толщиной, с чешуей и плавниками, с зелеными глазами-бусинами от Кнутовых ножен, сделал в хвосте проушину и продел в нее кожаный шнурок. Эту рыбу он вручил Рунольву, и тот немедля повесил ее на шею, знаком показав, что рыба нравится ему куда больше, чем одноглазая орлиная голова.
Гест снова облачился в конюховы обноски и собрался в город, Рунольв хотел было идти с ним, но Гест ткнул пальцем в рыбину и тоном, не терпящим возражений, велел остаться здесь.
Он вышел из конюшни — все вокруг заливал пепельно-серый осенний свет, в воздухе, точно мучная пыль, мельтешили крохотные снежинки. Очутившись на городских улицах, он потолковал с несколькими торговцами, со знакомым корабелом и его подмастерьями, заглянул в трактир, куда обычно захаживали дружинники, послушал излияния посетителей, завел дружелюбную беседу с молодой женщиной, той, которую намедни избили курицей. Теперь следы драки почти изгладились, осталось всего несколько царапин, она вновь сияла той равнодушной красотой, которая делала ее совершенно неотразимой. Когда Гест покинул трактир, уже настала ночь, меж домами по-прежнему вихрилась снежная крупа, город спал. Но Рунольв стоял в конюшне, словно караульщик, поджидал его и хотел сразу же увести обратно в город.
— Не сегодня, — устало сказал Гест, направляясь к лестнице.
Однако Рунольв все-таки вытащил его наружу и замахал руками, показывая на луну, сиявшую над лесистым кряжем на востоке. Гест сказал, что ничего не понимает. Тогда Рунольв привел его в церковь и настойчиво постучал по резному деревянному календарю, который Гест когда-то смастерил для Кнута. И тут до Геста дошло.
— Нынче вечером Одд в городе?
Рунольв кивнул и с гордым спокойствием поднял вверх сперва четыре пальца, потом пять и снова четыре.
— Он будет в городе сегодня или в ближайшие четыре-пять дней, а затем снова исчезнет?
Рунольв закрыл глаза: мол, как хорошо, что недогадливый исландец наконец-то сообразил, в чем дело.
Они взяли оружие и задворками, перелезая через заборы, пробираясь через свинарники и загоны, двинулись в город. По дороге им не встретилось ни единой живой души, тут и там попадались догоревшие факелы, иные еще рассыпали последние искры, из некоторых домов доносились голоса, а большей частью слышался лишь плеск волн у Эйрара.
Рунольв завел Геста в проулок между домами и знаком показал: надо ждать.
Подморозило.
Одд не появился. Рунольв пожимал плечами и строил разочарованные гримасы, но до самого рассвета уходить не желал. В конце концов они тем же путем вернулись к себе в конюшню, весь день проспали, а вечером опять затаились в проулке, Рунольв с клириковым мечом, Гест с Одиновым ножом, топором и тревожными мыслями об Ари, который чинит лодку, чтобы они целыми-невредимыми убрались из разоренного Хавглама, норвежского форпоста Йорвы. Какие-то фигуры нетвердой походкой шли мимо в белом ночном мареве, пьяные дружинники на пути к лодкам или от лодок, иногда вместе с женщинами.
Одд пришел лишь на четвертую ночь.
Рунольв узнал его с первого взгляда, глухо застонал, бесшумно скользнул через улицу и растворился во мраке.
Незнакомец, громко разговаривая сам с собой, пошатываясь, пересек улицу, остановился всего в нескольких футах от Геста и принялся блевать, прямо на стену, крупный, статный мужчина в кожаных штанах и светло-красной рубахе, серый плащ, точно палатка, висел на широких плечах, сколотый на левом плече блестящей брошью-фибулой, на поясе меч, под мышкой топорик. Но ни шлема, ни кольчуги. В следующий миг Рунольв с трубным воплем ринулся на него, и он, вздрогнув, схватился за топорик, однако не удержал, и тот со звоном упал на мерзлую землю, тут подоспел Гест, вцепился ему в волосы, со всей силы рванул к себе, так что Одд ударился головой о стену и навзничь рухнул наземь. Гест вспрыгнул на него, прижал коленями плечи, зажал ему ладонью рот и вонзил нож в открытое горло.
— Я — Торгест сын Торхалли! — прошипел он, не вытаскивая ножа из раны.
Одд не двигался, смотрел ясным взором, тело его напряглось и подрагивало как струна, веки трепетали, серые зубы подернулись светло-красной пеной.
— Это тебе за убийство Ари сына Стейнгрима из Хавглама, ибо он не был вором, — произнес Гест.
Пузырьки пены выступили из раздутых ноздрей, рассыпались крохотными брызгами, а Гест сидел, чувствуя, как угасают эта жизнь, эта гордыня и высокомерие, Бог дал ему силы истребить их, а может, силы Йорвы, Хавглама и мести. Он повернул нож, рванул его к себе, услышал звук, похожий на конский храп, поднял голову и увидел лицо Рунольва, который одобрительно кивал и потирал руки. Великан хотел стянуть с Одда штаны, обесчестить его. Но Гест, с трудом переводя дух, показал на дом женщины, к которой дружинник уже не придет. Рунольв немного подумал, кивнул, схватил убитого за плащ и потащил через дорогу. Гест распахнул дверь, они заволокли труп в темные сени и бросили на пол. В тот же миг с чердака донесся пронзительный женский крик.
Они сидели у реки над городом. В невысокой рощице. Смотрели на черный поток, в котором мелькали первые льдины. Кровь они с себя смыли. Легкая снежная крупка сменилась тяжелыми влажными хлопьями, но Гест больше не мерз, его наполняло такое же тепло, какое поддерживало в нем жизнь в буран после убийства Вига-Стюра, знакомое пламя мести, исполненной и удовлетворенной. Туманные мысли его разметал свежий ветер, он был свободен, хотя радость несколько омрачалась оттого, что он не знал Одда и не мог насладиться, глядя на тех, кто его оплакивает. Но бессмысленные глаза, таращившиеся на него, пока жизнь уходила, так неразрывно соединились с предчувствием, которое привело его сюда из Оркадаля, что у него не осталось ни малейшего сомнения: он не блуждал в тумане, он подарил Ари новую жизнь, которая будет длиться вечно!
Гест встал, принялся ногой спихивать в реку снег, невольно рассмеялся, бросив взгляд на мокрого Рунольва, который сидел рядом на берегу и опять недовольно рассматривал изукрашенный меч, будто сокрушался, что не довелось пустить его вход.
— Можешь оставить его себе, — сказал Гест. — Но только если не вернешься в Хладир.
Рунольв кивнул, сделав знак, что Гесту нет нужды твердить об этом, все уже решено.
— И ни почета, ни богатства в Англии!
Рунольв повторил знак, взял палочку, нарисовал на песке подле себя двух человечков.
— Твои сыновья?
Рунольв серьезно качнул головой, приставил один палец к своей груди, другой — к груди Геста, а затем крепко их сцепил.
— Ты поступаешь как я? — спросил Гест. — Ты такой же, как я?
В глазах Рунольва как будто бы читалось «да», но голову он склонил набок, выражая сомнение. Тут Гест заметил в руках у него золотую фибулу с плаща Одда. Силач улыбнулся, пошевелил губами и начертил на песке крестик.
— Ты имеешь в виду, я не должен объявлять, что совершил это убийство? — спросил Гест и показал на фибулу. — И тогда фибула останется у тебя?
Рунольв кивнул, протянул ему ее, чтобы полюбоваться, — вещица была тяжелая и очень красивая, тонкой работы, украшенная узором, какого Гест никогда прежде не видывал. Гест вернул фибулу Рунольву, достал кошелек, полученный от Ингибьёрг, надел на палец подаренный ею перстень, а деньги отдал Рунольву. Тот с изумлением уставился на серебро, начал считать.
— Богатство, — сказал Гест. — Я добуду себе еще. А ты должен вернуться домой, в Сандей. Так что забирай.
Рунольв улыбнулся, осторожно заглянул в кошелек, будто в надежде найти там побольше денег, поднял взгляд и улыбнулся еще шире, но по-прежнему вопросительно и, наконец приняв нелегкое решение, сунул фибулу и серебро в кошелек и спрятал его за пазухой.
Гест засмеялся, а Рунольв треснул кулаком по земле и испустил трубный звук. Потом встал и, не глядя на Геста, коротко кивнул и зашагал вдоль берега, выискивая брод.
Когда Гест вернулся, возле церкви стояли кони, три могучих жеребца из тех, что ярлу каждый год доставляли морем из Вендланда. Они были укрыты драгоценными попонами, присыпанными тонким слоем снега, который искрился в свете факела, а факел держал в руках караульный, стоявший к Гесту спиной и стучавший зубами от холода.
В церкви Гест тоже заметил свет, услышал голоса и стал прикидывать, не двинуть ли отсюда вслед за Рунольвом. Однако вскоре сообразил, что оный визит не связан с убийством, обошел вокруг конюшни, пролез через навозную яму и взобрался на чердак.
Но едва улегся под одеяло, как Гудлейв принялся стонать, потом внизу открылась дверь и ясный голос Кнута священника крикнул, чтобы он спустился вниз поздороваться с гостями.
Гест спустился и в свете факела увидел двух женщин. Одна из них, с длинной черной косой, которая блестящей змеей обвивала гордо поднятую голову, была одета в облегающее бордовое платье, расшитое золотом по вороту, подолу и рукавам, и в плащ из какого-то черного блестящего меха, прежде никогда Гестом не виданного. Спокойные карие глаза гостьи смотрели прямо на него. Гест постарался ответить тем же. На белой шее у нее виднелось черное пятнышко, похожее на жука, и он сообразил, что это ярлова супруга Гюда со своею служанкой.
— Вот тот молодой человек, о котором я тебе рассказывал, — произнес Кнут священник, будто с удовольствием демонстрируя забавную диковину. — Он способен слово в слово повторить любую историю, услышав ее всего один раз. Подойди, Хельги, и поздоровайся, как должно.
Гест пал на колени и не вставал, пока Гюда сама не велела ему подняться. Она спросила, откуда он и какого роду-племени, и Кнут священник поспешно сообщил, что Хельги уроженец Оркнейских островов и приехал в Нидарос, чтобы стать его учеником и помогать в церкви. А сейчас Хельги расскажет историю, которую, по правде говоря, не очень-то любит, однако же знает наизусть.
Гест повиновался, как церковный служка, заговорил спокойным, напевным тоном, не сводя глаз с черного жучка на шее Гюды, которая в конце концов прикрыла пятно ладонью и слегка покраснела, но взгляд ее неотрывно следил за его губами. Он дерзко посмотрел ей в глаза и заключил свой рассказ словами, каковые Кнут священник ставил превыше всего: где бы человек ни учился, он учится у Бога. Засим он вновь склонил голову, как перед святым крестом.
— До чего же красиво… — мечтательно обронила Гюда и посмотрела на Кнута, который горделиво сжимал в руках факел. — Впору наградить его как скальда.
Она засмеялась, звонко, но неуверенно, и Гест подумал: хоть она вдвое старше меня и имеет сына-подростка именем Хакон (по словам Кнута священника, бездарного шалопая), но все равно похожа на девушку, чьи мысли и взгляд никогда не сковывала стужа, она была чиста, как текучая вода. И он спокойно сказал, что никакой награды ему не надобно, хотя бы потому, что Кнут священник это запретит, ибо клирик не жалует ни скальдов, ни стихи.
— Ведь это Одиновы люди и Одинов мёд.[60]
Клирик занервничал, но Гюда опять звонко рассмеялась и спросила, знает ли Гест житие святого Антония. Гест житие знал и начал рассказ о святом отшельнике и аскете, с которым сам император в Миклегарде советовался по духовным вопросам, однако умолчал, что Кнут священник любил сравнивать свою жизнь в Нидаросе с одинокими терзаниями Антония в египетской пустыне, зато больше подчеркнул, что Антоний осуждал блага земные и богатство, и тотчас заметил, что, пожалуй, несколько в этом смысле переусердствовал, — прочел на лице Кнута, нахмурившемся и полном сомнений. Но Гюда слушала благоговейно, опять прикрыла рукой родимое пятнышко и смотрела на Геста с одобрением.
— Ты и писать умеешь? — осведомилась она, когда он закончил рассказ и опустил взгляд на ее расшитые башмачки.
— Нет, — ответил Гест. — Но Кнут священник меня научит.
Клирик поспешил подтвердить, что так и сделает. А Гест, охваченный сладостным трепетом, стоял перед этой недосягаемой женщиной и разговаривал с нею, как с обыкновенным человеком. Она подняла блестящий меховой воротник, и Гест вспомнил, что все же видел такой мех — среди товаров, привезенных в город купцами-русичами, это соболь, редкий, как любовь, и ценный, как золото. Служанка ее тоже была женщина красивая, однако рядом с Гюдой походила на облезлую, потрепанную орлицу и, по всей видимости, именно это и полагала первейшей своей задачей.
Кнут священник, взмахнув факелом, точно знаменосец на поле брани, проводил обеих гостий к выходу из конюшни, а Гест так и стоял склонив голову. Внезапно он заметил кровь под ногтями на левой руке и тусклый блеск перстня Ингибьёрг. Что, если Гюда тоже заметила, Гюда или Кнут священник? Уж этот не проморгает ничего, что способно встревожить его или до смерти напугать.
Проснулся Гест от далекого грома, земля дрожала под Йорвой, и, открыв глаза, он ожидал увидеть заспанное лицо отца. Но из слухового оконца в комнату падал холодный свет луны, озаряя Кнута священника, который опять совершенно преобразился.
— Ты и сюда кровавый след проложил! — яростно прошипел он. — Это ведь даже не inimicitia capitalis,[61] а убийство!
— Снег перестал, — мечтательно пробормотал Гест, устремив взгляд в пространство. — Снежинок-то на свету не видать. — Теперь донесся еще и стук капель, падающих со стрехи. — Я вроде бы слышал топот копыт?
— Да. И они вернутся, спалят церковь и убьют меня, а ты сызнова улизнешь.
— Коли ты знаешь, что они придут, то чего сидишь тут и ждешь?
— А куда мне деваться, болван ты этакий, здесь мой дом, и я ни в чем не провинился. Это ведь ты… Да?
— Так пойдем со мною.
Кнут священник схватил Геста за ворот, в глазах его читалось отчаяние.
— На север к Ингибьёрг и этим детям, чтоб и их сюда доставить? А тебе не кажется, что ярл хорошо знает о происходящем в его державе — ты ведь даже в родстве с мальчишкой не состоишь!
— На север я не пойду. — Гест высвободился. — Я отправлюсь к одному богатому бонду, на озеро Мёр, в Рингерики ярл власти не имеет.
Гесту хотелось слышать голос отца, а не клирика, потому что знакомый подземный гул еще не утих. Но Кнут продолжал причитать, вцепился ему в запястья, встряхнул, пытаясь образумить:
— Ведь ты даже в родстве с мальчишкой не состоишь!
Тут у Геста лопнуло терпение. Уж кто-кто, а Кнут священник должен бы знать, что те, кого ты спас, или защитил, или приголубил, становятся все равно что кровной родней, что все эти вещи так сложно переплетались между собой, что он и сам толком не мог разобраться и не нашел слов, только впал в лютую ярость, вскочил, ладонью влепил священнику оплеуху, тотчас опамятовался и, будто сраженный стрелой, рухнул на колени, невнятным голосом попросил прощения, бормоча, что у него и в мыслях никогда не было бить священника, это же невозможно…
— Откуда это в тебе? — спросил Кнут, внезапно присмиревший и столь же озадаченный, как и сам Гест.
— Не спрашивай! Не спрашивай!
Кнут сидел кроткий, словно агнец. Его била дрожь. Но немного погодя он взял себя в руки и повелительно произнес:
— Ты не знаешь ответа. Так вот: либо ты пойдешь и объявишь об убийстве, как мужчина, либо немедля уберешься отсюда. Бог с тобою.
Летучие мыши метались в лунном свете, Гест окликнул священника, но услышал только печальные вздохи Гудлейва. Натянул одеяло на голову, произнес стихи, правда, от этого тишина стала еще глубже, даже коню в такую ночь шевельнуться невмоготу, и… что за притча? голос Ингибьёрг, которая с улыбкой гладила его по голове: в Исландии все овцы такие курчавые? Она хохотала так, что алчный ее рот грозил проглотить его, — хочешь, не хочешь, он отбросил одеяло и встал, лишь бы отделаться от нее. И в угасающем лунном свете начал собирать вещи, свой скудный скарб, а закончив, оставил котомку наверху и спустился на улицу.
Снег посерел, следы людей и конских копыт расплылись большими черными лужами, в хлеву возле конюшни хрюкали свиньи, какая-то старуха с вязанкой хвороста за спиной ковыляла в гору, двое мальчишек тащили к реке салазки, на которых сидела собака, все было как всегда, собака лаяла, мальчишки смеялись, а Гест шагал с таким видом, будто он в полной безопасности, зашел в свой излюбленный трактир и спросил у хозяина, что творится в городе.
— Ночью убили одного из Эйриковых дружинников, — равнодушно ответил тот.
Гест заглянул в другой трактир, где услышал тот же ответ, спустился к корабелу, а там ему рассказали, что ярл прибыл в город на рассвете, с лошадьми и множеством ратников, которые хватают людей прямо на улице, чтобы выбить из них правду. Однако корабел рассказывал все это с ухмылкой, потому-то убитого нашли у высокородной женщины, где ему совершенно нечего делать, а муж ее пропал, ну вот, ярл уже воротился в Хладир, и дружинники его разожгли костер на Эйде, на самом узком месте мыса, чтоб без особого труда следить за движением в город и из города, им, поди, уже доставили туда пиво и харчи.
Между тем настал день. Гест завернул к воинскому костру, прикинулся нищим, попросился погреться у огня. Предводительствовал дружинниками тот самый человек, что разогнал толпу, глазевшую на дерущихся женщин. Сейчас он рассчитывался с каким-то крестьянином за баранью тушу и даже взглядом Геста не удостоил. Двое скальдов — Эйольв Дадаскальд и Халльдор Некрещеный — устроили состязание, атмосфера была веселая и непринужденная. Эйольв узнал Геста:
— А-а, мой молчаливый земляк!
В свое время он сказал, что такого маломерка, как Гест, он одним ударом меча надвое развалит. Теперь же предложил ему участвовать в состязании. Гест помедлил, но, получив кружку пива, сделал глоток-другой, попросил внимания и прочел флокк[62] из Халльдора, встреченный умеренным одобрением, продолжил «Бандадрапой» и «Бельгскагадрапой», чем снискал уже больше похвал. Тут и предводитель начал проявлять к нему интерес.
— Я — Даг сын Вестейна из Вика, — сказал он, — и в стихах не разбираюсь, а ты кто такой?
Эйольв объяснил, что он сын Арни с Мельраккеслетты, убил там человека и с тех пор искал прибежища в Норвегии, и, усмехнувшись, добавил:
— Так вот и живет, на бегу.
Даг присмотрелся к Гесту поближе, прямо-таки с одобрением.
— Ростом невелик, но опасен, — пробормотал он, а затем сказал, что Гест, коли хочет, может выпить с ними и закусить, он же позаботится, чтобы земляки не строили над ним насмешек, ведь скальды — народишко коварный, ненадежный.
Гест отметил про себя, что все идет, как он надеялся. И в течение дня много чего слышал про датского конунга Свейна и про его поход на Англию. Попутно он уверился, что убийство Одда вызвало у ярла скорее досаду, нежели злость, поскольку Эйрик решил, что за всем стоит супруг неверной жены и, стало быть, он рискует потерять двух воинов вместо одного.
На конюшню Гест воротился уже ночью, с легкостью в теле и в душе. Однако же первое, что он увидел, был конюх, державший под уздцы верхового коня, меж тем как Кнут священник затягивал подпруги. Рядом стояла вьючная лошадь, нагруженная двумя кожаными мешками и большущим сундуком с книгами. Заметив Геста, клирик выпрямился, но не сказал ни слова, продолжал возиться с упрямой подпругой. Гест подошел, помог. Потом обнял Кнута. Тот высвободился, вскочил в седло.
— Не думал я, что ты увидишь, как я покидаю собственную церковь, — в замешательстве сказал он. И, помолчав, добавил, что супруг женщины с Эйрара отыскался, вины на нем нет и тому есть свидетели, а он, Кнут священник, дважды солгал ярловым людям и один раз — Гюде, оттого-то оставаться здесь больше не может. — Я-то воображал, что ты посланец Божий!
Гест улыбнулся, велел конюху оседлать еще одну лошадь, ту, что помещалась в дальнем деннике по правую руку, — норовистую и выносливую серую кобылу по кличке Сероножка, на которой ему не раз доводилось ездить. Попросив Кнута священника подождать, он поднялся в чердачную комнатку, накормил Гудлейва, благодарно жмурившего глаза, подхватил свою котомку и спустился вниз.
Стужа
Было уже за полночь, когда они берегом реки поскакали прочь из города, на юг. Почти полная луна серебрила скованные морозом, бесснежные просторы. С рассветом сделали привал, отдохнули у костра и двинулись дальше, в молчании. О дороге расспросили двух старух, которым Кнут священник дал свое благословение, и бонда, который возил лес в оппдальских лесах и от благословения отказался. Но между собой не разговаривали, ехали в ожесточенном молчании, клириковом молчании, потому что Гест, оставив Нидарос, все время чувствовал горячечное возбуждение.
Впереди распахивались дали, высились горы, а к вечеру вдруг захолодало. Кнут священник молил Господа дать им пройти, прежде чем Он закует землю во льды, а одновременно молился за Геста, громким голосом называя его своим другом. Гест слушал и думал, что у священника тоже светлело на душе по мере того, как они удалялись от города.
Мало-помалу Кнут начал рассказывать о своей датской родине, о Хедебю, этой жемчужине многолюдных торговых городов, где кого только не встретишь — и вендов, и русичей, и саксов, и франков, не считая датчан и скандинавов всех мастей. В защищенной гавани всегда полным-полно изукрашенных кораблей, дома разрисованы, церкви с колоколами, а единоверцы могли в безопасности отправлять свое святое служение и летом, долгим и милостивым, как прощение, и зимою, что была короче самого малого греха; правда, южнее лежали земли враждебных саксов, но на пограничье тянулся мощный оборонительный вал — Датский вал, который конунг Харальд Синезубый[63] сперва потерял, однако ж затем отвоевал снова, не без помощи хладирского ярла Хакона, отца Эйрика, случилось это, когда Кнут священник был ребенком — вместе с двумя старшими братьями он ночевал в поле, как вдруг их накрыла какая-то тень и Кнут закашлялся. Они подумали, это облако, присмотрелись: нет, не облако, просто непроглядная тьма, черная ночь, которая вот только что была светлой, непорочно-синей, стало холодно, и кашлял Кнут все сильнее, кашлял кровью, как смертельно больной. Потом мрак рассеялся, кашель утих, Кнут снова сделался бодр и весел.
Позднее они узнали, что тем вечером к югу от Хедебю случилась большая сеча, в которой с обеих сторон полегли тысячи воинов. Братья засвидетельствовали и мрак, и непонятый Кнутов кашель, обнаружились и следы крови, и в итоге Кнут оказался под покровительством городского священника, заделался его учеником, потом попал в Англию, обретался среди ближайшего окружения короля Адальрада, когда конунг Олав сын Трюггви прибыл туда и был крещен самим королем.
С тех пор Кнут сопровождал Олава, исполняя свое назначение, находился бок о бок с норвежским конунгом-миссионером, среди двух десятков других клириков, в большинстве англосаксов. Последовал за Олавом на север, на Оркнейские острова, а оттуда в Норвегию.
После гибели Олава Кнут священник тщетно бился над одной загадкой, не мог найти ответа на вопрос, почему Господь не излечил его от гложущей тоски по родине. Он все время думал о жизни и о лете в Хедебю, о семье, о которой давным-давно не слыхал, знакомые лица всплывали в памяти, картины детства.
Конечно, Писание гласило, что вера требует мученичества, однако «martyres non facit poena sed causa»,[64] может, и Гест вот так же думает об Исландии?
Верно, Гест жил Йорвой, а теперь еще и Сандеем, но предпочел рассказать про старика Тородда, который твердо верил, что когда-нибудь страна обретет нового властителя, может статься из рода Прекрасноволосого, притом истинного христианина, и теплые ветры растопят лед в горах и в человеках, и Кнут священник и собратья его достигнут почестей за перенесенные мытарства, сделаются как бы хрупкими мостиками меж сильными конунгами-миссионерами, стезею веры, так сказать.
Кнут священник приосанился.
— Н-да, — вздохнул он. — Господи, как все-таки хорошо на время исчезнуть, я ведь не просто был в сомнении, я вообще едва не утратил всю веру.
— Что ты имеешь в виду? — спросил Гест.
— Сам не знаю, — ответил Кнут. — Правда не знаю.
И он коротко рассмеялся: дескать, довольно об этом.
Жилье больше не попадалось, лес стал гуще, в том числе и рядом с проезжей дорогой, которая делалась все менее заметной и, в конце концов, исчезла, а ведь проезжая дорога не исчезает, если только с нее не собьешься. Но снега по-прежнему не было, ехалось легко, и, когда они въезжали в долину, что выведет их на вершину горного кряжа, Кнут священник опять размечтался. Вот отдохнет летом средь пышных датских лугов и сразу же отправится в Бремен, предаст свою убогую жизнь в руки архиепископа, пусть делает с нею, что хочет, хоть обратно в Нидарос его посылает, к тому времени он, поди, будет другим человеком, оно конечно, в собирательстве своем конунг Олав не мог обойтись без жестокости, да только одной силы недостаточно, нужны еще и слова, терпеливые слова, вот что он теперь отчетливо понимал, и это не иначе как заслуга Геста, то самое загадочное послание. С этими словами Кнут улыбнулся, причем явно вопреки своей воле.
Долина сузилась, лес обернулся зарослями кустарника, им приходилось петлять вокруг огромных каменных глыб, река большей частью мчалась стремительным потоком, оттого и сами они, и лошади покрылись инеем и корочкой льда. Кнут священник обвязал побелевшее лицо платком. Разговаривать он перестал, и Гест сообразил, что надо бы убраться подальше от бушующих водных масс, но, увы, сообразил поздновато, сейчас уже не уйдешь.
Лагерь они разбили на скале, поодаль от реки, и пошли за хворостом для костра. Гест взобрался выше по склону, обозрел залитую лунным светом долину: дальше она раздваивалась, одна ветвь, длинная, широкая, густо-синяя, шла на юг, другая — узкая, черная — тянулась по-прежнему на восток, а у их развилки, где встречались реки, вроде как виднелась усадьба, на пологом склоне к северу от главного русла, но огоньков нет, только извечный голубовато-белый иней под искристым небом.
Вернувшись к стоянке, Гест развел костер, приготовил поесть, соорудил постель из одеял и овчин, а Кнут священник пал на колени, моля Господа защитить их от стужи.
— И помоги нам, Боже милосердный, пройти через горы!
Гест подождал, пока клирик согреется, и тогда только признался, что здешние окрестности не похожи на те места, про которые толковал оппдальский бонд, долина опять раздваивается, а про это речи не было. Зато он приметил дальше впереди усадьбу…
— Усадьбу? — удивился Кнут, он-то ничего не разглядел.
Гест потащил его вверх по склону.
— По-твоему, это усадьба? — недоверчиво спросил клирик.
— Да, — ответил Гест.
— Дыма не видать. Хотя твои глаза позорче моих…
Он сунул Гесту кошелек с серебром. И Гест отправился в путь.
Склон был изрезан ручьями, в большинстве еще не замерзшими, и Гест успел насквозь промокнуть, пока добрался до наружной ограды, перелез через нее и ступил на белый от инея двор. В самом деле — жилой дом, загон для скота с несколькими обледенелыми стогами сена, четыре лошади спокойно жуют, стоя на морозе.
Он несколько раз постучал в дверь, только тогда наконец услышал ответ. Сиречь не ответ, а вопрос, и уже хотел было отозваться, но тут дверь распахнулась, и на пороге возник крупный черномазый мужчина с заспанными глазами — и мечом в левой руке, — который хмуро уставился на него. Гест сказал, что его, мол, зовут Хельги, он слуга клирика, сопровождает оного через горы, и спросил, не укажут ли им дорогу, за хорошую плату.
— Припоздали вы с путешествием, — сказал мужчина.
— Через неделю еще больше припоздаешь, — обронил Гест.
Незнакомец усмехнулся, с удивлением, впустил Геста в дом, закрыл дверь и пригласил его сесть у очага, где поблескивала кучка углей. Гест поблагодарил, прихватил по дороге парочку поленьев и начал раздувать жар, но лишь один уголек налился багрянцем, точно бычий глаз, затрепетал алой рыбкой и брызнул снопом искр. Тут Гест ощутил болезненный пинок под зад, от которого перелетел через очаг и врезался головой в лавку. Двое мужчин, явившиеся невесть откуда, прижали его к полу, надели на ноги цепи. Он закричал, что они совершают большую ошибку, ведь он всего-навсего маленький человек, ярлов трэль, тварь Божия… Но детина, впустивший его в дом, захохотал: дескать, они тут всякого ворья навидались.
— Ты кто такой? — спросил он, велев тем двоим забрать у него оружие и деньги.
Они посадили Геста на лавку, прицепили цепи к кольцу, вделанному в камень под очагом. Главарь открыл кошелек, пересчитал серебро. Двое других сидели у огня, многозначительно и удовлетворенно поглядывая друг на друга, потом принялись швырять в Геста деревянные чурки, оглушительным хохотом встречая его отчаянные попытки уклониться от ударов.
— Богач! — Главарь прищелкнул языком и высыпал серебро в кошелек. — Где своровал?
— Серебро не ворованное. Оно принадлежит Кнуту священнику, клирику Эйрика ярла из Трандхейма.
Одна из чурок угодила ему в лицо, расквасила нос, разбила губу, парни весело заулюлюкали и продолжили свою забаву. Главарь спрятал кошелек за пазуху, сгреб Геста за грудки, поднял повыше, насколько позволяли цепи, всмотрелся в разбитое лицо, словно выискивая какой-то секрет.
— Ты сюда не пешком добрался, — произнес он. — Где твой конь и снаряжение?
Гест рассказал.
— Там вы и священника найдете, — добавил он. — Он подтвердит, что я говорил чистую правду.
Главарь недовольно заворчал, отпустил его, сделал знак остальным, те быстро оделись и ушли. Гест закрыл глаза, вернее, веки сами опустились, но даже оклематься не успел — отворилась другая дверь, вошла старуха в сером платье, прищурясь, глянула на очаг и спросила, что тут за шум.
— Иди спать! — гаркнул главарь.
Но старуха заметила Геста:
— Это ж ребенок совсем.
— Ворюга он! Иди спать!
Гест смочил губы кровью, объяснил, зачем он здесь, но не понял, произвело ли это на нее хоть какое-то впечатление.
Она открыла матерчатую сумку, достала грязный лоскут, принесла миску с водой и принялась смывать кровь с его лица. Гест заметил, что на морщинистой ее шее болтается серебряный крест с мелкими красными камешками, похожими на мороженую бруснику или на слезы, что Сын человеческий пролил над заблудшими мира сего.
— Мы посланы Богом, — внезапно сказал он. — Бог желает, чтоб вы нам помогли.
Она велела ему замолчать, продолжая оттирать кровь. Главарь тем временем сел, вытащил откуда-то маленький деревянный бочоночек, положил его на колени. Снаружи донесся шум, дверь открылась, в комнату, пошатываясь, ввалился Кнут священник, в волосах и бороде у него белел иней, за спиной — те двое парней, тут только Гест смекнул, что все трое — родные братья. Старший встал, неодобрительно глядя на клирика.
— С виду вроде бы и впрямь монах, — сказал он. — Ну, так что, брехун этот правду говорил? Или ты прикидываешься?
Кнут не мог выдавить ни слова.
— Священник он! — крикнул Гест. — Покажи ты им, что умеешь! Прочти молитву!
Клирик, вконец павший духом, начал чуть слышно читать молитву, братья слушали, насмешливо ухмыляясь. Старший опять сел на почетное место, взял в руки бочонок, велел младшему сходить за едой и энергично стукнул костяшками пальцев по донышку.
А Кнут священник продолжал свою ревностную молитву, sursum corda…[65] И Гест понял, что он готовится умереть. И вошли они в это медвежье логово с открытыми глазами, sursum corda, но дальше были произнесены другие слова, которые, как он знал, означали: «Сатанинское отродье, они пришли с огнем и мечом, со штурмовыми лестницами, и стены каменные треснули…» — так франкский монах Аббон говорил братьям своим, когда норманны брали штурмом Париж, и он едва не засмеялся, но тут старуха шваркнула на стол миску.
— Коли он вправду священник, — воскликнула она, — то я хочу, чтобы он крестил моих сыновей!
— Ты можешь сама попросить его, — сказал Гест.
— Можешь окрестить моих сыновей? — крикнула она, словно клирик совершенно оглох.
Кнут кое-как собрался с духом и поднял голову, потом наконец вымолвил:
— Да, могу по крайней мере осенить их крестным знамением, но о самом крещении речь пойдет, только когда они лучше познают вероучение, ибо Господь не принимает к Себе несведущих…
— Тогда вы останетесь здесь, пока ты не научишь их вере, — решительно заключила старуха.
Кнут опять воротился к страстям блаженной памяти Аббона. Не желал ни подняться с ледяного пола, ни поесть, невзирая на тычки, которыми его награждали братья. Гест же, напротив, умял подчистую то немногое, что ему бросали, но пива пил мало, не в пример братьям, хлеставшим кружку за кружкой.
Младший сызнова принялся швырять в Геста чурками. Звали его Ивар, старшего — Дромунд, среднего — Хадди. Ивар повторил, что не верит ни этим разговорам насчет вероучения, ни тому, что они духовного звания, наверняка обыкновенное ворье, потом вдруг ухмыльнулся и предложил оставить Геста ночевать на улице: мол, поглядим, вправду ли Белый Христос простер над ним длани Свои.
Братьям замысел понравился.
Хадди отцепил цепи от кольца, выволок Геста наружу, приковал к столбу посреди двора. Гест видел черную змею реки в долине, слышал холодный голос воды, крики старухи, просившей за него, однако Дромунд отпихнул ее в сторону.
— Пошли в дом, позабавимся со священником, — сказал он.
Гест осторожно положил щеку на колкую траву.
Над ним величественной завесой колыхались всполохи северного сияния, из дома долетали возгласы, смех, сдавленные крики. Дверь распахнулась, Ивар, пошатываясь, выбрался наружу и помочился Гесту прямо в лицо — для сугреву. Немного погодя явился Хадди, за ним Дромунд, и Гест подумал, сколь унизительна такая вот смерть, начал молиться, но был не в силах произнесть ни sursum corda, ни magnus es, Domine, et laudabilis valde…[66] и дивился страху перед молитвою, перед последней надеждою. Но в конце концов все же попытался и обнаружил, что слова легко слетают с губ, смиреннейшие стихи, мало-помалу голос замер, а он вновь согрелся, боль в спине утихла, он сумел повернуться на бок, однако по-прежнему не слышал своих слов, сквозь тонкую корочку льда видел искристое звездное небо.
Ног своих Гест не чувствовал, одежда примерзла к телу, но руки пока что слушались, он мог сплести их для молитвы и сжать в кулак — сумел выковырять пальцами камень и начал скрести мерзлую землю вокруг столба, тут дверь опять распахнулась, он ощутил пинок, и голос вернулся к нему пронзительным криком.
— Жив, — разочарованно сказал Дромунд. — Что будем делать?
— По-твоему, он ребенок? — спросил Хадди.
— Нет, просто маломерок. Пускай полежит тут до восхода солнца.
Они опять помочились на него. Гест перевернулся на спину, поморгал глазами, и ему почудилось, будто рубахи у них в крови и рты не ухмыляются, а кричат в безумном, смертельном ужасе, головы их истекали кровью, за спиною же у них трепещут крылья исполинского орла,[67] распахнутые в вечность.
— Господь да смилуется над вами, — прошептал он.
— Чего он сказал?
— Сказал, что Господь милостив. Может, он тоже из духовенства.
— А хоть бы и так. В дом он не войдет.
Геста уносила теплая река, лишь безмолвные слова остались с ним, потом он вдруг почуял резкую вонь, увидел спутанные седые космы и беззубый рот, на тощей шее болтался крест. Шел густой снег, и уже давно.
— Ты жив, — сказала старуха.
Гест хотел ответить, но она низко склонилась над ним, смахивая снег, потому что Гест утопал в пушистом снежном море. Потом она отцепила цепи и потащила его, спина отзывалась болью, однако ж скользить в пушистом море было приятно, сквозь белизну пробились краски, очаг, с трепещущим, красивым пламенем; так уже было раньше, подумал он, зажал руки меж колен, крепко стиснул зубы, пока не ощутил вкус железа и не услышал хриплый кашель, Дромундов хохот, которому не было конца.
Дромунд лежал на лавке прямо напротив него. Но братьев его не видно. На полу ближе к входной двери — Кнут священник, лежит ничком, волосы почернели и слиплись, одна рука неестественно вывернута. Дромунд откинул одеяло, сел, швырнул в очаг полено, зевнул и решительно объявил:
— Священник-то ты!
Гест вопросительно взглянул на него.
— А он так, бродяга, — пояснил Дромунд.
Гест промолчал.
Дромунд поежился, накинул на могучие плечи меховой плащ, вышел вон. В тишине слышались только стоны Кнута священника. Сделав над собою усилие, Гест сел. По всей видимости, настал новый день. Он сумел скатиться с лавки, подполз к клирику, перевернул его на спину, хлопнул ладонью по щеке.
— Ни слова больше! — прошептал он. — Что бы они с тобой ни делали — ни слова!
Кнут священник попытался разлепить опухшие веки. Верхняя губа у него была рассечена, зубы в крови, шея и одна щека в занозах. Гест вытащил занозы, сломанную руку положил ему на живот.
— Мне холодно, — всхлипнул Кнут. — Подтащи меня поближе к очагу.
Гест ухватил его за подол плаща, попробовал сдвинуть с места, пальцы не слушались, нестерпимо воняло мочой, и он опять канул в пушистое забытье.
Старуха искала у него в волосах, негромко напевая сиплым голосом. Дромунд и Хадди снова пили, тихо разговаривая между собой. Ивара не видно, входная дверь распахнута настежь, и в свете очага он увидел в снегу ноги своей лошади, Сероножки. В дом занесли одну суму, потом другую, потом Кнутов сундук с книгами и Гестову котомку. Вошел Ивар, принялся вытаскивать вещи, расшвыривая их по полу, в том числе книги — проповеди Папы Григория, житие святого Бенедикта, требник, собственноручные Кнутовы извлечения из «О граде Божием», каковые, по словам клирика, помогали ему общаться с варварами и обращать их в истинную веру. Но вот в руках Ивара оказался толстый фолиант — Священное Писание.
Дромунд поднял взгляд, потребовал книгу себе, открыл, уставился на кремовые страницы.
— Ты понимаешь эти значки? — спросил он у Геста, тот кивнул. — Тогда читай.
Он перебросил книгу через очаг, Гест поймал ее, обвел взглядом — Кнут ему даже прикоснуться не позволял к этой святыне, только он сам да Гюда, супруга ярла, листали эту книгу, дар клирику от конунга Олава. За спиной послышался стон. Гест оглянулся: Кнут тоже лежал на лавке, укрытый овчиной, сломанная рука обмотана грязной тряпицей. Гест попробовал сесть, пробормотал:
— Сколько мы тут пробыли?
— Ты священник, — нетерпеливо сказала старуха. — Читай.
— Сперва мне надо поесть. И испить чего-нибудь.
Дромунд недовольно заворчал, но все же сделал знак Хадди. Гест ел не спеша и пил много, хотя только воду. Потом открыл книгу и начал читать по памяти:
— In principio creavit Deus caelum et terram…[68]
— Многие слова ты читаешь снова и снова, — перебил Дромунд немного погодя.
— Иначе нельзя, — ответил Гест. — Надобно читать их снова и снова, тогда только запоминаешь. А слова, записанные в книгах, никак нельзя забывать.
Дромунд сказал, что ему это непонятно.
Гест продолжил чтение.
Дромунд полюбопытствовал, о чем он читает, и Гест рассказал об искушениях Адама и его неразумии. Дромунд долго сидел в задумчивости, потом удовлетворенно хлопнул себя по коленям и объявил, что история хоть куда. Но вправду ли Гест читает на тарабарском языке то же самое?
— Да, — сказал Гест.
— И это чистая правда?
— Конечно, — отвечал Гест. И прочел об Иудифи, которая обманула военачальника Олоферна и спасла свой родной город Ветилую, перевел и это, и опять Дромунд объявил, что история хоть куда, а потом спросил, правда ли это.
— В этой книге все чистая правда.
Хадди с Иваром ничего не говорили, вроде бы и не слушали. Дромунд влепил Ивару затрещину и велел повторить его слова. Ивар нехотя повторил, что история хоть куда. Братья выпили. И Дромунд потребовал, чтобы Хадди тоже повторил: история хоть куда. Тот повиновался. Гест кивнул и закрыл книгу.
— А теперь я скажу вот что, — торжественно провозгласил он. — Первым креститься будет Дромунд, ибо он из вас старший и самый умный. Следующим крещение примет Хадди, а последним — Ивар. Креститься будете водою. Поскольку же у вас нет ни бочек больших, ни лоханей, мы спустимся к реке и совершим обряд там, по очереди, однако прежде вам должно побольше узнать о вероучении, особливо Ивару и Хадди.
Дромунд удовлетворенно заворчал. А вот Ивару не понравилось, что крещение они примут не все разом, и ученье ему тоже, мол, без надобности. Дромунд на это сказал, что его мнения никто не спрашивает, коли священник приказал, они обязаны подчиниться. Хорошо бы, заметил Гест, и слугу его накормить. Старуха поднялась, взяла миску с едой, подошла к Кнуту, хотела помочь ему сесть. Но Кнут покачал головой: дескать, не надо. Тогда Гест прикрикнул, что должно принять угощение, предложенное хозяевами, ведь отказом нанесешь им незаслуженную обиду. Тихонько плача, Кнут съел немножко хлеба, запил водой.
Гест продолжил рассказ о вере. И на другой день тоже. Кормили его обильнее. А старуха снова и снова повторяла, что он поистине послан Богом. Братья же опять начали пить, и Ивар с Хадди опять завели свое: мол, хотим креститься все разом. Дромунд повторил, что решает тут священник. И Гест сказал, что поскольку Хадди и Ивар слушают его внимательно и могут пересказать все, что он говорит, то, пожалуй, он устроит крещение для всех троих разом, если, конечно, Дромунд не возражает.
Дромунд ответил, что ему надо поразмыслить, решение-то непростое. Тут вмешалась старуха, сказала, что незачем ему становиться братьям поперек дороги, и вспомнила, как сама приняла крещение, в Бьёргвине, где епископ конунга Олава разом окрестил более сотни мужчин, женщин и детей, целые толпы зашли в воды Вагена и приняли таинство крещения, она была среди первых и тотчас преисполнилась благодатного света.
Он уже слыхал все это, сказал Дромунд, и вообще, ее болтовня надоела ему хуже горькой редьки. Он опять погрузился в раздумья. Братья выпили еще. Немного погодя Ивар примерился было бросать чурки в Кнута священника, но Дромунд остановил его.
Гест встал, с Библией в руках подошел к Дромунду, велел ему положить руку на книгу и дать клятву, что он не станет противиться крещению братьев, такова его обязанность как главы семейства.
— И такова же Божия воля, — добавил он, — коей ты, несомненно, не ослушаешься.
Дромунд оттолкнул книгу — он, мол, еще раздумывает. Гест не отступал, терпеливо протягивал ему Писание снова и снова. В конце конзов Дромунд сдался, положил руку на Библию и следом за Гестом повторил:
— Alia sunt, quae semper credentur et numquam intelligentur…[69]
Гест торжественно поблагодарил его и сказал, что сейчас они все вместе вознесут молитву, теми словами, какие они так часто от него слышали: «Magnus es, Domine…», а потом спустятся к речному затону и примут крещение, в собственной купели Господней.
Братья сделали как велено, оделись. Но на пороге Дромунд задержался и сказал, что Гестов слуга должен пойти с ними, он, мол, ему не доверяет.
Кнут священник не слышал его, так и лежал на лавке. Ивар сгреб его за шиворот, потащил наружу. Тогда и старуха пошла за ними.
Гест шагал впереди, с Библией в руках. Мороз стоял нешуточный, снегу навалило чуть не по колено. В темной синеве над головой поблескивали звезды, над белыми хребтами гор, точно камыш, колыхались зеленые волны северного сияния. Гест остановился, велел им посмотреть на это чудо Господне, принять его в себя как знамение. Братья повиновались. Затем они спустились на берег затона. Гест пал на колени, моля Господа принять к Себе сих трех братьев и защитить их от всякого зла и искушения. Ивар тоже пал на колени. Дромунд поспешил последовать его примеру, после чего к ним присоединился и Хадди, старуха же осталась стоять, с гордостью глядя на них.
Устремив взгляд на всполохи северного сияния, Гест осенил каждого из братьев крестным знамением, передал Библию Кнуту священнику, который изо всех сил прижал книгу к себе, разбил ногой затянувший затон лед и по пояс зашел в воду. Из проруби густо повалил морозный пар.
Братья последовали за ним. Хадди бранился, кричал, что они тут помрут. Дромунд поднял его на смех, но голос у него дрожал, когда он попросил Геста поскорее совершить таинство, потому как холод жжет огнем. Гест спокойно ответил, что все займет ровно столько времени, сколько назначено Богом, прошел еще несколько шагов, наткнулся на кольцо больших камней, вскарабкался на один из них и сказал, что он слишком мал ростом, чтобы идти дальше, но Дромунд пусть пройдет мимо него и станет по ту сторону камней.
Дромунд побрел дальше, вода достигала ему до подмышек. Гест возложил руку ему на голову, произнес священные слова и велел трижды нырнуть. Дромунд повиновался. Гест сказал ему посторониться и ждать, пока Хадди с Иваром тоже примут крещение, — тогда он в завершение таинства благословит всех троих.
— Теперь вы все крещены, — торжественно произнес он. — И войдете в царство Божие…
В тот же миг он двинул Дромунда по физиономии, так что тот попятился назад, крикнул Кнуту священнику: «Беги!» — прыгнул на другой камень, вмиг домчался до берега, дернул старуху за юбку, свалил в воду.
Хадди — он опомнился первым — кинулся спасать мать. Гест между тем догнал Кнута священника, потащил его к дому. Дело шло мешкотно, клирик едва передвигал ноги, впрочем, преследователи замешкались еще больше. Гест с Кнутом успели войти в дом, Гест запер обе двери, бросился к очагу, сорвал с себя заледеневшую одежду, принялся отчаянно растирать тело, попрыгал, надел сухое. Кнут священник все это время, рыдая, лежал на полу и молился. Гест пнул его, велел помогать: надо подпереть двери лавками. Кнут не пошевелился.
— Unde hoc monstrum…[70]
Снаружи слышались истошные крики, в дверь отчаянно замолотили.
— Того гляди, крышу снесут, — всхлипнул Кнут.
— Не сумеют, — возразил Гест. — Слишком они замерзли. Им бы подле лошадей устроиться. Но, по-моему, до этого они не додумаются.
Шум нарастал. Гест метался по дому, придвигая к дверям столы и лавки. Потом стал возле входа и крикнул:
— Дромунд, ты слышишь меня?
За дверью настала тишина.
— Дромунд, ты слышишь меня? — повторил Гест.
— Слышу, — ответил Дромунд. — Это же коварный обман. Предательство.
— Нет-нет! — крикнул Гест. — Просто мы не в состоянии открыть эту дверь. Тащите старуху за дом, мы откроем черный ход.
Донеслись голоса, судя по тону, перебранка, новый стук в дверь, и все стихло. Гест поспешил к черному ходу, дождался, пока они застучат в эту дверь, однако не отозвался: пускай еще померзнут.
За спиной у него Кнут священник стоял на коленях, обхватив голову здоровой рукой.
— Дромунд, слышишь меня? — опять крикнул Гест.
Дромунд ответил, что слышит, и добавил, что со старухою надобно поспешить, без памяти она. Вот и все, что он сумел вымолвить.
— Мне и эту дверь не открыть! — крикнул Гест. — Ступайте назад, к первой, слуга мой отворил ее.
Снова вопли и отчаянный стук, затем голоса стали тише и замерли совсем.
Гест сызнова спросил, слышит ли его Дромунд.
— Слышу, — сказал тот. — Ну, что теперь?
— Я Хадди! — крикнул Гест.
Ответом было молчание.
— Я Хадди! — повторил Гест. — И рожден с изъяном.
Тишина взорвалась диким ревом. Потом негромко донеслось:
— Мы идем к другой двери.
Гест перебежал туда. На сей раз им потребовалось больше времени. В конце концов за дверью послышался шорох, кто-то осторожно поскребся, и Дромунд прохрипел:
— Открой. Мы же насмерть замерзнем.
— Я Ивар! — крикнул Гест. — Сейчас открою. — Но не открыл, только загромыхал лавками. — Сейчас!
Кнут священник все так же стоял на коленях.
— Я Ивар! — опять крикнул Гест. — И рожден с изъяном!
Вновь послышались скребущие звуки, словно от медвежьих когтей, царапающих стены западни. И невнятный шепот:
— Это я, Ивар. И я здесь, снаружи.
— Нет! — отозвался Гест. — Ивар — это я. Я в доме, только вот дверь эту открыть не в силах. Ступай к черному ходу, там открыто, для всех открыто.
Все стихло.
Гест отошел к очагу, сел, сложил стихи; лицо у него горело от жара, он обливался потом, но руки-ноги толком не слушались. Кнут священник еще некоторое время молился, потом осторожно убрал руку от лица и вопросительно посмотрел на Геста. Словно издалека доносились какие-то странные звуки, похожие на детский плач. Кнут с превеликим трудом взгромоздился на лавку, осторожно положил сломанную руку на Библию, переплел разбитые пальцы.
— Она пострадала? — спросил он, будто сам ослеп.
Гест взглянул на книгу и сказал, что она цела. Кнут перевел дух. И внезапно со всхлипом выдавил:
— Кто ты?
— Я Торгест сын Торхалли, — громко отвечал Гест, — сына Стейнгрима сына Торгеста сына Лейва, который приплыл из Наумадаля в Исландию и занял земли в Йорве, когда в Норвегии правил Харальд Прекрасноволосый.
Кнут покачал головой, перевел воспаленный взгляд на огонь в очаге, измученное лицо приняло жесткое выражение, холодное молчание стеной стало между ними.
— Ты дьявол, — пробормотал Кнут надтреснутым старческим голосом. — Дьявол в образе ребенка. Или послан исполнить его дело. И все мы погибнем из-за тебя.
— Я Торгест сын Торхалли, — во весь голос повторил Гест. — Теперь мы поедим и ляжем спать. Ну и выпьем, конечно. А завтра или послезавтра отправимся назад, в Нидарос, если они не устроятся при лошадях, но это вряд ли. Через горы нам сейчас не перебраться, а вот весной мы снова двинемся в путь, ты — в Хедебю, я — на озеро Мёр.
Он глубоко вздохнул, пристально глядя на Кнута. Тот опустил глаза.
— Перво-наперво мы притащим сюда, к очагу, все одеяла и овчины, соорудим постель и будем спать, пока не отоспимся.
Из дома Гест вышел два дня спустя, когда кончились дрова. Старуху и Ивара он нашел в снегу за домом, Дромунда и Хадди — в загоне, вместе с тремя лошадьми, которых они забили кольями, в том числе и лошадь Кнута. Других коней видно не было. Гест пошел по следу и обнаружил у реки Сероножку и пеструю кобылу братьев, обе они очень замерзли и измучились. Он отвел их в усадьбу, откопав от снега один из стогов, хорошенько накормил, поместил под крышей. Через два дня он оседлал обеих, навьючил на Сероножку свою котомку и Кнутов сундук с книгами, а клирика посадил на пеструю кобылу.
Сам он шел впереди, пешком, вниз по долине, на север, и в седло вскочил, только когда они очутились в оппдальских лесах, на мерзлой бесснежной земле.
Via illuminative[71]
Кнут испытывал тяжкие боли и сильно мерз, однако же Гест все равно обходил усадьбы стороной. Вечером второго дня, когда миновали Медальхус, Кнут упал с лошади. Гест поднял его в седло, привязал к луке и укутал одеялами.
В город они пришли на рассвете. Гест разбудил конюха, сказал, что путешествие было недальним, но долгим, и велел поскорее привести Кнуту священнику лекаря. Когда лекарь явился, Кнут был в сознании. Гест уложил его в постель, а сам поспешно развел огонь и согрел молоко, меж тем как Кнут рассуждал о милости Божией и благодарил Господа за то, что Он сохранил ему жизнь или даровал еще одну, в надежде, что в оной будет больше света, нежели в той, каковая недавно завершилась. Но улыбался он криво, и взгляд был зыбкий, расплывчатый.
Лекарь выправил искалеченную руку, составил кости как надо, наложил повязку, от боли у Кнута брызнули слезы, но он засмеялся и тотчас надолго канул в свои говорливые грезы.
Ухаживал за ним Гест. Временами клирик ронял:
— Я умер.
Гест согласно кивал:
— Да, верно.
Бывало, Кнут говорил и другое:
— Я жив.
Гест и тут соглашался без возражений. Опекал клирика так, как мать опекает умирающего ребенка, с невероятным терпением, ухаживал и за ним, и за Гудлейвом, который по-прежнему лежал в каморке над конюшней, цепляясь за жизнь, и рассудком был светел, как никогда, а вдобавок радовался, что они вернулись, ведь молчун-конюх — компания никудышная.
С одра болезни Кнут священник поднялся лишь к концу января. И тогда низошел на него священный свет, праведная, неуязвимая броня. Лицо более не дергалось, взгляд набрал твердости, руки не суетились, сдержанно покоились на коленях. Вот как бывает, когда вдребезги разбитое снова собирают воедино, он жил, и умер, и теперь познал глубинную суть всех вещей.
Самое же главное, он уже не сидел в четырех стенах, ходил по городу, на виду у всех. Даже когда иной раз улицы полнились шумом и грозными кличами язычников, Кнут оставался безмятежен, он просто-напросто был под защитой, и не только Господа Бога, но и ярла, женатого на истинно верующей Гюде, которая еще минувшим Рождеством навестила его и очень сокрушалась, глядя на его убожество. Она подарила ему драгоценный браслет и места себе не находила от тревоги, пока, навещая его снова и снова, не убедилась, что силы возвращаются к нему, медленно, но верно. Сам Кнут говорил, что завершил очищение и ступил на via contemplativa,[72] на путь в царство разума, и хотя не достиг еще высшей ступени, via illuminativa, был в этом смысле открыт и преисполнен упования.
В течение зимы на Кнутовы мессы приходило все больше людей, тех, кому открылось преображение нерешительного, перепуганного фарисея в новоявленного апостола библейского размаха. Они желали креститься. Желали молиться. Желали получить ответ на непостижные вопросы, утолить жажду, возникшую не по причине нехватки воды. Бывали там и иные из людей ярла — скальды и дружинники, в первую очередь старые воины конунга Олава, которым Эйрик даровал пощаду, но и такие, что возвели сомнение в ранг главного жизненного правила, например Халльдор Некрещеный; Халльдор уверял, что приходит затем только, чтобы посмеяться над священником, однако постоянно ввязывался в разговоры, которые неизменно заканчивались для него ощущением, будто он что-то утратил — не то малую толику славы, не то чуточку достоинства.
— Ты-то почему всегда молчишь? — раздраженно говорил он Гесту, который в ту пору безмолвно сидел обок Кнута священника, присматривал за ним, как озабоченный лекарь.
— Мне встревать незачем, — отвечал Гест.
И Халльдор приходил опять, с новыми насмешками и новыми возражениями, а Кнут священник выслушивал их с обезоруживающей кротостью либо встречал хитроумными загадками и духовной силой смиренного человека.
Вернулся в город и Асгейр священник, со своими тремя армянскими монахами, они прятались на Агданесе, дожидаясь знамения, каковым и стала молва о Кнуте священнике. Асгейр хотел немедля приняться за восстановление своей церкви. Но Кнут отсоветовал, вернее, предложил перво-наперво испросить у ярла позволения и защиты. Ярл принял священника, выслушал его, однако решать ничего не стал, сей вопрос был ему неинтересен, ведь из города прогнал Асгейра не он, а простонародье. Кнут священник разрешил Асгейру до поры до времени служить мессы в своей церкви, а монахов использовал на разных работах в доме и по соседству, в первую очередь они пособляли ремесленникам и торговцам, которые потихоньку начали ворочаться в свои заброшенные дома на берегу реки.
— Оно и видно, что одним только мечом страну в христианство не обратишь, — говорил Кнут священник.
Никаких протестов из Хладира так и не воспоследовало.
А однажды под вечер, аккурат перед Пасхой, на реке появился корабль, который привез колокол, дарованный Гюдой и предназначенный для церкви Кнута священника, чтоб было ему чем благовестить, — звоны небесные. Гест созвал монахов, подвесил колокол, и Кнут священник звонил от полноты сердца — уж не начала ли гордыня одолевать его?
Нет, он более не впадал в заблуждения. Колокол этот, несомненно, из военных трофеев, но разве не замечательно, коли разрушенное и загубленное в одном месте способно в новом великолепии возродиться в другом, где оно, может статься, куда нужнее? Вдобавок Гюда не могла прислать сей дар без молчаливого согласия ярла, молчаливого согласия, в коем Кнут священник теперь настолько уверился, что всего неделю спустя посоветовал Асгейру наведаться к ярлу еще раз. Ярл снова не сказал ни «да», ни «нет», смотрел недовольно и выпроводил Асгейра мановением руки, каковое клирик истолковал как позволение приступить к делу. Кнут священник, разделяя его мнение, связался с бондом, который в свое время разрешил Гесту порубку в своем лесу, на этот раз клирику даже платить за древесину не пришлось, бонд самолично заготовил бревна и привез в город, хотел внести вклад в восстановление памяти конунга Олава.
Кнут священник благословил бревна, а Гест, монахи и два недавно крещенных Кнутом ремесленника изготовили из них доски, обтесали.
Только вот вопрос: какой должна быть церковь — побольше или поменьше сгоревшей? И такой же ли архитектурно? Кнут священник считал, что она должна быть в точности как прежняя. Но Асгейр хотел церковь побольше, по крайней мере немножечко повыше, чтобы она возвышалась над остальными постройками на мысу, и полагал, что Кнут не имеет никакого права называть свой храм церковью Олава, ведь это имя носит его церковь. И Кнут священник уступил.
Вдобавок он решил, что Гесту надобно выучить латынь и поглубже вникнуть в Писание, а не просто воспроизводить по памяти непонятные звуки, хотя память у него, бесспорно, громадная; поэтому он дал Гесту восковую табличку для письма и книгу, с которой списывать, объяснял смысл и поправлял начертание букв, и Гест быстро делал успехи.
— Ты уже наловчился, — говорил Кнут.
Лишь одного клирик упорно избегал — разговоров о кошмарной поездке в Дривдаль, а если Гест заводил об этом речь, щурился с отсутствующим видом и тотчас начинал рассуждать о другом:
— Ты станешь диаконом! И научишь Тофи — одного из армянских монахов — норвежскому языку, он из них самый способный.
Дня не проходило, чтобы Кнут не разглагольствовал о блестящем будущем церкви на Нидарнесе. И о Гестовом месте в нем.
— Ты будешь осенен крестным знамением среди первых.
— Вскорости, — сказал Гест, поскольку все это вдруг стало не к спеху. И клирик тоже особо не приставал, словно мысль o крещении, которое он сам же и затеял, будила в нем неприятные воспоминания.
— Пиши: Nec ego ipsum capio totum, quod sum, — велел он. — Это значит: даже я сам не понимаю себя до конца. Так написал епископ Августин,[73] а я переписал из его большой книги в Кантараборге.[74]
Гест послушно написал, но заметил:
— А мне больше нравится другое высказывание: Nam haec longa aegritudo erit, сиречь: Ибо она — то есть жизнь земная — будет непрерывной долгой болезнью. Это тоже из Августина, и тоже переписано тобою.
Тут Кнуту возразить было нечего. Однако противоречивость более не сбивала его с толку, он словно бы покорился таинственному, вдохновился могучей загадкой смирения, и это было ему к лицу, он сделался водителем и столпом бытия, а не просто хилым придатком сильного владыки.
И никаких протестов из Хладира так и не воспоследовало.
Наоборот, ярлова супруга Гюда вместе со своею золовкой Бергльот и мужем ее, Эйнаром сыном Эйндриди из Оркадаля, навестила Кнутову церковь, присутствовала на богослужении, а затем отправилась на Асгейрово пожарище, где из пепла уже вставала новая церковь. Эйнар больше молчал, но Гюда и Бергльот не скупились на похвалы, обещали Асгейру щедрые дары и денег предложили.
Асгейр так воспрянул духом, что в тот же вечер сел к столу в своем убогом скриптории и написал письмо архиепископу Бременскому, которое начиналось словами: «Yric Dux nos ecclesiam novam aedificare permisit…»,[75] а в конце гласило даже, что ярл «ad fidem nostram transiit»[76] это последнее Кнут счел изрядным преувеличением, ведь религиозное безразличие ярла всему свету известно, в том числе и в Бремене, в итоге он отказался подписать письмо, еще и потому, что в Данию письмо отправится на одном из ярловых кораблей; лишь призвав на помощь все свое красноречие, он убедил друга подождать с отправкой письма до тех пор, пока церковь не будет полностью отстроена.
В конюшне стало многолюдно. За Гудлейвом присматривали теперь Тофи и его собратья, и Гест, усердно проработав целый месяц на строительстве Олавовой церкви, возобновил связь со знакомым эйрарским корабелом. Мало-помалу он отдалился от обеих церквей, нанялся на ближайшие полгода к корабелам и Кнута навещал, только чтобы писать, учиться, задавать вопросы, на которые не знал ответа.
Корабела звали Стейнтор сын Хамунда, и аккурат сейчас он строил для ярла три боевых корабля, больше ста двадцати человек трудились на верфи, а еще без малого две сотни валили лес и свозили бревна в город. Гесту и еще шестерым мастерам предстояло украсить резьбой штевень, поручни и рулевые весла. Корабел рассчитывал, что корабли будут готовы сразу после Пасхи, поскольку ярл как раз в это время собирался отплыть на юг, дабы примерно наказать одного сильного хёвдинга, Эрлинга сына Скьяльга из Солы, который, как слышал Гест, сохранил за собою земли, пожалованные конунгом Олавом, и не выказывал ни малейшего желания подчиниться ярлу; Эйрик намеревался обломать ему когти, а уж тогда можно и в Англию отправиться. Когда же Стейнтор начал поговаривать, что и ему надобно наведаться на юг, в родные места на озере Мёр, набрать работников, в душе у Геста вроде как что-то перевернулось. Он бросил взгляд на город, где вновь бушевала весна, и понял, что не может назвать его своим, во всяком случае, пока жив Онунд, но, с другой стороны, это все же его город. Пора двигаться дальше, и если не на юг, к Меру, то куда?
Гест не знал, однако, что существует шестнадцать сторон света и все они ведут прочь из Трандхейма.
Он потолковал со Стейнтором, который отнюдь не горел желанием отпускать уже имеющихся работников, когда ему необходимо еще больше рабочих рук, тем более что Гест резчик каких поискать, он ведь подумывал доверить ему драконью голову.[77]
— Не стану перед тобой таиться, — сказал Гест. — Мне надо уехать отсюда до того, как придут корабли из Исландии. Я могу заплатить за себя, а кроме того, могу тебя успокоить: опасность грозит мне вовсе не от ярла, чьим благорасположением ты, насколько я знаю, весьма дорожишь.
Стейнтор уступил, пообещал Гесту место на корабле, а уж со всем прочим он пускай сам справляется.
Гест снова собрал вещи, приготовился. И тут его все-таки охватила тревога. Он готовился к отъезду и словно бы искал повод остаться. И каждый раз, когда Стейнтор откладывал отъезд, с облегчением вздыхал. Но в один прекрасный день ярл самолично прибыл на верфь обозреть корабли, и Гест разговорился с Халльдором Некрещеным, и тот с плохо скрытой издевкой сказал, что не мешало бы ему завтра пожаловать в Хладир, потому как именно завтра за убийство Одда сына Равна казнят некоего человека, у которого богатые бонды с Мера обнаружили брошь-фибулу, принадлежавшую Одду, и взяли его под стражу.
— Я приду, — сказал Гест.
Весь последний месяц он ночевал либо на верфи, либо в трактире, у той молодой бабенки, когда у нее не было другой компании. Но этой ночью вернулся к Кнуту священнику и нашел его спящим в комнатке при церкви.
— Это ты, сын мой, — сказал клирик, зевнул и благочестиво перекрестил рот. — Что тебе надобно?
— Через день-другой я уеду, — сказал Гест. — Но прежде хотел бы кое о чем тебя спросить.
— Не могу отказать тебе в этом, ты ведь знаешь.
Гест попросил клирика сесть и выслушать его.
— Я рассказал тебе про Онунда сына Стюра, который прошлой осенью нашел меня в Сандее, — продолжал он, — и тому была не одна причина. Думаю, ты это понял. Теперь же я хочу знать, кто указал ему дорогу — ты или Эйстейн сын Эйда, ведь никто другой этого сделать не мог.
Кнут священник некоторое время смотрел в пространство перед собой, не то новым своим взглядом, не то вспоминая загадочную пощечину, полученную от Геста. Потом ушел в себя, на лице проступило давнее страдальческое выражение, глаза сделались пустыми колодцами, губы задрожали, руки бестолково теребили одна другую.
— Ты все это время знал? — спросил он, пытаясь прикрыть ладонями срам.[78]
— Да, — ответил Гест.
— Ты губишь меня, сын мой, губишь… да, правда, это был я. Они угрожали мне. И не только этот ужасный Онунд. С ним пришли двое ярловых людей. А я был слаб. Можешь ли ты простить меня или убьешь?
— Зачем мне убивать тебя, коли я и Онунда не убил. Нет, ты будешь жить в Трандхейме, пока не умрет Гудлейв, да и после тоже. Но должен сказать, я рад услышать, что это был ты, а не Эйстейн, ведь иначе пришлось бы признать, что я ошибся в вас обоих. — Он вздохнул. — И еще один вопрос: можно ли мне взять Сероножку?
Священник озадаченно воззрился на него:
— Это всё?
— Да, всё. Я хочу знать, дашь ли ты мне лошадь или придется ее украсть.
— Дам, и с охотою.
Кнут встал, снова спокойный, хотел обнять Геста, но тот взглядом остановил клирика. Есть еще одна закавыка, сказал он, и, как ему кажется, тут клирику будет проще помочь ему советом. Он рассказал про Рунольва, который, по-видимому, сидит в хладирском застенке, ожидая казни, хотя он ни в чем не виноват, виноват Гест.
— Что мне делать?
Кнут задумался. Потом сказал:
— Ты должен немедля отправиться в Хладир и предать судьбу свою в руки ярла. Я поеду с тобой и буду просить, чтобы ярл сохранил тебе жизнь, он человек справедливый. И Гюда тоже будет просить за тебя.
— Она думает, меня зовут Хельги, — заметил Гест.
Священник опять вздрогнул.
— Да, — упавшим голосом произнес он. — И назвал тебя этим именем я сам. Но другого выбора у нас нет.
Он выпрямился, расправив плечи, словно переваривая свое решение, оделся, повесил на шею крест, поцеловал его и прочел короткую молитву.
Оба прошли в конюшню, оседлали лошадей, бродом пересекли реку и поскакали дальше, к Хладиру, в молчании, напряженном и мучительном молчании, в котором сквозило предвкушение всего того, что может стать пробным камнем для новой силы Кнута священника.
— Я знаю, о чем ты думаешь, — обронил Гест.
— Ты всегда это знаешь.
— Ты думаешь, зачем я просил Сероножку, если добровольно еду с тобой в Хладир?
Кнут покосился на него и сказал, что ему совершенно неинтересно строить домыслы по поводу загадок.
— Не-ет, ты думаешь об этом. Потому что не доверяешь мне.
— Может быть, — отозвался Кнут священник. — Легко предать такого, кто сам предатель. Вот о чем я думал. А ты за что-то мстишь. Теперь же у меня нет выбора.
— Да, выбора нет, — сказал Гест. — Но сейчас, когда это сказано, ты спокойнее, чем только что, когда был наедине со своими мыслями, верно?
— Пожалуй, — с удивлением проговорил Кнут. — Пожалуй. — Он замолчал, продолжая смотреть на Геста.
Оставив коней на попечение бездомных, они присоединились к толпе нищих, которые спозаранку собрались перед резиденцией ярла, дожидаясь, когда Эйрик ярл со слугами-свейнами, скальдами, челядью и разряженным двором отправится к дружине.
Кнут священник немедля заступил властителю дорогу, распростер руки, остановил всю процессию и, склонив голову набок, невнятно и торопливо пробормотал, что пришел сюда с одним человеком, которому необходимо поговорить с ярлом об узнике, коего считают убийцей Одда сына Равна.
В ярком свете Гест увидел, что лицо у Эйрика измятое, будто он не спал всю ночь, но не пировал, а сидел за вялой беседой о близкой катастрофе, поэтому соваться к нему с запутанными признаниями сейчас ох как не ко времени. Он дернул Кнута за рукав, попросил прощения за дерзкое их поведение, однако ж добился-таки своего: ярл его выслушал.
Но едва Гест закончил рассказ — упомянув и о поводе мести, об Ари, которого так несправедливо убили и который был ему как брат, — ярл лишь коротко взмахнул рукой, приказывая своим людям схватить его, и нетерпеливо пошел дальше, заспанная свита поплелась следом.
Кнут священник растерянно проводил взглядом Геста, которого повели прочь, к дому, крышей смыкающемуся с земляным валом. По запаху Гест тотчас смекнул, что Рунольв тоже здесь. Его потянули к бревенчатой стене, прижали к ней спиной, пока он не разглядел узкий лучик света, падавший внутрь сквозь щелку в кровле. Рунольв подставил свету свою потрепанную физиономию и укоризненно усмехнулся.
Гест резко высвободился и немедля напустился на него: как же вышло, что он не сумел целым-невредимым пробраться на север, ведь кто-кто, а он, Рунольв, умел сделаться невидимым когда угодно и где угодно, вдобавок у него вся зима была в запасе. Но великан пожал плечами, поднес два пальца одной руки к указательному пальцу другой, что означало «дом», и передернул плечами в знак того, что искал приюта по причине стужи, потом закрыл глаза и обхватил левой рукой запястье правой: мол, повязали его во сне.
— Ты всю зиму пробыл на Мере?
Рунольв оставил этот вопрос без ответа. Но совершенно рассвирепел, когда Гест рассказал, почему он очутился здесь. Великан гримасничал и оглушительно рычал, поди, аж в Свитьоде всех журавлей распугал.
Гест рассмеялся и сказал, что Рунольв хороший человек и когда-нибудь ему за это воздастся. Рунольв лишь отмахнулся, потом ногтем накорябал на освещенной балке двух человечков.
— Это мы? — спросил Гест.
Рунольв склонил голову набок, показывая, что один из человечков женщина, знаком изобразил узел, имея в виду брак, указал на Геста, затем покачал головой и с презрением отпихнул его от себя. Гест невольно опять засмеялся:
— Будь у тебя дочь, ты бы не отдал ее за меня, так как я слишком глуп, да?
Рунольв кивнул, провел пальцем по горлу, ткнул в грудь себя и Геста и обмяк: дескать, оба они умрут, и самое ужасное, что Гест умрет вместе с ним.
Гест объяснил, что после его признания ярл непременно отпустит Рунольва на волю и что он тоже постарается вымолить себе жизнь, глядишь, оба уцелеют.
На исходе дня за ними пришли стражники, заковали обоих в железа, поэтому идти в гору к большому дому было очень нелегко. Их вывели на задворки, а оттуда погнали вниз, на ровную лужайку, где вечернее солнце озаряло бесснежную проталину. Там вокруг двух длинных столов строем стояла вся дружина и на роскошном почетном сиденье восседал ярл. Из всех собравшихся сидел он один. Его супруга Гюда, и Кнут священник, и исландские и норвежские скальды — все стояли. Гест приметил среди собравшихся разряженного надменного юнца и решил, что это, наверно, и есть ярлов сын, молодой Хакон, тот стоял меж двух красных щитов обок Гюды, словно бы тулился к ней, и потому выглядел сущим ребенком, отчего отнюдь не выигрывал.
Воевода, Даг сын Вестейна, подошел к пленникам, приказал стать у столбов, врытых в землю. Каждого привязали. Даг воткнул у их ног по ветке орешника, выпрямился и взглянул на ярла, который чуть заметно кивнул. Настала тишина.
Столько народу — и тишина. Гесту она казалась огромной, как смерть, и когда двое мужчин с топорами направились к ним, он сообразил, что вот сейчас их казнят, причем быстро, чтобы поскорее начать празднество, и закричал:
— Нам не дадут слова?
— Чего? — переспросил Даг, не подавая виду, что узнал его.
Гест повторил. Даг немного подумал, повернулся к собравшимся и крикнул, что один из пленников хочет что-то сказать.
Ярл качнул головой.
Геста бросило в пот. От почетного сиденья его отделяло огромное расстояние, придется кричать во все горло, а тот, кто кричит, обречен смерти, но выбора нет, он пронзительным голосом потребовал позволения говорить, стараясь не замечать взглядов вооруженных топорами палачей, которые остановились возле них, в шлемах с забралом, глаза тонут во мраке.
Кнут священник, кусая губы, стоял подле Гюды. Заметно вздрогнул, покосился на госпожу, та кивнула, как бы ненароком. Гест снова закричал, на сей раз обращаясь к клирику. Кнут собрался с духом, наклонился и что-то шепнул ярлу на ухо. Даг сын Вестейна тоже что-то сказал ярлу, в другое ухо, следом в короткий разговор вмешался еще и третий. Ярл знаком велел всем отойти и крикнул через бесснежное пространство:
— Один говорит, надобно дать тебе слово. Другой же говорит, что, коли дать тебе слово, придется тебя помиловать, ибо язык у тебя бойкий да вкрадчивый. Но я все-таки рискну, коли ты угадаешь, кто что сказал.
Ярл произнес все это, слегка улыбаясь, среди собравшихся послышались негромкие смешки.
— Тут ничего сложного нет, — быстро откликнулся Гест. — Оба они сказали и то и другое, Кнут священник и Даг сын Вестейна.
Ярл озадаченно взглянул на них — оба смотрели прямо перед собой, — потом вскричал:
— Ловко сказано! Но чего ради ты держишься за жизнь, маломерок, тебя же от земли почитай что не видно?
— Живая собачонка лучше мертвого льва, — отвечал Гест и тотчас услыхал сиплое перханье Рунольва, повернул голову и увидел на его лице одобрительную ухмылку.
Ярл коротко рассмеялся, окружающие тоже, но уже в следующий миг снова воцарилась тишина, которую нарушил Рунольв: он вдруг рванулся в своих путах и взревел прямо в лицо человеку с топором, стоявшему перед ним, тот попятился и, оступившись, упал навзничь.
Ярл вновь рассмеялся. Захохотала и дружина, во все горло.
Упавший, ругательски ругаясь, встал на ноги, свирепо глянул на Рунольва, потом перевел взгляд на ярла, который подал ему какой-то непонятный знак. Он сунул топор под мышку, развязал Геста, разомкнул цепи, подвел на десять шагов. Теперь Гест видел глаза ярла. Я наступил на ветку орешника, подумал он, скользя взглядом по окружению Эйрика, — Кнут священник потупил взор, Гюда сияла отрешенной своей красою, стройная и хрупкая, как стекло, в облегающем голубом платье по щиколотку, толстая коса перекинута через левое плечо, ворот мехового плаща открыт, так что он видел черное пятнышко на ее шее, составлявшее резкий контраст с белой кожей и золотым ожерельем, Гюда тоже прятала глаза.
А вот Халльдор Некрещеный смотрел прямо на него, как и сын Гюды, юнец с распахнутыми голубыми глазами, с непокорными светлыми волосами, с великолепным мечом на поясе, он стоял широко расставив ноги, будто приготовился к схватке, но поза эта казалась скорее заученной, нежели естественной.
И сам ярл. Точно живое изваяние. Подлинное воплощение всех беспримерных битв, в которых он сражался с тех пор, как двенадцати-тринадцатилетним подростком впервые отправился в поход. Подобно другим могущественным мужам, которых встречал Гест, одет Эйрик был скромнее своего окружения, ни браслетов, ни перстней, из оружия лишь короткий, простой меч, вокруг стоят без малого две сотни верных людей, скальды, слуги, воины, крепко упершие в землю древки копий, и Гесту невольно вспомнилось безмолвие под дождем, когда целую вечность назад Снорри и супротивники его стояли друг против друга на берегах Хвитау.
Но тут произошло кое-что странное: Эйрик ярл встал с почетного сиденья, уступил его Гюде. Затем она тоже встала, и ее место занял сын, Хакон, который в свою очередь встал, вновь предоставив почетное сиденье отцу. Эйрик устроился поудобнее, положил ладонь на колено, скользнув взглядом по пивным кружкам и бочонкам на столе справа от него, и посмотрел на Геста:
— Тишина кругом, все могут тебя услышать, маломерок, но я ничего не слышу.
Гест прочистил горло и произнес стихи:
Быстрый разумом муж бдит ночь напролет. С тревогою размышляет о многом. Он смертельно устал, когда занимается день. А путь его был ох как долог.Невнятный шум пробежал среди собравшихся. Кнут священник заслонил пальцами лицо, будто решеткой, ярл же смотрел на Геста в упор.
— Ты смеешься надо мною, исландец? — вопросил он. — Что ведомо тебе о том, отчего я не сплю ночей?
Гест сказал другие стихи:
Всех лучше тому, кто не знает, что ждет впереди. Ум человеку слишком большой не потребен, сколько поймет, то и ладно; ведь постигающий всё редко бывает счастлив.— А это недурно, — сказал ярл, опережая отклик остальных. — Но как моим не слишком умным людям понять, хвала это или насмешка?
— Государь, — Гест пал на колени, — это насмешка для непонятливого.
— Ну что ж, тем и ограничимся, — сухо бросил ярл.
А Гест продолжал:
— Государь, годами приезжали к тебе исландцы, среди них величайшие наши скальды — Гуннлауг Змеиный Язык, Халльфред сын Оттара, Торд сын Кольбьёрна, Орм сын Стурольва и многие другие… Приезжали, чтобы убить тебя, обокрасть или насмехаться над тобою. Но ты, государь, даровал им всем пощаду, как только выслушивал их притязания и защитительные речи. Ты, государь, решил запретить поединки в стране и объявить всех преступников вне закона. Поэтому и я, самый ничтожный и жалкий из всех виденных тобою исландцев, прошу у тебя милосердия и справедливости, ибо я убил Одда сына Равна, имея на то серьезную причину, убил, потому что не мог иначе — по закону, который властвует нашими сердцами и повелевает нам не предавать друга и брата, но отмстить за него, пусть даже это будет последнее, что мы совершим. И твоим сердцем, государь, властвует сей закон, — добавил Гест и перевел дух.
Средь мертвой тишины ярл произнес:
— Да, ты прав. Но тебе я не друг. Я был другом Одда. Что скажешь на это?
— Нет у меня ответа, государь. — Гест взглянул на Кнута священника, который смотрел на свои руки, и сказал, словно по наитию: — Месть в руце Господней, не в человеческой.
— Стало быть, у тебя есть рука Господня? — просто спросил ярл.
— Нет. И за это я тоже прошу у тебя прощения.
— Я не Бог, — сказал ярл. — Я человек.
Левой рукой он сделал какой-то знак, и Гест услышал глухой хлюпающий звук — топор раскроил череп Рунольва. Но он не оглянулся. Ярл и бровью не повел. У молодого Хакона дернулась щека, Гюда смутным взглядом смотрела в никуда, меж тем как вокруг раздавались одобрительные возгласы.
И вновь настала тишина. До Геста донеслись легкие шаги по скользкой вешней траве. Какой-то человек с оружием подошел к нему, показал кровь.
— Этот человек произнес над Оддом надгробное слово, — громко сказал ярл. — Как мне исполнить и его просьбы, и твои, коли все имеют право на месть и он мне друг, а ты нет?
Гест не ответил, он смирился.
— И здесь существует свой закон, — продолжал Эйрик. — Он тоже властвует нашими сердцами, по твоему красивому выражению, и гласит, что я могу пощадить тебя, даже не требуя ни эйрира выкупа, ибо я только что предоставил Харальду возмещение за убийство его брата, а вдобавок ты убил Транда Ревуна, лиходея из самых худших, который грабил и убивал в наших землях. Но пощажу я тебя лишь при одном условии: ты должен поклясться здесь и сейчас, что никогда больше не появишься ни в Трандхейме, ни в ином месте, где я нахожусь, ведь ввиду случившегося нынче и ввиду сказанного тобою ты при новой встрече со мной должен последовать закону, властвующему твоим сердцем, и попытаться убить меня, верно?
Гест стоял на коленях, вконец обессилев.
— Никак хитроумный исландец потерял дар речи?
— Кто говорит, тот умрет, — пробормотал Гест, не поднимая головы.
— Что?
— Я даю клятву, — сказал Гест и произнес надлежащую формулу. — Однако у меня есть еще одна просьба, — поспешно добавил он, старательно избегая смотреть на Кнута священника.
— Вот как. И о чем же ты просишь?
— Позволь мне забрать тело, чтобы Кнут священник мог похоронить его возле церкви в городе, ведь Рунольв был христианином.
На лице ярла заиграла легкая улыбка.
— В таком случае у меня тоже есть просьба, точнее, пожалуй, вопрос: можешь ли ты честно сказать, что сильнее — твое слово или этот закон у тебя в сердце?
Впервые Гест вовремя заметил ловушку и быстро ответил, что, пока он не будет видеть ярла, перевес останется за словом и что он сам позаботится, чтобы взгляд его впредь не упал ни на ярла, ни на кого из его дома.
— Хороший ответ, — сказал Эйрик и велел ему подняться. — Можешь забрать труп, двое моих людей проводят тебя и клирика до церкви, и мы никогда более не увидимся.
Ночь. Белесая, мягкая весенняя ночь. Молитвенно сложив руки, Гест смотрел на могилу Рунольва и думал, что отныне орлы в Свитьоде не разлетятся, будут сидеть на скалах и гибнуть от стрел охотников, точно гуси с подрезанными крыльями. Он воочию видел перед собою этих недвижных, обреченных смерти исполинов, и ему было совершенно не до смеха, он недооценил ярла и недооценил себя, разом сделал две ошибки, а все потому, что в гордыне своей не уразумел: лишь страх способен истребить закон в его сердце, закон мести, тот самый страх, который он презирал, жалкий, унизительный страх Кнута священника, испуг и трепет, отнимающий у труса право на жизнь, когда все прочее уже потеряно.
Гест оставил могилу, поднялся к Гудлейву, который считал смерть благословением и теперь смотрел на него блекло-серыми, водянистыми глазами, будто хотел сказать, что Рунольвово время истекло.
— Нет, не истекло, — возразил Гест. — Ведь это означало бы, что я не виноват. Только вот от такого осознания проку чуть, я же ничегошеньки не понимаю и никогда не изменюсь.
— Может, и так, но Господь не дал бы тебе сил отправиться в Хладир, если б не видел в этом смысла, Он хотел, чтобы ты остался в живых, а Рунольв упокоился в двух землях: тело его здесь, голос же — в Ирландии…
Гест покидает Гудлейва, идет в город к той женщине, с которой спал так много раз, говорит, что отныне она будет зваться Гюдой, и она охотно соглашается — не впервой! — лишь бы отвязался поскорей, спать охота. Но Гесту впору горы ворочать, только под утро он засыпает без сил на белой ее груди, как ребенок, да он и есть сущий ребенок, легонький, даже спихивать его незачем. А вот просыпается он в один миг, вырывается из сна и обнаруживает, что женщина исчезла и чья-то крепкая рука держит его за горло. Халльдор Некрещеный, склонясь над ним, говорит:
— Тихо, не шуми!
Скальд выпрямляется, велит ему одеться и идти за ним. Гест встает, послушно исполняет приказ, однако в трактире сидит один-единственный посетитель, в простом поношенном купеческом платье, безуспешно пытаясь спрятать лицо под широкополой шляпой. Это Даг сын Вестейна, правая рука ярла, белобрысый, бледный богатырь, большой мастер прикидываться не таким, каков он есть, — посмотреть на него, так вроде бы и медлительный, и неповоротливый, и сонный, в два счета одолеешь, а в итоге он снискал себе прозвище Бессмертный. И вот сейчас сидит за столом, без всякого выражения смотрит на Геста.
— Ярл интересуется тобой, — сухо говорит он и добавляет, что, как ему известно, Гест несколько лет свободно бывал среди дружины, сопровождая одного из лучших его людей, Эйстейна. Гест кивает. А Даг, положив ручищи одну на другую, щурится от солнца и говорит, что вчера в Хладире ярл задал ему вопрос, на который он не ответил: ведомо ли Гесту, отчего ярл не спит ночами?
— Я знаю не больше, чем другие, — быстро сказал Гест.
— А что именно знают все?
— Все говорят, что конунг Свейн не то погиб в Англии, не то умер от болезни, что сын его, Кнут,[79] собирает силы, чтобы продолжить войну против короля Адальрада, и что он в письме просил ярла сдержать обещание, данное в свое время конунгу Свейну.
— По-твоему, этого достаточно, чтобы ярл ночами не смыкал глаз?
— Нет, он размышляет о том, какой ответ дал бы в таком случае его отец, Хакон ярл. И сдается ему, что отец нашел бы предлог отказаться от похода, ведь Кнуту всего-навсего шестнадцать лет от роду и совсем недавно его изгнали из Англии, ровно собачонку, он даже тело отца с собою не забрал.
— Так говорят в городе или так думаешь ты сам?
— То и другое.
— И что же это значит для ярла?
— Ничего. Он человек более выдающийся, нежели отец, и всегда будет выполнять свои обещания. Поэтому он думает, что в попытке завоевать Англию может стать Кнуту советчиком и первым помощником. И видит здесь для себя великий шанс, ведь та часть Норвегии, где он властвует после Свольда, слишком мала.
На лице Дага сперва отразилась легкая досада, но затем он саркастически усмехнулся и встал.
— Выходит, ты все же не так умен, как мы думали. Или, наоборот, так глуп, как мы опасались. Однако пришел я сюда не затем, чтобы спрашивать об этом, недомерок. Халльдор, земляк твой, говорит, что ты скрывался у Эйнара в Оркадале. Это правда?
— Да, — ответил Гест, опустив голову.
Случившееся дважды
Весна. Гест трудится на верфи, учит латынь по книгам, которые берет у Кнута и Тофи, выводит буквы на восковой табличке. Он ждет Онунда, дабы наконец избавиться от всего того, что угрозой висит над головою. Убегать нет смысла. Но Онунда нет как нет. Гест радуется теплу и птичьему щебету, который смутно напоминает о том времени, когда он вместе с Тейтром скрывался в лесах и думал, что если продержится достаточно долго, то сможет вернуться в Исландию, свободным человеком. Правда, день ото дня в нем нарастает тревога, ведь теперь он на виду у всех, и отсутствие Онунда может означать, что там, на севере, с ним что-то приключилось, что Тородд либо Ингибьёрг сумели остановить его, или же дело совсем в другом… И вот однажды вечером он завершает работу над рулевым веслом, но Стейнтору оно не нравится.
— Что это за диковинные знаки? — спрашивает корабел.
— Иллюминованные буквы, так они называются, — отвечает Гест.
— А что они означают?
— Не знаю, — говорит Гест, — я видел их в одной святой книге.
Стейнтор — человек верующий, и это объяснение успокаивает его, он сдержанно кивает и говорит, что хорошо бы Гесту украсить румпель драконьими зубами или орлиными когтями, как бы обхватывающими его с обеих сторон, так что получится вроде как шапка, или шлем, за которую удобно взяться руками, стоя у руля. Гест согласно кивает — и встречается глазами с Халльдором Некрещеным, тот неслышно подошел и, заложив руки за спину, стал рядом с таким видом, будто забрел на верфь совершенно случайно.
Они улыбаются друг другу.
Гест выполняет работу, в тот же вечер пересекает мыс и идет к церкви, где Кнут священник, стоя на ветхом причале, выплескивает в воду бадью помоев, на радость чайкам, вообще-то помои предназначаются на корм свиньям, но клирику нравится наблюдать за этими ненасытными хищницами, такая у него привычка, он разговаривает с птицами, бранит их, и смеется, и выговаривает им, когда они клюют и бьют друг дружку в драке за еду. Гест подходит к нему, становится рядом, перед вихрем из перьев и криков, и не открывает рта, пока не перехватывает тревожный взгляд Кнута.
— Я уезжаю, — говорит Гест. — Возьму Сероножку.
— Да, конечно, бери, — отвечает Кнут священник.
Они обнимаются.
Гест навещает Асгейра и монахов, слушает, как Тофи произносит новую фразу, которую выучил по-норвежски: «Мне холодно». Проводит рукой по лбу Гудлейва, обменивается с ним взглядами, как положено, седлает Сероножку и покидает город.
Он держит путь на юг. Через горы, в сторону озера Мёр. Но едет совсем не туда, про Мёр он придумал специально для Кнута священника, для человека, которому не доверяет, для человека со страхом. Не доезжая до Медальхуса, он сворачивает с торной дороги на запад, едет через лес и снова попадает в Оркадаль к хёвдингу Эйнару сыну Эйндриди. Роскошные хоромы, что Эйнар строил прошлой осенью, воздвигнуты, красуются бревенчатыми стенами, сияют в вешнем свете, словно желто-белое масло. На крыше Гест замечает малорослого трэля, который носил ему еду, сейчас десять работников под его началом кроют крышу дерном. Гест останавливает лошадь, наблюдает за ними, наслаждается зрелищем работы, потом выезжает на лужайку перед домом и громко объявляет, что приехал вручить Эйнару подарок.
— Знамение! — восклицает трэль, узнав его, спускается с крыши и спешит в большой дом, а вернувшись, сообщает, что Эйнар ждет.
Привязав Сероножку, Гест проходит в помещение. Хёвдинг стоит у стола, спиной к нему, одевается, через голову натягивает куртку и, не оборачиваясь, спрашивает, чего желает пришелец.
— Нет у меня друзей в этом краю, — говорит Гест, — и все же я пришел к тебе с подарком.
Эйнар, вздрогнув, оборачивается, с удивлением смотрит на него:
— С подарком?
Эйнар в подарках не нуждается, не принимает он подарков от маломерков, не имеющих друзей, однако спрашивает:
— А что это за подарок?
— Лошадь, — отвечает Гест.
— Вот как. У меня своих лошадей достаточно.
— Тогда и для еще одной место найдется.
Эйнар долго смотрит на него:
— Но ведь тебе нужно от меня что-то еще?
— Да, — кивает Гест.
И хёвдинг предлагает потолковать на улице, на вешнем воздухе, жестом показывает на мыс к западу от пристани, залитый сейчас лучами вечернего солнца. Гест хочет посторониться, пропустить Эйнара вперед, но в тот же миг сильные руки подхватывают его под мышки, поднимают на несколько футов над землей, держат так, покачивают вверх-вниз, будто взвешивая, и наконец осторожно ставят наземь.
— Легкий как перышко, — произносит Эйнар с удовлетворением и знаком велит Гесту идти обок, а не позади и не впереди, как ходят трэли. Они шагают рядом. Слушают трескучий крик сороки, смотрят на бурые холмы, усыпанные желтыми цветами мать-и-мачехи.
— Ты был при Свольде, — говорит Гест.
— Да, — отвечает Эйнар.
— О чем вы думали перед битвой?
— Думали, что победим.
— На сей раз все иначе, — говорит Гест. — Ярл знает, что не сможет победить Англию, и тебе не стоит идти с ним в этот поход.
Эйнар останавливается, глядит на него.
— По-твоему, я должен предать своего вождя?
— Ярл тебе не вождь. Твоим вождем был конунг Олав. Ты должен сказать Эйрику, что в свое отсутствие он не может оставить страну без прикрытия, тебе надобно сделаться опекуном его сына Хакона и править вместо него. Он согласится, ведь ты не только женат на его сестре, ты еще и самый могущественный хёвдинг в Трёндалёге. И ты не сложишь вместе с ним голову на чужбине.
Эйнар снова остановился.
— Я и сам думал об этом. Кто ты? Провидение?
Гест улыбается:
— Нет. Я просто пришел подарить тебе лошадь, потому что ты помог мне, когда я впервые оказался здесь, а завтра корабль Стейнтора сына Хамунда, ярлова корабела, заберет меня отсюда, и лошадь я взять с собой не могу, зовут ее Сероножка, и норов у нее весьма крутой. Только и всего.
Эйнар смеется.
— Странный ты человек. Большинство людей хвастает своими дарами и, уж во всяком случае, не умаляет их.
— Это потому, что я людям потакаю, поддакиваю, — отвечает Гест. — Тогда выходит по-моему и когда я этого не делаю.
Улыбка Эйнара блекнет.
— Пожалуй что так, — говорит он. — Но прежде чем я приму совершенно незнакомую лошадь от совершенно незнакомого человека, мне хотелось бы знать, нет ли тут какого подвоха, не наживу ли я себе недругов, коли эту лошадь увидят в моей дружине, и нет ли за тобою погони.
— Нет за мною погони.
— Тогда я не понимаю, зачем ты отдаешь мне лошадь.
— Вот так же ты отвечал, когда конунг Олав наделял тебя подарками?
— Да. Если не видел, чем их заслужил.
— Чего же ты не видишь здесь?
Эйнар сел на камень и, прищурясь, стал смотреть на узкий залив, где борт к борту стояли на якоре боевой корабль и тяжело груженный кнарр, несколько мальчишек, перегнувшись через планшир, удили рыбу. Гест остановился прямо перед хевдингом, а тот закрыл глаза, всерьез задумался и наконец произнес:
— Не знаю.
На следующий вечер в Оркадальский залив заходит Стейнтор, забирает Геста на борт, у него два корабля, на каждом по восемнадцать гребцов и отборные воины в кольчугах, которые пока только спят да пьют. Ветра нет, лениво моросит дождь, и ритмичные гребки весел мчат их по серой морской глади. Ночью холодает, проясняется, задувает попутный восточный ветер. Южнее на горных склонах еще лежит снег, Гест стоит у руля, рядом с ним Стейнтор; Гесту нравится стоять у руля, нравятся сосредоточенно-бесстрастные лица гребцов, размеренные движения могучих тел, дремотные постанывания скользящего корабля, полный ветра парус, а когда весла убирают — скрип снастей, хлопки шкотов, всхлипы обшивки. Мне по душе море, думает он, я возвращаюсь домой, — мимолетное ощущение счастья, совершенно не укорененное в окружающем его мире, потому что, когда команда укладывается в спальные мешки, а он стоит, слушая плеск волн за бортом, Стейнтор вдруг что-то замечает.
— Корабль, — говорит он. — Вон там.
Гест корабля не видит. Но не удивляется, когда Стейнтор отодвигает его в сторону, сам берется за руль, меняет галсы, идет прямо к бесформенной темной массе. В самом деле корабль, стоит на якоре возле берега, на палубе палатки, сверху тщательно прикрытые грудами ветвей и мелких деревцев. Возможно, судно исландское, купец, а возможно, шайка викингов, норовящая укрыться от береговых дозоров ярла, и Стейнтор велит Гесту будить команду.
— У нас на борту лучшие ярловы воины.
Гест поневоле вынужден будить каждого по отдельности, велит вставать и вооружаться, все происходит быстро, без шума, Стейнтор без промедления идет в атаку, знаком приказывает убрать парус, они цепляют за планшир абордажные крючья, режут крепеж палаток и завладевают кораблем, потратив не больше времени, чем на швартовку к причалу.
На борту оказалось пятнадцать человек, всех связали, найденное оружие сложили в кучу. Стейнтор стал перед пленниками, попросил тишины, сообщил, кто он такой, и велел кормчему выйти вперед и поведать, кто он и откуда.
Молодой парень, худой, с курчавыми, черными как смоль волосами и колючим взглядом, сделал несколько шагов вперед и довольно невнятно, пришепетывая, сказал, что зовут его Свейн сын Ромунда, родом он из Исландии, с Восточных фьордов, а сюда они пришли недавно, из Ирландии, чтобы продать в Норвегии свои товары, Стейнтор может сам убедиться, проверив их груз.
— Почему же ты стоишь на якоре здесь, а не в городе?
— Мы пришли ночью, — спокойно отвечал Свейн, и Гест обратил внимание, что и сам он, и люди его крайне утомлены, глаза у всех красные, да и корабль заметно потрепан жестокими штормами. — Погода на всем пути была скверная, и мы причалили тут, чтобы отоспаться.
Он добавил, что на борту с ним двое его братьев, и кивнул на двух парней помоложе, которые один за другим вышли вперед, и в этот миг Гест узнал их, последний раз он видел их детьми, они сидели в снегу возле усадьбы Клеппъярна Старого, смотрели, как Тейтр уложил его на лопатки, а было это пять лет назад.
Взяв Стейнтора за плечо, он отвел его на нос.
— Этот человек лжет, его зовут иначе. И я не удивлюсь, если он лжет и насчет всего остального. Поскольку же он лжет ярловым людям, выходит, он что-то утаивает и от ярла. По-моему, ты должен пригрозить, что отрубишь младшему ноги, если старший не скажет правду.
Стейнтор недоверчиво взглянул на него, и Гест добавил:
— Я сам могу это сделать.
— Не уверен я, что он один врет насчет своего имени, — сказал Стейнтор. — Однако, разделяя твои сомнения касательно ярла, предоставлю тебе свободу действий, но только при одном условии: ты сообщишь мне все, что сумеешь выяснить, иначе мои люди отрубят ноги тебе.
Вместе с тремя братьями Гест сошел на берег, углубился в рощу, где обнаружилась расчищенная стоянка — дрова, тюки с товаром и оружие валялись вокруг кострища.
— А вы давно тут стоите, — заметил он, разжег костер, предложил братьям сесть и потолковать на свободе. — Не узнаешь меня? — спросил он у Свейна.
— Коли б узнал, не назвался бы Свейном сыном Ромунда с Восточных фьордов, — ехидно бросил тот.
— Хочешь, поди, чтоб я вывел тебя на чистую воду. А я дам тебе возможность употребить твое хитроумие на кое-что получше смерти: расскажи мне, кто ты и что здесь делаешь. Если ты не провинился перед ярлом, я уговорю Стейнтора, и он позволит вам плыть дальше. В противном случае я велю отрубить ногу твоему младшему брату, и мы все равно добьемся от вас правды.
— Не очень-то это похоже на свободные условия, — заметил Свейн. — Но, видать, другого выхода нет.
Он признался, что по правде его зовут Атли, он сын Харека, брата Клеппъярна Старого, и рассказал, что торговлей они занимаются уже несколько лет, с минувшего лета на норвежском побережье. И здесь они по причине кровной распри убили одного человека, только он был исландец и ярлу не друг, так что с Хладиром им делить нечего.
Гесту стало не по себе.
— Что за кровная распря?
— Тебе ли не знать, Торгест сын Торхалли. — Атли встал, поднес связанные руки к огню. — Та самая распря, что вспыхнула меж Снорри Годи и нами, обитателями Боргарфьярдара, когда ты зарубил Вига-Стюра и нашел прибежище в наших краях… Мы отомстили за убийство Торстейна сына Гисли и сыновей его, Гуннара и Свейна.
Перед внутренним взором Геста Исландия вновь канула в море, со всеми людьми и всеми голосами, с зыбким туманом, черным льдом и лебедями, что прилетают по весне.
— Торстейн убит? — спросил он.
— Да, как и его сыновья.
Атли рассказал, что в то лето, когда Гест ушел, Снорри ничего на альтинге не добился, а потому явился в Бё осенней ночью, когда в доме был только Торстейн с сыновьями. Они послали одного человека на крышу, чтоб шуршал соломой, пусть, мол, в доме подумают, будто лошадь с привязи сорвалась. Торстейн вышел за дверь, и его тотчас зарубили. Гуннар проснулся от шума, окликнул отца и, не получив ответа, тоже вышел наружу. Затем настал черед Свейна, мальчонке было лет девять, не больше, Снорри натравил на него своего младшего сына.
Пока Атли все это рассказывал, Гест, как наяву, видел перед собою мальчика Свейна, который тогда ростом был под стать ему и теперь уж никогда не станет выше. Свейн и Ари, дети вроде него, собственные его беды, он принялся кружить вокруг костра, как зверь в клетке, все ближе и ближе к огню, мотая головой из стороны в сторону, Атли тем временем отбарабанил имена всех, кто был вместе со Снорри, и добавил, что Хельга нашла трупы, когда наутро вернулась с дочерьми домой, они ездили на горное пастбище. Они предупредили соседей из Лекьямота, но к тому времени Снорри давным-давно ушел в Даласислу, и случилось все это в тот год, когда Гест покинул Исландию.
— И кого же вы убили в отмщение? — спросил Гест, просто для поддержания разговора.
— Халля сына Гудмунда.
— Кого?
— Халля сына Гудмунда из Брейдабольстада на Хунафлои.
Гест прищурился:
— Ты ведь его не упоминал?
— Нет. Мы преследовали одного из людей Снорри, но он скрылся, с помощью Халля.
Гест долго сидел, прикидывая, чем это, собственно говоря, чревато, потом сказал:
— Я знаю, кто такой Халль. Однако его почитали человеком миролюбивым и умным. К тому же он потомок самого Эгиля сына Скаллагрима. Отец его — один из могущественнейших хёвдингов Норланда, а два его брата не успокоятся, пока не зальют кровью весь Боргарфьярдар. Разве не так?
— Что ж ты-то сам тогда не подумал об этом? — воскликнул Атли.
Гест вздохнул:
— Торхалли был мне отцом, Вига-Стюр — его убийцей, а Торстейн приходился мне дядей. Халль сын Гудмунда не состоял в родстве ни со Стюром, ни со Снорри, ни с кем другим из числа убийц.
— Мы тоже в родстве с Торстейном. А Халль помешал отмщению, — спокойно произнес Атли.
— Потому что помог некоему человеку, — сказал Гест, больше себе и небу, нежели трем братьям. И попросил Атли рассказать иные исландские новости, опять-таки в первую очередь для того, чтобы поддержать разговор. Полюбопытствовал, где была Аслауг, когда Снорри учинил смертоубийство в Бё. Атли рассказал, что через год после Гестова исчезновения она вышла за Гейрмунда и перебралась в Скоррадаль, у них двое сыновей, первенца она назвала Торгестом, а второго — Торхалли, в таком вот порядке.
Гест улыбнулся:
— Значит, она думает, меня нет в живых?
— Пожалуй что так.
— А Гейрмунд даже в собственном доме не распоряжается?
— Нет, — ответил Атли. — Говорят, она вышла замуж из-за денег, а не по любви.
— Умная женщина, — сказал Гест. — И сильная.
Атли промолчал. Потом спросил, как Гест поступит с ними.
— Тут решаю не я.
Гест крепко задумался, ведь в этой истории все ж таки была загадка, закавыка или не сформулированный покуда вопрос о том, почему Онунд по-прежнему преследовал его, коли Онундов отец уже отмщен. Ведь Онунд не мог не знать об этом, коль скоро все случилось еще в тот год, когда Гест покинул Исландию. Он спросил, знает ли Атли, где находится Онунд.
— Кабы я знал, его бы уже в живых не было, — просто сказал Атли и опять спросил, как Гест поступит с ними. — Ты ведь явно имеешь большое влияние на кормчего, верно?
— Да, — быстро сказал Гест. — Я уговорю его отпустить тебя в Хладир. Там ты придешь к ярлу и скажешь, что желаешь отправиться вместе с ним в поход на запад, в Англию. Тогда он отнесется к вам без подозрений. А в море, когда флот направится к Хьяльтланду,[80] вы сможете удрать.
Атли ответил, что план ему по душе, и взглянул на братьев, которые согласно кивнули.
Они вернулись на корабль, где ярловы люди пили вместе с исландцами. Гест сказал Стейнтору, что кормчего по-настоящему зовут Атли, а в остальном совесть у него чиста, он идет в Хладир, просить места в войске. Стейнтор отозвался не сразу:
— Они твои земляки. Пусть Атли даст клятву, что сделает, как ты говоришь. Однако ж оружие мы оставим у себя, как и большую часть продовольствия. Но по возвращении все вернем, если, конечно, еще застанем его в городе.
Атли возражать не стал. Гест вновь отвел его в сторонку и, вручив перстень, который достался ему от матери, попросил отвезти эту вещицу в Исландию и отдать Аслауг в знак того, что он жив, крохотный, несущественный знак, ведь отныне ни Исландия, ни даже Аслауг его не интересуют, все они умерли в тот миг, когда он услышал о Торстейне и его сыновьях, он, Гест, уничтожил их, тем не менее пусть она получит этот перстень, он же толком не сознавал, что делал, просто протянул перстень Атли и сказал все то, что сказал. Позднее он назовет это отчаянием, настолько безмерным, что целый мир идет прахом, а от детства остается лишь едва заметный волосок.
Атли кивнул:
— Я помню, как ты мерился силами с Горным Тейтром. Не укладывалось у меня тогда в голове, что такой маломерок сумел прикончить Вига-Стюра. Тем более что Тейтр уложил тебя на обе лопатки.
— А теперь? — спросил Гест.
Атли усмехнулся и пожал плечами.
Перегрузив товары исландцев на свои корабли, они продолжили путь. Но едва обогнули мыс, как ветер стих. Следующей ночью тоже царил полный штиль. Гест ходил чернее тучи, взвинченный, раздраженный, недовольно фырчал, когда Стейнтор с ним заговаривал, бродил по палубе, сопя и гримасничая, слагал хулительные стихи и затевал ссоры с командой, опрокидывал пивные кружки, швырял в море спальные мешки.
Народ начал поколачивать его и кулаками, и веслами, а он увертывался и продолжал куролесить. Стейнтор прикрикнул, велел всем утихомириться, но они аккурат придавили Геста к палубе, колошматя его кулаками и кружками, накрыли щитом и забавы ради скакали на нем да еще и несколько ведер воды на него выплеснули, когда же его наконец оставили в ватном беспамятстве, было уже за полночь.
— Мне надо в Бьёргвин, — сказал Гест.
— Со мной ты, во всяком случае, не поплывешь, — решительно заявил Стейнтор. Однако потом немного смягчился. — Я друг Эйстейна сына Эйда. И могу отправить тебя в Бьёргвин, к моему сыну, он тоже корабел. Побудешь там, пока не объявится Эйстейн, он ведь собирается с ярлом в поход на Англию. Попроси его, пусть возьмет тебя на Западные острова,[81] здесь тебе оставаться нельзя, и в Исландию опять же путь заказан.
Гест согласился.
— Я две ночи не спал, — буркнул он.
Под ехидные прощальные возгласы команды Стейнтор посадил Геста на другой корабль, и тот доставил его на юг, в Бьёргвин. Жил он вместе с шестьюдесятью работниками-корабелами в большом вонючем доме, где была всего одна дверь и один очаг, днем работал, строил на верфи у залива Ваген корабли для важного хёвдинга, сиречь для Эрлинга сына Скьяльга, а вечерами и ночами сидел в кабаках и крепко пил.
Потеплело, острова и горы вокруг Бьёргвина зазеленели. Сам город оказался куда меньше Нидароса, просто беспорядочное, шумное торговое поселение, пристань с лавчонками, палатками да некрашеными домишками по-над фьордом, причалы, лодочные сараи, усадьбы, а вот церкви нет, хотя священник и пятеро монахов добрались сюда и по праздникам служили мессы, прямо под открытым небом или в ветхом сарае, где перед началом литургии вешали над дверью незамысловатый деревянный крест, а после службы сразу убирали.
Конечно, здесь не приходилось нервозно оглядываться на ярла, зато хватало других важных людей, которые так или иначе состояли в союзе с Эрлингом сыном Скьяльга из Солы, самым могущественным из южных хёвдингов. При конунге Олаве он был лендрманом и херсиром,[82] а после Свольда заключил мировую с ярлом Свейном, братом хладирского ярла Эйрика, однако отнюдь не подчинялся ни тому ни другому. Человек независимый, упрямый, суровый, Эрлинг тем не менее пользовался у своих подданных любовью и уважением, поскольку был щедр, по крайней мере к тем, кому доверял, а к их числу принадлежала едва ли не половина прибрежного населения. Вдобавок ходили слухи, будто Эрлинг задумал уклониться от предстоящего похода на Англию; Гест поддерживал эти домыслы, с кем бы ни встречался — с рыбацкими старшинами, с купцами, с корабельщиками, — постоянно твердил про ярлово проклятие, про то, что удача изменила и ему и Хладиру и что Англия станет его Свольдом.
Со временем Гест устроился у одной женщины, которая вытянула из него последние деньги, эта красотка, словно бы неуместная и странная в спившемся городишке, изрядно наловчилась, однако, сеять раздоры меж мужчинами, с которыми водила компанию. Откликаться на имя Гюда она не желала, сколько бы Гест ни упрашивал и ни платил, стояла на своем, и точка: она Йорунн из Восса, крестьянка, сбежавшая от мужа, из самой что ни на есть жалкой, захолустной усадьбы возле ледника, и мечтающая когда-нибудь отправиться в Румаборг и с благословения Папы выйти замуж за кардинала, — ясное дело, о вероучении она ни малейшего понятия не имела.
— Надо только верить, — отвечала она на Гестовы раздумья, будто вера могла преобразить мертвые тела в Бё, стоявшие у Геста перед глазами, сделать все как раньше, освободить его от вины.
Однако ж Йорунн была чистая и дикая, как запальчивый ребенок. И Гест несколько раз сватался к ней, правда с пьяных глаз, наутро сожалея об этом. Но во время следующей попойки сватался снова, говорил, что будет ее кардиналом, он ведь и латынь знает. Йорунн его предложения отвергала, называла своим исландским мальчиком-двергом. В ответ Гест провозглашал ее Колдуньей с белых гор, потому что, пробыв тут месяц, обнаружил, что она ясновидящая. Пришел домой мокрый, вусмерть пьяный после очередной ночи в дурной компании и проснулся от ее мелодичного голоса. Лежа с закрытыми глазами, она сказала, что видит четверых детей, играющих на бурой весенней лужайке под большой четырехглавой горою, двух мальчиков и двух девочек, Халльберу и Стейнунн.
— Они смеются? — спросил Гест.
— Да, — отвечала Йорунн, — ведь мальчики не знают, что хладирский ярл казнил их отца, а девочки думают, что ты вернешься. Еще я вижу крупную темноволосую женщину, которая учит их ткать, сейчас она поднимается на гору, по этой тропе она ходила много раз, сама ее и проторила, но сейчас она идет медленно, потому что носит под сердцем дитя, и на губах у нее играет светлая улыбка, ведь она уже любит это дитя, будто глаза его не один год смотрят на нее, это мальчик, твой сын, он растет у нее во чреве, набирается сил, как раз оттого, что она изо дня в день поднимается на горную кручу и молится перед крестом, вырезанным на скале.
Эта картина так явственно предстала у Геста перед глазами, что рука его невольно потянулась поддержать Ингибьёрг, хоть она и оттолкнет его, ей помощь не надобна, пусть даже она вдруг с криком сгибается.
— Пришел срок, — испуганно говорит он и видит, как она рожает на траве под вешним солнцем, как появляется на свет красный орущий мальчуган, которого она встречает ликованием, ибо теперь будущее усадьбы и рода обеспечено. Внезапно ребенок замолкает, будто ему нечем дышать, и она сама окропляет его водой, дабы он не погиб, прежде чем хоть раз согрешит, и, встрепенувшись, он опять принимается кричать.
Гест с облегчением переводит дух, но тотчас его молнией пронзает мысль, что, может статься, этому мальчику придется взять в руки оружие и мстить за него, коли он, Гест, не сумеет остаться в живых, а затем жить в столь же бесконечных скитаниях. Потрясение столь велико, что Гест решает проснуться; любой может проснуться, думает он, и я тоже, надо просто открыть глаза, — и он видит Йорунн, теплую, красивую, с такой же светлой улыбкой на губах, как у Ингибьёрг, потом и она открывает глаза.
— Ты все видела? — недоверчиво спрашивает он.
— Да, видела.
— Ребенок жив?
— Жив.
Зато Гест теперь не жив. Утром он идет на работу, сосредоточенно режет узоры на рулевых веслах и планширах по образцам, какие ему дают, пьет только по вечерам, и не до умопомрачения, а так, чтобы скоротать время, пока надоедливые мужчины Йорунн сделают свое дело и она сможет вновь открыть свои провидческие глаза.
— Ты видишь Грани? — спрашивает он. Грани, который глаз не сводит со Стейнунн. Она видит седовласого Тородда, что и нынешний год собирается в горы на плавильню, и Хедина, который переберется в Хавглам вместе с женщиной из почтенного тьоттского рода. В особенности же Гест интересуется сыном, тот уже ползает в траве и летом будет крещен — каким именем его нарекут? Н-да, на севере в Сандее жизнь у всех идет своим примечательным чередом, и в порыве дерзкой уверенности он предполагает, что Онунд, наверно, не сумел натворить там больших бед, и спрашивает, не видит ли Йорунн и его:
— Можешь увидеть Онунда?
— Да, — отвечает она, но лишь после того, как Гест подробно его описывает. А видит Йорунн вот что: Онунд бредет берегом фьорда, четыре дня, и ясным осенним днем приходит в Сандей, измученный голодом, стужей и лютой ненавистью, но к тому времени люди его так околдованы радушием Ингибьёрг, что все его яростные призывы пропадают втуне, кроме того, он узнаёт, что Ингибьёрг отправила Геста на юг, к ярлу, и что она готова одолжить ему, Онунду, корабль, чтобы он мог добраться до Тьотты.
Затем Онунд исчезает. Йорунн не может сказать, чем он занят после Сандея, парус его точно крыло на волнах — взмах, и он пропал в вышине. И это тоже на удивление под стать Гестовым надеждам, он пьет еще меньше, а работает еще больше и как-то вдруг приобретает славу прилежного и искусного мастера.
Каждый вечер по возвращении домой Гест терпеливо ждет, глядя, как Йорунн наполняет кожаный пузырь горячей водой, потом холодной и снова горячей, зажимает его между ног, промывает себе влагалище, чтоб не осталось в нем семени тех мужчин, с которыми она спала. Гест даже сам греет воду, лишь бы поскорее лечь в постель и устремить взор на Сандей, — Йорунн вздрагивает от холодной воды, стонет от горячей, заливаясь румянцем, и вздрагивает опять, она не прочь и немножко подкрепиться да пропустить кружечку-другую пива, а прежде чем сосредоточиться, непременно требует у Геста денег, до нитки норовит его обобрать, но уж тогда поведает что угодно, про Стейнунн, которая, стоя на берегу, рассказывает историю…
Какую же именно?..
На этот вопрос у Йорунн ответа нет, никогда.
Постепенно Геста начинает раздражать, что одно Йорунн видит, а другое нет. В особенности ему удивительно, что она не рассказывает ни про Исландию, ни про Нидарос, хотя новости оттуда очень бы пригодились. И вот однажды утром он просыпается от собственного голоса, да, голос явно его собственный, ведь в комнате никого больше нет, он садится на постели и понимает, что говорит во сне и что так с ним было всегда, говорит о том, чего страшится, на что надеется, о чем тоскует, он — мечтатель-сновидец, а Йорунн, вероятно, не более чем внимательная слушательница?
Гест встает, выходит на улицу, оглядывает крохотную лачугу. Возвращается внутрь и спрашивает себя, стоит ли идти на верфь. Стоит ли дожидаться Эйстейна? В конце концов на верфь он все-таки идет. Но как раз этим утром «Суровый Барди» — корабль, который они строят для Эрлинга сына Скьяльга, — найден в плачевном состоянии, изрубленный топорами и звериной ненавистью. Многие говорят, что за лиходейством стоит сам Эрлинг и его люди и что они же искорежили другие корабли на побережье, дабы под этим предлогом уклониться от ярлова похода на Англию. И тогда Гест уходит. Покидает свое рабочее место, возвращается в лачугу, никого там не находит и снова собирает свои вещи, вернее жалкие их остатки, ибо недели, проведенные с Йорунн, с женщиной, которая умеет дать мужчинам именно то, чего они жаждут, сиречь их собственные мечты, дорого ему обошлись. С собой он берет оружие, условный знак, полученный от Ингибьёрг, немножко денег, однако к деньгам Йорунн не прикасается, она их заслужила, обвела его вокруг пальца и преподала хороший урок насчет собственной его неосведомленности. Засим он уходит из города, держит путь на восток.
Гест идет в глубь страны, шагает берегом фьорда, смотрит, как день открывает взгляду горы, вокруг нежной зеленью сияет лето, а Гест вновь занят тем, для чего рожден на свет: идет, перемещает свое маленькое тело, покидает одно место и приходит к другому, покидает и его, идет дальше, продолжает свою историю, тут и там уговаривает бондов и рыбаков перевезти его через реки и мелкие рукава фьордов, он в Норвегии и платит за перевоз совсем немного, большей частью рассчитывается стихами да рассказом. В плохую погоду заворачивает в усадьбы, просит ночлега, а не то ночует под сводом Божиих небес или на сеновале, взломав дверь, коли она заперта.
Когда народ спрашивает, кто там пришел, он отвечает: «Смерть», — но отвечает с улыбкой, и его впускают. Зовет он себя то Хермодом сыном Одина,[83] то Иваром Крещеным, то говорит, что он из земли скоттов и имя ему Малькольм, и развлекается, меняя выражение лица и коверкая слова на манер купцов-русичей, которых встречал в Трандхейме, — якобы это и есть ирландский язык. В одной усадьбе его обзывают рванью и, ругательски ругая, гонят взашей, тогда он ночью возвращается, крадет там одежду и провизию, а в очередной усадьбе сообщает, что ходил в викингский поход, рассуждает про Англию и Валланд,[84] и народ как будто бы находит удовольствие в этих баснях, ведь при всей надуманности они достаточно похожи на правду, чтобы возбуждать у слушателей интерес, вызывать возражения и поправки, смех и слезы, а значит, трапеза обеспечена.
С особым восторгом к нему, чудаку, относятся дети, по сути-то Гест и сам ребенок в образе маленького взрослого или маленький взрослый в образе ребенка, и когда он уходит, они бегут следом и весело гомонят, пока он, состроив жуткую рожу, не нагоняет на них страху и не заставляет воротиться домой.
Добравшись до вершины фьорда, Гест взбирается на гору и продолжает путь на восток, мимо искрящихся ледников, и ему чудится, будто рядом стоит Тейтр, повторяя, что в тумане человек поднимается слишком высоко, из опасения, как бы не пришлось спускаться слишком низко. И все ж таки Гест сбивается с дороги и целую неделю не видит ни людей, ни жилья, удит рыбу в озерцах и горных ручьях, ловит куропаток, а то и голодает по нескольку дней кряду, этому он тоже научился у Тейтра.
— Я голоден, — говорит он, просто чтобы услышать собственный голос.
— Ты это о чем? — отзывается Тейтр. — Иди, пока одежа твоя не высохнет, а потом ложись спать.
Ориентировался он только по солнцу, звездное небо было блеклым, неясным, а окружающая местность вообще ничего ему не говорила, пейзаж повторялся как дурной сон, складка за складкой, нагорье за нагорьем, без конца и края, серо-зеленое море оцепеневшей зыби простиралось за окоем, и Гест думал, что не иначе как уже забрел аж в Свитьод, вдруг очутился в каких-то лесах, из которых не может выбраться. Поднявшись на вершину кряжа, он вроде бы определял нужное направление, но как только спускался в зеленое море, тотчас сбивался с пути. В конце концов в одной усадьбе он выяснил, что находится в долине Халлингдаль и что до озера Мёр ему предстоит пройти столько же, сколько он прошагал от Бьёргвина.
За небольшую плату один из бойцов провел его через ближайшую горную гряду. Продолжив путь, он наткнулся на небольшую пастушью хижину, взломал дверь и отлеживался там два дня, копил силы. Но на третью ночь, в самый темный час, проснулся от голосов, вышел наружу и увидел, что лес подступил ближе, вернулся в хижину, опять уснул, и опять проснулся, и тут только сообразил, что это за голоса — с ним говорило одиночество.
— Онунд, слышишь ли меня? — крикнул он.
И лес подступил еще ближе.
Делать нечего, надо собираться, идти дальше, и Гест идет, натыкается на усадьбу, а затем выходит на сетер, на горное пастбище, где обретается один лишь мальчонка-пастух, которого он, пригрозив оружием, уводит с собой. Лето давно перешагнуло на вторую половину, когда они перевалили через последний кряж и увидели впереди озеро Мёр, длинное и узкое. Мальчонка указал Гесту, где расположена усадьба Ингольва сына Эрнольва, приходившегося Ингибьёрг дядей по отцу, а Гест пропел ему стихи и сказал, что такова награда ему в этом мире.
— Щедрая награда, ничего не скажешь, — заметил мальчонка.
— Это молитва, — пояснил Гест, не сводя глаз с озера, которое под низким солнцем походило на сверкающий меч. — И сложил ее величайший из скальдов.
Мальчонка пожал плечами и ответил, что его это не интересует, он в жизни не встречал этакого скупердяя, как Гест, который вдобавок разговаривал во сне, бесперечь болтал обо всем, что нормальный человек держит при себе. С этими словами он отвернулся и зашагал на запад, к дому.
Гест поневоле сел и спросил себя: как Тейтр умудряется жить один? Год за годом. Впрочем, все, кого ему недоставало, в последние дни были рядом, близко, как никогда.
Народ трудился на обширных спелых нивах, которые золотистыми коврами спускались от опушки леса к озеру, — и женщины и мужчины. Гест насчитал одиннадцать лошадей и десяток волов, с телегами и без, тут же сновала ребятня, больше гомонила и забавлялась, чем работала. Однако он не спустился во двор, к домам, постоял, потом сел, глядя на эту усадьбу и с волнением думая о том, что добрался до цели, что именно здесь все решится, что бы это ни было.
Немного погодя его заметили, принялись показывать пальцем. Одна из женщин оторвалась от работы, медленно пошла вверх по склону, с граблями в руках, выставив их вперед, словно оружие, остановилась на почтительном расстоянии, козырьком приставила ладонь к глазам, долго смотрела на него и наконец спросила, кто он такой.
Гест на вопрос не ответил, но в свою очередь крикнул:
— Эта усадьба называется Хов?
— Да, — откликнулась женщина.
— Люди из горной долины сказали мне, что здесь живет Ингольв сын Эрнольва. Это верно?
— Да, — опять сказала она и подошла ближе.
Тут Гест разглядел, что она не из трэлей, платье на ней было из цветного льна, а на стройной белой шее поблескивала цепочка, плечи у нее тоже куда белее, чем можно бы ожидать, волосы заплетены в косу и закручены узлом, который, правда, успел распуститься, на лбу и на верхней губе виднелись бисеринки пота, но глаза тонули в тени.
— Ты не могла бы позвать сюда Ингольва? — крикнул Гест. — И скажи ему, пусть придет один. — Оружие я положу здесь. И буду ждать вон там, на холме, чтоб вы видели: я пришел с миром.
— Нам не видать, что прячется в лесу.
Гест улыбнулся:
— Тогда я спущусь к сараям и подожду там. А ты приведешь Ингольва, ладно?
Она кивнула, попятилась на несколько шагов, потом повернулась и побежала прочь.
Гест неторопливо пошел следом, глядя на ее узкую спину, на волосы, развевающиеся за спиной, точно флаг, потом она исчезла среди домов, откуда донеслись странные крики. Он сел и стал ждать. Наконец возле самого большого дома появился мужчина, старик, с седыми прядями в волосах и бороде, но крепкий, осанистый, и медленно зашагал по свежескошенной лужайке. Лицо у него было широкое, открытое, глаза зорко примечали все вокруг.
Откуда ни возьмись, появились еще двое, молодые парни, каждый с обнаженным мечом у бедра, Гест углядел, как старик подал им едва уловимый знак, после чего остановился, на расстоянии пяти шагов. Они поздоровались, некоторое время постояли, присматриваясь друг к другу, потом оба сели.
— Нынешним летом приезжал к нам гонец из Халогаланда, — сказал старик, облокотясь на колено. Гест заметил под его кожаным плащом золоченые ножны и пожалел, что оставил оружие у леса, а еще вспомнил, как заторопился мальчонка-пастух, когда они увидели эту усадьбу, и, задумавшись, слишком поздно обнаружил, что двое парней вот-вот окажутся у него за спиной. Он поднялся на ноги.
— Зачем эти люди заходят мне за спину?
— Затем, что я так велел, — ответил Ингольв. — Кто тебя послал?
— Ингибьёрг.
— Да, ростом ты, как я погляжу, невелик, и это главная твоя примета. А условный знак от Ингибьёрг можешь предъявить?
— Он в котомке. — Гест кивнул в сторону опушки. — Вместе с моим оружием.
— Сэмунд сходит за твоим добром, а ты подождешь тут. Садись.
Гест подчинился, думая о том, что за лето побывал в таком множестве усадеб, что и счет им потерял, но этак его нигде не встречали.
— Здесь что же, размирье? — спросил он.
— Мы долго жили в мире, — ответил Ингольв, по-прежнему с показным спокойствием в голосе, взгляд прищуренных глаз оставался непроницаем. — Однако я человек осторожный. Эти двое — мои сыновья, Хавард и Сэмунд.
Старик не пошевелился, пока не вернулся Сэмунд, который бросил Гестово оружие наземь, а котомку протянул отцу. Ингольв развязал ее, отыскал кошелек, торжественно извлек оттуда перстень Ингибьёрг, повертел его так и этак, словно радуясь встрече с давними воспоминаниями, и наконец сказал, что Гест, должно быть, и впрямь близкий друг Ингибьёрг.
— Ведь этот перстень я подарил ей на свадьбу, больше двадцати лет назад, он принадлежал ее бабке по отцу. Что ж, добро пожаловать, погостишь у нас, сколько я позволю. Возьми свое оружие, Сэмунд покажет, где ты будешь ночевать, а вечерком расскажешь мне про свои скитания.
Ингольв повернулся и зашагал к домам, все той же неспешной походкой. Гест поежился. Но тут Сэмунд улыбнулся, сверкнув крупными белыми зубами. Он был лет на десять старше Геста, стройный, широкоплечий, с той же грозной живостью в облике, как и отец, черная борода подстрижена узким клинышком, Гест видел такие у викингов, вернувшихся из походов.
Он закинул топор на плечо, сунул меч в ножны, взял копье, держа его острием вниз, другой рукой подхватил котомку.
— Вы знаете, кто я? — неожиданно спросил он, глядя на улыбающегося Сэмунда.
— Да, — ответил тот.
— Зачем же мне тогда рассказывать про мои скитания?
— Хотим послушать, расскажешь ли ты то же, что нам известно.
Гест вспомнил Ингибьёрг, ведь она считала, будто он что ни скажет, то соврет.
— Случившееся однажды не должно случиться вновь, — сказал он.
— Что? — переспросил Сэмунд.
— Привычка у меня такая, — обронил Гест, заметив, что обитатели усадьбы вернулись к работе. — Я сам с собой разговариваю.
Птицы
Итак, Гест в Хове. Под крылом Ингольва сына Эрнольва, бывшего лендрмана конунга Олава. Отец его был херсиром при Хаконе Воспитаннике Адальстейна, а прадед верой-правдой служил конунгу Харальду Прекрасноволосому, собирателю норвежских земель. Высокий дух Прекрасноволосого жил в этом боготворном краю словно в общине единоверцев, с сокрытыми в лесах дозорами. Немногочисленные друзья Ингольва обосновались за озером, в Хедемарке, прежде всего могущественный Рёрек, мелкий конунг, которого Ингольв знал еще с тех пор, когда отцы их служили в дружине конунга Хакона.
В усадьбе было три больших дома, расположенные плавной Дугою, ровно укрепление, открытое в сторону полей и озера, множество кораблей стояло там у пирсов, в том числе морской корабль, который Ингольв доставил сюда из Вика и почитал как память о временах своей морской славы. За большими Домами находились двухэтажные бревенчатые клети и сараи, большой скотный двор, два длинных коровника, загоны для лошадей, овчарни и сеновалы вдоль всей опушки леса; посреди дворовой лужайки рос могучий дуб, бросавший прохладную тень на свору блохастых собак, что спали на привязи.
Странные крики, которые слышал Гест, доносились из продолговатых клеток, которые были установлены на сваях и вереницей тянулись от бани до скотного двора; в клетках, привязанные за лапу тонкими кожаными ремешками, сидели на обтянутых кожей жердинках ловчие птицы — соколы, коршуны, ястребы. Они-то и издавали наперебой эти крики, похожие на детский плач и вековечную тоску, меж тем как над ними и вокруг них гомонили тучи яростных дроздов и ворон. У Ингольва было девятеро сыновей и две дочери, всех их родила ему Рагнхильд дочь Свавара, на которой он женился на Готланде во время своего первого похода, но за год до появления Геста болезнь свела ее в могилу. Сейчас в усадьбе оставались только дочери да двое сыновей, с виду веселый и беззаботный Сэмунд и Хавард, хозяин ловчих птиц, с отчужденным взглядом мутно-серых глаз, с землисто-серым лицом, будто смерть уже вонзила в него свои когти. Он был немного старше Геста и ростом изрядно повыше его, неизменно носил одежду из темной кожи и отличался немногословием.
В главном доме по стенам висели ковры, изукрашенные шлемы и щиты, в изобилии имелись там и цветное стекло, и оружие — наследие, добыча грабежей и военные трофеи, ведь Ингольв много лет разорял чужие берега, прежде чем примкнул к войску Олава сына Трюггви (тогда оно стояло в Нормандии), а позднее в тот же год участвовал в последнем походе Олава на Англию, когда конунг зимою принял крещение. Ингольв тоже крестился, по приказу конунга, и с тех пор, как принял наследство после брата, погибшего вместе с Олавом при Свольде, сидел в Хове, держа врагов на расстоянии, а друзей на привязи щедрости; слыл он тороватым и скупым, жестким и уступчивым, порой даже легковерным, потому что действовал смотря по обстоятельствам.
Некогда в усадьбе было языческое капище, но Ингольв и Рагнхильд своими руками сровняли его с землей, теперь же, на склоне лет, старик подумывал, не воздвигнуть ли на том месте церковь, в память о Рагнхильд, да все ждал знамения, ведь он ничего не делал вгорячах, ему непременно требовался явный знак свыше, который ни с чем не спутаешь.
Поселили Геста в постройке, где у Ингольва жили верные люди, звали их работниками и управителями, а не то и гостями, но они больше походили на военную дружину, не расставались с оружием, несли охранную службу, охотились в лесах, ловили в озере рыбу и только в страду трудились наравне с трэлями, как обыкновенные работники, и каждое лето Ингольв отсылал третью их часть в военный поход.
В первый же вечер Геста отвели в пиршественный зал и указали место подле Ингольва, сделал это угрюмый, непомерно толстый хьяльтландец,[85] который явно недоумевал, за что маломерку такая честь.
— Ты кто? — спросил он, однако, не дожидаясь ответа, повернулся к Гесту спиной.
Все ели, пили вино и пиво, а Ингольв, сидя на почетном месте, с выражением ребяческой гордости на широком лице обозревал собравшихся. Временами он обращался к Гесту, выслушивал его ответ, затем, то ли потеряв нить разговора, то ли интерес, опять погружался в собственные мысли, а немного погодя снова начинал разговор. С оттенком смиренной горечи он поведал, что старший его сын служит у свейского конунга Олава, второй же по старшинству — в дружине датского конунга Свейна, ему пришлось пойти на это по тактическим соображениям, после Свольда, уступить сильнейшему, чуть ли не пожертвовать сыном, покупая мир. Правда, остальные сыновья ушли в викингские походы.
— Конунг Свейн умер, — заметил Гест.
— Верно, — кивнул Ингольв. — Но Эйвинд явно об этом не знает, потому что хочет остаться в Дании, у Кнута. — Он устало вздохнул. — А теперь, исландец, я желаю услышать, правда ли все то, что про тебя рассказывают.
Гест ответил, что знать не знает, что про него рассказывают, однако ж принялся излагать свою историю, хотя на сей раз обошел молчанием последние события с Онундом, тот факт, что подарил жизнь своему гонителю, а также некоторые подробности жизни у Кнута священника, но, поскольку уже слыхал о строительных планах Ингольва, сообщил, что возвел на мысу Нидарнес церковную стену и что ярл определенно проявляет к новой вере все большую благосклонность.
Ингольв спокойно слушал, потягивая вино, но, как только был упомянут ярл и убийство Транда Ревуна, насторожился и велел Гесту повторить это еще раз.
— Коли ты вправду тот самый человек, за какого я тебя принимаю, ты наверняка хочешь знать, как обстоит с этими детьми. Старшая девочка выйдет за Грани, который был здесь нынешним летом, так решила Ингибьёрг, и насколько я понимаю…
— Грани был здесь?
— Да, думал повидать тебя. А теперь, поди, рассказывает там, что ты умер или отвернулся от них. Он приехал с двумя людьми Ингибьёрг, а уехал с пятью моими. — Старик коротко хохотнул. — Они вернутся до наступления зимы.
— Чего же он хотел? — спросил Гест.
— Хотел сообщить, что Ингибьёрг родила сына. И назвала его в твою честь. А еще хотел предупредить тебя насчет одного исландца, которого ты, по слабости характера, не убил, он по-прежнему ищет тебя, а вероломных людей всюду хватает.
— И здесь тоже?
— И в Сандее тоже, — поправил Ингольв. — Поэтому я прогоню тебя, как только замечу, что ты ставишь под угрозу моих людей.
— Что ж, постараюсь сделаться незаменимым, — сказал Гест с наигранной беззаботностью.
Но старик, кажется, не разделял его мнения.
— Как я говорю, так и будет, — помолчав, сказал он.
Гест тоже помедлил, потом обронил:
— Такое никому не дано.
Снова повисло молчание, Ингольв размышлял.
— Смутные времена наступают, — задумчиво произнес он. — В народе говорят про нового конунга, который снова будет собирать страну и крестить ее. И произойдет это вскорости, ибо страна останется без защиты, коли ярл отправится на запад. Однако ж многие из здешних вождей по-прежнему держатся старой веры, а стало быть, начнутся распри, и при таких обстоятельствах я не могу впутываться еще и в твое дело.
Все это время Ингольв смотрел на застолье, но теперь взглянул прямо на Геста, словно подчеркивая значимость своей последней фразы.
— А сейчас, по-моему, пора выпить за Ингибьёрг, — сказал он с нежданной улыбкой и поднял кубок. — И за ее сына.
Гест, как наяву, видел перед собою этого сына, еще одного мальчонку, который носит его имя, и еще одну мать, которая считает его мертвым; вот такова смерть, думал он, глядя на старика поверх изукрашенного серебряного кубка.
Дочери Ингольва расхаживали по залу, подавали еду и напитки. Младшая, Аса, была молчалива и сурова, одета скромно и не слишком пеклась о своей внешности. А вот у старшей, Раннвейг, в ушах и на шее блестели золотые украшения, и платье ее, лазурно-голубое, с глубоким вырезом, по словам Ингольва, было привезено им из франкских земель в подарок ее матери, вообще-то по наследству оно досталось Асе, но та его не взяла, она ни на что не притязала, не в пример Раннвейг, которая хотела получить все, и платье перешло к ней. Именно Раннвейг встретила Геста на опушке, поэтому, когда она проходила мимо, он с улыбкой спросил, знает ли она теперь, что прячется в лесу.
— Нет, — ответила девушка.
Ингольв сообщил, что она выйдет за Рёрека, а потом опять завел речь о церкви, которую собирался построить, о том, что сей замысел осенил его во время паломничества в Румаборг: после кровавого поражения при Свольде он, сломленный и павший духом, пришел в саксонскую землю, и там Господь обратился к нему и призвал в Румаборг, и он отправился туда с горсткой людей, как нищий попрошайка, и увидел город столь невероятной красы, что самый закоренелый язычник поневоле бы рухнул на колени и попросил прощения за свой нелепый образ жизни. Не переводя дыхания, он начал уговаривать Геста совершить такое же паломничество, тогда он поймет, какая сила вела его по земле, ведь божественный порядок есть во всем, даже в путаных скитаниях вроде Гестовых.
Гест помолчал, потом печально сказал, что, куда бы ни приходил, он всюду был незваным гостем.
Ингольв улыбнулся и заметил, что быть званым и быть желанным все-таки не одно и то же, здесь Гест желанный гость, а в Румаборге он будет и желанным и званым.
Дни стояли погожие. Лето вообще выдалось погожее. И в лесах царила до того величавая тишь, что Гест словно бы слышал небеса, а изредка набегавшие тучи, пролившись дождем, исчезали, и над миром вновь сияло солнце.
Гест резал по дереву, так, для собственного удовольствия, ведь ему ничего не поручали, слушал, о чем люди говорят, развлекал молодежь стихами и нелепыми историями и не упускал случая поболтать с Раннвейг. Она смеялась его рассказам и гримасам, но на вопрос, знает ли она теперь, что прячется в лесу, всегда отвечала «нет».
— Я тебя не знаю, — твердила она. — И знать не хочу.
С Асой же он разговаривал мало. Хмурая, неприветливая, с узким худеньким личиком, она распоряжалась на поварне как солидная пожилая хозяйка, хотя на правах младшей хозяйской дочки вполне могла бы и бездельничать. Все ключи были у нее, и она доглядывала за всем, до чего у Ингольва руки не доходили, хотела-де таким вот манером крепко-накрепко зацепиться в усадьбе, срастись с Ховом, шушукался народ, тогда, глядишь, отец не отдаст ее замуж как залог одного из многих хитроумных союзов, какие он непрерывно заключал, Аса мужчинами не интересовалась, в том числе и Гестом; она никогда не смеялась над его байками, да и с другими, как он заметил, в разговоры вступала редко, разве что с ребятишками, но по временам подолгу шепталась с отцом, а не то советовалась с Хавардом, оба они были младшими в семье. Она тут вроде как не своя, думал Гест, ровно хищная птица в Хавардовой клетке, с привилегиями, правда, и без колпачка, однако ж с незримым кожаным шнурком на ноге.
Зато Гест хорошо поладил с обоими братьями, при всей их непохожести. Сэмунд, вспыльчивый, непоседливый, безжалостный, с первой же минуты стал относиться к Гесту как к ближайшему родичу.
— Седлай коня, — сказал он. — И едем со мной.
Хавард нравом был совсем другой — замкнутый одиночка, бирюк, серый его взгляд покоился в себе либо устремлялся вдаль, к окоему. Когда начиналась охота, верховодил всегда Сэмунд, кричал, командуя людьми и сворой лающих псов, а охотились они на оленей, и он украшал стены дома рогами да шкурами. Хавард же ставил капканы, устраивал ямы-западни, охотился со своими ястребами и о трофеях не пекся.
— Кроме печенки, мне ничего не надо, — говорил он.
Печенку он резал на куски и запихивал в глазницы конской шкуры, которую натянул на козлы в одном из сараев. Там, закрыв все окна, он натаскивал своих ястребов, сперва держал их впроголодь, потом выпускал в сумрачном сарае: пусть ищут корм и учатся ослеплять крупную дичь.
К своим птицам Хавард относился точно так же, как Гест к Одинову ножу, считал их сугубо личным достоянием; помахивая манком, который собственноручно смастерил из голубиного крыла, он настойчивым свистом подзывал величавых птиц, чтобы после неудачной атаки они возвращались к нему, садились на защищенную кожаной перчаткой руку, а как-то раз обронил, что, не будь Гест таким маленьким, можно было бы закладывать печенку ему в глазницы и обучать ястребов да коршунов для войны, но, увы, нельзя, чего доброго, на детей нападать станут.
Гест рассмеялся.
Хавард, однако, даже не улыбнулся, смотрел сквозь него своим стеклянным взглядом и заметил, что вовсе не думал шутить; Геста он уважал, за исполненную месть и за странствия, и часто просил его рассказать о море.
И Гест охотно рассказывал. Дескать, море, оно словно небо, по которому плавают корабли, Мёр в сравнении с ним как лужа мочи, оставленная великаншей, — вот тут Хавард улыбался.
Одну из своих птиц Хавард звал Митотином, по имени чародея, который умел превращаться в божество. В свое время этот двухгодовалый коршун порвал парню ухо. Но Хавард только подточил ему клюв и продолжил обучение, и теперь Митотин мог сидеть и на плечах его, и на голове, не причиняя ему ни малейшего вреда — когда был сыт. Зато голодный коршун мог ослепить и лося и оленя, и он всегда возвращался, хотя легко выжил бы на свободе.
— Только он об этом не знает, — сказал Хавард.
— Какой же он тогда чародей, — заметил Гест. — Один прогнал Митотина, а народ убил его.
— Верно. Расскажи-ка про море.
— Ну, слушай…
Однажды, когда он рассказал про Тейтрову морскую болезнь и про то, как они спасали Онунда и его корабельщиков, Хавард вдруг обронил, спокойно, будто подводя итог:
— Ты все видишь.
— О чем это ты?
— Ты уже знаешь, что здесь происходит.
Ингольв любил рыбачить немного южнее усадьбы, в тихой бухточке, отгороженной от озера лесистым островом, в детстве он звал эту бухточку своим морем. Красивое место, окаймленное лиственными деревьями, поросшее камышом и водяными лилиями, народ в усадьбе говорил, что в глубинах прячется какая-то тайна.
— Что за тайна? — допытывался Гест.
И в ответ неизменно слышал:
— Тайна, и всё.
Говорилось это в шутку, но шутка кончалась, если кто сдуру принимался задавать вопросы.
Иной раз Гест сопровождал Ингольва, сидел на веслах. И вот однажды вечером, глядя, как ночь опускается на холмы и на озеро, старик сызнова завел речь о волшебной красе Румаборга. Сказал, что сын его, Эйвинд, скоро приедет из Дании и останется здесь на Рождество, он приезжает каждые два года, и что потом Гест может отправиться с ним на юг.
Гест кивнул, сложил весла в лодку, встал, широко расставив ноги, и принялся раскачиваться вперед-назад, только планшир поскрипывал. Затем сказал, что расскажет Ингольву загадку-притчу.
Ингольв ответил, что не прочь послушать. А Гест прибавил, что слушать надо внимательно, загадка непростая.
— Два человека ловят рыбу, — начал он. — И коли тот, что поклоняется Господу, поймает двух больших рыб, а тот, что поклоняется старым богам, — двух мелких, то язычник бросит двух больших рыбин в воду и скажет, что нынче им придется довольствоваться мелкими. Коли же, наоборот, христианин поймает двух мелких рыбешек и вздумает отправить крупных в воду, язычник пригрозит, что швырнет в воду и утопит его самого. Какой вывод ты отсюда сделаешь, а?
Ингольв задумался.
— Ты что же, опять над Господом насмехаешься? — спросил он.
— Нет.
— Угрожаешь мне? Хочешь меня в воду спихнуть?
— С какой стати? Ты был добр ко мне. Так что я снова скажу «нет».
Ингольв сказал, что сдается, пусть Гест сам ответит. Гест сказал, что прежде должен повторить загадку еще раз. И повторил. Ингольв рассмеялся:
— Я и теперь ничего не понял. Ну разве только ты над старыми богами насмешничаешь?
— Нет, опять не угадал.
Гест сел и рассказал, как много лет назад два человека сидели на берегу исландской реки и не могли перебраться на ту сторону, река-то была широкая, и по ней шел лед. Один из этих двоих, маленький, слабосильный, так измучился в долгом странствии, что хоть ложись да помирай. Второй же был большой и сильный. И пока они сидели, глядя на дальний берег, он рассказал своему малорослому спутнику эту притчу-загадку, и тот засмеялся. А в следующий миг силач столкнул его в воду и сам прыгнул следом. И оба они вправду одолели реку.
Ингольв взглянул на него и сказал, что теперь ему вовсе ничего не понятно.
— Рыбаки-то твои тут при чем?
— Маленький слабак — это я. А большого зовут Тейтр, народ кличет его Горным Тейтром, и все — что приверженцы новой веры, что сторонники старых богов — считают его полоумным и чуть ли не чудовищем. Но я-то знаю лучше, ведь он спас мне жизнь, без него я бы наверняка помер.
Ингольв долго молчал.
Потом смиренно проговорил, что у этой истории так много смыслов, что он ничегошеньки не разумеет, сколько бы ни ломал себе голову. И добавил, что никогда больше не станет заводить с Гестом разговоры про Румаборг и про новую веру.
— Значит, ты все ж таки понял. Не воображай, будто тебе известно, кто я есть. В первый вечер, когда я рассказывал о моих скитаниях, ты не слушал меня, только следил, совпадает ли моя повесть с рассказом Грани. А вот сейчас ты слушал, потому что боялся.
Ингольв молчал, закрыв лицо руками.
Гест взялся за весла, развернул лодку носом к берегу и некоторое время сидел, глядя на беззвездное небо над головой старика, на его пальцы с распухшими суставами, зарывшиеся в поседелые черные волосы.
— Через год-другой я умру, — сказал Ингольв. — И день за днем я живу в страхе: вдруг придет весть, что с одним из моих сыновей что-то случилось.
— Больше так не будет. — Гест смотрел на капли, которые, точно густая смола, падали с весел. — Завтра ты будешь вспоминать нынешнюю рыбалку и начнешь бояться, как бы я не приударил за твоей красоткой-дочерью, которую ты решил выдать за Рёрека конунга. Но опасаешься ты не меня одного, тебе не по нраву, что она благосклонно посматривает на Торира сына Дага, дружинника твоего, ведь он низкого рода. Конечно, отец обязан заботиться о таких вещах, однако ж все это сущие пустяки по сравнению с тем, что ты свершил в своей жизни. Вдобавок я тебе нравлюсь. Ты стар…
Ингольв посмотрел на него, не говоря ни слова. Потом наконец произнес:
— Ты опасный человек. Похож на самые черные мои мысли.
Шли дни, листва деревьев успела пожелтеть, и Гест уже начал дивиться, что люди, сопровождавшие Грани в Нидарос, все не возвращаются, ведь минуло так много времени. И вот однажды утром Сэмунд разбудил его и сказал, что отец желает с ним говорить. Гест встал, оделся, пошел к Ингольву и нашел его в одиночестве у пиршественного стола в главном доме. Старик собирался к Рёреку, чтобы обсудить свадьбу, назначенную на Рождество, и попросил Геста поехать с ним.
Гест не ответил. Тогда Ингольв пояснил, что высоко ценит его суждения, хотя понять их зачастую трудно, и теперь хочет узнать, что он думает о Рёреке.
На это Гест сказал, что может, конечно, поехать с ним, хотя вряд ли стоит ожидать какого-то результата.
— Почему же?
— Я много чего слышал об этом человеке.
Ингольв возразил, что Сэмунд болтает почем зря, послушать его, так в мужья сестре вообще никто не годится, стало быть, надо седлать коней.
Выехали они отрядом в двенадцать человек. Был среди них и Сэмунд, но Хавард и Раннвейг остались дома, Ингольву хотелось взять Раннвейг с собой, однако она с утра пораньше куда-то ушла и не вернулась.
Накануне Сэмунд с Гестом ходили на охоту, Гест ничего не добыл, а Сэмунд уложил лося и теперь насмехался над Гестом, дескать, лучник из него никудышный, или, может, маломерок просто боится крупных животных.
Гест сказал, что в Йорве у них дома была шкура белого медведя, которого ненароком занесло на льдине во фьорд, они с отцом зарубили зверину топорами, а было Гесту тогда лет шесть, не больше, так вот под этой медвежьей шкурой все население усадьбы помещалось, вместе с лошадьми.
— Не много же у вас лошадей-то было, — заметил Сэмунд.
— Сто двадцать.
— Значит, не иначе как мелкой породы.
— Почему? Средние.
Они пришпорили коней и принялись стрелять из луков по стволам деревьев, с криком и шумом, Ингольв велел им успокоиться, ведь они уже в Оппландских лесах.
— Что с тобой, отец? — вскричал Сэмунд. — Неужто страх тебя обуял на старости лет? И почему мы не отправились на корабле? У тебя никак и морская болезнь открылась?
Они продолжили забаву. Но тут старик остановил коня.
— Не знаю, — сказал он, — что будет, когда ты, Сэмунд, станешь хозяином в усадьбе, ибо ведешь ты себя опрометчиво, неразумно.
Сэмунд ответил, что вовсе не рвется в хозяева, он хочет стать викингом, как братья, а отец норовит привязать его к земле, ровно раба-трэля.
Ингольв покачал головой и велел всем спешиться, пригрозив, что ослушников сей же час отошлет домой.
— Тогда мы едем домой. — Сэмунд вскочил в седло. — Мне с Рёреком обсуждать нечего.
Гест тоже сел на коня.
Ингольв со свитой вернулся только через четыре дня. Был он молчалив и хмур и тем вечером в зал не вышел. Спутники его о поездке ничего не рассказывали, а хёвдинг и на следующий день не появился. Только на третий вечер он спустился к лодочному причалу, где Сэмунд с Гестом распутывали сети, и велел Сэмунду уйти, он, мол, хочет потолковать с Гестом наедине.
Сэмунд объявил, что никуда не уйдет, отец ему больше не указчик, и коли ему надо поговорить с Гестом, они сами могут пойти в другое место.
Ингольв отвел Геста в сторону, на небольшой взгорок, они сели, и поначалу старик говорил о том, что, наверно, зря не позволил Сэмунду уехать в поход, но других сыновей держать в узде было еще труднее, а Хавард слишком вялый, с усадьбой не управится.
— Он до сих пор по матери горюет, и кроме как до птиц, ему ни до чего нет дела, не интересно даже, мир ли кругом, ходит да молчит, не угадаешь, о чем он думает.
Сперва Гест помалкивал.
Но потом заметил, что, будь Сэмунд таким храбрецом, как думает Ингольв, он бы давным-давно уехал из дома, наперекор отцовским запретам.
Ингольв вроде как пропустил это замечание мимо ушей, однако, помолчав, с удивлением сказал:
— Я и сам об этом думал.
Гест подобрал горстку камешков, бросил один в воду, подождал, пока разойдутся круги, бросил еще один; полное безветрие вокруг, свечерело, из лесу доносилось далекое блеяние овец. В вышине пронесся Митотин, исчез в тени багряной рябины, на косогоре возле домов стоял Хавард, смотрел на них.
Ингольв перевел дух и сказал, что брачные узы меж Раннвейг и Рёреком укрепят связи с заозерьем. А Гест спросил, почему он не укрепит связи с оппландскими хёвдингами из Хадаланда и Тотна, тогда можно и без Рёрека обойтись.
В ответ Ингольв сообщил, что тому есть много причин, в том числе давняя кровная вражда.
— А у Рёрека владения обширные. И могут еще расшириться.
— Но в этом ты уже не вполне уверен? — вставил Гест. От Сэмунда он слышал, что распри с оппландцами начались из-за рабыни, которая стала причиной ожесточенных схваток меж молодым в ту пору Ингольвом и соседом его, хёвдингом Стейном сыном Роара.
— У Раннвейг это замужество никогда восторга не вызывало, — продолжал Ингольв. — Но она слушается меня. И хотела, чтобы ты встретился с Рёреком, а потом сказал, что ты о нем думаешь. Это ее затея.
— Рёрек стар. — Гест опять бросил в воду камешек.
— Верно. И после его смерти Раннвейг сможет распоряжаться его владениями, как пожелает. Коли родятся у них сыновья, они и будут наследниками, других сыновей у него нет.
— Он не христианин, — сказал Гест.
— Верно, но он стар.
Гест взглянул на Ингольва и увидел, что тот улыбается.
— Хочу спросить тебя кое о чем. На эти мысли тебя навел не иначе как новый конунг-христианин, который, как вы думаете, станет владыкой над всею страной, ведь Рёреку-то, не в пример тебе, недостанет хитрости вовремя принять новую веру, наоборот, он упрям, самолюбив… и стар, так?
— Так.
— С другой же стороны, ты не хочешь оказаться Рёрековым противником, коли новый конунг потерпит неудачу, так?
— Так, — опять сказал Ингольв.
Гест задумался.
— Я дам тебе совет, — наконец сказал он. — Но только при условии, что ты ему последуешь.
Ингольв порывисто провел рукой по волосам.
— Никогда я на такое не соглашался, — проворчал он.
Гест бросил в воду последний камешек.
— Но сейчас у тебя нет выбора, а? Ведь я дам тебе собственные твои советы.
В ближайшие дни они старика не видели. Ингольв закрылся у себя в опочивальне и ни с кем разговаривать не желал. Аса приносила ему еду и питье, но и с нею он не разговаривал, только, опустошив очередной бочонок, велел принести еще пива. И Аса впервые обратилась к Гесту с просьбой образумить отца.
Гест ответил, что толку от его вмешательства не будет, и вместо этого попробовал ее рассмешить — в нем исподволь возник интерес к этой странной девушке, которая была вовсе не так уж и дурна собою, кожа у нее белоснежная, как у Гюды, а характер твердый, как у Ингибьёрг, даже коротко стриженные, нечесаные волосы ее не портили, он просто обязан заставить ее засмеяться, но она даже улыбнуться не желает, пока он не выведет отца из этой кручины, что тяготит всю усадьбу.
Пришел Хавард с известием, что двое соседей собрали народ и сызнова притязают на несколько охотничьих ям, из-за которых рассорились в незапамятные времена. А в этаких обстоятельствах дурной знак, что старик закрылся в доме, ровно покойник в каменном кургане.
— Оставьте его в покое, — сказал Гест. — Сам скоро выйдет.
И он вышел. Босой, в белой рубахе, Ингольв походил на этакого поверженного апостола; кликнув двух трэлей, он велел истопить баню и объявил, что с ним вместе в баню пойдут Сэмунд, Хавард и Гест.
Когда все трое пришли в баню, старик сидел с пивом и кружками, пригласил их раздеться, сесть рядом и тоже отведать пива.
Потом он сказал, что обдумал одну вещь, о которой ему как-то раз сообщил Сэмунд.
— И я пришел к выводу, — продолжал он, не глядя на сына, — что он прав насчет Рёрека. Рёрек — старый, подозрительный язычник, не достойный ни родства с нами, ни нашей дружбы. Потому-то я решил так: пусть Раннвейг убежит с Ториром сыном Дага, а Сэмунду я даю полномочия замириться с оппландскими соседями, прежде всего со Стейном сыном Роара, ибо его слово здесь самое веское.
Все это Ингольв произнес на одном дыхании, как бы с силой выбросил из себя, после чего перевел дух.
— Ничего не скажешь, совсем новая песня, — пробормотал Сэмунд.
— Только никому ни слова, — продолжал старик. — В том числе и Раннвейг с Ториром, ведь по их лицам народ мигом все поймет. Они поедут на север к Ингибьёрг и до поры до времени останутся там, Рёрек-то наверняка осерчает… А хватит ли у Торира сил добраться до Халогаланда?
— Хватит, — ответил Гест, прежде чем Сэмунд открыл рот.
— Хватит, — подтвердил и Хавард. — Но сделать это нужно до того, как ляжет снег. Так что времени в обрез.
— Завтра ночью?
— Да, — сказал Гест.
— С какой стати сестре бежать от такого немощного старикана, как Рёрек? — недовольно буркнул Сэмунд, но отец резко его оборвал:
— Довольно! Чтоб я больше не слышал от тебя этих ребячливых разговоров! Твоя задача теперь — миром решить дело с Рёреком; предложишь ему в жены Асу, а еще большой выкуп и непременно убедишь его, что Раннвейг и Торир сами ударились в бега, против нашей воли.
Сэмунд усмехнулся:
— По крайней мере, тут ты сделал правильный выбор.
— Будем надеяться. А теперь выметайтесь отсюда, хоть вонища от вас по-прежнему, как от поросят. Я хочу побыть один. — Ингольв вздохнул и напоследок прибавил: — А ежели ты, Хавард, желаешь о чем-то меня спросить, придется тебе подождать. Пусть сперва Раннвейг с Ториром уедут.
Гест и Сэмунд встали, намереваясь выйти вон, однако Хавард с места не сдвинулся.
— У меня много вопросов, — буркнул он, — я ведь не знаю пока, какое будущее ты уготовил мне. Но перво-наперво хочу спросить вот о чем: Ингибьёрг и Раннвейг состоят в родстве, так разве Рёрек не станет искать сестру там?
— Нет такого обычая, чтобы женщина умыкала мужчину и увозила к своим родичам, — ехидно заметил отец. — Все обстоит как раз наоборот, в особенности если мужчина более низкого рода, К тому же у Торира есть родня к югу от наших мест, Рёрек будет искать их там.
Сэмунд опять усмехнулся:
— Нашему отцу хитрости не занимать.
— Что верно, то верно, — сказал Хавард.
Ночи стали темнее, листва потихоньку, точно мед, сплывала с деревьев, потому что ветра не было. И на следующий день после совета в бане Ингольв объявил, что настала осень и пора отпраздновать festivitas omnium sanctorum,[86] как принято во всем христианском мире, с застольем и истовыми молебнами.
Гест, Сэмунд и Хавард целый вечер сидели вместе с остальными, но пили мало. Около полуночи Ингольв отслужил небольшую мессу, как его научил Гест, а в заключение сказал, что теперь можно еще немного выпить, дабы освятить остаток ночи, ибо так тоже принято в мире.
Гест с Сэмундом вооружились и пошли в тот дом, где ночевал Торир, а с ним еще девять человек; оглушив парня, они перетащили его в один из свайных амбаров и окатили водой. Торир очухался, завопил было про красные вражьи щиты, потом в голове у него прояснилось, и он увидал перед собою Сэмунда, господина своего, который, презрительно глядя на него, изложил вышеозначенный план, а под конец сказал, что, если Торир не исполнит все, как велено, он будет тотчас убит.
— Он правду говорит? — спросил Торир у Геста.
— А то! — бросил Сэмунд.
— Мог бы и не грозить, — растерянно улыбнулся Торир. — Я же тут ради Раннвейг.
Сэмунд грозно замахнулся кулаком, Торир отпрянул, защищаясь. Гест велел обоим угомониться, подождал, пока не настала полная тишина, и как бы невзначай спросил, вправду ли Торир собирался сбежать с Раннвейг.
Сэмунд недоуменно воззрился на него.
Торир немного подумал и согласно кивнул, впрочем нерешительно и с легким вызовом.
— Ты с кем-нибудь говорил об этих планах? — продолжал Гест.
Торир опять задумался, потом сказал, что Раннвейг он словом об этом не обмолвился, не посмел, но доверился Арни сыну Навара, Ингольвову дружиннику из свейских краев, хотел выяснить, не пособит ли Арни найти прибежище в Свитьоде.
— Я никогда не доверял этому человеку, — сказал Сэмунд. — Но прислал его сюда мой брат.
— Вообще-то нам это на руку, — заметил Гест и снова обратился к Ториру: — Если после твоего побега Арни расскажет здешним людям про твои планы — а мы позаботимся, чтобы он так и сделал, — то, надеюсь, тебе понятно, что путь назад тебе заказан.
Торир сглотнул и кивком показал, что ему все понятно.
Сэмунд тоже задумался, кивнул и наказал будущему зятю ехать не северным трактом через Гудбрандсдаль, а сперва на юг и вокруг озера, через земли Рёрека, и дальше на север, по нагорью Хьёлен, на Сельбу. Он получит деньги, чтобы заплатить за лодочную переправу и проводникам, хорошо знающим побережье.
— В усадьбы не заезжайте и в разговоры ни с кем не вступайте, пока не перевалите через горы. Можешь дать клятву, что так и сделаешь?
— Клянусь, — сказал Торир, уже спокойнее.
Он был красивый парень, чуть сутуловатый, правда, и вертлявый, но сильный, крепкий в кости, а вдобавок замечательный охотник, Гест не раз завидовал его длинным ногам и проворству, однако сейчас только диву давался, как легко оказалось его сломить. Еще он заметил, что ему самому нравится эта игра, нравится быть вроде как одним из хозяев Хова, родичем Ингибьёрг и здешней ее рукою.
Они поднялись к опушке, зашли в лес, где ждали Ингольв, Хавард и Раннвейг. Факелов не зажигали, но Гест разглядел четырех лошадей, двух вьючных и двух под седлами. Ингольв взял Торира за плечи, повернул так, чтобы лунный свет озарил его перепачканное лицо, и сказал, что всегда питал к нему симпатию и относился с доверием. Торир покосился на Раннвейг, которая ободряюще улыбнулась, и заверил, что не подведет старика.
В прохладном ночном воздухе Гест чуял запах девушки, веяло не то розовыми лепестками, не то благовонными травами, как от женщин из ярловой свиты, от Гюды. Но она была в мужском платье, волосы подобрала и спрятала под капюшоном. Раннвейг обняла Торира, потом отца, преклонив колено, поблагодарила его, поочередно обняла братьев и наклонилась было к Гесту, однако он отпрянул и спросил:
— Теперь-то знаешь, что прячется в лесу?
— Нет. — Она засмеялась.
— Тогда я дам тебе вот это. — Гест вынул перстень, подаренный Ингибьёрг. — Как только доберетесь до места, отдай его Ингибьёрг и скажи, что хочешь позаботиться о девочках, о Стейнунн и Халльбере. Коли она осерчает, а это уж точно, скажи, что поступаешь так ради меня, она осерчает еще больше, но злость пройдет быстрее.
Раннвейг надела перстень на палец, поблагодарила, вновь тщетно попыталась обнять Геста и вскочила в седло. Торир уже сидел верхом, Ингольв держал коней под уздцы.
— Не теряйте времени впустую, — нахмурясь, сказал он. — Сроку у вас всего неделя.
Когда всадники скрылись из виду, Ингольв обернулся к Гесту:
— Не доверяю я ни Ториру, ни тебе, так почему же я все это делаю?
Сэмунд рассмеялся и сказал, что теперь пора на боковую, проспаться после праздника.
Лишь к вечеру следующего дня один из дружинников пришел к Сэмунду с известием, что Торир сын Дага пропал.
— Да ну, вряд ли он куда далеко уехал, — отмахнулся Сэмунд, не вылезая из-под одеяла, и нарочито громко засопел.
Хавард тоже воспринял новость с полным безразличием, пошел натаскивать своих ястребов. В общем, день этот ничем не отличался от многих других. Однако за ужином Сэмунд подозвал к себе давешнего дружинника и спросил, воротился ли Торир.
— Нет. И я вынужден сообщить, что оружие его тоже исчезло.
— Может, он к родичам своим отправился?
— Вряд ли, — усмехнулся дружинник.
— Так-так, — протянул Сэмунд. — А что ты думаешь?
— Я думаю, пока Раннвейг здесь, Торир никуда не уедет, во всяком случае, этак вот, ни с того ни с сего.
Сэмунд задумался, кликнул Асу и велел ей привести сестру. Аса ушла, а вернувшись, сказала, что Раннвейг нигде нету и вещи ее тоже пропали. Сэмунд вскочил и приказал всем искать, когда же ни Раннвейг, ни Торира найти не удалось, поднял тревогу, велел дружинникам взять оружие и седлать коней. Дружину разделили на три отряда, один, во главе с Арни сыном Навара, поскакал на север, через долину Гудбрандсдаль. Добравшись до самых гор Довре, они повернули назад и пять дней спустя были в Хове, с пустыми руками.
Народ только диву давался: ох и странная история. За Ториром-то не замечалось ни вероломства, ни особой изобретательности, хотя уж который год все шушукались про его немыслимую любовь. И когда Арни сын Навара воротился в усадьбу, Сэмунд с дружиною ждал его во дворе, поздоровался и спросил, сыскал ли он что. Арни ответил, что ничего не сыскал, и поведал, где побывал и с кем разговаривал. Однако, едва он спешился, Сэмунд приказал взять его в железа.
— Зачем это? — спросил Арни, крупный, сильный мужчина, крутой нравом, снискавший в походах весьма мрачную славу, но знаменитый и своею неколебимой верностью друзьям, только вот аккурат сейчас оных вокруг не видел. — Я что же, плохо искал?
— Наоборот, слишком хорошо. Что ты делал в Довре?
— Выполнял твой приказ, Сэмунд сын Ингольва, искал твою сестру и негодяя Торира сына Дага.
— Стало быть, вы не отсиживались без дела у реки там, на севере?
— Нет, — отвечал Арни. — Спросил кого хочешь.
Сэмунд прищурился:
— Видишь ли, кое-кто здесь утверждает, что Торир сбежал в Свитьод, с твоей помощью. Вот и выбирай: либо ты все отрицаешь, и тогда я запытаю тебя до смерти, либо признаешься, и я дарую тебе пощаду, при двух условиях.
Арни задумался:
— Каковы же эти условия?
— Во-первых, завтра ты поедешь с нами к Рёреку и засвидетельствуешь, что затеял побег сам Торир. Во-вторых, ты изъявишь готовность вместе с тремя людьми отправиться в Свитьод, убить Торира и вернуть Раннвейг Рёреку, иначе миру здесь не бывать. Я знаю, у тебя там свои счеты, оттого ты и очутился у нас, но придется рискнуть, а коли ты их не найдешь, ворочаться тебе необязательно.
Арни согласился.
— Торир действительно говорил мне, что хочет сбежать с Раннвейг. В Свитьод. Но я ему отсоветовал, сказал, чтоб он никогда об этом не заикался, такова чистая правда.
Сэмунд велел накормить его и запереть в сарае.
Ингольв меж тем носа из дому не казал. И к Рёреку на другой день с ними не поехал. Народ говорил, он, мол, горюет о пропавшей дочери, которая либо обвела его вокруг пальца, либо была похищена, а вдобавок его угнетает мысль, что земли его и власть отойдут сыновьям, которые даже сестру защитить не сумели. Н-да, состарился Ингольв и преисполнен тревоги и страха, а от этого человек и вовсе дряхлеет не по годам.
Гест тоже к Рёреку не поехал. Крутился возле Хаварда и его птиц или в одиночестве бродил по лесу, все ждал людей, которых Ингольв послал на север с Грани.
Они не возвращались.
Зато, проведя целую неделю в Хедемарке, вернулся Сэмунд и рассказал отцу, что поначалу Рёрек рвал и метал, а предложение насчет Асы воспринял как оскорбление, — словом, расчеты их оказались правильными. Когда же Сэмунд упомянул про выкуп, Рёрек успокоился, усадил Сэмунда на почетное место подле себя, и расстались они в дружестве, обменявшись дорогими подарками, Рёрек, к примеру, подарил ему вот это новгородское копье.
Ингольв взял копье, осмотрел, буркнул, что, мол, Рёрек, как водится, слукавил, но Сэмунда похвалил.
Однако ж, когда сын прямо на следующий день вознамерился ехать на юг, дабы предложить мировую Стейну сыну Роара из Хадаланда, старик покачал головой и сказал, что Гест все вверх дном перевернул в его владениях, да еще и с сыновьями его спелся, сколь это ни прискорбно, а потому он не разрешит Сэмунду взять с собою больше двух людей; Хавард, Гест и все прочие останутся в усадьбе, будут обеспечивать охрану, ведь история с Раннвейг и Ториром, по сути, признак слабости, и вообще, мужчина, у которого таким манером похищают дочь, пятнает свою честь позором, пачкает и себя, и усадьбу свою, раньше он не видел этой стороны дела, не видел, сколь коварной сетью сам себя опутал, — вот что угнетало Ингольва, утратившего ясность зрения.
— Надо бы все ж таки поставить церковь, — уныло сказал он. — На том месте, где было капище. Пособишь мне?
— Отчего же не пособить, — ответил Гест.
— Ладно, возьму с собой дюжину людей, — решил Сэмунд. — Меньше нельзя, воспримут как оскорбление. Я приглашу Стейна сюда на Рождество, пусть приезжает со всеми своими сыновьями и сколь угодно большой свитой.
Два дня спустя наконец-то воротились люди, сопровождавшие Грани через горы. Ингольв принялся расспрашивать их про усадьбы, куда они заезжали, про свадьбы, раздоры и смерти в тех краях, где пролегала дорога, по которой он столько раз ездил, и про обстоятельства в Трандхейме. И узнал, в частности, что, отправляясь в Англию, ярл намерен передать бразды правления своему сыну Хакону, а регентом при нем поставить Эйнара сына Эйндриди из Оркадаля. Эту новость Ингольв воспринял с воодушевлением:
— Может, избавимся наконец от этого ярла.
Но Гест ничего нового не узнал, ни о Грани, ни о Сандее, потому что с Грани они расстались чуть севернее Трандхейма, и его охватило огромное разочарование, ведь Стейнунн и Халльбера по-прежнему пели в его снах, каждую ночь, и Стейнунн все так же крепко сжимала в грязной ладошке золотую брошь и смотрела на него таким же взглядом, каким потерянная дочь смотрит на никчемного отца, он опять закрыл глаза, но в тот вечер заснуть не смог.
Гест стоял на берегу бухточки, где обычно рыбачил Ингольв, он запалил костер, а сам с факелом в руке бродил взад-вперед у кромки воды, ловил раков, как его научил Хавард. За спиной у него был берестяной короб. Раки ползли к приманке из гнилого мяса, слепли от факела, и можно было брать их голыми руками, он слышал, как они шебуршат в коробе, будто галька в ручье, и думал о том, что давненько не слагал стихов, что исландский голос в нем умолк. И тут заметил багровую звезду, красный глаз, оставленный на небе Митотином. В лесу что-то хрустнуло, он было решил, что это костер, где горело смолье, но, не оборачиваясь, снял короб, поставил наземь и в тот же миг выронил факел — что-то рубануло его по плечу. Он шагнул вперед, в воду, нырнул, поплыл с открытыми глазами в вязкой, холодной жиже, скользнул к поверхности, как раненая выдра, набрал воздуху и снова нырнул, коченея от холода, выбрался на другой берег, раны в плече он не чувствовал, но она кровоточила, при свете луны кожа казалась сизой, а кровь черной.
Гест сорвал с себя одежду, отжал, надел снова. С другого берега донеслись голоса, в отблесках костра метались тени, хлопали птичьи крылья, слышался лязг оружия.
Он побежал назад, берегом бухты, упал, до крови разбил ладони и коленки, встал и побежал дальше среди черных деревьев, напоследок вдоль ручья, чтобы шум шагов утонул в плеске воды, и увидел у костра Хаварда и двух его сокольников, а на земле у их ног лежали еще двое, со связанными за спиной руками, оба раненые. Чуть в стороне обнаружился и третий, безжизненное тело, на спине которого сидел Митотин, полураскинув крылья и открыв клюв, но не издавая ни звука.
Гест услыхал, как Хавард спросил одного из пленников, кто он такой, но еще прежде, чем тот ответил, узнал Онунда.
Подойдя к костру, Гест подбросил смолья в огонь. Короб опрокинулся, и раки торопливо ползли к воде, он присел на корточки и одного за другим отправил их в короб.
— Онунд пришел встретиться со мной, — сказал он.
— Конечно, — обронил Хавард. — Но встретил меня.
Гест сел подле костра, зубы у него стучали, плечо онемело, спину свело болью.
— Он хотел убить тебя, — сказал Хавард.
— Да. При последней нашей встрече я пощадил его. И теперь спрашиваю тебя, поступишь ли ты точно так же.
Хавард озадаченно воззрился на него, подошел ближе, увидел рану, провел пальцем по сизой коже.
— Мне он ничего не сделал. Только нарушил здешний мир и покой. Но по-моему, отпускать его не очень-то разумно.
Помолчав, Гест сказал:
— Удача не сопутствует этому человеку. Оттого ли, что я везучий, оттого ли, что дело его приносит несчастье, не знаю. Много людей погибло из-за этого мерзавца.
Хавард в замешательстве огляделся по сторонам. Митотин перелетел к нему на плечо, но он отмахнулся, и коршун сел на колено Геста, чего прежде не бывало, и, не глядя на него, нервно встопорщил крылья, словно просил позволения посидеть. Гест его не прогнал.
— А ты, Онунд, что скажешь? — наконец спросил Хавард.
— Тому, кто убил моего отца, да еще и насмехается над ним, пощады не будет, — бросил Онунд.
Голос его показался Гесту до странности грубым, сиплым. Исландец изменился, отощал, заметно постарел, лицо пожелтело, опухло, но смотрел он надменно и одет был по-прежнему броско, как важная особа с плохим вкусом и множеством скверных привычек, пальцы и запястья унизаны перстнями и браслетами.
— Что ж, тогда нам остается только одно, — сказал Хавард.
— Поступай, как хочешь, — отозвался Онунд.
Гест согнал коршуна с колена, присел на корточки перед пленником, испытующе посмотрел на него:
— Сколько людей было с тобой?
Глаза у Онунда забегали. Хавард скрылся в лесу.
— Только те трое, что здесь, — в конце концов ответил Онунд.
— Я тебе верю. — Гест позвал Хаварда обратно. — Ведь ты глуп и простоват, и все твои секреты у тебя на лице написаны. Но как ты разыскал меня на сей раз, тебе и сюда указал дорогу священник?
— Нет, — вызывающе бросил Онунд, но взгляд его тотчас опять потух. Гест ждал, и немного погодя пленник нехотя рассказал, что корабль его стоял в заливе на севере Трёндалёгского побережья, они готовились к отплытию. Там-то и приметили людей Ингибьёрг, которых запомнили по Сандею, те расплачивались за стоянку большого двенадцативесельного челна. Онунд выяснил, что это впрямь халогаландцы — пришли в Трандхейм с железом, возвращались на север с солью. Однако в челн погрузились не все, несколько человек отправились верхом на юг, и Онунд последовал за ними, сюда.
— Разве ты не слышал об убийствах в Бё? — спросил Гест. — Разве не знаешь, что Снорри Годи убил Торстейна сына Гисли и его сыновей?
Онунд хмуро сказал, что знает.
— Что же тогда движет тобою? Ведь отец твой отмщен убийством трех хороших, невинных людей, а вдобавок ты нанес мне эту рану.
Онунд молчал.
— Может, нестерпимо для тебя, что я пощадил тогда твою жизнь? Стыд мучает?
Онунд по-прежнему молчал, а Гест вдруг заметил у него на лбу три глубокие царапины, следы когтей, и струйку крови, сбегавшую из левого уха.
— Думаю, ты должен ответить, Онунд, — решительно произнес Хавард.
Онунд молчал.
— Я снова подарю тебе жизнь, — сказал Гест. — И еще больше стыда. Посмотрим, на что ты все это употребишь. — Он посмотрел на Хаварда, который медленно покачал головой. — Но сделаю я это потому только, что ты не лютовал в Сандее, не знай я об этом, быть бы тебе убиту.
— Я человек чести, — сказал Онунд. — Как ты.
Хавард велел сокольникам присмотреть за птицами и повел Геста за собой в лес. Возле бухты стоял крепкий лодочный сарай, и он предложил запереть пленников там, пока они все как следует не обдумают, хотя сам он считает, что обдумывать особо нечего.
— У Онунда есть могущественные друзья, — сказал Гест. — В том числе и здесь, в Норвегии. А вы живете в окружении врагов, как и я. Вдобавок я не верю в его байку про то, как он меня нашел, он болен и в седло давненько не садился, поэтому я не удивлюсь, если у него найдутся тут пособники. Коли он исчезнет, они будут его искать.
Хавард все еще медлил.
— Прошлый раз ты пощадил его, думая тем самым уберечь своих друзей в Исландии. Теперь ты знаешь, что это не впрок, и все-таки вновь даришь ему жизнь?
Гест скривился, а Хавард продолжал:
— Однако ж я не заметил обмана ни в чем, что ты здесь у нас делал, так что поступай как знаешь. Только послушай совета, Сэмунду ничего не говори, он враз их перебьет.
— Спасибо, — поблагодарил Гест.
Они приказали сокольникам погрузить труп и все оружие в лодку и сбросить в бухту, потом разыскать в лесу коней и снаряжение и от всего этого тоже избавиться. Пленников заперли в сарае и пошли в усадьбу.
На полпути Гест остановился, поблагодарил Хаварда за то, что он спас ему жизнь. Хавард только отмахнулся: мол, не за что тут благодарить.
Домашние уже легли спать, но уголья в очаге еще не погасли. Гесту надо было перевязать рану, а Хавард, подбросив дров в очаг, неожиданно и совершенно непривычным тоном сказал, что хочет кое-что с ним обсудить.
— Я говорю об этом потому только, что знаю: ты уже все понял.
— Что понял-то? — переспросил Гест.
— Ты ведь наверняка смекнул, как я сумел подоспеть аккурат в тот миг, когда Онунд ударил тебя топором.
— И что же я смекнул?
Хавард, явно в замешательстве, поковырял палочкой уголья, поджег ее, поднес к глазам Митотина, который ответил вопросительным взглядом. Хавард улыбнулся, бросил палку в огонь.
— Вчера Аса встретила Онунда на пастбище повыше усадьбы. Он не сказал ей, кто он такой, но она сама догадалась, хоть и не желает в этом признаться. Она-то и выложила ему все, что требовалось, очень уж осерчала на тебя за то, что ты придумал отдать ее Рёреку. Однако нынче вечером все-таки предупредила меня. Вот я и прошу тебя: не брани ее.
Если Онунд встретил Асу накануне вечером, подумал Гест, то он не ошибся, и исландца привели сюда вовсе не люди, сопровождавшие Грани, хотя Хаварду он сказал так не потому, что был в этом уверен, а просто в стремлении уберечь Онунда от смерти. И тотчас на плечи его опять легла свинцовая тяжесть, неподъемное бремя, вроде того, что угнетало его, когда он услышал о смертоубийстве в Бё.
— Откуда мне было это знать?
— Выходит, я рассказал то, о чем тебе и знать не надо, — вздохнул Хавард.
Гест помолчал, размышляя о новой своей проблеме.
— О чем думаешь? — спросил Хавард.
— Ни о чем.
Хавард встал, долгим взглядом посмотрел на него, потом сказал:
— Давай принесем клятву побратимства. Я слыхал, так поступают мужчины, которые не слишком доверяют друг другу, но очень хотели бы доверять.
— Я не против, — отозвался Гест и скинул рубаху, рана на плече оказалась неглубокой, но кожа была содрана, синяк изрядно увеличился, и кровотечение не унялось. — А можно использовать кровь из раны, нанесенной лиходеем?
— Не знаю, — отвечал Хавард. — Знаю только, что кровь надо смешать с землей или сажей.
Он достал нож, полоснул лезвием по большому пальцу — кровь закапала в подставленную плошку. Гест выдавил туда же кровь из раны, Хавард добавил сажи и размешал все кончиком ножа, получилась густая черная масса, застывшая прямо у них на глазах. Потом оба обхватили руками эфес меча, который отец подарил Хаварду по случаю крещения, и поклялись в вечной верности, что бы ни случилось, и в том, что, если одному из них суждено погибнуть, другой отомстит за него.
Но Гест знал, что ночь эта будет короткой, так как ему придется еще раз выйти из дома и предпринять кое-что очень важное, в одиночку, без побратима.
Однако ж ночь затянулась. Проснулся Гест далеко за полдень, оттого что Сэмунд велел ему вставать, и поживее. Он только что вернулся из Хадаланда и желал, чтобы Хавард, Гест и еще двое родичей снова поехали с ним к Стейну сыну Роара и засвидетельствовали мировую, которой он сумел достичь. Сэмунд сиял так, будто одержал великую победу на поле брани.
Гест проворчал, что он не в настроении, что у него болит живот и голова раскалывается с перепою. Но Сэмунд объявил, что выбора у него нет. Делать нечего, Гест встал, поехал, изо всех сил скрывая рану и боль, которая огнем жгла тело от ключицы до самого бедра и порой сводила лицо.
В Хадаланде они пробыли три дня. Мировую со Стейном скрепили рукопожатием, пировали, обменивались подарками, и Стейн обещал на Рождество пожаловать в Хов. Но Хавард прослышал, что Сэмунд посулил отдать Асу за младшего сына Стейна, Сигурда, шустрого, говорливого парня в Гестовых годах. И это Хаварду очень не понравилось. Он вышел с братом на улицу и спросил, уж не повредился ли тот рассудком.
— Ингольв предоставил мне свободу действий, — ответил Сэмунд. — Но коли ты желаешь другого уговора, займись этим сам. А ты, Гест, как думаешь?
— Никак. У меня рука болит.
— Да ну? Что с тобой стряслось?
— С лошади упал.
Приложив некоторые усилия, Хавард весь остаток вечера просидел обок Стейна и спросил у хёвдинга, вправду ли Сэмунд обещал Сигурду свою сестру. Стейн кивнул.
— Н-да, коли так, поступил он не очень-то разумно, — сказал Хавард, внимательно следя, чтобы никто не слышал их разговора. — Ведь Аса такая же упрямая и своевольная, как и все мы, и, насколько я знаю отца, тут он позволит решать ей самой. Впрочем, я могу представить ей это дело наилучшим образом, потому что знаю Сигурда как бравого парня, о нем дурного слова не скажешь, ты же сам знаешь, как для нас важна эта мировая.
Стейн был примерно того же возраста, что и Ингольв, хмурый коротышка с рыбьими глазами и широким лицом, никогда не выезжавший за пределы собственных лесов, а владения его простирались от Ингольвовых земель на севере далеко на юг, к западной границе Вика. Прищурясь, он посмотрел на Хаварда и спросил, чье же слово имеет вес.
— Ты о чем? — в свою очередь спросил Хавард.
— Сперва толкует один, потом другой. Много ли у вас в Хове таких, что распоряжаются, да по-своему?
Хавард сказал, что вполне понимает, куда клонит хёвдинг, и что насчет этого дела они, может статься, говорили по-разному, но не по злому умыслу, а по недоразумению.
— Я тоже понимаю, — отозвался Стейн. — И знаю тебя как честного и хорошего человека, потому и мы не отступим от этого обещания, ибо небезразлично мне, на ком женится Сигурд. Так и скажи отцу и Асе: мы очень довольны нашим уговором.
Гест, сидевший рядом с Хавардом, громко рассмеялся, подтолкнул побратима локтем и воскликнул, что надо выпить за Асу и Сигурда.
Хавард нехотя положил руки на стол, взгляд его скользнул по пирующим и остановился на Сигурде, который сидел на другом конце, глядя на них с по-детски вопросительной улыбкой. Вообще-то Хавард, был о нем не особенно высокого мнения, однако сейчас поднял кубок и держал его перед собою, пока Сигурд не поднял свой. Оба выпили. Стейн тоже осушил свой кубок, рыгнул и добродушно хлопнул Хаварда по плечу:
— Жаль, нет у меня красавицы-дочки вроде Асы, а то бы я позволил ей самой принять решение, коли бы ты попросил ее в жены, потому как мало кто был бы мне столь желанным зятем, как ты, Хавард, я бы предпочел тебя твоему сумасбродному брату, которого ты сопровождаешь, ибо я знаю: тебе можно доверять.
Хавард и на сей раз сумел изобразить улыбку.
По дороге домой Гест с Хавардом ехали чуть впереди остальных. Когда они узкой тесниной спускались к Меру, Гест вытянул вперед здоровую руку, и немного погодя на нее опустился Митотин. Хавард свистнул — коршун перелетел к нему. Гест тоже свистнул, и снова Митотин покинул хозяина, словно тяжелый снежный ком, пал Гесту на плечо и замер, полураскрыв крылья.
Гест рассмеялся.
— Понятно тебе, что ты тут лишний?! — крикнул он через плечо и взмахнул рукой, так что Митотин поневоле взлетел и вернулся к хозяину.
— Ты никак воображаешь себя святым? — насмешливо воскликнул Хавард.
— Что ты имеешь в виду?
— Думаешь, Онунд не может навредить тебе, потому что ты под защитой Божией?
— Не знаю, — ответил Гест. — Но я все еще жив. Ну а с Митотином я просто пошутил, и, на мой взгляд, тебе полезно повстречать кого-нибудь похитрей тебя самого, вот как Стейн. Вдобавок он вам больше не угроза, напротив, нуждается в вас, потому что вел себя ничуть не лучше Ингольва.
— А ты все ж таки не святой, — сказал Хавард. — Рана-то твоя никак не заживает.
Вернувшись в усадьбу, Гест пошел к сараю возле бухты и обнаружил, что он пуст, дверь взломали изнутри железным прутом, который погнутый стоял тут же, за створкой. Он зашагал обратно, хотел наведаться к Хаварду, но канул в ночь с чадящими кострами звезд. Ударился лбом о каменный порог и лежал там без движения, пока теплые руки не подняли его, не отнесли в дом, на постель.
Открыв глаза, он увидел Асу, девушка сидела у двери, в клубах пара, валивших из ушата с водой, белый ее лоб влажно поблескивал, крохотные капельки искрились на губах, в незримом пушке на подбородке; она опустила в воду тряпицу, прополоскала, вытащила, подождала, когда можно будет отжать, и вздрогнула от неожиданности, перехватив его взгляд. В тот же миг лицо ее привычно застыло, и она стала похожа на Ингибьёрг, даже слишком похожа. Гест покосился на свое обнаженное плечо: рана была чистая, но не затянулась, выглядела совсем свежей, он не чувствовал прикосновений Асы, чувствовал только рану — спиной, всеми членами, желудком и лицом, а вот голова словно полна тяжелого, мокрого снега.
— Сейчас ты, по крайней мере, не смеешься, — сказала Аса и отдернула руку, точно опасаясь заразы. Гест тщетно попытался состроить гримасу, и она удовлетворенно кивнула. — Ты вечно смеешься. Потому и не нравился мне.
— А теперь я тебе нужен?
— Нет, — ответила она.
Гест спросил, что она рассказала Онунду. Но она сосредоточилась на ране и заговорила о том, что хорошо умеет врачевать, у нее это от матери, и отец с братьями на себе в этом убедились, все раны, какие лечила Аса, зарастали, даже шрамов не оставалось; она заметила, что Гест холодный, будто покойник, стало быть, лечить надобно теплом, телесные соки у него вышли из равновесия, слишком много в них черной жёлчи, а виной тому либо чары и проклятие, либо отрава на лезвии топора.
— Знаешь, кто это сделал? — спросил Гест.
— Да. Я знаю, и Хавард знает, а больше никто.
Гест сказал, что должен предупредить Ингольва и Сэмунда, иначе никак нельзя. Аса вновь поджала губы и с силой придавила тряпицу к ране — тупой меч боли насквозь пронзил все его тело, он вскрикнул, и по губам девушки скользнула едва уловимая усмешка.
— Contraria contrariis,[87] — сказала она. — Впрочем, если ты думаешь, что в другом месте тебе помогут лучше, я перечить не стану.
Рана походила на красную пасть с кривыми темными зубами, Гест лежал не шевелясь, меж тем как Аса накладывала на нее влажные зелья. Когда девушка наклонялась, он невольно заглядывал в вырез ее платья и почему-то не мог отделаться от мысли, что она нарочно стала коленями на дощатый топчан. Закрыв глаза, он почувствовал, как руки ее помягчели, и эта смесь жесткости и мягкости напомнила ему Ингибьёрг. Аса — это юная Ингибьёрг, двадцати лет от роду, красивая той красою, что открывается лишь глазу чистому, как воздух. Он невольно засмеялся, а она мгновенно выпрямилась и прикрикнула, чтоб лежал смирно. Наконец она прикрыла рану листьями подорожника и взялась за перевязку, обматывая ему плечо и торс длинной полоской ткани. Руки девушки так и летали вокруг, обнимали его, и Гест изо всех сил старался замереть, когда белая грудь касалась его кожи, и он чуял неизъяснимое, сладкое благоухание, непохожее на пряный, травяной запах Раннвейг, благоухание чистой кожи, вот так же, наверно, пахнут небеса. Он осторожно прихватил грудь зубами, почувствовал, как Аса напряглась, но не отпрянула, словно ожидая не то завершения, не то продолжения, он чуть сильнее сжал зубы, начал сосать, а она скользнула ближе, села на него, поневоле Гест прикусил еще крепче и удивился, что она застонала, будто никогда не бывала с мужчиной, и он едва не съежился снова, однако тут она застонала как должно; он смотрел в ее приоткрытый рот, где дыхание стихло, как ветер в густом лесу, тишина эта продолжалась, пока Аса не обмякла с чуть слышным всхлипом; сам Гест тоже был безгласен, успел только увидеть, как щеки и грудь Асы ярко зарделись, и в тот же миг веки его сомкнулись, словно тяжелые дверные створки.
В следующие дни она приходила каждое утро, меняла повязку, убедившись, что рана не затянулась, и сидела на нем, пока дыхание не замирало на губах и румянец не заливал бледные щеки. Он покусывал ее грудь и не думал больше о своей незаживающей ране. Да и ни о чем другом не думал. Оцепенел. Пока не явился Хавард. Тут-то Гест подумал, что, пожалуй, побратиму не мешало бы прийти раньше, но Хавард сказал, что ходил со своими сокольниками на охоту, далеко в горы, а сообщение о побеге Онунда воспринял равнодушно.
— Этого следовало ожидать, — заметил он. — По крайней мере, ты именно этого и ожидал, верно?
— Кто-то из здешних мог ему пособить? — спросил Гест.
— Ты?
Гест хмуро посмотрел на него.
— На Асу намекаешь? Нет, не думаю, — сказал Хавард. — Сараем этим пользуется один Ингольв, а он из дому не выходит. Рана-то твоя как?
— Не знаю. Я о ней не думаю.
Хавард едва заметно усмехнулся и полюбопытствовал, о чем же он тогда думает.
— Не проклятие ли над тобой тяготеет?
— Вполне возможно. — Гест попытался улыбнуться в ответ, буркнул, что горячки у него нет, боль утихла и силы скоро восстановятся, только вот рана эта на плече — зияет, будто рот, кричащий от безумной боли, которой он не чувствует, она тревожила его, пугала, когда он не спал и находился в забытьи.
Он звал Асу, и вечером и утром. Дело в том, что она взяла в привычку забывать про него на день-другой, а он тогда места себе не находил и посылал за нею трэлей и других людей. В конце концов она приходила, хмурая, недовольная, Гест перестал ее понимать, мягкие ее руки делались все грубее, вода была то слишком горячая, то слишком холодная, улыбка фальшивая, а рана упорно не заживала.
— Уйти ты не сможешь, — объявила она в один прекрасный день, вроде как объясняя собственное безразличие, ведь посиделки их тоже прекратились. — Умрешь от этой раны.
Аса и золото к ране прикладывала, и травами пользовала, и водой, и какими-то вонючими составами, которые смешивала в маленьких деревянных плошках, и губами к ней прикасалась, а Митотин, по команде Хаварда, даже клювом по ране провел. Но все было напрасно, ничего не менялось, рана на плече зияла точно большая красная пасть.
В Хове жили два старых вольноотпущенника — Ротан и Пасть, а звали их так потому, что рты у обоих были большие, широкие, вдобавок один родился с волчьей пастью. Еще их звали Двойчатами, ведь, если не считать означенного изъяна, коим страдал Пасть, они совершенно друг от друга не отличались, были близнецами, приземистые, могучие здоровяки, многие годы ходившие с Ингольвом в викингские походы.
Позднее Ингольв поручил им заботы о своих сыновьях, и Двойчата учили их владению оружием, тонкостям охоты и премудростям кодекса чести; в особенности оба привязались к Эйвинду, который сейчас находился в Дании, у конунга Кнута. Когда же Двойчата постарели, Эйвинд с отцом решили, что им надобно остаться в Хове и вкушать заслуженный отдых, занимаясь мирным сельским трудом, да только старикам это вовсе не нравилось.
Одного Ингольв определил в оружейную мастерскую, а второго поставил начальствовать над сушильнями, но в тот же день оба явились к своему господину и сказали, что хотят быть вместе, как всегда. Речь держал Пасть, хотя обычно он избегал открывать рот, только вот сейчас иначе было нельзя: стоило Пасти заговорить, как Ингольва одолевала поистине болезненная неловкость, и он готов был исполнить любое желание; так вышло и на сей раз.
С тех пор они ели, спали и трудились бок о бок — в оружейной мастерской, а говорил за обоих всегда Ротан, ну, когда без разговоров было никак не обойтись, ведь большей частью они избегали людей, общались с одним лишь Хавардом, за птицами его смотрели.
Именно Двойчата были при Хаварде, когда он одолел Онунда в Ингольвовой бухте. До некоторой степени они и к присутствию Геста притерпелись, потому что он, как говаривал Ротан, бедолага вроде них самих, ведь им было невмоготу слоняться в тишине Хова, разрываясь на части между лояльностью к господину и тягой к лязгу оружия и кровавому вкусу славы; никто не вправе отнимать у мужчины эти услады, только смерть. И оба диву давались, что Гест, вольная душа, сидит здесь сложа руки, в этаком полусне.
— Хотя больно уж ты мал, — сказал Ротан. — Почитай что в упор не разглядишь.
И оба покатились со смеху.
Оживлялись Двойчата, только когда Ингольв посылал их на местные тинги и на ярмарки продавать оружие и инструмент, собственными руками изготовленные в Хове, вдобавок в их задачу входило смотреть во все глаза и держать ухо востро, чем они занимались столь ревностно, что Ингольву, как правило, приходилось кое-что выбрасывать из их красочных донесений, сопоставлять оные с тем, что он слышал от прохожих бродяг, купцов и прочих осведомителей. Ведь Двойчата первым долгом сообщали новости, которые сулили им скорый отъезд из усадьбы, — междоусобицы в Дании, война в Англии, интриги среди мелких соседних конунгов; Двойчата обожали беспорядки, ибо там были возможности, была жизнь.
Однако еще в начале зимы в Хов заявились трое датских торговцев, мед предлагали, да по цене поболе, чем за шкурки выдры. И отчасти они подтвердили донесения Двойчат, к примеру, что датчане фактически построили новый флот взамен утраченного Кнутом, когда после гибели отца он, поджав хвост, позорно бежал из Англии. В Дании меж тем правил его брат, Харальд, крепко держал страну в узде и вовсе не собирался делиться властью с младшим братом. Поэтому у Кнута оставалась единственная возможность, а именно еще раз напасть на Англию и Адальрада.
Правда, торговцы слыхали про какой-то загадочный флот, что стоял в Нормандии под стягом некоего норвежского конунга-викинга, который поддерживал короля Адальрада и англичан, против датчан.
Звали этого конунга Олав сын Харальда,[88] и родом он был с берегов Мера, потомок Прекрасноволосого, к тому же крещеный. Сейчас флот его исчез, одни говорили, будто ушел к Северному проливу, а затем на Румаборг, другие уверяли, что он взял курс на Оркнейские острова, а оттуда ведь морем рукой подать до Хьяльтланда да и до Норвегии.
Для Двойчат Ингольв был открытой книгой, и Ротан в своей вкрадчиво-покорной манере тотчас принялся исподволь внушать ему, что он и думать ни в коем случае не должен о поддержке возможного норвежского претендента на трон, против датчан, ведь Эйвинд, самый многообещающий его сын, находится в Дании.
— Эйвинд, Эйвинд… — произнес Ингольв, стараясь их успокоить. Выходит, один его сын у свейского короля, другой в Дании, прямо как заложники. И на следующий день после отъезда торговцев Двойчата пришли к постели Геста и попросили его встать: Ингольв желает говорить с ним.
— Я не могу ходить, — ответил Гест. — Я умер.
Не обращая внимания на Гестовы протесты, Ротан взвалил его на плечо, отнес в большой дом, где в одиночестве сидел Ингольв, и уложил на меховое одеяло возле очага.
— Дело касается церкви, — сказал старик. — Пора бы начинать строительство, Двойчата присмотрят за работами…
— Сейчас зима, — проворчал Гест. — Бревна из лесу не вывезешь.
— Осень сейчас. И лес я могу вывезти когда захочу…
Они перебросились еще несколькими вялыми фразами, после чего Гест перебил Ингольва и сказал, что его клонит в сон, так, может, Ингольв прямо выложит, что ему надобно.
Старик провел рукой по волосам, шмыгнул носом.
— Видишь ли, датчане, которые тут были…
— Да, я слыхал про них.
— Коли то, что они рассказывают, правда… ты, вероятно, не знаешь Эрлинга сына Скьяльга, зато бывал в Оркадале у Эйнара, которого ярл хочет оставить регентом на время своего отсутствия…
— И ты хочешь знать, как поведут себя хёвдинги, если в отсутствие ярла случится нападение на страну?
Ингольв кивнул.
— Эйнар сдержит слово, данное ярлу, — сказал Гест.
— И будет сражаться?
— Этого я не говорил. Эйнар хёвдинг, но не властитель, он будет исполнять приказания ярла, пока ярл способен приказывать.
— Стало быть, если ярл погибнет или откажется от страны, Эйнар сочтет себя свободным от обета?
— Думаю, да. Он человек ярла ровно в той мере, в какой ему это выгодно. А Эрлинг сын Скьяльга, как тебе известно, никогда не был ярловым сторонником, ты был с ними при Свольде, они такие же, как ты.
— Но сейчас так много всего сходится! — вдруг воскликнул Ингольв. — Во-первых, новый претендент тоже зовется Олавом. Он тоже в союзе с королем Адальрадом. И намерен собирать страну. И хочет, чтоб она приняла христианство. И он потомок Прекрасноволосого…
— Поэтому ты думаешь, второй раз это случиться не может?
Ингольв надолго задумался.
— Может, это ловушка, — пробормотал он, — вот что я имею в виду.
Не слова, а тяжелый снежный ком.
— А может, Божия воля? — подсказал Гест.
Но Ингольв не слышал, он чувствовал себя как никогда старым, н-да, больно признать, однако он успел замириться с давним врагом, со Стейном, и поссориться с давним другом, с Рёреком, вооружился и усилил дозоры, размышлял, строить ли церковь, поднимать ли паруса или устремить взгляд в небеса… И еще одна мелочь: обратил ли Гест внимание, что король Адальрад вышвырнул Кнута в море с такою поспешностью, что тот даже не мог забрать с собою тело отца, конунга Свейна?
— Да, я слышал об этом. Но на самом-то деле ты ведь думаешь о том, сумел ли и Эйвинд целым-невредимым покинуть Англию, верно?
— Верно, — сказал Ингольв, потупив взор. И повторил: — Верно.
На другой день Двойчат вызвали из оружейной и вместе с двадцатью работниками послали в горы валить лес. Гест кое-как поднялся со своего одра и провел с ними несколько дней, плечо ему больше не докучало, он лишь испытывал жаркую слабость, не иначе как от меховых одеял, которыми укрывался. Между тем выпал снег. И падал снова и снова. В огромных количествах. Стеной. Засыпал все вокруг. Они тонули в нем чуть не по пояс.
— В Исландии и в Халогаланде снег похож на море, — сказал Гест Двойчатам. — Лежит волнами.
Двойчата не удивились. Они бывали в Исландии, бывали на Оркнеях и в Шотландии, во Франции и в Ирландии, в Гардарики,[89] и в Румаборге и не могли взять в толк, чего ради бродят тут в глубоком снегу и ворочают мерзлые бревна, когда их зовет широкий мир.
Но Ингольв не отступался, приказал трэлям расчистить снег, чтобы он мог обойти давнее капище, где поднимется новая постройка, а после его ухода Гест велел расчистить площадку еще раз, и гораздо тщательнее, чтобы работники кирками и ломами начали долбить промерзшую землю.
Немного погодя хёвдинг передумал: строить надобно не из стоячих бревен, а из венцов, как церковь у Стейна сына Роара. Сызнова эта смесь сомнений и медлительности. Но для венцов необходимо каменное основание, навезли камня, принялись тесать, но в этой работе Гест не участвовал, все это стало ему надоедать, укрытие его вновь зашаталось, и он ничего не мог поделать.
Вот он и бродит по заснеженным лесам, думает об Асе, об этой странной женщине, которая начисто стерла его из своей памяти, при нем Митотин, и на фоне неба крылья ястреба словно листья папоротника на фоне красно-бурой болотной руды, ведь дни стояли короткие, багряные, лед сковывает бухты и всего за пять коротких дней полностью укрывает озеро, потом выпадает еще больше снегу, сухая белая стужа окутывает леса, цепенит людей и животных, но не Митотина; Гест сумел-таки взять над ним власть, как военачальник, уверенными жестами, и посвистом не от мира сего, и едой, не в последнюю очередь едой, — накорми Митотина, и он будет творить в небе чудеса.
На ногах у Геста снегоступы, лыжи он недолюбливает. Пасть на плече по-прежнему открыта, и чудится ему, будто он сам парит на ястребиных крыльях в море белизны. Но вот ястреб зависает над склоном холма и с уверенным криком падает вниз. Гест идет следом и видит: Митотин сидит на снежном бугре — то ли на занесенной снегом кочке, то ли на камне — и что-то терзает клювом и когтями. Гест замечает цветную ткань, кожаный башмак и понимает, что это, еще прежде чем разгребает снег. Нога, еще одна, спина, две спины — два мертвеца с рублеными ранами на затылке и голове, мороз уберег их от тления, кажется, будто смерть настигла их вот только что, бездыханные, но как живые. Гесту ясно и кто они такие — это Онунд и один из его спутников, которых они заперли в сарае возле бухты. Но опознаёт он их по одежде и браслетам, лица объедены зверьем. Продолжает отгребать снег, все совпадает, цвет волос, рост, оружие, это действительно Онунд, человек, от которого он скрывался семь долгих лет; что ж, теперь скитаться незачем, он может вернуться куда угодно — в Сандей, в Исландию; итак, скитаниям пришел конец, причем в тот самый миг, когда рушится последний его приют.
А руки все копают, он находит мешочек с серебряными слитками, несколькими монетами и множеством золотых перстней, там же лежит вырезанная из дерева орлиная голова, его собственная детская работа, при виде которой мать почему-то расплакалась. Ноги не держат, он садится, смотрит на орлиную голову, на пропавшую хищную птицу, потертую, темную от жира, захватанную грязными руками, и вроде бы вспоминает, что сестра ответила, когда он спросил, не забрали ли Онунд или Снорри чего-нибудь в Йорве: «Ничего».
Но позднее она заметила, что орлиная голова пропала… хотя нет, Гест подарил ее Эйнару, тому бедолаге, что знал столько историй и искал прибежища в Йорве, с него-то все и началось. Стало быть, Стюр забрал ее у убитого и отдал Онунду?
Гест встает, не выпуская орлиную голову из рук, обходит вокруг покойников; он помнит всё: лицо Эйнара, когда тот похвалил его мастерство, затем смущение, когда Гест, обиженный на мать ребенок, швырнул ему резную голову, и нерешительность в ответ на Гестово упрямство: «Бери! Бери!» В конце концов Эйнар принял подарок и владел им, пока не пал от руки Стюра, который забрал орла себе и отдал сыну.
Или Онунд нашел его в Стюровом наследстве?
Но знал ли он, что фигурку вырезал Гест?
И зачем таскал ее с собой?
Онунд был мертв, куницы и лисы обглодали его лицо, лишь тишина звенела средь черных елей. И это вправду Онунд, а при нем означенная фигурка.
Гест разжигает костер, ведь отсюда расползается нечто большее, чем великое безмолвие, он собирает хворост, ногой разгребает снег под елкой, садится и, уже преисполнившись твердой уверенности, осторожно кладет орлиную голову в огонь, следит, как пламя пожирает ее, и думает, что сейчас у него на глазах исчезают знамение, и проклятие, и детство, и большая часть его жизни, он сжигает все это и может вернуться куда угодно — в Сандей, а то и в Исландию… но сознает ли он это, хотя сидит здесь и ждет, пока костер догорит, и видит, что и Митотин ждет, замерев на снежном бугре и поглядывая то на Геста, то на трупы, а все вокруг мало-помалу погружается в темноту?
Гест встает, палкой раскатывает уголья — орлиная голова исчезла, — еще раз осматривает трупы (в самом деле Онунд), прячет мешочек в карман и уходит прочь, возвращается в Хов, совсем другим человеком.
Той ночью к нему опять пришла Аса. Он спросил, где она была, и недружелюбно добавил, что рана зажила.
Однако она сняла повязку, увидела, что пасть зияет по-прежнему, и опять сидела на нем, как до наступления морозов, такая же мягкая и одновременно жестко-суровая. Но Гест был другим. И когда она ушла, он встал, открыл мешочек и снова осмотрел Онундово имущество, но ничего такого не нашел, ну разве только в золотых перстнях таился некий особый смысл. А сна все не было, волей-неволей Гест вышел на улицу и стал смотреть на луну, которая серебряным яйцом висела над белыми лесами. Стужу он, во всяком случае, ощутил.
Когда снег опять засыпал все следы, Гест пошел к Хаварду и попросил Митотина: решил, дескать, на охоту сходить. Хавард отвечал, что тоже собирается на охоту, и они отправились в лес вместе, как Гест и рассчитывал. Словно невзначай он привел друга к месту находки, проследив, чтобы Хавард наткнулся на трупы, спросил, видел ли тот их раньше, и услышал в ответ, что нет.
— Место выбрано умно, — с сухим одобрением сказал Хавард. — Далеко от усадьбы. Но почему ты их не закопал, ты ведь не собирался объявлять, что убил их?
— Их убил не я, — отвечал Гест. — А тебя привел сюда, только чтобы удостовериться, что и ты этого не делал. Сэмунд наверняка тоже ни при чем, он бы тебе рассказал. Кто же тогда?
Еще не договорив, Гест вдруг смекнул, что попал в ловушку.
— Это Онунд? — спросил он.
Хавард с сомнением глянул на него, присмотрелся к трупам.
— Да, Онунд, — медленно проговорил он. — Но оружие?
— Вот именно. Оружие мы утопили в бухте. Возможно, они добыли себе новое. Однако и башмаков таких у Онунда не было.
— Я не помню, что за обувку носил Онунд. Но у тебя ведь другое на уме?
— Верно. Коли ни ты, ни я, ни Сэмунд, ни кто другой из усадьбы этого не совершали, то, значит, грабители или злодеи какие, но почему они их не ограбили?
Гест развязал котомку и показал кошелек, Хавард осмотрел содержимое, пробормотал, что ценности немалые.
— А вот почему, — продолжал Гест. — Хотели, чтоб мы его опознали. Так что, может, это вовсе и не он.
Хавард опешил. Потом засмеялся:
— К чему ты клонишь?
— К тому, что кто-то — возможно, сам Онунд — оставил этих покойников здесь, возле проезжей дороги на Хадаланд, чтобы люди из усадьбы нашли их и поверили, будто он мертв.
Хавард задумался, по-прежнему улыбаясь, еще раз перебрал содержимое кошелька и спросил, есть ли там что-нибудь, прямо указывающее на Онунда. Гест сказал, что нет, была орлиная голова, но он ее сжег.
Хавард присел на корточки подле покойников, поковырял ножом драную их одежду.
— Все ж таки это Онунд, — решительно сказал он. — Я уверен. — Встал, огляделся по сторонам. — Но мы на всякий случай устроим засаду вон там, на холме, пускай Двойчата покараулят, не придет ли кто сюда. Мне тоже не нравится, что их не ограбили. И оружие — откуда оно взялось? Заберем его с собой, только пока ни слова никому не скажем, ни Ингольву, ни Сэмунду.
В тот же вечер один из трэлей сообщил Гесту, что за ужином он должен занять место рядом с Ингольвом. Старик встретил его дружелюбной улыбкой, расспросил, как рана, а затем снова повел речь о слухах насчет Олава сына Харальда, что-де этот викингский вождь наверняка не упустит своего, пока датский конунг и хладирский ярл чинят в Англии кровавую расправу.
— Дело в том, — негромко сказал он, — что Олав из этих мест, из Оппланда, он пасынок Сигурда Кислого, который в дружбе со Стейном сыном Роара…
Гест усмехнулся:
— И ты бы предпочел, чтобы сын твой не очутился на неправильной стороне, коли Олав впрямь возьмет власть?
— Лишь бы он вернулся, — вздохнул Ингольв, отрезал кусок лосятины и неожиданно добавил: — А тебе надо бы пока посидеть в доме. До Рождества.
— Это почему? — спросил Гест.
Старик долго смотрел на него, дожевал мясо и с наигранным безразличием сказал, что после Рождества он сможет уехать отсюда вместе с Хавардом, Ингольв выкупил сыновнюю долю наследства, даст ему морской корабль, что стоит в Вике, и людей, которых он сам себе выберет.
— Посмотрим, кого он выберет — воинов или торговцев.
— Ты вроде как надеешься, что торговцев.
— Ни на что я не надеюсь, — возразил Ингольв. — Я над Хавардом власти не имею. И никогда не имел, так и запомни.
Снегу навалило еще больше. И стужа по воле Божией все крепчала. А Двойчата, сидевшие в засаде недалече от покойников, никого, кроме зверья, не видали. Пасть за двоих сетовал на мучения, какие они терпят от холода, твердил, что оба хотят обратно в усадьбу, церковь строить, там хотя бы двигаешься все время. В конце концов Хавард засаду снял, решил, что Гесту опасаться нечего. Однако и он считал, что из дома побратиму лучше не выходить.
Шли дни, в усадьбе готовились пышно отпраздновать Рождество, мыли-чистили большой дом и дома для гостей, забивали быков и баранов, свозили целые горы дров, доставали рыбу из бочек и ларей, с утра до ночи воздух полнился ароматами коптилен и свежевыпеченного хлеба. Ингольв ждал. Ни с кем не разговаривал, выйдет подкрепиться и снова исчезнет, снова ждет — одного из девяти своих сыновей.
Он совсем уж было превратился в нелюдима-отшельника, но вот однажды утром на мысу затрубил рог. Все высыпали во двор на мороз, всматриваясь в бесснежную гладь озера, где черной змейкой двигалась вереница саней. Это Эйвинд! Девять конных саней, на безопасном расстоянии друг от друга.
— Не забыл родные места, — пробормотал Ингольв, когда змейка ловко обошла первое укрытое снегом разводье, завиляла, огибая устья ручьев, и наконец заложила широкую дугу вокруг водопоя.
Старик стоял раскинув руки — ни дать ни взять король в лохматой волчьей шубе, румяный от холода, окутанный морозным паром; сына он встретил довольным ворчаньем и широкой улыбкой — какой сын может пожелать большего?
Гесту показалось, что по щекам Ингольва катятся слезы, а тот и не думал их утирать, он обнял Эйвинда, который сидел во вторых санях, по очереди приветствовал каждого из его спутников — было их тридцать два человека, — будто все они приходились ему сыновьями; по знаку Ингольва трэли вынесли бочонки с пивом, принялись всех угощать, Эйвинд же обеими руками раздавал подарки, никого не обошел улыбкой и добрым словом, тем паче Двойчат, которые расплакались как дети, пали на колени и упорно не желали вставать, пока он не хлопнул их как следует по спине и не ткнул носом в кружку с пивом — к полному восторгу собравшихся.
Эйвинд походил на Сэмунда, только был старше, в угольно-черных волосах кое-где виднелись уже белые пряди, он казался спокойнее брата и держался солиднее. Но и сходство с Хавардом опять-таки бросалось в глаза — тот же прозрачный взгляд, кошачья гибкость сутуловатой фигуры, сероватый оттенок кожи. Сейчас он выкладывал перед Асой привезенные из Англии бесценные дары — платья, ткани, стекло, украшения, — вручив отцу меч с золотою насечкой, а братьям алебарды на длинных рукоятях.
Потом Эйвинд замер, оглядываясь по сторонам, и Сэмунд отвел его в сторонку, чтобы рассказать о Раннвейг. Лицо Эйвинда осталось непроницаемым. Зато Ингольв вскричал, что во всем согласен с Сэмундом, который станет хозяином усадьбы.
И на сей раз Эйвинд даже бровью не повел, только вытащил из саней красновато-коричневый деревянный сундучок, окованный серебром, достал оттуда золотой перстень с самоцветами, надел его на левый мизинец, закрыл крышку и отдал сундучок и ключ Асе, та склонила голову, залилась краской и пробормотала, что сохранит сундучок до возвращения Раннвейг. Эйвинд и тут ничего не сказал. Молчальник, подумал Гест, только улыбается, как и подобает вернувшемуся домой сыну.
Они пировали в большом доме, Ингольв, возбужденный, раскрасневшийся, сидел на почетном месте, вернее, полулежал, сложив руки на широком животе, говорил мало, пил в меру, с детским удовольствием наблюдая за пирующими. Временами окликал Эйвинда, спрашивал его мнения о еде, о ледовой обстановке, о путешествии в Норвегию… Когда же пир подошел к концу, он все-таки заговорил о том, что на самом деле занимало его мысли: действительно ли Эйвинду так необходимо соблюдать обязательства перед датским конунгом?
— Ты сам заключил это соглашение, отец, — спокойно ответил сын.
— Знаю, — сказал Ингольв. — Но я дал обязательство Свейну, а не сыну его…
— Обязательство сыну дал я, отец. И ни Свейн, ни Кнут никогда не относились к нам как к заложникам. Мы — люди свободные. Были и есть.
Ингольв провел пальцами по волосам и буркнул:
— Датчане нам чужие.
На губах Эйвинда по-прежнему играла безучастная усмешка.
— Много времени прошло после Свольда, отец, пора бы забыть.
— А тебе, сын мой, пора бы уразуметь, что иные вещи забывать нельзя.
Ингольв ушел к себе, и тогда Эйвинд обратился к Гесту.
— Как по-твоему, кто из них самый сильный? — безразличным тоном спросил он, кивнув на Двойчат, которые сидели на лавке впереди, спиною к ним; Гест впервые видел их в большом доме, однако они не ели и не пили, просто сидели перед долгожданным своим господином и смотрели в огонь, точно два каменных стража.
— Никто, — ответил Гест.
— Почему ты не сказал — оба? — улыбнулся Эйвинд.
— Потому что думаю, они никогда не мерились силами друг с другом.
Эйвинд опять улыбнулся, хлебнул из кружки и стал слушать Сэмунда, который в четвертый раз уже рассказывал про мировую со Стейном сыном Роара. Немного погодя Эйвинд обернулся к Гесту, сказал, что слышал о нем еще несколько лет назад, убийство Вига-Стюра и в Хедебю было у всех на устах.
— Мало того, и Хавард и отец твердят, будто ты видишь то, чего никто другой не видит.
— Этого я не умею.
— И все-таки, можно задать тебе один вопрос?
Гест сказал, что спросить он может о чем угодно, только ответы будут так себе, самые обыкновенные, он ведь не прорицатель.
— Нынешней осенью у берегов Ютландии затонул исландский торговый корабль. Кормчего звали Атли сын Харека, он из Боргарфьярдара. С ним были двое его братьев, все они погибли. Я подумал, что тебе, наверно, стоит узнать об этом.
— Да. — Гест сглотнул. Ему не нравился этот брат, не нравилась его манера говорить, вести себя. Одновременно он видел перед собою материн перстень, который отдал Атли с просьбой отвезти в Исландию как весточку для Аслауг, теперь эта вещица лежит на дне морском у берегов Дании, и он, Гест, мертв для сестры точно так же, как тогда, когда она назвала его именем своего старшего сына. Но до сих пор он, как наяву, видел ее лицо и слышал голос, говорящий, что он сильный.
— По-твоему, это хорошая новость или плохая? — прервал Эйвинд ход его мыслей. — Учитывая нынешнее твое положение.
— Пожалуй что хорошая, — задумчиво произнес Гест, словно прикидывая, не пойти ли на поводу у надежды. — Атли убил невинного человека из Северной Исландии. Теперь же родичам убитого мстить некому.
— Ты уверен?
Гест помолчал и в конце концов поневоле признал:
— Нет. Вероятно, это вообще ничего не значит. Месть продолжится…
— В роду Атли?
Гест сглотнул застрявший в горле комок.
— Да, — тихо сказал он. — А это и род Клеппъярна, и род Торстейна, и мой…
Недели две спустя, под вечер, когда Хавард укладывает снаряжение в большущий деревянный сундук, Гест сидит рядом, наблюдает за ним, но мысли его по-прежнему заняты ютландским кораблекрушением, в котором погиб Атли сын Харека, и найденными в лесу загадочными покойниками, ведь эти два события вторгались в дальнейшую его судьбу; вдобавок ему не дает покоя довольство, которое читалось на лице у Асы. Она вдруг и против договоренности с Сигурдом сыном Стейна возражать перестала. Эйвинд даже предложил будущему зятю место на своем корабле, чтобы отложить свадьбу на год-другой.
Ингольв и Двойчат обещал отпустить, пускай помирают, коли охота. Правда, тут он и о Хаварде заботился, Хавард-то в море не ходил, плавал только по Меру, Ингольв и у Геста спрашивал, не стоит ли определить Двойчат на Хавардов корабль, они же замечательные мореходы. Гест ответил, что не знает.
Сейчас дверь распахнулась, в дом с топотом ввалились Двойчата, а следом за ними Эйвинд, Сэмунд и Ингольв, который тотчас велел вольноотпущенникам выйти вон, сам же опустился на крытую кожей Хавардову лавку, одобрительно поцокал языком и, ни к кому в частности не обращаясь, осведомился, помнят ли они, о чем толковал Эйвинд вечером по приезде в Хов.
— Нет, — сказал Гест.
— Да, — сказал Хавард.
Ингольв с досадой покосился на Геста и продолжил:
— Я только хочу сказать, что поход, который вам предстоит, не похож на те, в каких довелось участвовать мне самому, и я знаю, там, куда вы задумали отправиться, друзей у вас нет, ни одного!
В следующий миг он выбежал за дверь. Они оторопело проводили его взглядом. Один лишь Эйвинд бровью не повел.
— О чем это он? — спросил Сэмунд.
— Завтра выезжаем, — сказал Эйвинд. — Гест тоже с нами.
Гест не ответил, в плече у него была рана, которая никак не заживала, хотя не болела, не гноилась. А когда этой ночью пошел спать и кругом царил такой кромешный мрак, какой бывает, только если все факелы догорели и луна отдыхает, он подумал, что зрение ему в общем-то без надобности, он знал Хов не хуже, чем Йорву, Сандей и конюшню Кнута священника, а еще ему стало ясно, что рана его не будет потихоньку зарастать, она вообще не зарастет, и росту в нем никогда не прибавится, он был и останется ребенком.
И вот он двигается в темноте, не натыкаясь ни на какие препятствия, в темноте без запахов и шороха птичьих крыльев, белая кожа, что ненароком касается его губ, сделалась сухой, точно кора, — Аса пришла к нему в эту последнюю ночь, только он не знает почему, хоть она и говорит, будто пришла, чтобы не забыть его, мол, теперь-то уж навсегда его запомнит, единственного мужчину в своей жизни, ребенка. Он думает, это прощальный дар человеку, который, как она надеется, никогда не вернется, дар вроде того меча, который он получил от Торстейна, покидая Бё. Но вот поодаль брезжит свет, и он видит, что это, внемлет звукам, по которым истосковался, — там море.
«У моря есть конец?» — спросил Тейтр, когда они сидели на берегу Рейдарфьорда, глядя в вечность.
«Нет, — ответил Гест. И, помолчав, уточнил: — Это путь, ведущий во все стороны».
Часть третья
Англия
Давным-давно, восьмилетним мальчуганом, Гест, сидя на дереве, услышал от отца одну историю и теперь рассказывал ее Хаварду:
— К западу от Йорвы, недалеко, за один короткий день доскачешь, расположена усадьба Арнарстапи, глядящая на то же неукротимое море, что раскинулось перед Йорвой, только позади нее высятся исчерна-серые скалы и надежным бастионом блещет ледяная громада Снефелльсйёкуля. Возле усадьбы, как и в Йорве, бежит река. Солнечным летним днем два мальчика и две девочки играли у реки, съезжая по обледенелым склонам. И вышло так, что одна из девочек замешкалась на речной льдине, и течение вынесло ее во фьорд, она сумела выпрыгнуть на морской лед, который в ту пору заходил далеко вверх по фьорду, а остальные дети побежали домой предупредить родителей. Однако тем временем пал туман. А затем началась ужасная непогода, за ночь лед вскрылся, льдины унесло в море.
Все ж таки они наладили лодки и искали целых три дня. Когда же в конце концов прекратили поиски, отец спросил вторую дочку:
«Она была тепло одета, верно?»
«Да», — ответил старший мальчик.
«Тогда она сможет продержаться много дней. Глядишь, доберется до Акранеса или до Рейкьянеса, а то и до Оркнеев или аж до Англии».
Никто из них словом не обмолвился о том, что льдины растают, дело-то шло к лету. Когда же настала осень, а вестей о девочке по-прежнему не было, все решили, что ее нет в живых. Звали девочку Хельга, и было ей одиннадцать лет.
Однако она не умерла.
Хельга оказалась на большой льдине, которая дрейфовала не на юг, а на север, к Гренландии, и через семь дней прибилась к берегу в Браттали; тамошние норвежские поселенцы и спасли девочку, взяли к себе. У них она прожила следующие тринадцать лет — не то рабыней, не то приемной дочерью. Красивая, глаз не отвесть, только вот диковинная ее история наводила на мысль, уж не троллевского ли она роду, вдобавок и работала наравне с мужчинами и все время твердила стихи, которые сложила на льдине, глядя, как Исландия исчезает в морском просторе, в этих стихах были поименно перечислены все горы на Мысу, включая блистающий Снефелльсйёкуль, — последнее, что она видела в родном краю.
Прожив в Гренландии без малого четырнадцать лет, Хельга села на норвежский корабль, добралась до Нидароса и там перезимовала. А следующим летом исландский купец доставил ее на родину. Она снова увидела горы и отчий дом, встретилась с родичами и соседями. Но покоя не нашла. Ведь все переменилось. Краски, звуки, запахи, люди, дома — незнакомый, чужой мир, который уже никогда не станет ее собственным.
Вот и бродила она в горах, точно призрак. Так-то бывает: коли все считают человека мертвым, он и вправду мертв. Гест помолчал, потом добавил:
— Ты наверняка не поймешь эту историю, ведь рассказ занимает очень мало времени, тогда как семь дней на льдине длятся бесконечно, да еще надобно присоединить пятнадцать лет, прожитых на чужбине.
Тем не менее Хавард объявил, что все понял. От бледности его землисто-серое лицо приобрело оттенок нечистой муки, под опухшими красными глазами залегли черные круги, слюна текла из безгубого рта, который он не закрывал, чтобы ветер продувал язык, зев и глотку. Митотин тоже страдал от морской болезни. Но он хотя бы мог взлететь, прежде чем съеденное запросится наружу, и, раскинув крылья, парил над кораблем точно золотой стяг.
— Но почему твой отец рассказал тебе эту историю? — спросил Хавард.
— Потому что я сидел на дереве.
— А зачем ты влез на дерево?
— Чтобы он рассказал какую-нибудь историю.
Ветер стих. Штиль. Далеко на юге серела у окоема тонкая полоска — Флемингьяланд.[90]
Легкая дымка скользила над гладкой морской поверхностью; слабый теплый ветерок пах лесом, гниющими водорослями, мокрой землей; яркий солнечный диск слепил глаза, а небо словно бы опустилось вниз, белое, каким оно бывает лишь над тающими снегами.
Ротан от имени Хаварда приказал взяться за весла и сел подле брата. Гест тоже греб, рана не докучала ему, а насмешки корабельщиков — весло-то втрое больше нашего недомерка! — он пропускал мимо ушей. Мало-помалу и Хавард чуток оклемался, поел, напился воды. Когда же под вечер надвинулась сизая облачная гряда, он сам приказал поднять парус, стал подле Геста у рулевого весла, как и подобает настоящему кормчему, твердо стоящему на ногах.
— Расскажи еще про Хельгу, — попросил он, не отводя глаз от корабля брата, который шел с правого борта, на расстоянии пятнадцати—двадцати корпусов, с левого борта шли еще три корабля, в общей сложности восемнадцать судов — флот Эйвинда сына Ингольва, под белым стягом конунга Кнута, чуть более шести сотен человек, датчане и норвежцы, свей, немного славян, вендов и саксов, что примкнули к ним в Фюркате, Хедебю и Трелаборге,[91] а также два исландских корабля из Эйяфьорда. Над флотом висел вечно трепещущий покров из звуков, из шумов морского похода — стоны корабельных бортов, скрип такелажа.
— Так эту историю рассказывают детям, — сказал Гест. — Но когда попал в Бё, я услышал, как ее рассказывают взрослые, недаром говорят, что между собой взрослые рассказывают правдивее, детям-то не все полагается слышать. Так вот, Хельгу, оказывается, столкнул на льдину один из мальчишек, сверстник ее, по имени Раудфельд; брат его, Сёльви, тоже в этом участвовал, он был годом моложе. И когда выяснилось, что они натворили, отец Хельги пошел в Арнарстапи, схватил обоих мальчишек и утащил в горы. Там он сбросил Раудфельда в расщелину, которая с тех пор и зовется Раудфельдовой. С Сёльви он поднялся еще выше и столкнул его с обрыва, который теперь называют Сёльвахамар. Отец Хельги носил имя Барди, в Исландию он прибыл среди первопоселенцев из Норвегии, а когда случилась эта история, было ему немного за пятьдесят.
Когда отец мальчишек воротился домой и узнал о мести, он накинулся на Барди с кулаками, но Барди был силушкой не обижен и избил его до полусмерти, сломал ему бедро и руку.
Однако с тех пор не мог Барди спокойно жить в своей усадьбе, не мог общаться с людьми, отдал он усадьбу и имущество друзьям и родичам, а сам дикарем бродил в горах, ночевал в пещерах да средь камней, будто призрак.
Когда же Хельга вернулась, живая-невредимая, и тоже не могла найти себе покоя в родных местах, ничего не изменилось, для отца она оставалась мертва, как была мертва для него все годы после исчезновения, он и узнавал ее, и не узнавал, меж знакомым и незнакомым зиял временной провал. Правда, она осталась с ним в горах, и они жили бок о бок, как чужие.
— И какой же из двух рассказов правдив? — спросил Хавард.
— Оба, — отозвался Гест.
— Ты всегда так говоришь, когда не можешь ответить.
— Верно, — согласился Гест. — Кой-чему я научился. Только надобно добавить: Барди и отец мальчишек были родными братьями. Значит, новой мести не предвиделось. И, как говорят в народе, для них обоих из этого, пожалуй, ничего хорошего не вышло… Между прочим, я вижу землю.
В тот же миг они увидели, как Эйвиндов корабль, успевший лечь на другой галс, прошел прямо у них перед носом. Хавард налег на рулевое весло, приказал команде выполнить разворот и перевел взгляд на Эйвинда: стоя у планшира, тот поднял над головой скрещенные руки в знак того, что надо зарифить парус.
Остальные корабли получили тот же сигнал, а Эйвиндов корабль сделал разворот и, зарываясь в волны, снова пошел им навстречу. Вот сейчас произойдет столкновение — и тут Эйвинд прыгнул к ним на палубу.
— Это не мы, — сказал Ротан, когда хёвдинг очутился перед ними, сказал из опасения, что они сызнова чересчур близко подошли к его кораблю и перекрыли ему ветер, именно они, Двойчата, которые не могли потерять своего господина из виду.
Но Эйвинд, смеясь, отмахнулся.
— Как дела, брат? — спросил он, ехидно взглянув на Хаварда, который в ответ громко засопел, и прибавил: — Мы забрались слишком далеко к северу. — Показал на далекий берег. — Это Восточная Англия. Здесь в море впадают Хумбер и Трент, по воде видать, побурела она. Однако ж нам надо не сюда. — Он умолк, словно погрузившись в задумчивость.
Англия была низкая, серая. Виднелась на горизонте словно обломок старой доски, скалы, что поднимались на незримом берегу, величавостью похвастаться не могли, низкие, точно корабельные поручни. Близилось утро, море катило тяжелые темные волны, теперь они и птиц разглядели, несколько черно-белых пятнышек, трепещущих в воздухе, беззвучных и нереальных, как мотыльки, так далеко, что Митотин не обратил на них внимания.
— Видите вон там серые пятна? — спросил Эйвинд, показывая на растрепанную полупрозрачную полоску в тумане над скалами, которая двигалась в такт с прибоем и корабельной качкой, — не то редколесье, не то испарения, что поднимаются от земли, когда Господь зажигает новый день.
— Лес? — спросил Хавард.
— Люди, — ответил Эйвинд. — И кони. Это земли Ульвкеля и Ухтреда, первых сановников Адальрада, только их нам и следует здесь опасаться. Стало быть, мы пойдем на полудень, в Уэссекс, и встретимся там с Кнутом и Эйриком.
Ротан хотел было возразить, но Эйвинд взглядом остановил его и продолжил:
— Они заметили нас еще вчера. И успели собрать большое войско. — Он помолчал и с улыбкой добавил: — Впрочем, они нарочно стали так у нас на виду, на самом деле их, возможно, куда меньше.
Двойчата и Хавард вопросительно смотрели на хёвдинга, и Ротан опять собрался что-то возразить, но Эйвинд уже принял решение:
— Уходим в открытое море.
Он сделал знак рукой. Его корабль тотчас развернулся к ним носом, он перепрыгнул назад, а немного погодя весь флот снова поднял паруса.
— Вижу землю! — сказал Гест. За последние сутки он уже трижды повторял эту фразу. Но на сей раз сперва он увидел не землю, а корабли, флот Эйрика ярла на морской глади под прохладным послеполуденным солнцем. Корабельщики спокойно сидели или дремали за веслами, меж тем как снасти легонько покачивались, будто сухой камыш на по-осеннему притихшем лесном озерце.
Но за лесом мачт наконец-то возникла земля, опять же низкая, серая, окутанная молочно-белым туманом.
В лесу мачт Гест разглядел флаги Кнута и Эйрика, заметил и что корабли стоят на якоре либо зачалены один к другому — флот в ожидании. Эйвинд проскользнул меж ними, ловко прошел сквозь строй, направляясь к скалам, которые постепенно становились белее и выше, туман рассеялся, пологие холмы словно оплеснуло яркой зеленью, узкие теснины зелеными клиньями прорезали белые как мел берега.
Люди на других кораблях молча смотрели на них, иной раз слышались крики, кое-кто приветственно махал рукой или поспешно потрясал копьем, многие вообще не выказывали интереса. Повсюду на палубах народ — лежат, спят, что-то стряпают, ковыряются со снастями и оружием, ждут, причем, видимо, уже много дней.
Но вот Гест заметил человека, который показался ему знакомым, и осанка, и одежда наводили на мысль, что это важная персона, синяя шелковая рубаха небрежно препоясана туго затянутым ремнем, украшенным серебряными клепками, башмаки со светлыми кожаными шнурками, обвивающими ногу до самого колена, черные кудри, маслянисто поблескивающие на солнце.
— Маленький исландец, — медленно проговорил он.
А рядом с ним еще один, одетый почти столь же броско, но с коротко стриженными волосами и оттопыренными ушами, над могучими плечами виднеется лук — этого человека и это оружие Гест узнал бы и в кромешной тьме: Тейтр. А первый был Хельги сын Скули, доставивший их из Исландии в Норвегию, «торговец» с одним-единственным пальцем на правой руке, толком не знавший, друг он хладирскому ярлу или враг.
Тут и Тейтр увидел Геста, сперва посмотрел прямо на него, потом отвел глаза, будто обжегшись, покраснел и отвернулся.
Гест передал Хаварду рулевое весло, поднялся на кормовое возвышение, перепрыгнул на тот корабль, стал прямо перед дикарем, воскликнул:
— Тейтр, друг мой!
Но Тейтр молчал. Лицо у него было красное, обветренное, дыхание вырывалось короткими, свистящими толчками, челюсти двигались, как при расставанье в Нидаросе. Правда, выглядел он помолодевшим, вполне благополучным, чтобы не сказать зажиточным — на мускулистой шее висел золотой крест, свежий шрам тянулся от левой брови вниз по щеке, еще два крестом прорезали правое предплечье. Мотнув головой, он наконец хмуро проворчал:
— Где ты был-то?
— Если ты сейчас снарядишь лук, то я уверен, стрела твоя упадет в Англии.
Тейтр покачал головой и повторил:
— Где ты был? Мы-то при Клонтарфе[92] были!
Гест рассмеялся.
— Не по душе мне море, — сказал он. — И эта земля не по душе. И лес этот тоже…
Но Тейтр смеяться не стал.
— Мы при Клонтарфе были, — еще раз сказал он, словно затем, чтобы Гест в конце концов усвоил, что они были при Клонтарфе, к северу от Дублина, про Ирландию-то Гест слыхал?..
Хельги перебил его, спросил, кто командует флотом, с которым прибыл Гест, однако ж Тейтр не дал заткнуть себе рот и гнул свое:
— Тебя и при Твидегре не было. — Он с силой прижал палец к ямке на Гестовой шее, будто в чем-то обвиняя. Тут Гест наконец-то навострил уши, ведь Твидегра расположена на плоскогорье Арнарватнсхейди, которое они пересекли, когда только-только ушли от Иллуги Черного и Гест еще был способен сам нести оружие. Ему подумалось, что Тейтр намекает на какие-то свои притязания, хочет стребовать старый должок. Но Хельги пояснил, что в прошлом годе там случилась большая битва, равных коей в Исландии не бывало, меж войском некоего Барди сына Гудмунда из Северных земель и Гестовыми друзьями из Боргарфьярдара, возможно, схватка эта стала последним отголоском убийства Вига-Стюра…
— Барди сын Гудмунда?.. — переспросил Гест.
— Ну да, брат Халля, убитого в Норвегии племянниками Клеппъярна, сынами Харека. И отомстил он сполна, опять же с помощью Снорри Годи. Но Тейтр хочет сказать, что тебе беспокоиться не о чем, пусть и говорит он вовсе другое, на самом-то деле он рад тебя видеть, после Клонтарфа о тебе только и толкует, будто ты ему единственный родич.
Гест опустил глаза, голова у него шла кругом, он думал об Атли и братьях его, что лежат на дне морском у датских берегов, вместе с перстнем матери, а Хельги меж тем рассказывал о павших и уцелевших при Твидегре, Тейтр же едва заметным кивком сопровождал каждое названное имя. Гест поднял глаза, сказать ему было нечего, внутри зияла пустота, потом, глядя на Тейтров крест, спросил:
— Ты что же, принял веру? Крестился?
Тейтр промолчал. А Хельги сказал, что Снорри еще несколько лет назад уплатил виру за убийства в Бё. Торстейна и Вига-Стюра зачли одного за другого, а за Гуннара Снорри выложил три сотни серебром.
— А за Свейна? — спросил Гест. При мысли о маленьком двоюродном братце из Бё он почти вышел из апатии.
— Свейна не убили.
— Он жив?
— Жив, сказывают. Во всяком случае, дело против тебя решено и закрыто, ты можешь вернуться в Исландию и жить там свободным человеком.
Гест задумался, потом взглянул в лицо здоровяка, который тем временем снова успокоился. Тейтр смущенно покосился на свой крест, вроде бы примирился с ним и расплылся в широкой улыбке.
— Мы при Клонтарфе были, — опять повторил он.
Гест вернулся на Хавардов корабль. Братья обедали, вместе с Двойчатами и Сигурдом сыном Стейна. Он уже смекнул, отчего флот стоит — прилива дожидается, который перенесет его через бесконечную песчаную отмель, к скалам, свидетельствующим, что Англия не очень-то и низкая, просто равнинная, плоская. Долины-то вон какие широкие, отлогие, он различал дома, движение на полях и лугах, людей, скот, а у подножия скал, сколько хватало глаз, целый лес морских кораблей — датский флот Кнута и часть Эйрикова, сотни судов, установленные на катки и укрытые парусиной, и тьма-тьмущая людей и коней; там кипела работа: волокли бревна-катки и палы, сгружали товар, складывали в штабеля, куда-то везли — ни дать ни взять громадное торжище, по сравнению с которым Хедебю казался глухим исландским поселком.
Как выяснилось, земля к западу от места высадки была островом, а в проливе стоял еще один флот, под незнакомым Гесту флагом, корабли небольшие, многие не похожи на норвежские и датские.
— Эдрик Стреона, — сказал Эйвинд, перехватив его взгляд. — Английский хёвдинг, примкнувший к нам… А о чем ты думаешь?
Гест озадаченно посмотрел на него:
— Я свободен. Совершенно свободен.
Как только начался прилив, дело пошло быстро, и еще до наступления темноты Эйвиндовы корабли тоже стояли у скал. Заночевали на борту, выждали еще сутки — тем временем все больше кораблей становилось на прикол, — питались провизией, которую привезли с собой, и не покидали побережье. На третий день Эйвинд отлучился куда-то в сопровождении двух воинов, а вернувшись, привел лошадей, старых, изможденных, вдобавок без седел.
Сигурда оставили присматривать за кораблями; нетерпеливых Двойчат, Геста и Хаварда Эйвинд взял с собой. Крутая тропа вывела их на пыльную дорогу, что змеилась среди пышных, волнующихся нив, через маленькие тенистые перелески, по ней они добрались до большой каменой усадьбы, чья высокая каменная же ограда уходила по обе стороны далеко к окоему; усадьба, похожая на крепость, стояла на холме, откуда открывался вид на поля, леса и море, а на море по-прежнему виднелись тучи кораблей, ожидающих прилива.
За оградой двое мужчин играли в тавлеи, они сдержанно поздоровались с Эйвиндом. Вдали мычали коровы, пятеро черных свинок похрюкивали в грязной луже, куры сновали под ногами работника, разделывающего овцу, еще двое мужиков рубили дрова, намереваясь разложить костер. Стены домов были целы, чего не скажешь о кровлях — нету их, сгорели вроде бы, но давно, потому что сажу и гарь смыло дождем, и над всем этим низкое английское небо, насыщенное влагой, мглистое, как сон.
— Какое тут все зеленое! — удивленно воскликнул Гест. — В жизни ничего подобного не видывал.
— Надо подождать, — сказал Эйвинд, отошел к игрокам, о чем-то с ними потолковал, а вернувшись, повторил, что надо подождать. — Возможно, до вечера. В Винчестер поедем, он в нескольких милях к востоку…
Стали ждать. Овчары принесли поесть. И Гест рассказал Хаварду новости из Исландии, рассказал о выплаченных вирах, уладивших распрю со Снорри, и о смертоубийстве при Твидегре, по причине коего распря может продолжаться до бесконечности, а пока говорил, все это обернулось сущим пустяком, который поначалу вроде бы и не касался его, но постепенно приобрел сходство с зачатком бури, и побратим спросил, что его гнетет.
— Не знаю, — ответил Гест.
— Могу поехать с тобой, — предложил Хавард. — Когда тут закончим.
Гест опять сказал, что ни в чем не уверен, но мало-помалу мысль начала принимать четкие очертания, она пришла еще ночью как смутная догадка, росток той решимости, которая в свое время вывела его из оцепенения после убийства отца, в тот вечер, когда он увидел кровь на рукояти топора. Ненароком он бросил взгляд на этот топор, лежавший сейчас в траве рядом с ним. И тут случилось то, что случается лишь в мгновения, когда люди видят себя как бы со стороны: из ближайшего леса выехал конный отряд и неспешной иноходью направился к ним, предводитель был в сине-черной одежде, темные волосы, заплетенные в косу, лежали на правом плече, словно обрубок каната, на коленях щит с тем же черно-лазоревым знаком, какой украшал плащ. Эйвинд поднялся на ноги.
— Это он. Тот, чьи корабли стоят в проливе!
Гест всмотрелся в загорелое, обветренное лицо: широкое, скуластое, глаза большие, посаженные близко к белой, костлявой переносице, холодно-равнодушные, нос острый, как лезвие ножа, левая рука небрежно сжимает поводья, правая спрятана за спиной.
— Эдрик Стреона, — тихо сказал Эйвинд. — Ярл Мерсии, сын раба, поднявшийся из ничтожности. Сперва он был на стороне короля Адальрада. Потом переметнулся к Свейну. Потом опять к Адальраду. А теперь с нами, только Адальрад пока об этом не знает.
— Вы ему доверяете? — спросил Хавард.
— Он на стороне победителя, — отвечал Эйвинд. — Поэтому мы считаем его добрым знаком.
Пестрый отряд подскакал к ограде. Эдрик, сидя на коне, вперил взгляд в Эйвинда, слегка усмехнулся, спешился, шагнул к нему, дважды произнес полное его имя, обнял и сказал, что рад снова видеть его в Англии.
Эйвинд поблагодарил, отступил на шаг-другой и учтиво поклонился, назвав Эдрика олдерменом[93] могущественной Мерсии. Лицо ярла приняло скорбное выражение, и он громко, словно читая стихи, на весьма ломаном норвежском проговорил:
— Моя любимая Мерсия! Ныне ее разоряют Ухтред и Ульвкель, она обливается слезами и кровью, и только конунг Кнут способен избавить нас от Адальрада.
Эйвинд слегка поклонился, словно показывая, что относится к сему панегирику несколько скептически. Эдрик же безучастно пожал плечами и тут увидал Митотина, который сел на плечо Хаварда.
— До чего красивая птица! — воскликнул он. — Ты ее из Дании привез?
— Из Норвегии, — ответил Эйвинд. — Это мой брат Хавард, прибыл с нами завоевывать Англию.
— Зачем ему Англия, — сказал Эдрик, протягивая руку, — коли у него есть такая птица!
Ястреб попытался клюнуть его, но с места не сдвинулся, только искоса поглядывал на хозяина. Эдрик рассмеялся:
— Ты ему доверяешь?
— Да, — сказал Хавард.
— Сколько возьмешь за него?
— Он не продается, — отвечал Хавард.
— Ну? А подарить его можно?
— В нынешнем состоянии нет.
— Это как понимать?
— А очень просто: я могу посадить его в клетку и вручить тебе. Но вручу-то я тебе клетку, а не птицу.
Эдрик задумался, обвел взглядом своих людей, которые по-прежнему сидели верхом и не выказывали особого интереса к разговору.
— Я бы и сам дал точно такой же ответ, спроси меня кто-нибудь, отдам ли я Мерсию. Благодарение Богу, вы здесь. Завтра мы приведем коней и проводим вас в Винчестер. — Он быстро взглянул на Эйвинда и насмешливо добавил: — Твой любезный конунг горит нетерпением, молодой человек.
Пока шла эта беседа, Гест решил вернуться в Исландию и убить Снорри Годи. Вместе со Свейном сыном Торстейна из Бё, который до сих пор жив и должен отомстить за отца и брата, сколько бы виры за них ни заплатили на тинге, а может, и вместе с Хавардом и Тейтром. И он обеспечит себе поддержку южных хёвдингов и на альтинге предложит за этого могущественного мужа выкуп в три сотни. Ровно три сотни. За непобедимого Снорри Годи. Это будет прекрасное, избавительное деяние, благодаря которому он будет жить долго, пока есть на свете люди.
Удивительно, как он не понял этого раньше, когда Атли поведал об убийствах в Бё, хотя, наверно, дело тут во времени, ведь месть требует времени, и в смерти Онунда, месть требует трех сотен серебром, и кровавой сечи при Твидегре, и примирения на альтинге, мнимого примирения, лишь тогда тот, кто все это начал, Торгест сын Торхалли, сможет вернуться и закончить все, раз навсегда.
Он провел ладонью по плечу, однако раны не ощутил. Хавард посмотрел на него. Гест не отвел взгляда, он был полон силы, как в тот раз, когда, горланя, гнал коня по лесам к югу от Хова и стрелял из лука по сухим деревьям.
Но на следующий день они в Винчестер не попали. Получив лошадей, они во всех направлениях метались по Уэссексу, вовлеченные на целых два месяца в какое-то нереальное смешение мелких сшибок, скачек и бесплодного ожидания, ждали новостей, приказов, продовольствия, свежих лошадей и не в последнюю очередь того, что никак не начиналось, — войны. Противник уклонялся, затаивался, грабил собственную страну или рассредоточивался, а население было так измучено и сбито с толку, что видело в датчанах сразу и палачей и освободителей.
И когда та часть войска, где находились Гест и Хавард, наконец-то — под проливным дождем, который упорно не желал переставать, — могла вступить в Винчестер, почти весь Уэссекс, прежде столь надежный бастион в обороне Англии, оказался в руках конунга Кнута.
С другой же стороны, четкая Гестова мысль о новой мести соответственно утратила ясность, и сейчас тем паче отчетливей не стала, ведь за мощными стенами Винчестера, возведенными двести лет назад сподвижником Божиим, святым Суитином, был самый большой из виденных им городов, с тысячами жителей, с несколькими монастырями и церквами, с собором, который построил еще один сподвижник Божий, король Альфред Великий,[94] а из притвора этой величественной постройки струились, смешиваясь с шумом дождя, неземные звуки.
Свечерело, рыночная площадь тонула в полумраке, покупатели расходились по домам, несколько ребятишек купались в колоде с водой, хлопотливые торговцы поспешно собирали остатки товаров, грузили на лошадей и повозки, воздух полнился разноголосицей англосаксонской и норвежской речи, и лишь вокруг замка стояла вооруженная датская стража, однако же их в первую очередь привлекли звуки, доносившиеся из распахнутого соборного притвора, именно эти звуки заставили их спешиться и войти в мягкую тьму, что укрывала этак сотню людей, и в могучий гул, оплетавший напевный голос священника.
Гест узнал латинские слова, но песнь долетала сверху, и была это не просто песнь, но многоголосая музыка, а создавали ее орган, дивное диво с несчетными трубами, и шестеро монахов во главе с кантором, они стояли спиной к прихожанам, устремив взгляд вверх, на освещенный запрестольный образ, откуда на них мрачно взирала вереница безмолвных черномраморных апостолов; звуки плыли и снизу, и сзади, и от высоких закрытых окон, окутывали, словно пелена дождя, и Гест совершенно изнемог, будто сраженный цепенящим ударом, Хавард выдавил из себя короткий издевательский смешок, Митотин спрятал голову под крыло и стал похож на курицу, а музыка все звучала, но вот органист, сидевший на возвышении слева от алтаря, поднял руки над клавишами, и в наступившем космическом безмолвии витала в вышине под сводом лишь песнь монахов, то снижалась, то воспаряла ввысь широкими кругами, точно ловчая птица в поисках добычи, затем вновь вступил голос священника и, будто спокойная река, увлек мысли в торжественные молитвы и опять погрузил их в кипучие звуки органа. Гест не выдержал — в соборе было холодно, как летом в колодце, он осенил себя крестным знамением, встал, чувствуя рану в плече и леденящую стужу, и выбежал под дождь, без оглядки, вскочил на коня и во весь опор поскакал к лагерю, будто за ним кто гнался.
Но музыка не пропала. Она возвращалась с воспоминаниями — о случившемся единожды и дважды, о малом и о большом, о лицах, и историях, и нелепейших затеях, возвращалась вместе с запахами и звуками, словно за плечами у него была вечность, заставляла его вновь пережить и увидеть всё разом: Стейнунн и Халльберу, мать и погибших в Бё, Йорву, Ингибьёрг, отца и Тейтра, который оставил его в живых; он заглянул в лик Господень, не только глазами, но всем своим существом и непостижной душою, о которой написано в книгах Кнута священника и которая зримо является во тьме страха, он увидел Бога и великую смерть, и тогда четкая мысль его не просто утратила ясность, но полностью канула в небытие.
Ночью его разбудил Эйвинд, которого он в глаза не видал уже неделю с лишним, и сказал, что им с Хавардом велено вместе с ним отправиться в город, в замок.
Шли пешком, под дождем, обернувшимся теперь холодной изморосью, и в замке впервые увидели конунга, Кнута Датского, правда с расстояния более сотни шагов, семнадцатилетнего юнца, который вознамерился завоевать самую богатую страну на свете, вместе с ним был Эйрик хладирский ярл и еще четверо вельмож, в том числе Эдрик Стреона, одетый все в ту же сине-черную рубаху. Они сидели за овальным столом, на возвышении меж двумя очагами, под венцом из пылающих факелов. Позади них стояли вооруженные стражи, а вокруг в зале сидело и стояло человек сто безоружных людей.
О чем шла беседа за столом, они не слышали. Гест видел, что Эдрик и высокий светловолосый человек справа от него оживленно беседуют, лишь время от времени обращаясь к молодому конунгу, который тогда как будто бы принимал их заявления ad notam.[95] Иной раз и Эйрик вставлял слово, однако весьма сдержанно, словно являл собою этакий норвежский бастион между английскими вельможами и своим датским шурином, сам же Кнут вообще рта не открывал.
Судя по всему, конунг начал скучать, взял кусок хлеба, осмотрел, положил на место, схватил кубок и, медленно потягивая вино, обвел взглядом перешептывающееся собрание, а заметив Эйвинда, кивком подозвал его к себе. В тот же миг все разговоры умолкли. Эйвинд преклонил колени, Гест так и не понял, в знак ли покорности или эта его поза позволяла конунгу что-то шепнуть ему на ухо. Мгновение спустя Эйвинд поднялся, поклонился каждому из вельмож за столом, снова пересек зал, вывел Геста и Хаварда во двор замка и сказал, что отныне их пути расходятся, ибо ему поручено командовать той частью датского войска, которая возьмет в осаду Лондон, где засел король Адальрад с королевой Эммой, младшими сыновьями, витаном, сиречь королевским советом, и остатками войска.
Хавард же и Гест останутся с Кнутом и Эйриком, пойдут с их войском на север, где ярлы Ухтред и Ульвкель по-прежнему держат оборону. Эдрик Стреона тоже будет при них, ведь для него Мерсия — родной край, а для Кнута и Эйрика — почти неведомая территория.
И еще одно сказал им Эйвинд, причем очень серьезно: вечером накануне пришла весть, что сын Адальрада от первого брака, Эдмунд, сбежал из Лондона и присоединился к ярлам на севере — лишнее подтверждение, что все решится именно там. Как только северные провинции будут в руках датчан, падет и Лондон.
— Двойчат возьмете с собой, — напоследок резко бросил Эйвинд, словно опасаясь возражений.
Гест хотел спросить, под чьим началом им предстоит служить, но Эйвинд предупредил вопрос и сказал, как бы предостерегая:
— Начальник ваш из войска Эйрика, а зовется он Даг сын Вестейна.
Гесту снова послышалась музыка, но он промолчал. Хавард испытующе посмотрел на брата, вроде бы хотел возразить, однако тоже не сказал ни слова. Опять-таки и Эйвинду добавить было нечего.
Гест все больше думал о небесных силах, а вовсе не о предстоящем походе. Пока войско стояло в Винчестере, он дважды ходил в собор, слушал орган и мессы, увидел книги, повергшие его в благоговейный трепет, те самые, что в свое время оставили неизгладимый след в душе Кнута священника, были созданы или переписаны в крупнейших церковных центрах — Клюни, Шартре, Ионе, Румаборге — и сияли неземною красой.
По пути на север через Бекингемшир, Бедфордшир, Нортгемптоншир он тоже посещал все монастыри и церкви, маленькие невзрачные бревенчатые постройки и роскошные сооружения из камня, в сравнении с которыми Божий храмы, знакомые ему по Нидаросу и Хедебю, выглядели сущими собачьими конурами. Повсюду он чувствовал, как лицо горит от стыда, слышал в душе ту же многоголосую песнь, что истребила в нем давнюю четкую мысль. И вот однажды поздно вечером, когда они вошли в придорожную деревушку, очевидно разоренную передовым отрядом Дага сына Вестейна, и увидели меж сожженных домов мертвые тела — взрослых и детей, рабов и свободных крестьян, — Гест заметил серебряный крест, взблеснувший на нагом детском тельце: мертвая девочка лет восьми — десяти лежала в грязной луже и была хорошо видна орде варваров, которые — под водительством Двойчат — немедля кинулись в развалины искать ценности.
Но на девочку и крест никто внимания не обратил.
Гест неторопливо спешился, подошел к девочке, снял с нее крест и надел себе на шею.
Минуло больше месяца с тех пор, как они покинули Винчестер, а Даг сын Вестейна так его и не приметил. Приметил только сейчас, ибо тоже положил глаз на мертвую девочку и серебряный крест.
Рослая фигура вразвалку приблизилась, схватила под уздцы коня, вперила взгляд в драгоценный крест. И тут Даг узнал Геста.
— Коротышка-исландец, — проговорил он и закрыл глаза, словно эта встреча скорее огорчила его, чем разозлила.
Гест не ответил.
Даг тоже ничего больше не сказал, выпустил уздечку, отвернулся и тяжелой походкой зашагал к отряду, ожидавшему у околицы.
Неделей позже Гест и Хавард сидели на мосту через Трент, у подножия старой ноттингемской крепости, ощипывали каждый своего гуся, меж тем как Митотин, скребя когтями по нагретым солнцем бревнам, сновал рядом и яростно клевал потроха. Тут на городской стороне появился Даг, а с ним трое воинов, знакомых Гесту по Эйриковой дружине, они прошли по мосту, остановились обок и некоторое время наблюдали, как гусиные перья, точно снег, падают в по-осеннему бурую речную воду.
— Зная, что ты здесь, я не могу не сообщить об этом ярлу, — со вздохом сказал Даг.
— Понятное дело, — отозвался Гест.
— Так что думаю, тебе лучше пойти с нами. По крайней мере, явишься вроде как добровольно.
Хавард отложил гуся в сторону. Встал и объявил, что без него Гест никуда не пойдет.
— А с какой стати ты вообразил, что сможешь защитить его, если я не могу? — осведомился Даг.
— Он мне брат, — отвечал Хавард. И сразу же Митотин сызнова поднял шум, выпятил пеструю грудь и стал похож на пушистый узорный мяч.
— Это еще кто? — спросил Даг.
— Ворона палёная, — буркнул Хавард. — Без меня Гест никуда не пойдет.
Даг опять досадливо поморщился, он успел и Двойчат заметить, которые слезли с мостовой опоры и смотрели прямо на них, а потому пожал плечами и махнул рукой: мол, поступайте как угодно, главное, пошли с нами.
Следом за Дагом они вошли в ворота крепости, построенной сто лет назад королем Эдуардом[96] когда он решил, что раз навсегда освободил Англию от датчан, теперь же там стоял норвежский ярл с дружиною, советниками, множеством прислуги и поваров.
Эйрик стоя громко разговаривал с кем-то сидящим в глубоком кресле. Даг хотел было удалиться. Но ярл, судя по всему, был рад прервать разговор и подозвал их ближе.
Гест и Хавард преклонили колени и учтиво поздоровались. Ярл нетерпеливым жестом велел им подняться и кивнул на стол, где на козлах, точно корабль, лежал винный бочонок с краником в донце.
Ни Гест, ни Хавард даже не пошевелились.
— Мне должно угостить вас? — спросил Эйрик, который только теперь углядел Митотина.
В следующий миг с почетного сиденья поднялась Гюда, с любопытством воззрилась на них. Она была в длинном винно-красном платье с меховой оторочкой на капюшоне, подействовавшем на Геста примерно как органные каскады в Винчестере, на щеках у нее играл яркий румянец, как после бурной ссоры, но глаза светились зеркальной ясностью, она безучастно взглянула на птицу, чуть заметно улыбнулась и словно бы глазам своим не поверила, увидев Геста, который опять пал на колени, на сей раз как почитатель, прикрыла рукой черное пятнышко на шее и нервно посмотрела на мужа — тот спокойно расхаживал подле стола, наливал вино и любовался ловчей птицей.
— Ты пришел преподнести мне сей драгоценный дар? — спросил он, досадливым жестом вновь приказывая Гесту подняться на ноги.
— Нет, — ответил Хавард.
— Отчего же нет?
— Я уже обещал его Эдрику Стреоне.
Эйрик с интересом посмотрел на него:
— А зачем?
— Затем, чтобы птица выклевала ему глаза, — сказал Хавард.
Ярл громко хохотнул, взглянул на Гюду, которая рассеянно улыбалась, и наконец вперил взгляд в Геста.
— Тебе известно, — проговорил он, по-прежнему обращаясь к Хаварду, — что этот маломерок намеревается убить меня? Некая внутренняя сила повелевает ему убить меня, и он не властен над этой силой, а потому поклялся никогда более не появляться вблизи меня. Однако вот он, здесь, в Англии. Что ты думаешь по этому поводу?
Эйрик глотнул вина. А Хавард не нашел что сказать. Гест заметил, что Даг сын Вестейна, стараясь не привлекать к себе внимания, стал у окошка, выходящего на реку, тот самый Даг, что в Нидаросе приходил к нему потолковать об Эйнаре из Оркадаля.
— Если дозволишь мне, государь, молвить слово в мою защиту, то я скажу, что очутился здесь не по своей воле и не по зову сердца и о мести не помышлял с того вешнего дня почти два года назад в Нидаросе, когда стоял перед тобою. Думаю, Даг это подтвердит.
— Даг? — Эйрик взглянул на воеводу, который нехотя поклонился и сказал:
— Малыш-исландец долго пробыл у нас. И никто не замечал в его поступках обмана и предательства. В Нидаросе он состоял при Эйстейне сыне Эйда.
Ярл как будто бы оценил столь блестящий отзыв.
— Эйстейн — человек достойный. Сражался при Клонтарфе, — сказал он. — И уцелел. Теперь, поди, в Исландии сидит, во всем своем скромном величии.
Даг кивнул и опять уставился в окно.
Гюда с нервным смешком вмешалась в разговор:
— Он умеет рассказывать истории.
— Что он умеет?
Она повторила, уже без смеха.
— Выходит, ты тоже знаешь его?
— Да. Он умеет читать и запоминает все, что слышит, слово в слово, я видела его в церкви в Нидаросе, он умный человек.
Гюда произнесла все это бесхитростным тоном. И ярл вроде как призадумался над ее словами, но по-прежнему с иронической усмешкой на губах. Потом сказал:
— Зато я не так умен. Поэтому вы проведете ночь в темной, а я решу, что с вами делать.
Гест кивнул, пробормотал, что ему все равно, снова пал на колени и попросил разрешения преподнести подарок ярловой супруге.
Эйрик, посчитав аудиенцию законченной, уже отвернулся к винному бочонку, однако, услышав эти слова, насмешливо глянул на Геста:
— Друг твой не хочет сделать подарка мне. А вот ты хочешь преподнесть подарок моей супруге?
— Да, — ответил Гест с непроницаемым видом, снял с себя крест убитой девочки и шагнул к Гюде, голова у него кружилась, но он сумел превозмочь слабость. На лице Гюды расцвела осторожная улыбка.
— Какая красота!
Ярл подошел к ней, выхватил крест.
— Что здесь особенного? Обыкновенный крест. И серебро-то так себе, плохонькое, вдобавок в пятнах. Что это?
— Слезы Англии, государь.
Оба оцепенели. Гест услышал, как Хавард перевел дух, когда ярл вдруг грохнул кулаком по столу и выкрикнул «нет!», трижды, потом как-то весь резко скорчился и замер в напряженной позе, сжимая и разжимая кулаки.
Мгновение спустя он выпрямился и сухо бросил, что Гест и Хавард могут остаться в войске и беспрепятственно ходить куда угодно, ибо он им доверяет.
— Ты умный человек, государь, — сказал Гест и поблагодарил.
— Этого я не знаю, — тем же сухим тоном произнес ярл, но с насмешливой улыбкой. — Зато знаю хотя бы, как ты остаешься в живых, маломерок. Выглядишь невиновным.
Даг сделал им знак, они поклонились и поспешно вышли вон.
— Как тебе это удалось? — спросил Хавард, глядя на свои трясущиеся руки.
— Не знаю, — ответил Гест.
Следующим вечером их снова призвали в парадный зал. Ярл желал послушать историю, и настроение у него улучшилось. Гест рассказал про святого Антония, который раздал отцово наследство беднякам и поселился в пустыне отшельником-аскетом… однако на лице ярла прочел лишь очень умеренный интерес, притом что в глазах Гюды горело увлечение. Тогда Гест стал рассказывать о себе, об убийстве Вига-Стюра и бегстве, которому не было конца, хотя дело давно закрыто, и эта история пришлась ярлу больше по вкусу.
— Ты человек свободный, — сказал он. — Можешь делать что угодно. Отчего же ты здесь?
Гест собрался с духом:
— Я рассказал тебе об этом, государь, чтобы ты узнал меня.
На следующий вечер он поведал о Хельге на льдине, о погребении Бальдра и о встрече Эйрика Кровавой Секиры с Эгилем сыном Скаллагрима в Йорвике[97] в незапамятные времена.
Эти истории, по всей видимости, тоже вызвали у ярла интерес — слушая, он потягивал вино и нет-нет поглядывал на жену, которая даже хотела вознаградить Геста за историю о Хельге золотым перстнем. Но говорил Эйрик мало, только поблагодарил, когда Гест закончил, и жестом велел ему удалиться.
Когда же на третий вечер они сидели вдвоем и Гест рассказывал про святого Колумбу[98] Эйрик прервал его посреди истории: он, мол, хочет кое-что ему сказать — и предложил угоститься вином.
Подождав, пока Гест нальет себе вина и пригубит кубок, ярл сказал:
— В Оукеме бесчинствовали не люди Дага сына Вестейна, а солдаты одного из английских ярлов, предположительно Ульвкеля. Что ты думаешь по этому поводу?
Гест негромко отвечал, что князья, бесчинствующие в собственной стране, вряд ли верят в успех предприятия, которому служат, и это, скорее всего, знак отчаяния. Потом добавил: ему-де удивительно, что ярл вообще спрашивает об этом его, ведь он понятия не имеет, что творится в английских лесах.
— Я задавал этот вопрос по меньшей мере сотне людей, — сказал ярл с насмешливой улыбкой. — А теперь спрошу тебя о совсем другом: эта Хельга на льдине, чем она питалась целых семь дней?
— Водой. Пила только воду из лужиц на льдине. А один раз поймала птицу и съела сырьем. Но хуже всего другое: ей нельзя было спать и приходилось почти все время стоять во весь рост, чтобы не замерзнуть до смерти.
Ярл надолго задумался.
— Нечасто мне доводилось слышать столь странные истории. По-твоему, это не выдумка?
— Нет, — сказал Гест.
— Почем ты знаешь?
— Просто никто бы не сумел выдумать такое.
Эйрик опять задумался.
— А это тебе откуда известно? — наконец спросил он.
— Так, ниоткуда.
Ярл коротко хохотнул, потом сказал:
— Впредь мы еще не раз с тобой побеседуем. И за зиму я решу, как с тобой поступить. Сейчас ты можешь идти. А сокольнику передай, чтобы не попадался мне на глаза. Пусть сидит в Даговой дружине и делает что хочет, но я не желаю видеть ни его самого, ни птицу его. Так ему и скажи.
— Скажу. — В очередной раз Геста поразил резкий перепад ярловых настроений. Однако он сделал и еще одно открытие: ему нравилось разговаривать с ярлом, он как бы заучивал наизусть чрезвычайно сложную сентенцию и при этом обнаружил, что смысл ее меняется, снова и снова.
Продолжая поход на север по болотистому западному берегу Трента, они вышли к городу Гейнсборо, в центре которого высилась новая крепость. Годом раньше здесь скончался конунг Свейн, а сейчас ликующие толпы народа, датчан и норвежцев, встречали их как освободителей. Всего несколько дней назад Ухтред, ярл Нортумбрии, разорил и сжег городские окраины, и ни коней, ни тягловой скотины в округе было не сыскать.
Эйрик и ближняя его дружина расположились в крепости, остальному же войску Даг сын Вестейна — со времени встречи в Ноттингеме он не удостоил Геста ни единым взглядом — приказал стать лагерем в роще к северу от города, послал десять человек за убойной скотиной и хлебом, а сам, не дожидаясь, пока поставят палатки, уехал прочь.
Всю ночь не переставая лил дождь, факелы погасли, костры чадили, люди мерзли, спали плохо, и, когда забрезжил рассвет, отнюдь не предвещавший улучшения погоды, Хавард начал ворчать: мол, надо вставать и искать пристанища в усадьбе на опушке рощи. Как вдруг по раскисшей земле прокатилась глухая дрожь, усилилась, разом напомнив исландское землетрясение, — это был топот конских копыт, в лесу мелькнули огни факелов и тотчас потухли, улюлюкающие всадники черной лавиной хлынули из-за деревьев, промчались по мокрому лагерю и опять исчезли, Гест даже из спального мешка выбраться не успел.
Сперва настала тишина, нарушаемая только шумом дождя, затем поднялся жуткий гвалт: истошно кричали перепуганные и пострадавшие в порубанных палатках, ржали бьющиеся в грязной жиже искалеченные кони. Полуголый Ротан бестолково метался по лагерю, гаркнув в лицо кому-то из раненых:
— Слабак! Слабак!
За ним по пятам ковылял брат, размахивая мечом и волоча на ноге мокрый хвост одежды. Хавард успел и одеться и вооружиться, но и только.
— Что это было? — спросил он.
Гест вышел из палатки во взбудораженный лагерь — три-четыре сотни разъяренных, израненных, насквозь мокрых воинов, три десятка убитых, лошадей вполовину меньше, чем было, и те в большинстве раненые.
Пострадавших решили разместить в усадьбе, развели огонь, послали пятерых гонцов в город предупредить ярла, спешно отрядили погоню за нападавшими, наобум, и вскоре она вернулась ни с чем.
— Они не хотят сражаться! — крикнул Ротан. — И здесь тоже!
Прискакал ярл во главе дружины, по обыкновению одетый роскошно, но строго, с непокрытой головой. Не обращая внимания на дождь, он напустился на трех Даговых людей, которых по очереди вызвал пред свои очи, и совсем рассвирепел, когда оказалось, что ни один не может сказать ни сколько примерно насчитывалось нападавших, ни кто это был. Вражеское оружие, большей частью стрелы, но также несколько топоров и копий, собрали в кучу у ног ярла. Определить их принадлежность никто не смог.
Тут Эйрик заметил Геста.
— А ты, недоросток-исландец, который все видит и все помнит, ты что скажешь про этих людей?
— Ничего, государь.
На сей раз ярл вспылить не успел, потому что слово взял один из советников Эдрика Стреоны:
— Это были не Ухтредовы люди. — Он выхватил из кучи оружия стрелу и показал ярлу обмотку из тонкой серебряной проволоки у оперения. — Это отряд Эдмунда, Адальрадова сына, который нынешней осенью сбежал из Лондона. В народе его уже прозвали Железнобоким. И, как я понимаю, именно его нам следует опасаться, ведь нет у него земель, чтоб их оборонять, всех владений — конь под седлом. Нам его не найти, а вот он нас отыщет, когда ему удобно, а нам несподручно, как нынешней ночью.
Ярл меж тем успокоился, словно взгляд на стрелу разом отмел все сомнения, он не любил загадок, предпочитал реальные факты и явных врагов; похлопывая по ладони наконечником стрелы, он оживленно объявил:
— Ну что ж, теперь все ясно: идем на Нордимбраланд.[99] Коли прежде побьем Ухтреда, Эдмунду нигде не будет покоя. Выступаем сегодня, незамедлительно, прямо сейчас!
Он поворотился спиной к потрепанному войску, тронул коня и исчез в завесе дождя, из которого, казалось, была соткана эта страна, а Даг сын Вестейна приказал свертывать лагерь, яростно подгоняя людей, будто хотел убедить весь мир, что никогда более не допустит, чтобы этот варвар, английский принц по прозвищу Железнобокий, коварно напал на его спящее войско.
К вечеру, когда они продолжили путь на север берегом мутного, бурого Трента, все войсковые отряды разослали по округе дозорных и походные заставы, в одну из которых назначили Двойчат, Хаварда и Геста. На другой день они встретились с войском Кнута, тоже пострадавшим от ночных вылазок неуловимых улюлюкающих налетчиков. Все только и говорили, что о Железнобоком, имя его внушало почтение, произносилось с яростью и было окутано загадочными домыслами. Спустя два дня к ним присоединились Торкель Высокий и Эдрик Стреона, а через неделю после выступления из Гейнсборо датские войска стояли на южном берегу Хумбера, реки еще более полноводной и мутной, перед ними лежала Нортумбрия, дождь заливал леса, столь же дремучие и непроходимые, как те, сквозь которые они с таким трудом пробились, покинув Ноттингемшир.
Вверх и вниз по течению отрядили дозорных; по возвращении они доложили, что в округе есть три моста, один, правда, был подожжен, но дождь погасил огонь и все три можно использовать; и впервые ярл дал войску разрешение крушить все на своем пути, лишь бы люди целыми-невредимыми одолели этот окаянный грязный поток, отделяющий их от богатых северных краев.
Вместе с Хавардом и Дагом сыном Вестейна Гест скакал во главе той части войска, что переправлялась по обгоревшему мосту. Но едва они добрались до середины шаткого сооружения, как одна из лошадей провалилась сквозь настил, из-за чего в задних рядах возникла сумятица. Один человек упал в реку, и прежде чем удалось успокоить перепуганных животных, мокрые чащобы Нортумбрии ожили, целая лавина всадников и пеших воинов выплеснулась на северный берег, хлынула на скользкие доски моста, в воздухе засвистели стрелы, замелькали копья. Гест успел заметить, что в горло его лошади вонзилось копье, а в следующий миг она стала на дыбы, оскользнулась и, точно мешок с шерстью, швырнула его через перила — он увидел чье-то лицо, падая, ударил мечом и падал бесконечно долго, падал, дергая руками и ногами, пока не очутился в воде, почти одновременно с лошадью, меч выскользнул из рук — вот и остался я без меча, мелькнуло в голове, — а тем временем следом за ним в реку градом посыпались кони, люди, оружие. Он тонул, конское копыто ударило в спину, нет, это был меч, а теперь необходимо вздохнуть, он сделал вдох, ринулся в круговорот сверкающих красок, закашлялся, почувствовал, как его крепко схватили за щиколотку, с силой потащили вверх сквозь мешанину тел, по-прежнему падавших в воду, увидел свет, глотнул воздуху, а потом навзничь лежал в топкой жиже на северном берегу, слушая странный шум, чавкающие звуки, которые постепенно переросли в глухой гром, лязг оружия. Взгляд его был прикован к резким, угловатым движениям могучей, медвежеватой фигуры: сжимая в одной руке меч, в другой — Гестову ногу, Пасть грузно шагал вверх по склону, к мостовому быку, выволок Геста на сухое место и там оставил. Следом за ним брели из той же прибрежной топи мокрые, черные от грязи люди, и Гест сообразил, что они не упали с моста, а переплыли реку вместе с конями, сам же он не шевелился, снова утонул в мутном забытьи, пока хриплый натужный кашель не вырвал его из этой пучины — перед ним было забрызганное кровью, горящее презрением лицо Дага сына Вестейна.
Гест сел, с изумлением обнаружив, что меч-то вот он, у него в руке. Вокруг, куда ни глянь, Даговы люди остервенело рубили мертвых и умирающих, весь лесистый берег полнился безумными воплями и смертоубийством, и по-прежнему лил дождь. Теплая струйка текла из новой раны в плече, на сей раз в другом, спину ломило, болела нога. Он привстал на колени, разглядел, что рана неглубокая, оторвал рукав, перевязал ее, поднялся во весь рост, так и не выпустив меча из бессильных пальцев, но все уже миновало, только бесконечная вереница воинов, ведя в поводу взбудораженных коней, тянулась по шаткому мостовому настилу, потом он увидел Хаварда, который крушил оружие мертвеца, и без того растерзанного в клочья. Даг уже отдавал распоряжения, наводил порядок среди своих людей, велел перевязать раненых, собрать уцелевших коней, а остальных прикончить. Подъехал ярл, тоже забрызганный кровью, скользнул взглядом по Гесту, но как бы и не заметил его, подбоченился и громовым голосом крикнул в неразбериху, что ныне ночью Бог даровал им великую награду.
— Он возвратил нам тепло. Есть тут такие, что мерзнут? Нет, таких не найдется.
И объявил, что они немедля выступают на Йорвик — и предадут огню все Ухтредовы поселения, датские же не тронут. Это очень важно.
— Только Ухтредовы! Не датские!
Пошатываясь, Гест подошел к Пасти, который как раз отрубил руку покойнику, чтобы забрать золотое запястье, и поблагодарил за спасение своей жизни. Тот недовольно посмотрел на него и косноязычно крикнул, что не по заслугам Гесту честь, ему ярл приказал. Потом вдруг сменил гнев на милость, широко улыбнулся и спросил, во сколько, интересно, сам Гест ценит свою жалкую жизнь.
Гест покачал головой, снял с пальца перстень, подаренный Гюдой, протянул ему. Пасть поднес перстень к браслету, которым аккурат успел завладеть, продемонстрировал, как он мал, и с усмешкой покачал головой:
— Маленький человек, маленький перстень.
Гест отошел от него, сел рядом с Хавардом. Побратим спросил, не ранен ли он.
— Нет, — ответил он.
— Я видел, как ты упал, — сказал Хавард, выложив на траву свои трофеи, и спросил, не хочет ли Гест что-нибудь взять себе, например топор, он ведь вроде бы лишился всего, что имел, кроме этого нелепого маленького меча.
Гест устало улыбнулся.
Хавард пожал плечами, завернул оружие в кусок парусины, привязал к седлу. Гест сообразил, что за последние несколько дней его уже дважды застали врасплох, словно у него не только ранено плечо, но и повреждены глубинные фибры его существа, ведь он утратил проворство, и прозорливость, и остроту мысли. Что со мной? — думал он.
Нортумбрия
Пять дней спустя датское войско сосредоточилось на окраине деревни Тадкастер, неподалеку от римской дороги на Йорвик. Гест лежал на сермяжном одеяле у опушки леса и пытался заснуть, но тщетно, уже который год он толком не спал. Мрачно смотрел в спину ярлу, а думал лишь об одном — искал надежду, ведь с тех пор, как переправились через Хумбер, они дважды сталкивались с Ухтредом и однажды — с Ульвкелем, из всех трех сшибок вышли победителями, правда с большими потерями, а Гест и в этих случаях, мягко говоря, не отличился.
Но по крайней мере дождь прекратился, тучи обернулись туманной дымкой, тающей в белесой голубизне неба, подморозило, слабые солнечные лучи поблескивали в заиндевелой ярко-зеленой траве, и бесконечные холмы раскинулись вокруг, точно волны в зеленом травяном океане.
Позади ярла стояла его дружина, рядом с ним сидел на коне Кнут сын Свейна, датский конунг, семнадцатилетний юнец, одержимый грандиозной идеей, завоеватель. Оба они негромко беседовали. Разговор шел о деревушке Тадкастер, что лежала впереди на расстоянии нескольких полетов стрелы: что там за население — скандинавы или англосаксы? Ждать ли новой схватки? Ярл и конунг на что-то показывали, жестикулировали, Гест слышал, как они смеются.
Однако нападения не последовало. Три всадника внезапно выехали из лесу поодаль и не спеша направились к ним, на расстоянии друг от друга, разведя руки в стороны, словно обрубки крыльев, один сжимал белый флаг, вяло колыхавшийся в безветренном воздухе.
Ярл и конунг спокойно ждали. В пяти шагах от них всадники остановили коней. Тот, что с флагом, приветствовал обоих, назвал свое имя и сообщил, что он посланец Ухтреда, олдермена Нортумбрии, который приглашает датского конунга и его людей встретиться через три дня в замке Кингс-Сквер в Йорке — для переговоров. До тех пор Ухтред объявляет перемирие.
Кнут хотел было ответить, но все-таки обернулся к зятю.
— Скажи Ухтреду, — отвечал Эйрик, — что мы питаем глубочайшее уважение к нему и его людям, они из числа храбрейших воинов, с какими нам доводилось сражаться. И мы будем рады принять его в стенах Королевского замка в Йорке, через три дня. И тоже объявляем перемирие по всей Нортумбрии на этот срок.
Человек с флагом в замешательстве огляделся по сторонам, сумел взять себя в руки, неуверенно поклонился и повернул коня.
Конунг и ярл не двинулись с места, пока посланцы Ухтреда не исчезли из виду. И снова Гест услышал их смех средь зеленой стужи. Эйрик наклонился к Дагу сыну Вестейна, что-то сказал ему на ухо и неторопливо поехал к деревушке, меж тем как измученное войско взгромоздилось на уцелевших лошадей и поползло следом, ковыляющей, вялой вереницей, похожей на беженцев, призраков, мертвецов… Тут только до них дошло, чему они были свидетелями: большой полководец, один из славнейших в Англии, объявил о капитуляции. Я мог бы первым догадаться об этом, подумал Гест, но, увы, он и тут опоздал.
Тою же ночью он был разбужен Дагом, вырван из сна, сравнимого разве что с вечностью, и обнаружил, что лежит рядом с Хавардом в полуразрушенной конюшне. Очухаться ему толком не удалось, потому что Даг схватил его за ноги и по усыпанному соломой полу выволок наружу.
— Ярл желает говорить с тобой, — бросил воевода, поставил его на ноги и по узенькой улочке, освещенной факелами, зашагал к постоялому двору, где ярл сидел за выпивкой, в обществе четверых мужчин, которые при их появлении тотчас встали и ушли. Эйрик предложил Гесту сесть, а когда и Даг удалился, долго изучал его лицо, будто никогда раньше не видел, потом подвинул ему кружку с пивом и сказал:
— Будь ты ярлом Нордимбраланда и вздумай заманить датское войско в засаду, какое место подошло бы лучше Тадкастера, где все спят?
Гест уже почти проснулся.
— Ты это предусмотрел, государь.
— Верно, — сказал Эйрик и тотчас потерял интерес к этой теме. — Эдрик поставил вокруг деревни дозоры, мы можем спать спокойно.
Ярл помолчал, глядя на Геста тем же взглядом, что был ему знаком по первой встрече в Нидаросе, потом напрямик спросил, знает ли он «Бандадрапу».
— Да, знаю, — ответил Гест и, увидев, что ярл ободряюще кивнул, пропел стихи от начала до конца.
Ярл снова кивнул, едва ли не смущенно, и стал рассказывать о своем детстве у приемного отца Торлейва Кроткого, умный был человек, хоть и язычник, скальд Халльфред сын Оттара выколол ему один глаз, по приказу конунга Олава сына Трюггви, тогда-то ярл и возненавидел Олава. Рассказал он и о своем брате Свейне, которого никогда не любил, а потому при всяком удобном случае норовил отделаться от него минимальными подачками, и об отце, хладирском ярле Хаконе, о первом своем походе в земли вендов, об осаде Альдейгьюборга, а затем попросил Геста все это повторить. Гест просьбу исполнил.
— Ты используешь другие слова, — заметил ярл.
— Да, — сказал Гест.
Эйрик задумчиво смотрел на него, и он смекнул, что ярл ждет подробного объяснения, и сказал, что хотя он и использовал другие слова, это вовсе не означает, что рассказ неправдив, ведь и ярлов брат Свейн наверняка бы поведал обо всем другими словами, притом что суть осталась бы правдивой, верно?
Ярл задумался и опять кивнул, словно по достоинству оценил, что Гест дерзнул привести столь рискованный пример. Потом рассказал о битве при Свольде и гибели конунга Олава, рассказывал долго, называя имена кораблей и людей, павших и уцелевших, героев и трусов, велел Гесту повторить и это. Гест повторил, опять же своими словами.
— Гюда говорила, будто ты и длинные истории можешь повторить слово в слово.
— Могу и так. — Гест снова начал рассказ о битве при Свольде — на сей раз словами ярла, даже копируя его голос. Тут Эйрику явно стало не по себе. Однако он несколько раз одобрительно кивнул, а в заключение спросил, помнит ли Гест, что произошло, когда они на прошлой неделе переправлялись через Хумбер.
Гест перечислил, кто из ярловых людей что делал и где находился, назвал многих погибших и скольких недосчитались англичане. Но поспешил добавить, что обо всем об этом слышал от других, так как сам упал в реку и, пока это происходило, был без сознания.
— Да, я видел, — задумчиво обронил ярл и опять замолчал, а потом чуть ли не торжественно произнес: — Я принял решение. И мне без разницы, что воин из тебя никудышный. Через два-три дня мы возьмем Йорвик, и тогда ты будешь ночевать под моей крышей, находиться подле меня, все слушать и запоминать, чтобы слагать стихи или рассказывать обо всем в точности так, как было. По силам ли тебе такое?
— Да, — ответил Гест, и снова ему показалось, что собеседнику прямо-таки неловко говорить с ним столь откровенно или оказывать ему столь непомерно великую честь.
Они отхлебнули пива, и Эйрик добавил, словно объясняя свое неожиданное решение, что оба его нидаросских скальда повернулись к нему спиною. Потом быстро поднялся, наполнил кружки.
— Ты теперь единственный во всем войске, кому наливал Эйрик ярл, — произнес он таким тоном, будто окончательно вынес смертный приговор.
Гест поднес кружку к губам, отпил.
— У меня рана в плече, — сказал он, — которая никак не зарастает.
— Да ну?
Гест встал, скинул рубаху, показал рану.
— Странно. — Ярл провел пальцем по красной коже. — Похоже на рот, на женский рот. Как ты ее получил?
Гест рассказал, и Эйрик опять задумался:
— А дальше?
— Дальше?
Поразмыслив, Гест рассказал об убийствах в Бё, об убийстве Ари, и снова ему пришло в голову, что вывод отсюда может быть только один: те, кто брал его под защиту, и те, кого жалел и защищал он сам, поплатились за это жизнью, он не баловень судьбы, а ходячая беда, — и, по всей видимости, ярл пришел к этому выводу еще раньше его, потому что изобразил на лице чуть ли не победоносную улыбку и сказал:
— А я не боюсь. Даг говорил, многие из наших людей считают тебя чуть ли не святым. Ты, мол, умеешь гримасничать и ведешь себя не как другие, прямо как ребенок, кое-кто твердит, что ты и есть ребенок, хотя в то же время мужчина, может, это болезнь какая? А не бывает с тобой, что ты иной раз впадаешь в сон и грезишь так отчетливо, будто все происходит наяву?
— Да, бывает, — удивленно ответил Гест.
Эйрик сказал, что ему доводилось видеть людей, которые внезапно падали и бились в корчах, а потом вставали как ни в чем не бывало. Знавал он и таких, что впадали в сон без корчей, некоторые даже не падали, более того, сами того не замечая, ходили вокруг, их звали снобродами, — может, и у Геста этакая болезнь?
— Да, только вот я не знаю, болезнь ли это, — пробормотал Гест, — ведь я всегда вижу выход, по крайней мере, находил раньше, до того, как получил эту рану.
На сей раз ярл задумался надолго.
— Коли это не хворь, то все ж таки, наверно, на что-то похоже, ведь все на что-нибудь да похоже, вот и скажи мне, своими словами, на что это похоже, а?
— На стужу, — сказал Гест, и тотчас ему вспомнилось минувшее лето, день, когда он бродил по Хедебю, городу, где прошло детство Кнута священника, любовался расписными домами и церквами, гаванью с великим множеством кораблей, принимающих на борт грузы и готовящихся к походу, с людской суетой, ремесленниками, торговцами, рыбаками, предлагающими на продажу улов, распространяющий на жаре удушливую вонь, и вдруг услышал Кнутов голос:…et spiritus Dei ferebatur super aquas…[100] — услышал так явственно, что вздрогнул и перекрестился, слова звучали предостерегающе, и он понял, что предостережение адресовано ему, ведь он уже который день подумывал сбежать из этого похода, сбежать от Хаварда и Эйвинда, двинуть на юг, через земли саксов, может, до самого Румаборга, но мгновение спустя его вновь захлестнул холод, потому что предостережение касалось не Румаборга, а смерти, впервые он ощутил леденящий страх смерти, ему не хотелось умирать, никогда не хотелось, но лишь сейчас он оцепенел при одной мысли об этом.
— На стужу, — повторил он.
Ярл протянул руку, несколько раз провел ею перед глазами Геста — тот даже разглядел тоненькие волоски на его пальцах, — потом спросил, не спит ли он.
— Нет, — засмеялся Гест.
— Странный ты человек, — сказал ярл.
Оба выпили.
По дороге в конюшню Гест заметил, что один из факелов сгорел и потух, подумал о том, что Эдрик Стреона окружил деревню крепким кольцом дозоров, лег подле Хаварда и уснул. Разбудил его пинок конского копыта по ляжке — на дворе стоял белый день, дождя не было. Нортумбрию укрыл первый снег, мокрый, но все-таки снег, а небо сияло чистой голубизной.
Йорвик раскинулся у слияния двух рек, Фосса и Уза, большой город — свыше десяти тысяч жителей, два десятка церквей, путаная сеть улочек, множество малых и больших мостов, иные попросту дощатые времянки, несколько монастырей, и повсюду кипучая будничная жизнь, особенно на прибрежных улицах: торговцы, ремесленники, чеканщики монет, оружейники, крестьяне, причем почти все говорили по-норвежски. Здесь на старости лет имел резиденцию Эйрик Кровавая Секира, здесь, сидя в плену, Эгиль сын Скаллагрима сочинил «Выкуп головы»,[101] здесь король Адальстейн воспитывал норвежского конунга Хакона, первого, устами которого в Норвегии глаголал Господь и который впоследствии заслужил прозванье Добрый. Йорвик был первым норвежским городом в чужой стране, подлинно Нидарос на земле англосаксов, теперь вот и Кнут с Эйриком ярлом вступили в этот город, встреченные как освободители и давними земляками, и английскими магнатами, которые с благоговейным трепетом препроводили их в старинную римскую крепость, королевскую резиденцию, будто специально для них построенную, и предоставили в их распоряжение все необходимое, в том числе харчи и кров для тысяч промокших, раненых и усталых воинов.
Очутившись здесь, в конечном пункте северного похода, Гест первым делом отправился в роскошную церковь Святой Троицы, пал на колени перед изображением Христа над алтарем и поблагодарил, что еще жив, а вовсе не мертв.
Погруженный в молитву, он вдруг обнаружил рядом Дага сына Вестейна и двух его ближних людей, молящихся о том же, а подле них — Хельги и Тейтра, которого встретил еще на пути из Тадкастера.
Тейтр произносил слова, каких никто от него прежде не слыхивал, громко, нараспев:
— Я знаю, Ты видишь меня, Господи, хотя я, глупый раб Твой, не вижу Тебя, я и ничего другого видеть не способен, потому что слеп, как все, и не вижу, пока Ты не велишь видеть…
Только Хаварда здесь не было.
Днем раньше он упал с лошади и повредил ногу, а лекарь, который пользовал его, обнаружил у него в животе старую рану от стрелы, получил он ее еще при переправе через Хумбер и с тех пор скрывал. Лекарь уложил ногу в лубки, выдавил из раны наконечник стрелы, прижег больное место и вместе с остальными ранеными отправил Хаварда в лазарет, устроенный в подвалах йорвикской крепости. Там он теперь и лежал в горячке под присмотром удрученных Двойчат и Митотина. Гест помолился и за него тоже, за здравие своего побратима, тот, конечно, человек не очень-то верующий, но, как и все, тварь Божия.
— Где ты научился этой молитве? — спросил он Тейтра, когда они вышли из церкви.
— Бог невидим, — нехотя сказал Тейтр.
— Верно, но откуда ты это знаешь?
Тейтр передернул плечами, вероятно имея в виду, что это само собой разумеется, Он ведь и правда невидим, видимы лишь дела Его, земля и деревья, море, снег и птичье пение, хотя пение только слышимо, ну да это все равно, так же обстоит и с Господом.
Гест кивнул.
— Но где ты этому научился?
Тейтр мотнул головой.
— У священника? — не отставал Гест.
Тейтр опять мотнул головой. Гест продолжал вопросительно смотреть на него, и в конце концов здоровяк ткнул себя пальцем в грудь.
— Сам додумался?
На это Тейтр сказал «да» и добавил, что недолюбливает священников, не отвечают они на те вопросы, какие он задает. Вдобавок вечно умудряются заморочить его, сбить с толку, так бывало каждый раз, когда он разговаривал со священниками, и теперь он беседовал с Богом сам, напрямую.
Гест кивнул и спросил, помнит ли он историю про двух рыбаков, язычника и христианина, и Тейтр тоже кивнул, с улыбкой, но сразу же замкнулся и объявил, что Гесту незачем затевать разговоры об Исландии, ему, Тейтру, в Англии хорошо и он не желает никаких других помыслов.
Тейтр и Хельги вместе с двадцатью другими воинами помещались у статной, средних лет вдовы по имени Гвендолин, большая ее усадьба лежала у самого слияния рек, а сама вдова отчасти была датского происхождения; туда-то Тейтр и позвал Геста — выпить и попировать. Но Гест, увы, собой не располагал, он теперь человек ярла, связанный по рукам и ногам, точно трэль на незримой цепи, а в этот день история Англии перейдет в новое русло.
Большой зал в крепости был разубран точно к свадьбе, в одном конце длинного, дымного помещения толпилось около сотни человек — йорвикский витан, Эйрикова дружина и Кнутов походный двор. За спиной у конунга и ярла — они негромко разговаривали о чем-то у высокого стрельчатого окна, куда вливался мягкий вечерний свет, — стоял архиепископ Йорвикский Вульфстан II, в длинном одеянии кремового шелка и в палии[102] с шестью крестами, которым он красиво обвил свои сплетенные руки; архиепископ задумчиво покусывал прядку густой седой бороды, был он уже стар, однако широкоплеч, осанист, высок ростом, только вот левый глаз как бы слегка нависал на щеку, будто, не в пример правому, с трудом удерживался в глазнице.
Вскоре после того, как Гест с Дагом вошли в зал и Гест, по едва заметному знаку ярла, стал перед дружиною, отворилась дверь в другом конце помещения, и стражники ввели еще одного человека, безоружного, темноволосого, на вид одного возраста с ярлом, одетого просто, в грязный плащ темно-красного цвета. Это был прежний владыка северных земель, олдермен Нортумбрии Ухтред, женатый на дочери короля Адальрада, муж могущественный и достославный, теперь, правда, измученный и хмурый, хотя смотрел он твердо и голову держал высоко.
В тишине, которая настала с его появлением, Ухтред быстро огляделся по сторонам, увидел обернувшихся к нему конунга и ярла, сообразил, наверно по возрасту, кто из них конунг, и почтительно поклонился сперва ему, а затем — чуть небрежнее — ярлу, после чего на чистейшем норвежском произнес, что почитает за честь сложить оружие перед столь великими мужами и делает это, полностью принимая условия, кои благоугодно выставить победителям, они могут изувечить и убить и его самого, и его людей, он лишь просит за народ Нортумбрии, тот достаточно настрадался за последние двадцать лет, пожалуй самые скверные в истории страны.
— Вдобавок половина этих людей датского происхождения, — сказал он. — Да и вторая половина ждет мира, как дождя в жесточайшую засуху. Нет в Англии другого короля, кроме Кнута Могучего. — И снова поклонился.
Кнут бесстрастно кивнул в ответ на льстивую речь, с холодным интересом всмотрелся в Ухтреда и спросил, не было ли его родичей среди заложников, которых датское войско годом раньше покалечило в Сандвике.
— Там был мой сын Элдред, — ответил Ухтред. — Ему отрубили кисть руки, государь. Но он жив и может пользоваться другою рукой. Он один из лучших моих людей.
Кнут холодно усмехнулся.
— Говорят, — произнес он, — у тебя плохие отношения с королем Малькольмом в Шотландии?
— В Шотландии?
— Да, в Шотландии. Говорят, несколько лет назад, после сражения при Дареме, ты приказал обезглавить всех павших Малькольмовых воинов, насадить их головы на колья и выставить на городской стене, но сперва велел горожанам вымыть эти головы, чтобы народ мог узнать лица, и каждой из женщин дал за работу по корове. Так ли это?
— Да, государь. Ведь среди них было много изменников, а с тех пор Шотландия и Нортумбрия жили в мире.
Кнут явно не слишком доверял такому миру.
— Что ж, теперь все знают и как выглядишь ты, — язвительно бросил он и перевел взгляд на зятя, который все это время молчал, едва ли не безучастно, и даже успел сесть.
— Мы ждали здесь всех троих, — сказал ярл, не вставая, — тебя, Ульвкеля и Эдмунда, Железнобокого, о котором все только и говорят.
— Ульвкель вернулся в Восточную Англию, — отвечал Ухтред. — Мне возвращаться некуда. А над Эдмундом никто власти не имеет. Мне думается, он поскакал на Лондон, чтобы присоединиться к отцу.
— Тогда ответь мне, не кривя душою, — Эйрик встал, шагнул ближе к пленнику, — по-прежнему ли силы Ульвкеля столь велики, что он рассчитывает противостоять нам?
Ухтред опять нерешительно помедлил.
— Как тебя понимать, государь?
— Любопытно нам, готов ли он так же, как ты, сложить оружие.
— Нет. Однако он это сделает, пусть и без охоты, когда война придет к концу.
— Отрадно слышать. Что ж, тогда будем ныне вместе пировать и веселиться, только прежде ты в присутствии собравшихся здесь свидетелей, архиепископа Йорвикского и первых лиц города, принесешь клятву вечной верности конунгу Кнуту. Станешь покорно исполнять его приказания и никогда не попытаешься обмануть ни его, ни меня, ни кого другого из его людей, и поклянешься в этом от своего имени и от имени братьев твоих, сынов твоих и всех твоих людей в присутствии сих свидетелей. Готов ли ты принести оную клятву?
— Да, государь. Только бы в стране настал мир.
Ухтред произнес надлежащую формулу, как положено, во всей ее бесконечной затянутости, и снова поклонился конунгу и ярлу. Эйрик смотрел на него без всякого выражения.
— Ну вот и ладно, — произнес он, а затем добавил, что теперь Ухтред может пойти и выбрать заложников, коих предоставит в их распоряжение, а также подыскать место встречи, чтобы подробно договориться о распределении власти в стране. — Нам необходимы здесь, на севере, надежные люди, особенно ввиду твоих плохих отношений с Шотландией, ведь даже мы не можем вести одновременно две войны.
И снова Ухтред словно бы хотел возразить. Но и конунг, и ярл уже повернулись к нему спиной.
Как только Ухтред вышел за дверь, архиепископ и витан тоже собрались было покинуть зал, но Эйрик остановил их и сделал знак Дагу. По затоптанному деревянному полу воевода прошагал к дальней двери, открыл ее и воротился в сопровождении духовенства — монахов, священников, двух аббатов и даже пяти монахинь, смиренных и более или менее оцепенелых от страха, одна из женщин откровенно плакала; все они поочередно опускались перед конунгом на колени и разражались нескладными, путаными молитвами, латинскими, норвежскими, англосаксонскими, и Гест заметил, как белая тень скользнула по недвижному апостольскому лицу архиепископа.
Эйрик велел Даговым людям зажечь факелы и снова отошел к окну. Ведь теперь речь будет держать конунг, юноша, которого Гест до сих пор видел всего два раза, притом издалека, и не сумел составить себе о нем представления, лишь сейчас ему подвернулся удобный случай.
С истинно королевским достоинством и моральным превосходством, каковые были скорее под стать правителю средних лет, Кнут сначала низко поклонился перепуганным слугам Божиим, велел им подняться на ноги и посмотреть ему прямо в глаза, ибо пришел он не только затем, чтобы покорить Нортумбрию, но и затем, чтобы попросить у них у всех прощения, и от своего имени, и от имени отца своего, датского конунга Свейна сына Харальда, и от имени всех их людей, ведь много лет они разоряли и грабили богатства Англии.
— Я понимаю, твое высокопреподобие, — сказал он, обращаясь к архиепископу Вульфстану, — сделанного не воротишь, но можно, наверно, кое-что исправить, если я здесь и сейчас, в присутствии свидетелей, дам клятву, что заново отстрою монастыри в Тавистоке и Серне, церковь Девы Марии в Эксетере, женский монастырь на Танете,[103] монастырь Святого Эдмунда в Восточной Англии и не в последнюю очередь церковь Христа в Кантараборге, сожженную войском отца моего четыре года назад. Кроме того, я намерен уплатить большой выкуп за убийство архиепископа Эльфхи, даровать церквам и монастырям привилегии, имущество и защиту, дабы впредь оградить их от разорения, поджога и непомерных налогов. Все это будет письменно закреплено в указах и хартиях, как только я стану повелителем всей страны, ибо решение мое не зависит от того, простите ли нас ты и архиепископ Кантараборгский Лейфинг или нет, присоединитесь ли к нам или нет, дело сие не просто касается датчан и англосаксов, его должно уладить между мною и Богом.
В зале царила полная тишина, и юный конунг сумел окружить себя ею словно сияющим плащом.
— Оттого-то я не стану сейчас ни требовать, ни принимать от тебя и твоих людей присягу верности, ведь твой король по-прежнему жив и находится в Лондоне, а верный слуга не может иметь двух господ. Однако ж хочу прямо сейчас просить тебя быть мне советником, когда война закончится, — советником во всех делах, касающихся церквей Англии и законов, а также мира в стране, потому что никто не сможет установить мир и править этой гордой державой без воли Божией. Но на эту просьбу ты дашь ответ по истечении трех дней, когда обдумаешь ее и посоветуешься со своим Богом.
Кнут преклонил колени, поднес к губам край епископского паллия, поцеловал и поднялся, глядя старцу прямо в глаза. Лицо под густой седой гривой выглядело растерянным и раздосадованным, руки нервозно совершили несколько крестных знамений, и только потом Вульфстан хриплым голосом произнес латинскую фразу, причем дважды повторил ее, прежде чем Гест справился с переводом.
— Он вернется через три дня. С ответом, который конунгу уже сейчас известен.
Улыбка Кнута стала еще более открытой, Вульфстанова же — еще более неоднозначной. Однако конунг вновь поклонился, а архиепископ, поняв, что аудиенция окончена, отошел к своим единоверцам, встретившим его как заблудшее чадо, и увел их за собою из сумрачного зала.
Когда они удалились, Даг принялся наводить порядок и выпроваживать народ. Гест тоже собрался уходить, но ярл взглядом остановил его.
В конце концов они остались втроем — конунг, ярл и он. В очаг подбросили дров, принесли стол с канделябрами, вино и еду, правители сели ужинать, но долго не говорили ни слова, а Гест стоял у окна — недвижная тень в вечернем сумраке.
Эйрик одобрительно кивнул шурину и поднял кубок. Кнут, однако, лишь посмотрел на него, сказал, что, помимо естественного недовольства, прочел на лице архиепископа кое-что еще, интересно почему?
— Он знает о той женщине из Нортгемптона, — посмеиваясь, сказал Эйрик, — которая родила от тебя сына, и ему это не по душе, огорчает его больше, чем поражение Адальрада, так, может, тебе жениться на ней?
— И всё? — Конунг был явно озадачен.
— Думаю, да. Вульфстан видит в нас не врагов, а справедливую кару, постигшую безбожную Англию. После всего, что услышал здесь нынче вечером, он прекрасно понимает и что надобно делать, дабы вернуть церкви достойное положение. Поэтому, когда придет время, он коронует тебя, он или Лейфинг, выбери того из них, с кем у тебя самые большие сложности.
Кнут отпил глоток вина.
— Значит, страной все-таки будет править Бог, а не я?
Эйрик хрипло хохотнул, и Гест испуганно вздрогнул. Внизу, в городе, погас костер, голуби вспорхнули с каменной стены за окном, за спиною слышался звон столового серебра и треск сухих дров в очаге. Немного погодя открылась маленькая дверца в углу, ведущая в многогранную башню, Даг сын Вестейна впустил какого-то человека и снова исчез.
Гест не сразу узнал этого не очень высокого, крепко сбитого мужчину в сине-черной рубахе; единственный в зале, пришелец был вооружен, при мече и секире, в кольчуге, с помятым железным шлемом под мышкой, — Эдрик Стреона, олдермен Мерсии.
Эйрик обернулся, коротко поздоровался, предложил сесть, налил вина. Эдрик сел, покосился на Геста — тот вышел на свет, — кивнул, некоторое время переводил взгляд с конунга на ярла и обратно и не пил, пока Эйрик не поднес к губам свой кубок, тогда выпил и он, с жадностью; ему налили еще.
— Нордимбраланд мы оставим Ухтреду, — неожиданно сказал Эйрик. — Ты имеешь что-нибудь возразить?
— Да, — быстро отвечал Эдрик.
Эйрик с Кнутом переглянулись.
— Каковы же твои возражения? — спокойно осведомился конунг. — Ему нельзя доверять?
— Да нет.
— Стало быть, доверять ему можно? — сказал ярл.
— Как? — Эдрик словно бы только теперь осознал, с кем разговаривает, и быстро перевернул собственное мнение: — Ну да, да. И потому вам его лучше не удерживать.
Конунг рассмеялся:
— Зато мы можем удержать тебя, Торкеля Высокого и других знатных мужей, на которых ни один правитель никогда не мог положиться?
Вопрос был задан безыскусным тоном и как будто бы позабавил Эдрика, он медленно пожал плечами и сосредоточился на еде, но что-то опять встревожило его. Ярл произнес:
— Мы попросили тебя прийти, чтобы выразить благодарность тебе и твоим людям, ведь, не будь вас, мы бы не сидели сейчас здесь, в Йорвике. Старинная Мерсия вновь в твоих руках, ты имеешь больше земель и занимаешь более высокое положение, чем когда-либо, и мы искренне желаем крепить наше дружество.
Он встал, ненадолго скрылся в сумраке справа от очага и воротился к столу, держа в руках длинный меч в черных кожаных ножнах, окованных золотом. Выдернув меч из ножен, Эйрик положил его перед гостем, который широко раскрыл глаза и осторожно провел пальцами по блестящей стали.
— Прими этот дар, — сказал Эйрик, садясь, — и прости, что мы не призвали тебя раньше, нам кажется, тебе лучше не появляться прилюдно в нашем обществе. И я уверен, ты поймешь причину, если услышишь, что мы последуем твоему совету и прикажем убить Ухтреда, но не сейчас, и сделаешь это не ты и не твои люди. — Он помолчал и добавил: — Однако ж у такого человека, как Ухтред, наверняка есть и другие враги?..
— А то, — рассеянно обронил Эдрик, не отрывая взгляда от меча.
— Пусть пройдет месяц-другой, — продолжал Эйрик. — А ты пока подумаешь, как это осуществить…
Эдрик кивнул, спрятал меч в ножны и опять положил на стол.
— Теперь давай обсудим кое-что еще, — снова заговорил Эйрик. — Восточная Англия покуда не в наших руках, Лондон тоже. Я возглавлю поход на Ульвкеля, Кнут же выступит на Лондон — вместе с тобой?
Эдрик опять кивнул. А ярл, выдержав короткую паузу, добавил:
— И тут, естественно, возникает вопрос об Адальрадовом сыне Эдмунде: если народ говорит правду и Железнобокий пробился к отцу, то он способен причинить нам много вреда.
— Верно, — кивнул Эдрик.
— Ты Эдмунда знаешь?
— Да.
На сей раз ярл не удовлетворился односложным ответом.
— Так как, в сущности, ты человек Адальрада?
Воцарилась тишина. Эдрик явно растерялся. Кнут поднял глаза, но спокойно продолжил трапезу, Эдрик же аккуратно отставил кубок, обхватил ладонью меч, словно опасаясь, что он исчезнет, и устремил невидящий взгляд на Геста. Эйрик пришел на помощь:
— Раньше ты был человеком Адальрада.
— Верно. Раньше.
— Сумеешь стать им вновь?
Опять тишина. Впервые за все время гость улыбнулся:
— Да.
— Несмотря на плохие отношения с Эдмундом?
Улыбка стала еще шире.
— У Эдмунда и с отцом отношения не сказать чтобы хорошие, хотя сейчас они заодно.
— Значит, ты сумеешь пробраться в город, предать свою жизнь в руки Адальрада и снова завоевать его доверие, и не только его, но и Эдмунда Железнобокого?
— Сумею, — отвечал Эдрик Стреона.
— Я тебе верю, — сказал Эйрик.
Раз-другой переглянувшись с конунгом, он отпил глоток вина, мельком посмотрел на Геста и дал кой-какие указания насчет похода на юг — о кораблях, которые придут из Уэссекса к побережью Восточной Англии, и о том, какую позицию Эдрику должно занять к этому походу и к передвижениям Кнута, — затем, возвысив голос, сказал в заключение, что уйти Эдрику придется тем же путем, Даг сын Вестейна выведет его за пределы города, где он и должен находиться, пока датское войско не выступит в поход, а теперь ярлу и конунгу предстоит пировать с Ухтредом.
Эдрик быстро встал, взял меч, на мгновение задержав взгляд на блестящей стали, церемонно поклонился и исчез.
— Что ж, можно пригласить Ухтреда, — весело сказал ярл, наполняя кубок конунга. — Но сперва малыш Гест поведает нам историю о девочке, которая семь дней провела на льдине…
Снова зарядил дождь. Лил не переставая три дня и три ночи. Воины тем временем пили, ели да спали. Еле-еле, через силу, начались приготовления к новому походу, на юг. Правда, Геста все это не очень-то и касалось, он был отдан произволу переменчивых ярловых настроений, а на свободу вырывался лишь во второй половине дня, когда ярл совещался в городе с важными персонами, и шел тогда в церковь Троицы, чтобы побеседовать с незримым Богом и помолиться, в том числе за Хаварда, ведь друг его никак не выздоравливал. И однажды нежданно-негаданно Гест столкнулся с архиепископом Вульфстаном, который в одиночестве поднимался по отлогой каменной лестнице, спеша укрыться от дождя.
— А-а, маленький карлик, — сказал прелат и хотел было пройти мимо.
Но Гест сердито вскричал:
— Non sum nanus![104]
Старец отпрянул и на ломаном норвежском заверил, что никоим образом не хотел его обидеть.
— Однако ж ты хотел о чем-то спросить меня? — сказал Гест, не давая прелату опомниться.
— Спросить? О чем?
— Ты хочешь знать, можешь ли положиться на ярла и конунга. Можешь. Они сдержат свои обещания, и перед тобою, и перед церковью.
Вульфстан остолбенел. Устремил на Геста свои разные глаза, устало шевельнул рукой и тихо произнес:
— Лишь бы настал мир.
— А теперь я спрошу тебя кое о чем, — продолжал Гест, не давая ему уйти. — Мой брат болен и не получает надлежащего ухода. Я не сомневаюсь, что ты знаешь в городе лекаря, который может исцелить его.
Из-под седой бороды проступила легкая улыбка, архиепископ на миг задумался, потом любезно кивнул:
— Пожалуй. Здесь есть ирландский монах по имени Обан, Господь не только благословил его руки, но и наделил большим практическим умом. Если ты подождешь, я приведу его.
Гест замялся:
— У меня есть еще одно дело.
— Да?
— Я хочу креститься. И прошу тебя совершить обряд. Взамен я попрошу ярла сделать тебе подарок — organum hydraulicum[105] как в Винчестере.
Лицо старика приняло удивленное выражение, которое быстро уступило место унынию.
— Тебе не нужно делать мне подарки за крещение, — пробормотал он. — Пойду приведу Обана, а о другом поговорим позже.
Обан оказался ростом чуть повыше Геста, но пятнадцатью годами старше, безбородый, как ребенок, с серыми, кроткими глазами, правда, полными испуганного упрямства — он явно отнесся к этому поручению с большой опаской. Вдобавок Обан не знал ни слова по-норвежски и поневоле повторял каждую свою латинскую фразу по нескольку раз, потому что Гест понимал его далеко не сразу.
Добравшись до крепости, они спустились в старую дубильную мастерскую, где осталось совсем немного раненых, в том числе Хавард, который лежал на нарах в глубине помещения, под неусыпным надзором Митотина и Двойчат. Ротан сидел на каменном полу, уткнувшись головой в колени, а Пасть храпел на нарах, подле больного.
Гест посмотрел другу в глаза, тот ответил затуманенным взглядом и пробормотал, что Мёр вышел из берегов и кишит не то рыбой, не то хвоинками и мелкими зелеными шишками, — голос был чужой, не Хавардов.
Гест растолкал Пасть, откинул одеяла, показал Обану черную, опухшую рану и заметил, как у монаха дернулись веки, когда он наклонился и понюхал ее; потом Обан, прислушиваясь к стонам больного, ощупал желтоватую кожу и тихо сказал:
— Moribundus.[106]
Гест кивнул Ротану, тот поднялся на ноги, сгреб монаха за грудки и объявил, что ему не жить, если он сей же час не спасет Хаварда.
— Он говорит, — «перевел» Гест, — что любит Хаварда как сына и не сможет жить, коли он умрет. Но если ты исцелишь его, то будешь щедро вознагражден, ибо он человек верующий, богобоязненный и всегда держит свое слово.
— Он так сказал? — Обан посмотрел на Ротанову руку, потом перехватил его грозный взгляд.
— Именно так. — Гест велел Ротану отпустить монаха.
— Рану необходимо вскрыть и прижечь еще раз. Он сильный? Выдержит?
— Да.
— Тогда сделаем это прямо сейчас.
Гест объяснил Ротану, что им предстоит, и добавил, что пришлось посулить Обану большие пожертвования, дабы все прошло удачно: чем больше дар, тем больше шансов, что Хавард поправится.
Ротан недоверчиво глянул на него и увел брата на улицу, под дождь, где они принялись что-то обсуждать. Обан меж тем готовился произвести вмешательство.
Вернулся Ротан и сказал, что они с братом решили отдать монаху часть своих походных трофеев, но не всё, они не думают, что надобны пожертвования, это же просто суеверие, да и Гесту они всегда не больно-то доверяли…
— В общем, если Хавард останется жив, — продолжал он, — Обан получит этот вот золотой перстень, и это серебро, и два меча, и перстень, который ты подарил Пасти. Еще Пасть говорит, что не стоит грозить ему убийством, он должен ведь прижигать рану, имея в мыслях полную ясность, верно?
— Что ж, вполне разумно, по-моему, — сказал Гест.
Ротан все еще сомневался, но в конце концов принял-таки решение, хоть и с трудом. Причем требовательно заявил, что будет сам держать Хаварда и при необходимости сунет ему в зубы кожаные лоскутья, а когда все кончилось, был совершенно без сил, потный, злой и измотанный куда больше, чем после битвы. Пасть же только рыдал в голос и не находил себе места — ни в дубильне, ни на улице, под дождем.
Три недели спустя, покидая Йорвик, они перенесли Хаварда в плоскодонку, уложили на кучу меховых одеял, укрыли старой парусиной. Река Уз доставила их к Хумберу. Подморозило, погода стояла ясная, такая здесь была зима — мокрый снег, а не то мороз без снега, лед, никогда не обретавший прочности, никогда не буревшие луга.
Большая часть Кнутова войска к тому времени уже ушла на юг, чтобы устроить зимние квартиры под Нортгемптоном и Оксфордом, а также кольцо осады вокруг Лондона, этого стойкого города. По прошествии недели, проведенной на разных кораблях и лодках и даже частью на спине коня, Хавард сумел на своих ногах войти в Ноттингемский замок, где Гест определил его под одной крышей с Эйриковой дружиной, вместе с Двойчатами, хотя ярл видеть Хаварда по-прежнему не желал — кто знает, чем уж ему не угодил этот человек с ловчей птицей на плече.
Гест меж тем принял крещение, в йорвикской церкви Святой Троицы. Крестил его сам архиепископ, при деятельном участии свидетеля — Тейтра. Во время обряда мысли его растерянной птицей метались меж мальчиком Ари, крещенным однажды летом в Сандее и не ощутившим никакой разницы, и Эйстейном сыном Эйда, который утверждал, что после крещения не испытывал ни малейшего страха. Вульфстан же с улыбкой сказал:
— Нет, от страха я тебя не избавлю. Но после этого кое-что нельзя ни совершить повторно, ни вернуть, подобно тому как взрослый муж не может вновь стать ребенком.
— Стало быть, невозможно отпасть, утратить веру…
— Да нет. Невозможно повторить таинство, как невозможно и упразднить оное.
— Но ведь так обстоит и с любым другим поступком: сделанного не воротишь.
— Да, однако в других случаях существуют раскаяние и прощение. Что же до таинства, то здесь нет… чуть не сказал: прощения. Впрочем, по-моему, тебе пора бы кончать с этими вопросами и сосредоточиться…
— Я увижу Господа?
Тейтр нетерпеливо дернулся всем своим могучим телом. Гест глянул на него, вздрогнул и сказал:
— Ладно, давай!
Вульфстан приготовился, открыл рот…
— Нет-нет! — опять вскричал Гест и снова пошел на попятный: — Я же не верую.
Архиепископ возвел очи горе. Тейтр обошел вокруг обоих, быстро наклонился вперед, крепко обхватил друга руками и спокойно велел:
— Крести его!
Вульфстан помедлил, но в итоге повиновался. И Гест не протестовал, только глаза закрыл, слушал могучие слова, расслабился и ощутил, как прилив облегчения оплеснул выжженные солнцем пески.
Потом старый друг вручил ему подарок — нож, который в свое время получил от Клеппъярна Старого, быть может затем, чтобы исполнить черное дело, у Геста так и не хватило духу дознаться до истины, как не хватило духу усомниться в Тейтровой дружбе, тем более сейчас. Нож был красивый, английской работы, и Тейтр хранил его как украшение, ведь много лет это была почитай что единственная его собственность, но теперь-то он разбогател, изволите видеть. А когда позднее они выпивали у Гвендолин, он спросил, почувствовал ли Гест какую-нибудь перемену.
Гест опять закрыл глаза, словно ответ можно найти только впотьмах.
— Не знаю, — сказал он, и снова ему почудилось море. — Только вот я заметил, что о вере способен задавать лишь совершенно детские вопросы, будто во всем, что касается веры, я с годами умнее не становлюсь, а стою на месте.
Тейтр недоуменно взглянул на него и засмеялся. Гест с досадой открыл глаза, спросил:
— А где крестили тебя?
По обыкновению, Тейтр отвечать не желал, оборвал смех, и вид у него был в точности такой, как в тот раз в исландских горах, когда Гест спросил, откуда он родом, и он ответил: «Отсюда». Ответил как нельзя более естественно. Однако сейчас Гест настаивал, и Тейтр угрюмо буркнул:
— Под Клонтарфом.
— До или после сражения?
— После, — сказал Тейтр и взмахнул рукой, в знак того, что для человека чести просить защиты Господа до сшибки на поле брани равносильно поражению. Немного поразмыслив, он поник головою и помахал другой рукой.
Тейтр был среди тех, кому предстояло остаться в Йорвике, вместе с Хельги и отрядом тингманов и надежных воинов, которым Эйрик поручил держать под надзором не только покоренный город, но и Ухтреда, каковой — лишенный чести, достоинства и боеспособных людей — будет иметь резиденцию в королевском замке.
Однако жил Тейтр по-прежнему у вдовы Гвендолин, и Гест подозревал, что он делит с нею не только стол, во всяком случае, с тремя ее малолетними сыновьями он играл как с родными, вдобавок в повадке его появилась легкая вальяжность, а ее, пожалуй, можно объяснить только постоянным общением с женщиной.
Сам Тейтр об этом не распространялся, называя Гвендолин «вдова», «она» или «женщина». Хельги отказался впредь ночевать в замке. Мало того, Тейтр решил, что в Исландию возвращаться не станет.
— Мне Англия по душе, — сказал он, будто и впрямь так думал, а особенно ему по душе непроходимые леса, где еще больше дичи и птичьего гомона, чем в норвежских, даже в зимнюю пору, там и кабаны водятся, и возвращаться ему некуда — здесь у него есть все, а там нет ничего.
Гест тоже был не чужд этаких помыслов, ведь неволя, в коей его держал ярл — своими странными приказами, неожиданными вопросами и раздражающими требованиями, — почти вывела его из апатии, оживила, это была игра, словесная игра, ярл бросал ему вызов, и Гест вызов принимал, выражался обиняками и загадками, хитрил, порой испытывал ярлово терпение, высказываясь искренне, начистоту, в том числе о настроениях в войске и об управлении городом, или упорно настаивая, что ярлу необходимо сделать городу щедрый подарок, например орган, дабы обеспечить себе полную поддержку архиепископа. Ярл то усмехался, то позволял себе короткие взрывы возмущения, а не то пускался в пространные рассуждения о распрях и о важных людях, особенно в Берниции, на вечно беспокойной границе Нортумбрии с Шотландией короля Малькольма, этой тенью на севере. Однажды ночью он поднял Геста с постели, чтобы тот стал свидетелем его встречи с Ухтредом, а затем они вместе обсудили, что можно сделать в обеспечение мира на севере.
Но после встречи ярла занимало только одно:
— Ухтред выглядит так, будто он уже мертв, правда?
Гест сказал, что, на его взгляд, Ухтред производит вполне надежное впечатление.
— В том-то все и дело, — сказал Эйрик, с таким видом, будто пытается представить себе, каково быть Ухтредом именно сейчас, и было это наверняка ужасно, потому что он спросил, случалось ли Гесту когда-нибудь чувствовать сострадание.
— Да, — ответил Гест.
— К кому же?
Гест рассказал о хавгламских детях, но подразумевал и себя как ребенка, себя и сестру, эта легкая жалость к себе заставила его покраснеть, ведь на самом деле он думал обо всех детях, и о бедняках, и о калеках, и даже об иных из числа сильных мира сего. Слушая его, Эйрик смотрел все более задумчиво, будто соглашаясь, но затем заметил, ему-де странно, что Гест не упомянул про Хельгу на льдине.
— Она же была ребенком, — сказал Гест.
— Да, то-то и удивительно, — отозвался ярл. — Как подумаешь, сколь долгий срок для ребенка — семь дней и семь ночей. Но она ведь хотела жить, верно?
— Конечно. Только вот все считали ее умершей, а в таком случае нет смысла оставаться в живых.
— Н-да, удивительно, — повторил ярл. — Так происходит и когда умираем мы?..
Но прежде чем Гест успел ответить, ярл быстро отвел глаза, ссутулился и обронил:
— Гюда хочет иметь много детей, а я не могу дать ей этого. И могу сказать обо всем об этом тебе, но не Дагу и никому другому, вот почему ты здесь, понимаешь?
— Да, — тихо сказал Гест и подумал, что разговор с ярлом все равно что разговор с самим собой, к примеру разговор о времени, величайшей божественной тайне, это же оказались собственные Гестовы мысли. Интересно, а как думает ярл? Может, и для него разговор с Гестом как разговор с самим собой? Впрочем, этот вопрос он задавал себе и раньше, но ответа так и не нашел.
— Что же такое, собственно говоря, сострадание? — произнес ярл. — И какая от него польза?
— Я не знаю.
— Речь не об Ухтреде! — сердито воскликнул ярл. — Ты разве не понял, что, когда мы впервые встретились, ты, отомстив за молодого парня, который не состоял с тобою в родстве, говорил о законе, живущем в твоем сердце, а ведь это не что иное, как сострадание. Вот почему я задал тебе этот вопрос.
Впервые Гесту отчетливо вспомнилась пощечина, которую он дал Кнуту священнику, потому что мысли переполняли его, как полая вода, грозящая прорвать непрочную запруду; Вига-Стюру он отомстил, ибо того требовали долг и ненависть, тогда как месть Транду Ревуну и Одду сыну Равна объяснялась состраданием, добротой или даже любовью, какие он почувствовал к совершенно чужим ему людям, к хавгламским детям, тою же самой загадочной силой, которая побудила его отца принять Эйнара.
Однако итог подвел ярл:
— Месть, кажется, произрастает повсюду, как ни крути и какому богу ни поклоняйся. Потому-то ты все еще в сомнениях, да-да, в сомнениях, ты не вполне веруешь в того Бога, к которому обратился, ты таков же, как я.
Вот какова была его неволя, клетка не слишком заметна, тьма не слишком непроглядна, а сил, чтобы снова сбежать, опять же недоставало — да и куда сбежишь? Вдобавок ночами он слышал глас Божий, словно ветер в листве, так новое время года нежданно приходит в заснеженный край и превращает его в райские кущи, и, лежа под одеялом, Гест обдумывал, что он завтра скажет ярлу, дабы упредить его.
Хорошие были мысли.
Пусть даже ничего из них не выходило — лишняя забава, игра, в которой Гест проигрывал, ведь ярл не Тородд Белый, не Ингольв и не три брата-безбожника в уединении норвежских нор, ярл видел его насквозь и разбирался в том, чего сам он не понимал, вдобавок вроде как смеялся над этим. Теперь вот взял в привычку называть его рану стигматом, с нескрываемым ехидством, а Гест понятия не имел, что означает это слово. Когда же спросил у Вульфстана и выяснил, то опять устыдился: мне бы следовало это знать, думал он, рана-то моя, и я должен был прикинуть, что о ней можно подумать.
Восточная Англия
По дороге в Ноттингем Хавард был неразговорчив, однако лицо его приобрело естественный сероватый цвет, ел он все лучше, мог гулять по улицам и даже немного охотился с Митотином в дубовых и буковых лесах вокруг города. Как-то раз, когда вдвоем с Гестом отправился в леса, он придержал лошадь и смущенно и торжественно объявил, что пришло время поблагодарить исландца за спасение его жизни, и добавил, что теперь все между ними полностью решено, они квиты.
Прозвучали эти слова так, будто дружеству их пришел конец и надобно восстановить его, на более сложных условиях.
— Твоя рана как-никак заживает, — сказал Гест, — моя же по-прежнему открыта.
Хавард надолго задумался, потом заметил:
— Ты крещен.
Гест с любопытством посмотрел на него:
— Ты тоже хочешь принять крещение?
— Может быть, — проговорил Хавард и добавил, что с некоторых пор начал удивляться, почему отец с матерью не окрестили детей, когда сами приняли веру, что вообще-то вполне в духе Ингольва, он ведь никогда не умел выбрать надежную позицию. Потом стал рассказывать, что видел, лежа в горячке, бредовые картины, совершенно ему непонятные: они с Гестом скакали берегом Мера на юг, высылая вперед Митотина, а тот всякий раз возвращался с предметами, совершенно не поддающимися истолкованию, — то принес человечью голову, похожую вроде бы на хладирского ярла, то змею, что грызла его, Хавардово, сердце, то шкурку выдры, которая в детстве служила ему игрушкой, а теперь оказалась продернута сквозь носы всех братьев, точно этакое здоровенное бычье кольцо, все они сидели за столом в Хове, как скотина на привязи, Ингольв в полусне на почетном сиденье.
— Думаешь, я таки умру? — спросил Хавард.
— Нет, — ответил Гест. — В это я вообще не верю. Но почему ты сказал, что хочешь креститься?
— Не знаю, я ведь и не боялся.
— Значит, ты веруешь в Бога Отца и в Белого Христа?
— А ты?
— Я верую, — сказал Гест, правда чуть помедлив. — После того, что было в Йорвике, я знаю, что сила Божия беспредельна, раз Он способен воспользоваться даже столь безбожными людьми, как Эйрик и конунг Кнут, то Он везде и во всем, независимо от того, видим мы Его или нет.
Хавард улыбнулся:
— Опять ты говоришь о другом, будто не желаешь истолковать мои видения.
— Верно, — кивнул Гест, — не могу я их истолковать.
В середине зимы произошли два события, которые вновь изменили отношение Геста к ярлу. Они стояли на подъемном мосту, который соединял замок с дорогой, ведущей к мосту через Трент; оттуда открывался вид на город и на замерзшие земли на западе. На башне запела труба, и на площадь перед ними вылетел конный отряд — Эдрик Стреона со своими людьми.
Эдрик спешился, пал на колено, с привычной иронией в движениях, и без обиняков сообщил, что Ухтред убит, в междоусобице с местным нортумбрийским хёвдингом, неким Торбрандом сыном Харальда.
Ярл даже бровью не повел.
— Эта новость нужна не мне, а конунгу Кнуту. Немедля скачи в Нортгемптон, я уверен, он щедро тебя наградит, если, конечно, никто не опередит тебя. Но скажи мне, кто этот Торбранд — большой человек или маленький?
— Он важный человек и был в королевском замке, когда Ухтред принес конунгу клятву верности, как и он сам.
Эйрик кивнул и сказал, что припоминает его.
Едва Эйрик с отрядом уехал, как дозорный на башне опять затрубил в трубу, на сей раз указывая на северо-восток: на правом берегу Трента появился новый конный отряд, более восьми десятков человек, как прикинул Гест, и в тот же миг он увидел, как ярл побледнел, на нем просто лица не было. Между тем предводитель отряда остановил коня и о чем-то заговорил с караульным у ворот, а тот обернулся и взмахнул копьем, словно в ознаменование важного события.
Незнакомец поскакал дальше, уже в сопровождении всего десяти воинов, и остановился перед ними. Это был Хакон, сын ярла, по обыкновению роскошно одетый. Выглядел он не намного старше, чем в тот последний раз, когда Гест видел его в Нидаросе, только пополнел, чтобы не сказать разжирел, губы кривились в жесткой усмешке.
— Не поздороваешься со мною, отец? Ты не рад? — произнес он, поскольку Эйрик молчал. — Впрочем, это все равно. — Хакон спешился и пал перед отцом на колени. — Мы пришли в бесславии. Олав сын Харальда изгнал нас из страны.
Эйрик, по-прежнему бледный как полотно, поднял сына на ноги, они обнялись.
— Что ж, этого надо было ожидать, — сухо произнес ярл. — Ведь мы оставили страну без власти и без воинской защиты.
Хакон смотрел на него как ребенок.
— В один день, — спокойно продолжал ярл, — я потерял свою прежнюю страну и получил новую. Кнут сделал меня ярлом Нордимбраланда.
Три монахини и дряхлый монах, стоя на небольшом возвышении, печально воспевали хвалу небесам при свете трех факелов, пламя которых искрилось на золоченом, в человеческий рост, распятии из испанской Каталонии и великом множестве блестящих латунных канделябров.
Перед ними на почетном месте восседал Эйрик ярл, сложив руки на коленях, недвижный, седовласый, но с виду годов на десять моложе своих пятидесяти прожитых зим, рядом с ним — сын, Хакон, толстый, краснощекий, да еще и со страдальческим выражением на пухлой физиономии, и его мать Гюда, она несмело улыбалась, положив руку сыну на плечо. На протяжении вечера он сделает несколько неуклюжих попыток стряхнуть ее руку.
За спиной у них стояли Даг сын Вестейна, бывший йомсборгский викинг Торкель Высокий, пестрая группа тингманов, ближние люди Хакона, сопровождавшие его из Норвегии, и Гест, который все последние дни только диву давался, с каким спокойствием ярл воспринял утрату отчизны, родной земли, власть над коей унаследовал, но и заслужил в легендарной битве при Свольде и коей благоразумно правил твердой рукою все пятнадцать лет, что был верховным ее потентатом.
Но этот вечер знаменовал и что конунг Кнут сделал его преемником Ухтреда, предоставив куда больше привилегий, чем имел его предшественник.
Местный клирик, поклонившись собравшимся, отслужил короткую мессу, прочел молитву и благословил нового государя, несколько раз красиво осенив его крестным знамением, а затем вместе с монахинями и стариком-монахом покинул высокий сводчатый зал. Запыхавшиеся слуги внесли столы, щедро уставили их яствами и напитками. И на сей раз Эйрик противу обыкновения не сидел молчаливый и грозный во главе стола, а с улыбкой расхаживал среди гостей, приветствовал каждого, беседовал со всеми без разбору, пил, как другие, но не напоказ.
Однако около полуночи он отвел в сторону сына и Торкеля Высокого, послав призывный взгляд также и Гесту, и велел им пройти в соседний покой, где Хакон ночевал и хранил те немногие вещи, какие сумел прихватить с собой из родных краев.
Как только дверь закрылась, отрезав взрывы смеха и гул голосов, праздничная улыбка ярла исчезла, на лице вновь появилось грозное выражение; смерив взглядом каждого, он чопорно произнес, что прежде всего хочет поблагодарить Торкеля, проделавшего долгий путь из Нортгемптона с посланием от конунга, и тотчас перешел к делу, каковое и побудило его просить конунга, чтобы весть о новом его ранге привез именно Торкель.
— Я хотел потолковать с тобою наедине. Ведь мы встречались раньше. На Хьёрунгаваге.[107] И расстались далеко не друзьями.
Торкель, едва ли не с детских лет прославленный воин, не без причины снискавший еще и прозвище Лошадиная Морда, хмуро кивнул и переступил с ноги на ногу.
— Теперь мы оба последовали за конунгом Кнутом в Англию, — продолжал ярл. — Каждый со своим войском и по отдельности, на расстоянии, таково было мое желание, ибо я тебе не доверяю — памятуя о Хьёрунгаваге и потому, что ты много лет держал сторону Адальрада.
Торкель и на это согласно кивнул.
Был он в Эйриковых годах, высокий, худой, сутулый, с веснушчатыми ручищами, болтавшимися возле колен, одет скорее как состоятельный бонд, а не как один из могущественнейших военачальников конунга. Под началом Торкеля находилось около двух тысяч ратников, и конунг — втайне — посулил сделать ярлом и его тоже, возможно как раз над Восточной Англией, как только Ульвкель будет разбит. Судя по выражению его лица, он вполне понимал ярлову недоверчивость, однако, как он сказал, не мог не признать, что после битвы в заливе Хьёрунгаваг Эйрик проявил поразительное великодушие и пощадил многих из его, Торкеля, друзей, наперекор воле собственного отца, Хакона ярла. Стало быть, мстить Торкелю не за что, и он полагает важным сказать об этом.
— И я не Эдрик Стреона, — напоследок добавил он.
Но ярл на это обронил:
— Жаль. Потому что в случае с Эдриком мне, по крайней мере, ясно, чего от него ждать.
Повисла неловкая пауза, и Торкель воспользовался ею, направив беседу в несколько иное русло:
— Я знаю Восточную Англию. И знаю Ульвкеля. И мои соглядатаи разосланы повсюду, так что я для тебя наилучший соратник. Сюда я прибыл по приказу конунга, однако с охотою отправлюсь назад к нему по твоему приказу, коли так надобно.
Эйрик сел в кресло у окна, провел ладонями по резным подлокотникам, вытянул ноги и некоторое время неотрывно на них смотрел, зажмурился и внезапно устремил взгляд на сына, с нетерпением ожидавшего случая вмешаться в разговор.
— Мой сын, — с расстановкой произнес ярл, вновь глядя на Торкеля, — нынешней осенью был изгнан из Норвегии Олавом сыном Харальда. По его словам, Олав успел подчинить себе почти всю страну и намерен стать конунгом над нею. Что ты об этом думаешь, ты же много лет ходил с Олавом в морские походы.
Торкель явно медлил.
— Верно, я знаю его как человека богобоязненного и великого воина, — наконец негромко сказал он. — Но не думаю, что он в состоянии удержать Норвегию дольше, чем ты и конунг Кнут позволите ему.
— Льстишь?
— Нет, я искренне так думаю. Олав не властитель.
Ярл кивнул, по губам его скользнула насмешливая улыбка.
— Мой сын обещал ему — от моего имени — впредь никогда не заявлять прав на Норвегию. Этим обещанием он спас себе жизнь, если тут можно говорить о жизни. Но огорчительно другое: у меня появилась еще одна причина не желать, чтобы в Восточной Англии ты был со мною рядом, — твое дружество с Олавом.
Торкель знаком показал, что ему это понятно.
— Поэтому решение мое таково, — продолжал ярл. — Ты возьмешь Хакона с собой и обучишь по мере сил. Сам видишь, он толстый как поросенок и в сражениях никогда не бывал, так что задача не из легких. Но если к тому времени, когда все закончится, он будет жив, я замолвлю о тебе слово перед конунгом Кнутом, и он сделает тебя ярлом Восточной Англии. А это большая страна. — Эйрик жестом остановил сына. — Теперь же пусть Хакон поведает, как Олав перехитрил его, чтобы нам было над чем посмеяться после долгой беседы, ведь разговоры эти так утомительны.
Хакон безнадежно покачал головой, прошелся взад-вперед по комнате, будто в поисках тихого уголка, и нехотя начал рассказывать, как он с двумя боевыми кораблями угодил в Олавову засаду, как оба корабля перевернулись, а он сам был выловлен из воды, словно мокрый котенок, и доставлен к Олаву на корабль, где с него стребовали роковое обещание.
Мало-помалу Хакон увлекся своей плачевной историей, которая все больше походила не то на защитительную речь, не то на героическую повесть шиворот-навыворот, даже румянец стыда исчез.
— Расскажи, что ты ему говорил, — попросил отец.
— Я сказал, что на сей раз победа за Олавом, но в следующий раз она, возможно, будет за мною.
Торкель захохотал. Ярл улыбнулся. Хакон опустил глаза.
— И что ответил Олав?
— Он сказал: «А тебе не пришло в голову, что ты уже не увидишь ни побед, ни поражений?»
Торкель захохотал еще громче. Хакон тоже засмеялся, правда, не слишком уверенно, однако закончил рассказ и добавил, что будет рад сражаться бок о бок с таким человеком, как Торкель.
— Тем более что отец мой столь нетверд на ногу, что полагает необходимым этак вот насмехаться над своим единственным сыном.
Тут уж и ярл захохотал во весь голос, встал и, воспользовавшись благодушным настроем, выпроводил всех за дверь. Но Геста задержал: мол, хочет кое-что сказать ему наедине. И с брюзгливой миной проворчал, что, сдается ему, Гест никакой не скальд, ведь до сих пор он не слыхал из его уст ни единого стиха, ни насмешливого, ни хвалебного, да Гест, поди, и не помнит, когда приличествует произносить такое.
Гест возразил, что за скальда себя не выдавал и что не он придумал ходить по пятам за ярлом, ровно кравчий, без всякой пользы.
Эйрик долго смотрел на него. Потом с ледяным спокойствием произнес, что превыше всего ценит в Гесте его бесстрашие.
— Ты человек прямой, искренний, правдивый, — сказал он. — Наверно, я уже говорил тебе, что именно поэтому ты здесь?
— Нет. Ты говорил, что я единственный, с кем ты можешь быть откровенным.
— А откровенным я могу быть только с человеком правдивым, хоть ты и считаешь себя лжецом. Впрочем, ты наверняка понял, что я знаю тебя лучше, нежели ты сам. А теперь, пожалуй, от тебя будет и польза. Ибо я желаю, чтобы ты находился рядом с Хаконом и защищал его по мере сил, причем незаметно, ведь он горд и молод и, скорей всего, попытается исправить свои промахи. Возьми с собою того сокольника и отчаянных братьев, обещай им что угодно, возможно, впоследствии сумеешь сдержать свое слово.
Гест пробормотал, что согласен.
— Но смотри возвращайтесь живыми. Оба. Или ни один.
Гест опять не удержался и спросил, неужто и Хакону одному нельзя возвращаться, живым. По лицу ярла скользнула тень недовольства.
— Да, ты только с виду простак, — сказал он. — И я хочу, чтобы, когда все кончится, ты вместе со мною совершил паломничество в Румаборг. А теперь можешь идти.
Гест недоверчиво посмотрел на него.
— Господь велик, — пробормотал он, направляясь к двери, и на пробу несколько раз перекрестился. — Непостижно велик.
Следующие три месяца Гест провел в походе, день и ночь, с друзьями из Хова, с ярловым толстяком-сыном и Торкелем Высоким. Молодого Хакона и впрямь нелегко было держать под защитой, он кидался в схватку в первых рядах, с запальчивым безрассудством и неутомимостью, совсем как отец, что в пешем, что в конном строю, спал тоже мало, проявлял интерес к планированию и организации и на свой живой щит во главе с Гестом смотрел презрительно.
Этот поход складывался примерно так же, как поход на Йорвик, вновь кошки-мышки — Ульвкель уклонялся от серьезного сражения, устраивал засады, совершал короткие неожиданные налеты на ярловы отряды, обыкновенно по ночам, исчезал, а через день-другой нападал снова, в другом месте.
Эйрик быстро извлек отсюда урок, разделил войско на еще более мелкие единицы, до того мелкие, что они скорее походили на приманку, отрядил в них лучших своих людей и приказал им располагаться на привал и пировать-выпивать в густых рощах и в словно бы неохраняемых постройках, позаботившись, чтобы они постоянно держали связь друг с другом, через гонцов и дозорных.
Лишь один раз, западнее Ипсвича, они столкнулись с самим Ульвкелем, но случилось это неожиданно для обеих сторон, ни те, ни другие не успели перестроиться в боевые порядки, вдобавок дело было вечером, и после короткой ожесточенной схватки в кромешной тьме Ульвкель опять сумел улизнуть, не понеся значительных потерь.
Однако на сей раз Эйрик не пощадил пленных. Приказал Дагу и Торкелю перебить целую сотню и для устрашения выставить их головы на кольях в близлежащих городках и весях, а затем самолично — притом, что тамошние предводители клятвенно заверяли его в своей благонадежности — объявил населению, что при малейшем намеке на предательство предаст огню всю Восточную Англию, город за городом, деревню за деревней, убивая всех без разбору.
Следующая сшибка произошла у деревушки Бёрнем, севернее Бранкастера. Но Ульвкель с большей частью войска и тут сумел ускользнуть. Эйрик же на сей раз пощадил пленных. Великодушно помиловал многих воинов датского происхождения, а также кельтов и англосаксов; лекари перевязали раненых, оказали им помощь, после чего, к великому удивлению пленников, ярл отпустил их по домам, а сам продолжил поход на восток и на юг, вдоль побережья, той скалистой равнины, что без малого год назад, ночью на исходе лета, открылась перед Гестом и Хавардом, посылал войско то в одном, то в другом направлении через болотистый край, словно челнок через сырое тканьё, налаживал действия флота, переброску воинов, лошадей, заложников и раненых и мало-помалу подчинял себе область за областью, город за городом.
Пленных он по-прежнему щадил, отпускал на свободу, в результате многие из них снова брались за оружие. После небольшой стычки при Хемсбю, опять-таки на побережье, среди раненых уже в третий раз обнаружился некий человек средних лет, малорослый, лысый. Ранен он был в спину и в ногу. Эйрику доложили о нем, он подошел и спросил, как его зовут.
— Крокслер, — ответил тот.
— А ты терпелив, — заметил ярл. — Ты человек Ульвкеля?
— Да. На вечные времена.
— Ульвкель — великий воин и достойный противник, — произнес ярл. — Поэтому ты наверное понимаешь, что выбора у меня нет.
Крокслер кивнул, только сказал на своем странном смешанном наречии, что есть у него одна просьба: пусть его поставят лицом к морю, чтобы, покидая сей мир, он мог видеть то же чудо, какое увидел, когда пришел в него, ведь он родился на этом побережье и сражался за эту землю и ее гордого защитника, Ульвкеля.
Ярл сказал Дагу исполнить просьбу Крокслера; казнь состоялась в присутствии всех остальных пленников, которым затем даровали пощаду.
Тою же ночью Гест окончательно уверился в одном деле, странном и весьма щекотливом. Он встал с ощущением удушья, подошел к костру, возле которого, негромко разговаривая со своими людьми, сидел молодой Хакон, и обратился к нему таким же вкрадчивым тоном, каким обращался к его отцу, когда хотел поставить на своем; юнец тоже не устоял.
— Что я могу для тебя сделать? — учтиво спросил Хакон, отойдя на несколько шагов от костра.
— В войске Торкеля есть один исландец, — сказал Гест, — я неоднократно видел его, но узнал только сегодня, потому что он очень изменился, и, судя по всему, он тоже меня узнал.
— У вас с ним какие-то счеты?
— Нет, но он меня избегает, а это странно, ведь он женат на моей сестре, стало быть, мы родичи, имя ему Гейрмунд, прозвали же его Крепкая Шкура.
Хакон улыбнулся и спросил, где этот Гейрмунд находится. Гест провел его по травянистой лужайке к белому каменному знаку, возле которого спал зять с пятью другими исландцами. Теперь Гест узнал и их, хотя они были мальчишками в ту Пасху, когда он мерился силами с Тейтром во Флокадале у Клеппъярна.
— Сядь и назови свое имя, — резко бросил Хакон и поставил ногу на Гейрмунда, тот застонал, протер глаза, сгоняя сон в каштановую бороду, которая скрывала его лицо. Разглядев говорящего, он вздрогнул, а когда увидел Геста, вздрогнул опять, и Гест подумал, что это хорошо, ведь он было вновь усомнился, что сей богатырь вправду тот разряженный юнец, который, как наяву, представал у него перед глазами, оттого что трусил посвататься к Аслауг.
— Этот человек утверждает, что ты не желаешь с ним говорить, — сказал Хакон.
Гейрмунд смотрел то на одного, то на другого, в глазах его явственно читалось упрямство.
— Да, я и сейчас не желаю, — сказал он.
Сын ярла смотрел на него с удивлением, определенно не зная, как быть дальше.
— А придется, — вмешался Гест. — Или Хакон запытает тебя до смерти, но прежде ты увидишь, как умрут твои друзья. Что скажешь на это?
Гейрмунд молчал. Скрестил руки на груди и уставился в темноту над рокочущим морем. Потом наконец проговорил:
— Гест не из тех, кто приносит удачу. Он проклятие. Мы были при Клонтарфе и уцелели. Сейчас мы здесь, но неделю назад, когда увидел Геста, я ходил к Торкелю, просил отпустить нас. Он отказал. Только поэтому мы до сих пор здесь.
Хакон нерешительно взглянул на Геста, который и бровью не повел.
— Он же твой шурин, — сказал Хакон Гейрмунду.
— Уже нет.
Гейрмунд опять устремил взгляд на море, недвусмысленно показывая, что для него разговор закончен.
Но тут поднялся один из его друзей, бледный и худой парень, назвался Торгримом из Боргарфьярдара. Гест и его помнил по Флокадалю.
— Коли Гейрмунд говорить не хочет, так, может, я скажу? — Взгляд его нервно перебегал с безмолвного друга на Хакона и обратно.
— Только чтобы я не слышал, — буркнул Гейрмунд.
Хакон по-прежнему был в замешательстве, однако Гест кивнул, они отошли подальше, сели. Торгрим сказал, что Гейрмунд — малый гордый, хотя Гесту опасаться нечего. Дело вот в чем: он, конечно, все-таки получил Аслауг, и она родила ему двоих сыновей, только потом она развелась с ним и вышла за более состоятельного человека из Скагафьярдара, причем забрала и приданое свое, и выкуп за невесту, и сыновей. Гест почувствовал, как удушье проходит.
— Значит, ей живется хорошо? — спросил он.
— Думаю, да. У нее есть теперь еще две дочери, а когда мы уходили в поход, народ говорил, она опять ждет ребенка.
Гест задумался, помедлил, но все же спросил:
— Как зовут ее мужа?
Торгрим назвал имя, знакомое Гесту только понаслышке, и повторил, что это скагафьярдарский хёвдинг и слава о нем добрая. Хакон вопросительно взглянул на Геста:
— Это хорошие новости или плохие?
— Пожалуй, хорошие. — Гест снова обратился к Торгриму: — Гейрмунд видится с Аслауг и с сыновьями?
— Да, но мы уже три года не были дома и…
— И я полагаю, что по возвращении он не захочет передать ей знак, что я жив?..
— Пожалуй… Но может, я передам?
Гест оглядел себя, воззрился в темноту и пробормотал, что ничего другого у него нет:
— Вот возьми.
Одинов нож, единственная — помимо топора — вещь, до сих пор связывавшая его с сестрою и с Йорвой, истончившийся, похожий на плоское шило нож.
— Она узнает его. Еще я даю тебе деньги, — Гест протянул ему кошелек, — ты можешь оставить их себе, я знаю, ты хороший человек и сдержишь обещание.
Торгрим взял нож и кошелек, поблагодарил и поспешил к друзьям; Гест и Хакон пошли к своему костру. Хакон с любопытством смотрел на Геста, потом спросил:
— Ты доволен?
— Да, — ответил Гест и остановился. — Зря твой отец казнил Крокслера.
Хакон насупил брови.
— Да, — сказал он, неожиданно тоном совершенно взрослого человека, — мне это тоже не по душе. Но он поступил правильно. Это гордый народ.
Гест немного постоял, поблагодарил, пошел к себе и лег спать. Спал долго, а когда проснулся, подумал, что забыл спросить у Торгрима, приняла ли Аслауг крещение. Но потом решил, что это не важно, можно спросить позднее, коли будет охота.
Лишь весной появились первые признаки того, что ярлова тактика себя оправдывает: священники, богачи и местные хёвдинги тайно просили за отдельных лиц и целые отряды, которые хотели отложиться от Ульвкеля и присоединиться к нему.
— Мы всех принимаем, — говорил Эйрик. — Пусть приходят добровольно и во имя Господа.
Поступали сообщения о вредительстве и поджогах в Ульвкелевых амбарах и городах, а действовали там не то неведомые злоумышленники, не то перебежчики, которых становилось все больше; к ярлу переходили уже в массовом порядке, боевыми отрядами, с лошадьми и оружием, и не в последнюю очередь с бесценными сведениями об Ульвкелевых обычаях и секретах. И в конце марта они сумели-таки взять его в кольцо, почти на том же месте, под Ипсвичем, на Рингмарской пустоши, и на сей раз столкновение ни для кого не было неожиданностью. Полдня противники не спеша готовились к схватке. И вот началось. Ярл, по обыкновению, шел впереди, в пешем строю, обок своего знаменосца, шел с непокрытой головой, сжимая в одной руке простой меч, в другой — легкий топорик на длинной рукоятке, рядом шагали два щитоносца. Он вклинился прямо в горланящие вражеские ряды, а когда разгорелась сеча, выбрался из сумятицы и, перемещаясь вдоль смешавшихся боевых порядков, как огромная кошка, выкрикивал приказы, костерил тех, кто не обращал внимания на его вымпел и распоряжения, посылал в бой конников и лучников, выводил из кровавой сшибки раненых, не замечая брыкающихся коней, дождя стрел и падающих воинов, словно и рожден на свет только для такого дела.
Гест между тем сновал вокруг, со своей незаживающей раной, вялый и насквозь набожный, предупреждающе размахивал руками, измученный человек с неподъемным мечом и старым лесорубным топором с рыбьей головой на рукояти. Поле боя виделось ему как безумное мельтешение мокриц и крыс в драке за изуродованный труп, как сон, который даже кошмарным не был, просто далеким, жарким, холодным и непостижимым, как реальный мир. И сейчас он не умрет, но снова увидит, как опускается ночная тьма, увидит в отблесках первых факелов вьющийся на ветру вымпел Торкеля Высокого, который мало-помалу продвигался сквозь ряды противника, увидит Хакона, такого же целеустремленного и упорного, как отец, Хаварда, у которого одна рука бессильно обвисла, но лицо сияло торжеством, а над ними, как и весь день, с криком парил Митотин.
Правда, из Двойчат он увидел только одного — Пасть: багрово-красный лицом, он рубил мечом направо и налево, будто никак не мог выбраться из непролазных дебрей, в нем чувствовалось что-то отчаянное и измученное, он дрался, что-то ища.
В предрассветных сумерках Ульвкель с сотней людей, пробив брешь в рядах Торкелевых воинов, сумел вырваться к побережью, где у них было спрятано два корабля; они успели поднять паруса, прежде чем ярл разобрался в происходящем.
Но из Двойчат Гест по-прежнему видел только одного. Ротана они отыскали уже ближе к полудню, он сидел прислонясь к мертвому коню, с распоротым животом и стрелой в голове.
— Говорить можешь? — спросил Хавард, присев перед ним на корточки.
Ротан сонно взглянул на него одним глазом и кивнул.
— Говорить можешь? — повторил Хавард.
— Да, — ответил Ротан и умер.
Пасть исторг стонущий рев, схватил топор и бросился крушить раненых и убитых. Подоспевшие люди Дага сына Вестейна скрутили его, но он продолжал бушевать. В конце концов подошел ярл, вместе с сыном, который был изрядно потрепан, хотя ни одна рана жизни не угрожала.
Тут Пасть замолчал, передернул плечами, высвободился, застыл среди кровавой грязи, точно могучее дерево, в отчаянии глядя на своего господина, лицо его посинело, изо рта вырывались нечленораздельные трубные звуки.
— Что он говорит? — спросил ярл, обернувшись к Гесту.
— Говорит, что ты должен убить его, государь. Не может он жить, когда брат его сидит вон там.
Ярл скользнул взглядом с одного брата на другого, казалось обдумывая эти слова, потом вдруг устало посмотрел на свой топор — порядок на поле боя наводят с оружием в руке, нельзя идти по полю боя без оружия, там всегда найдутся живые, сражение еще не кончено… Левая рука перехватила топор, правая поднялась к перепачканному лицу, стерла кровавый пот, провела по бороде — полководец в минутном замешательстве, могучий и бессильный, ссутуливший плечи, как в тот миг, когда он услышал весть об утраченной родине.
— Нет, — наконец произнес он, — я не могу убить такого доброго воина.
Он отвернулся от Пасти, устремил взор на Геста и Хаварда, попросил привести безумца в чувство, приказал продолжить обход, позаботиться о раненых, подсчитать убитых, вырыть могилы, собрать оружие, коней… За этой работой он надзирал соколиным оком, пока пустошь не стала похожа на свежую, политую дождем пашню. Посреди нее он воткнул крест, который Даговы люди сорвали с церкви в ближнем городке, искоса глянул на него и проворчал:
— Интересно, долго ли он тут простоит. Вещь, пожалуй, ценная, а человек слаб, ужас как слаб.
Ротана похоронили на Рингмарской пустоши, вместе с тысячами других. Раненых разместили в палатках и по усадьбам. Войска еще стояли в округе, когда гонец доставил из Оксфорда хвалебное послание от конунга Кнута, где тот обещал сделать Торкеля ярлом Восточной Англии. Эйрику было приказано воротиться в Нортумбрию, ибо Лондон вскоре тоже падет и настанет пора установить по всей державе новый закон, датское право на вечные времена.
Еще гонец рассказал, что всего через два дня после Рингмарской битвы небольшой отряд — без сомнения, Ульвкель и остатки его войска — сумел пробиться в Лондон сквозь кольцо Кнутовой осады и примкнул к Адальраду и Железнобокому. Гест слышал, как ярл тихо сказал сыну, который перевязал свои раны и выступал сейчас как отцов наперсник:
— Вряд ли мы видели Ульвкеля в последний раз. Этот человек еще для конунга Свейна был сущим кошмаром.
Следующим вечером устроили попойку, вроде как праздник, печальный и тихий. Гест не участвовал, спал в сарае. Наутро выступали на северо-запад, сначала в сторону Ноттингема. Пасть так и не очухался и потому, с цепью на шее и связанными руками, как собака, шел пешком за лошадью Хаварда, который то и дело кричал через плечо, что вольноотпущенник наверняка скоро придет в себя и незачем обращаться с ним так недостойно. А Пасть, всхлипывая, твердил: хорошо же Хавард наградил его за верную службу, ничего не скажешь, что Ингольв-то станет говорить? И Эйвинд?
От еды он отказывался, у костра греться не желал, бился головой о деревья и отчаянно пинал ногами всех и каждого, кто к нему приближался. И однажды теплым тихим вечером, когда они стали лагерем в густом лесу и костры мерцали среди деревьев, словно свечение моря, к Гесту подошел Хакон, сказал, что отец хочет поговорить с ним, дело касается безумца, которого они тащат за собой, пешехода, как его успели прозвать.
Эйрик предложил Гесту сесть, серьезно сказал, что хорошо знает, что война способна сделать с человеком.
— Ты посмотри на себя. Люди не ведают, что происходит.
Гест кивнул.
— Словно бы находятся у Бога, — продолжал ярл, смущенно, вероятно оттого что помянул Бога.
Гест опять кивнул.
Эйрик положил руку ему на плечо, тотчас же отдернул ее, будто опасаясь заразы, и сказал, что терпение его иссякло, они должны призвать безумца к порядку, иначе все-таки придется его убить.
Гест вернулся к Пасти, сказал, что он ведет себя как избалованное дитя, идиотское нытье — сущая насмешка над жизнью и памятью брата, к тому же он поклялся до самой своей смерти служить Хаварду и Эйвинду. Пасть все это слышал и раньше и думал об этом, постоянно думал, но ведь Ингольвовы сыновья в нем более не нуждаются, на что им этакая развалина, человеком-то грех назвать, маленький, вроде Геста.
— Выходит, Ротан останется без отмщения? — свирепо вскричал Гест.
Пасть помолчал немного, потом спросил:
— Ты это о чем?
— Ульвкель в Лондоне, — сказал Гест. — Весной ярла призовут туда брать город. А ты что же, будешь сидеть тут и реветь, как дитя на собачьей цепи?
— Жестокие слова, — отозвался Пасть.
— Да. — Сказавши это, Гест пошел спать.
Наутро Пасть сидел вместе со всеми у костра и ел, жадно и обстоятельно. Не глядя на Хаварда, он попросил снять цепь и дать ему коня.
— На что он тебе? — спросил Хавард.
— Чтоб сидеть на нем, — отвечал Пасть.
Преддверие ада
Между тем пребывание в Ноттингеме затягивалось. Ярл не хотел уходить на север, в Йорвик, пока не будет вполне уверен, что не понадобится Кнуту под Лондоном. А вести оттуда, мягко говоря, и внушали бодрость, и приводили в замешательство, притом что было их великое множество. В частности, после зимней позиционной войны Кнутовы люди начали копать от Темзы канал, чтобы войти в город прямо на кораблях, — копье, нацеленное в сердце города. Одновременно из Лондона непрерывным потоком шли беженцы, печальные, растерянные, они рассказывали, что в городе царит сущий ад, витан давным-давно бы сдался, если бы не Железнобокий, а этот человек не то последний дар Господень Англии, не то мученик, не то хрупкая иллюзия, что на краю бездны поражает их неверием.
Решив остаться в Ноттингеме, Эйрик послал гонцов за архиепископом Йорвикским Вульфстаном, который не замедлил прибыть с пятью советниками и двумя монахами, в том числе Обаном, в свое время лечившим Хаварда. Прежде всего ярл не хотел рисковать: вдруг в его отсутствие архиепископ надумает вернуться к прежним английским помыслам? Вдобавок он намеревался обсудить с Вульфстаном паломничество. Когда-то в далеком детстве Эйрик был крещен, но считал то крещение ненастоящим, поверхностным, а потому нужно, чтобы таинство сие было совершено над ним повторно, в Румаборге, самим Папою.
Вульфстан сказал, что английскую церковь необязательно рассматривать как первейшее дело святейшего престола и причиной тому давний конфликт: английские архиепископы сами назначали себе преемников и не ездили в Румаборг, чтобы принять паллий.
Впрочем, это разъяснение лишь укрепило ярла в намерении совершить паломничество, ведь он сможет смягчить напряженные отношения. Кстати, он хотел обсудить с Вульфстаном еще одно дело: прежде чем стал архиепископом в Йорвике, Вульфстан был епископом в Лондоне, прекрасно знал город, лично знал короля Адальрада, его двор и образ мыслей и, наверно, мог бы кое-что рассказать?
Вульфстан нахмурил брови и напомнил ярлу об обещании уважать узы верности, связующие его с Адальрадом.
— Народ жаждет мира, — резко бросил ярл. — Твой народ.
Вульфстан надолго задумался, сохраняя на лице упрямое выражение. Эйрик произнес:
— «В давние времена записано и предречено, что после тысячи лет сатана освободится. Тысяча лет и даже больше минуло с тех пор, как Белый Христос ходил средь человеков, и близится время Антихриста…»
Архиепископ побелел лицом до самых седин, ибо то были собственные его слова, записанные в одной из первых его проповедей и, по просьбе ярла, переведенные Гестом.
Эйрик спокойно ждал, пока Вульфстан возьмет себя в руки.
— Ты написал это много лет назад, — продолжал он. — И кого же ты подразумевал под Антихристом — ваших собственных вероломных хёвдингов, которые только и делали, что грабили родную страну, занятые предательством, кровной местью и ненавистью, по твоим же словам? Или нас, которые приходили из-за моря чинить здесь разбой? Но теперь мы можем обеспечить здесь мир, коего ты жаждешь столько лет.
Снова надолго повисло молчание, наконец архиепископ проговорил:
— Что ты хочешь знать?
— Ничего! — вдруг беззаботно воскликнул Эйрик. — Я просто хочу, чтобы ты понял: нам можно доверять. — И уже иным, назидательным тоном произнес: — Прежде чем сомневаться в других, надобно уразуметь, можно ли положиться на себя самого.
Вульфстан пристыженно опустил голову.
— Боишься? — спросил ярл.
— Да, — едва слышно отвечал архиепископ.
— Боязливые вероломны, — бросил Эйрик и повернулся к нему спиной.
Старик опять опустил голову, правда, на сей раз в этом движении сквозила ярость, хотя для протеста ее недостало. И в Гесте шевельнулось презрение, хотя испытывать оное к столь важной духовной особе было непозволительно, — то самое презрение, какое он испытывал к Кнуту священнику, прежде чем тот ступил на via illuminativa, тогда, в обледенелых норвежских горах, на распутье зверской жестокости.
Тем не менее в течение этих недель Гест не раз имел дело с Вульфстаном, прежде всего уговаривал архиепископа крестить Пасть, будто нуждался в сообщнике, в таком же верующем против воли, как и сам, вдобавок ему пришлось крепко потрудиться, чтобы Пасть дал согласие креститься. Ведь, судя по всему, Пасть считал это совершенно бессмысленным вмешательством в свое незаслуженное бытие.
Но Гест поставил на своем, и Пасть был крещен по самому простому обряду в ноттингемской церкви Девы Марии, вместе с пятью ближними Эйриковыми людьми, в том числе Дагом сыном Вестейна, так как Эйрик не мог более окружать себя нерешительными и сомневающимися в небесных вопросах, крещение было делом и политическим, и религиозным.
Пасть, правда, отказался творить крестное знамение и упорно не желал прочесть по-латыни Вульфстанову короткую молитву — дескать, Господь все равно его выговор не поймет.
Гест растолковал Вульфстану его тарабарщину, и архиепископ успокоил Пасть словами:
— Господь все слышит. И все видит. И все понимает.
— Нет, — отрезал Пасть, и на сей раз даже Вульфстан понял его.
После обряда Вульфстан отвел Геста в сторону и сказал, что, как он подозревает, за его рвением кроется не только потребность обеспечить этому язычнику Божию милость, но и что-то еще. И Гест, который никогда прежде не исповедался, решил это сделать, только как можно более неофициально и не торжественно, словно никакая это не исповедь, и рассказал о всех смертях, причиной коих стал, не о Транде Ревуне и не об Одде сыне Равна, а о тех, кто вставал на его защиту и кого брал под защиту он сам, упомянул и о том, что сказал Пасти про долг отмщения, стараясь вернуть ему бодрость духа; мысль о мести — вот чем жил Пасть, и для него загадка, что месть одновременно и справедлива и губительна, как чума.
Вульфстан долго смотрел на него, а Гест думал, не рассказать ли и о ране на плече, о знаке мести, но тут ему пришло на ум кое-что другое, и он впервые облек эту мысль в слова.
— Жажда мести может исчезнуть! — с неожиданной радостью воскликнул он и рассказал, как хотел воротиться в Исландию и убить Снорри Годи, так вот эта мысль исчезла, ни разу не навещала его всю зиму.
Вульфстан встревожился еще сильнее.
— Но и слабаком я тоже быть не хочу. — Гест снова приуныл, а затем все же поведал о ране и о том, как ее получил.
Архиепископ попросил показать рану, сказал, как и ярл, что она похожа на рот, и задумался. Впрочем, быстро оживился:
— Может, ты святой?
— Нет-нет, — быстро сказал Гест. — Нет-нет-нет… я всего лишь хочу, чтобы это гниение прекратилось, ведь во мне царит вечная ночь, inanis et vacua[108] даже когда вновь пришла весна и небеса наполнились огромными стаями гусей и тучами лебедей, которые летят не иначе как в Исландию, а вот ему пожалуй что надо навестить Обана, монаха с целительными руками, если и Вульфстан не знает, как быть.
— Да, сходи к Обану, — безнадежно вздохнул старик. — Мне кажется, так будет лучше всего.
Затем в Ноттингем пришла поистине радостная весть — в лице самого конунга Кнута, ему сравнялось восемнадцать, и он больше походил на серомраморное греческое божество, чем на дельного датского вождя. С ним прибыла половина его двора, где было теперь множество англичан, в том числе архиепископ Кантараборгский Лейфинг и конунгова фаворитка из Нортгемптона вместе с двумя маленькими сыновьями, которых она успела ему подарить.
Нежданно-негаданно они явились в старом замке и были встречены изумленным ярлом, который, вскинув брови, выслушал известие, что король Адальрад мертв и скончался он от руки Божией, сиречь от болезни, в день святого Георгия сего лета Господня 1016 и был похоронен в Лондоне в соборе Святого Павла, второпях, словно вместе с телом спешили избыть и печальную о нем память.
Вдова, королева Эмма, с двумя малолетними сыновьями сумела перебраться в Нормандию — словом, все кончилось, причем бесповоротно, так что витан постановил черным по белому записать, что они подчиняются конунгу Кнуту и клянутся никогда впредь не поддерживать никого из Адальрадова рода, то бишь отныне править Англией будет датский дом.
Гест сидел на низком стуле позади знатных особ в парадном зале, дремал, слушая вполуха беседу короля и ярла, которые взволнованно рассуждали о возможности нового захвата Ирландии, потерянной в битве при Клонтарфе, о возможности возврата Норвегии, о норвежском языке, который через несколько лет будет звучать всюду на Британских островах, о Нормандии, как насчет нее? Не говоря уж о Шотландии, которая никогда — целиком и полностью — не была в руках северян. Только о Лондоне они не упоминали, об этой еще не завершенной главе в печальной истории Адальрадова рода.
Лишь ранним утром — солнце уже поднялось над нежно-зелеными верхушками деревьев, и вешние птичьи песни вливались в окна, словно журчащая мелодия органа, — ярл осторожно завел беседу о другом:
— Пора, пожалуй, снова использовать Эдрика Стреону. Железнобокий, верно, готов уже принять любую помощь, откуда бы она ни пришла.
Король усмехнулся, но не откликнулся на эту идею, и Гест смекнул, что он отнюдь не имел намерений допускать зятя к участию в решающих сражениях за Лондон. Однако два дня спустя вопрос всплыл опять, на сей раз о нем заговорила Пода, которая напрямик заявила брату, что он, по-видимому, не вполне сознает, чем обязан своему зятю:
— Ведь в планах, которые ты сейчас строишь, дорогой братец, по-моему, куда больше юношеского задора, нежели королевского разумения.
Кнут обезоруживающе улыбнулся, заверил и ее, и Эйрика, что он, конечно, высоко ценит вклад хладирского ярла, однако сейчас зять должен обеспечивать стабильность на севере, ибо это жизненно важно. Взамен он охотно возьмет с собой Хакона, о котором за последние дни составил себе превосходное мнение.
На это ярл и Гюда согласились. А Хакон уже не ликовал, как ребенок, по поводу королевской похвалы, он лишь коротко кивнул и сказал, что готов следовать за Кнутом, даже более чем готов.
Когда же Эйрик наконец решил воспользоваться сухой погодой раннего лета и выступить на север, из Гримсбера прибыл конный норвежский отряд и сообщил, что его брат Свейн — оба они никогда друг с другом не ладили — и Олав сын Харальда встретились у мыса Несьяр, где состоялось большое морское сражение. Свейн ярл потерпел поражение и бежал в Свитьод. Теперь он умоляет Эйрика воротиться в Норвегию и потребовать свое, ведь без хладирского ярла Норвегия опять попадет в руки потомков Прекрасноволосого, на этот раз окончательно.
Но Эйрик воспринял новость трезво, чуть ли не равнодушно, сказал, что в обессиленной стране только и можно ожидать катастроф. К тому же Норвегия всего лишь крохотная частица в большой игре за Англию.
— А не знаете ли вы, как обстоит с Эйнаром из Оркадаля? — осведомился он затем, несколько мягче.
Они замялись в замешательстве.
— Выкладывайте, — приказал ярл.
— Он пожалуй что никогда не был ничьим сторонником… — начал один.
Но ярл остановил его, сказал, что в лести не нуждается, она выставляет властителя недоумком.
— Эйнар был сторонником конунга Олава. Но моим — никогда. Вопрос в том, присоединится ли он теперь к новому Олаву.
— Мы не знаем, государь.
— Да уж, — обронил ярл с прежним безразличием, — конечно не знаете. — Он попросил их перевезти свое имущество в Йорвик. — И будете при мне до конца года, а там разберемся, как должно поступить.
Но выступление на север он опять отложил.
В Рингмарском сражении Хавард был ранен в спину, хотя рана быстро затянулась, и уже в начале теплого лета он стал понемногу охотиться с Митотином, в сопровождении Пасти, а Гесту по-прежнему приходилось быть при ярле. В редкие свободные минуты он изучал с Обаном латынь или истово молился в церкви Девы Марии; Хавард даже прозвал его кликушей-фарисеем, слепым рабом Божиим, и ярлу этакая набожность тоже начала мало-помалу действовать на нервы.
Как-то раз он взял с собою Геста в замок на краю Шервудского леса, под тем предлогом, что надобно произвести смотр коням, принадлежащим одному человеку, который был с ним в Восточной Англии, и хочет услышать мнение Геста.
— Я в лошадях не разбираюсь, — сказал Гест.
— Знаю, — отозвался ярл и предложил ему спуститься к ручью, где паслись кони.
Первое, что они увидели там, были два полуголых мальчугана, которые натянули над черной водой веревку, с нее свисал пяток шнурков, каждый с пучком перышек на кончике, прячущим внутри маленький крючок; ярл крикнул им, что крючки надобно опустить в воду.
Старший мальчуган выпрямился, посмотрел на них и пожал плечами: дескать, не понимаю.
— Опустите крючки в воду! — досадливо повторил ярл и шагнул ближе.
В этот миг из воды выпрыгнула рыба, заглотнула перышки и повисла на крючке, трепыхаясь и взблескивая на ярком солнце.
Ярл остановился и громко захохотал:
— Ты видел?
— Да, — устало ответил Гест, глядя, как мальчуганы сняли рыбину с крючка и вновь снарядили шнурок. Ярл посмотрел на него с неодобрением и спросил:
— Ты что-нибудь помнишь про Рингмару?
Постепенно Эйрик начал относить эту победу к числу крупнейших своих успехов, который ни в коем случае не должен кануть в забвение или сохраниться лишь в монастырских хрониках, ведь оные не заслуживают доверия.
Гест рассказал, что запомнил, сухо отбарабанил перечень имен живых и павших, без того своеобычного настроя, что позволял ощутить, сколь невообразимо долгое время может пройти на поле брани невообразимо быстро, или, наоборот, погрузиться в неразбериху сражения, крики о помощи, разброд, когда мир зависает в каком-то призрачном состоянии, а именно этот настрой ярл однажды назвал близостью Бога. Но он упомянул, что ему казалось, дело пойдет по мысли Ульвкеля, описал, выказав надежную наблюдательность, Эйриковы действия в решающий миг, а также подчеркнул, как умно сражался ярлов сын, от юношеской бравады первых походных дней в Рингмарском сражении уже не осталось и следа.
— За это я вас наградил, — коротко сказал ярл, не сводя глаз с мальчуганов, которые поймали еще одну рыбину.
Потом он перевел взгляд на Геста и буркнул, что будет жаль, если маломерок сейчас умрет и унесет с собою все свои истории.
— Ты умеешь писать? — спросил Эйрик.
— Да, — ответил Гест.
У него голова закружилась при мысли об этом, особенно при воспоминании о почерке Вульфстана, который, поди, самого Господа способен повергнуть в изумление, о спокойной руке архиепископа на душистом мраморно-белом пергаменте, слова эти будто звуки песни в лесу или снег, что не может упокоиться на лице: «…уразумейте же, что дьявол многие годы сбивал с пути англосаксонский народ, так что было в нем мало благонамеренности, а в стране великие беспорядки…» И когда ярл в следующий миг едва ли не приказал ему составить собственную хронику, наподобие тех, какие множество монахов составляли для английских королей и для духовенства, Гест ответил:
— Как же я сумею отличить правду от лжи, я ведь…
Но Эйрик решительно объявил, что Гест запомнил то, что хотел запомнить, к примеру, как его друг Ротан сидел, прислонясь к мертвому коню и держа в руках, словно младенца, собственные кишки, — что может быть правдивее?
Тем разговор и кончился.
Ярл прошел к лошадям, которые паслись на лугу, там, где ручей образовывал излучину, и воротился с могучим гнедым жеребцом.
— Хочешь? Будет твой.
Гест остолбенел.
— Нет, — сказал он.
— Не-ет, — передразнил ярл, презрительно отвернулся, подвел жеребца к мальчуганам-рыболовам и спросил у старшего, рыжеволосого одиннадцати-двенадцатилетка с широким открытым лицом, умеет ли он ездить верхом. Мальчик понял, что он сказал, подошел на несколько шагов ближе и сказал «да», энергично кивнув.
— Я подарю тебе этого коня. Хочешь?
Мальчик понял и эти слова, но не поверил своим ушам, повернулся к товарищам, которые вброд перебрались через ручей, и о чем-то тихонько с ними заговорил. Потом приблизился, на почтительном расстоянии обошел ярла и с вопросительной миной на лице положил руку на тавро.
— Боишься, что тебя обвинят в краже? — спросил ярл.
Мальчуган опять кивнул.
Эйрик повернулся в сторону замка и пронзительно свистнул, а когда там появился владелец, знаком подозвал его к себе.
— Скажи мальчику, что я дарю ему этого коня.
Владелец обвел взглядом ярла, коня, мальчика, словно оценивая их и сравнивая меж собой, бросил мальчику короткую фразу по-английски и, качая головой, зашагал прочь.
Мальчуган возликовал и ловко, как кошка, запрыгнул на коня, ярл подсадил двух других и некоторое время стоял, глядя, как они скачут по берегу ручья. Потом посмотрел на Геста:
— Со скуки с тобой помрешь!
Тут Гест невольно рассмеялся. Но Эйрик все еще хмурился. А в следующий миг, обнаружив, что мальчишки забыли свою рыболовную снасть, поспешил к берегу, глянул по сторонам, разулся, перешел на ту сторону и отвязал веревку. Гест последовал за ним, отвязал веревку на этом берегу, они осторожно опустили перышки к воде и стали ждать.
— По-моему, перья утиные, — сказал ярл. — Сейчас увидим, удачу ты приносишь или неудачу.
— Тсс! — шикнул Гест. — Рыбу распугаешь.
Ярл пригрозил поколотить его за непочтительность. И тут из воды выметнулась форель, ярл резко дернул веревку, рыба, схватив вместо перышек воздух, плюхнулась обратно в ручей.
— Обманули мы ее, — хихикнул Эйрик.
— Ловить надо было, — сказал Гест.
— Опять ты за свое.
Гест только головой покачал.
В ближайшие дни Гест с помощью Обана разлиновал пергамент, приготовил чернила, очинил лебединые перья, как показал монах, в меру своих слабых сил изобразил маюскулы.[109] Но дальше этого не больно-то продвинулся, отвлекался на самые что ни на есть глупые фантазии, не мог даже решить, каким ножом зачинивать перья, задача казалась ему неразрешимой и непосильной, лето было в разгаре, с жужжащими мухами и гнетущим зноем, он видел пасущихся лошадей, слышал песни пастухов, видел монахов за молитвой и горожанок, что стирали белье, устроившись на обомшелых мостках, казалось, здесь, в этой стране без смены времен года, парил праздник, но без него.
Вдобавок его постоянно тревожил Пасть, в котором с тех пор, как ярл решил остаться в Ноттингеме, угасла последняя искра жизни; изрядное вознаграждение за военные действия в Восточной Англии и то не принесло утешения, он все время видел перед собою лицо брата, и деньги от этого превращались в сор, грязь, мерзость. Временами на него накатывали приступы щедрости, и тогда он раздавал деньги бедным и нуждающимся, раздавал прямо-таки с неистовством, и мало-помалу обзавелся целой свитой попрошаек, которые только и делали, что клянчили да витали в облаках. Потом Пасть начал раздавать и имущество брата, серебро, оружие, снаряжение. Хавард подарил ему превосходного коня, в возмещение за то, что держал его на цепи, — теперь этот конь возил сено счастливому местному крестьянину. На шее Пасть носил две серебряные змейки на кожаном ремешке, они с Ротаном получили их в подарок от матери. Свою он отдал Гесту, а Ротанову — женщине, у которой ночевал Хавард. Та сперва отказывалась от подарка, но Хавард успокоил ее: мол, Пасть ничего взамен не ждет, он человек стеснительный. Потом он раздал и две свои кольчуги, и шлем, и, наконец, одежду и обувь. Есть он перестал, пить тоже не пил. А однажды вечером сказал Гесту:
— Прости меня.
— За что?
Пасть не ответил. А наутро его нашли мертвым, он лежал на соломе, свернувшись клубочком, одетый в грязную рубаху, которую стащил в монастыре на другом берегу реки. Лицо было повернуто в сторону, рот и глаза закрыты, будто ему хотелось спрятаться, руками он обхватил свое скрюченное тело; им не удалось распрямить его, так и похоронили.
Гест отложил письменные принадлежности, принялся мастерить гроб, наподобие тех, в каких хоронили состоятельных христиан, широкий дубовый ящик, вырезал на нем два красивых креста ножом, полученным в подарок от Тейтра, упросил Обана совершить погребальный обряд, непременно упомянуть, что, хотя Ротан лежит на Рингмарской пустоши, а Пасть — здесь, в Ноттингеме, друзья их твердо верят, что Господь вновь соединит их в вечности, каковая постижима лишь для Него. Еще монаху надобно сказать о том, что Пасть осиян особенным светом, ведь даже помыслы о мести оказались бессильны, не удержали его в жизни. После этого Гест не взялся за перо, задумался о другом, о собственном убожестве да и о новом бегстве, правда, не решил пока, куда направиться.
Аккурат в это время ярлу тоже пришлось отвлечься от былых подвигов и заняться другим. Из Лондона сообщили, что Эдрик Стреона сумел-таки втереться в доверие к Железнобокому. Случилось это после сражения подле кентского городка Отфорд, когда датчане обратились в бегство и едва сумели укрыться на островке Шеппей в устье Темзы.
— Есть у меня нехорошее предчувствие, — сказал ярл.
Короче говоря, он начал подозревать, что Эдрик, может статься, вернулся к Железнобокому вовсе не затем, чтобы выдать его датчанам, Эдрик Стреона был большой мастер ловких предательств, и, может статься, ярл — и король Кнут — дали ему повод осуществить еще один блестящий номер?
Тем же вечером после продолжительной беседы с Гюдой, Дагом сыном Вестейна и архиепископом Вульфстаном ярл в конце концов пришел к выводу, что сидеть сложа руки более нельзя. Даг был послан на север, с шестью сотнями воинов, Вульфстаном и его причтом, кроме Обана, которого Эйрик тотчас назначил священником дружины и включил в собственное войско, так как заприметил их с Вульфстаном несокрушимую дружбу. Тысячный отряд останется обеспечивать порядок в Ноттингеме. Остальные же выступят на юг, крупные силы, около двух тысяч отборных, нетерпеливых и отдохнувших воинов, в основном люди из Трёндалёга и Вика, а также англичане, исландцы и венды. Ну вот, решение было принято, а это, считай, уже полдела, на юг они выступили, когда пришла осень.
Ашингдон[110]
Во время этого похода Гест чувствовал себя так скверно, что Хаварду подолгу приходилось вести его коня в поводу, меж тем как он сам, словно мертвый, лежал, припав к конской холке и вцепившись пальцами в гриву.
Но когда вступили в Эссекс, он опять взбодрился, сидел в седле выпрямившись и начал разговаривать по-латыни с Обаном, который ехал обок и вообще-то был совершенно не расположен к разговорам. Хмурый, с замкнутым помятым лицом, он явно досадовал на свое новое звание и сказал, что считает себя самым настоящим пленником, заложником. Гест ответил, что тут он прав, но заверил, что Вульфстан вряд ли станет совершать поступки, которые могут подвергнуть опасности Обанову жизнь.
— Ты же знаешь Йорк, — уныло сказал Обан.
Но в конце концов Гест выудил из него историю о священном монастырском острове Иона в Ирландском море, норвежцы так и называли его — Святой Остров, в юности Обан учился на этом прекрасном, зеленом, как райские кущи, островке в море и, очутившись в Йорке, денно и нощно мечтал вернуться на Иону, ведь все, что он рассказывал об острове, чистая правда, а потом еще раз сказал — ибо речи его всегда отличались обстоятельностью и неторопливостью, — что Вульфстан, разумеется, великий человек и по велению Божию он, Обан, служит ему всем сердцем, но сей поход в Нортумбрию поистине казнь египетская, способная сломить самую крепкую благонамеренность.
— Останемся ли мы живы? — снова и снова вопрошал Обан.
Из всех людей, каких на своем веку встречал Гест, один только Обан прямо говорил, что любит жизнь, наслаждается ею и вовсе не желает ее терять, другие говорили так о родной стране, о женщине, о Боге, а Обан вдобавок употреблял при этом такие слова, как красота, добро, благородство, будто все это можно найти здесь, на земле, а не только на небесах, и охотно ссылался на Кнута священника и армянских монахов из Нидароса, о которых узнал от Геста, ведь они сущие диковины, хрупкие, крошечные ростки, взошедшие в сухой пустыне и живущие лишь благодаря собственному свету. Как-то раз он обратил Гестово внимание на осу: желтые и черные полоски на ее брюшке — это и есть красота, подобно симметрии зернышек в колосе, сладости плода и меда, пятнышкам на чешуе рыбы, не говоря уж о желтом кольце в глазу Митотина, более совершенный круг есть только на небе и называется солнцем, и он мог без конца продолжать в таком же духе, рассуждая о том, как важно отдохнуть, поспать, не просто потому, что приятно сидеть в праздности, наблюдать за людьми, за временами года и грезить, но и потому, что отдых — предпосылка бодрствования, самый надежный друг работы.
Так же обстояло и с ионской историей: однажды к северному побережью острова прибило гроб с телом какого-то скандинавского хёвдинга, судя по одежде его и оружию. Монахи решили, что это не иначе как исландец, а поскольку на шее у него был большой серебряный крест, постановили похоронить его в монастырских стенах. И тут их одолела странная усталость, не приятная истома, а отвратительная мертвящая вялость, они с превеликим трудом вставали к утренней мессе, работали на земле через силу, как старые трэли, многие начали заикаться, мало того, они все время что-нибудь да забывали — принести торфу, привязать лодку, даже прочесть молитву, а уж когда однажды вечером аббат запамятовал имя святого Колумбы, который четыреста лет назад основал этот монастырь, понял он, что они неправильно поступили с телом чужака. Ну, выкопали его и похоронили за стеною. И вмиг сонная пелена над Ионой развеялась. Жизнь вернулась в свою колею, память пришла в порядок. Еще они обнаружили — тем же летом, — что на могиле чужака поднялся дуб и рос он быстрее других деревьев. Но как только достиг трех саженей в вышину, рост остановился, выше дуб с тех пор не стал. Красавец, глаз не отвесть, тем паче что остров-то почти безлесный. Полгода листва у дуба бледно-зеленая с серебристым отливом, а полгода сверкает золотистою бронзой, желудей на нем не бывает, будто он еще дитя, не повзрослел, а крона очертаниями похожа на пламя свечи в безветрие, когда ни одно дуновение не колышет его, — все это есть знак одиночества, которое не дано постичь никому, разве что Хельге на льдине.
— Но почем ты знаешь, что мы останемся живы? — спросил Обан.
— Мы же не будем сражаться, — сказал Гест. — Я никогда больше не стану сражаться.
Такая мысль возникла у него в Ноттингеме. Он-то воображал, что помышляет о бегстве, как пленник воображает себе множество способов побега, теперь эта мысль обрела ясность, но была совсем маленькой.
По пути все было спокойно — Лестершир, Бедфордшир… в Эссекс они вступили в начале октября, и лишь в глубине Хертфордширских земель встретили дозорный отряд Кнута, от которого узнали, что датский конунг покинул Шеппей, переправился на северный берег Темзы, собрав там и большую часть своего флота.
Дозорных послали вперед, предупредить короля, и вернулись они с сообщением, что Кнут встретит зятя в деревне Коньюдон на реке Крауч, там есть крепкий мост, которым Эйрик может воспользоваться. Они продолжили путь сквозь желто-зеленую осень, и мало-помалу стало ясно, что место выбрано осмотрительно либо с отчаяния, ибо находилось оно на полуострове меж двумя реками, а стало быть, можно было обороняться малыми силами и легко отступить — морским путем.
Крауч они перешли холодным ясным днем, король встретил их в большой усадьбе напротив предмостья и уже совсем не походил на мраморного греческого бога, выглядел скорее как обыкновенный вояка, вконец измученный боями, выдохшийся и разбитый; в своих писаниях Гест, по просьбе ярла, предпринял неудачную попытку изобразить его портрет.
Молодое лицо, правда, светилось королевским величием, которое едва ли возможно истребить, тут даже смерть не властна, к тому же он искренне обрадовался встрече, хотя ярл своим появлением нарушил все категорические приказы.
Они по-братски обнялись, Кнут насмешливо склонил голову набок, вроде как удивляясь малочисленности ярлова отряда.
— Остальных-то куда девал? — усмехнулся он.
Хакон, увидев их, тоже как будто бы вздохнул с облегчением, хотя с отцом поздоровался как вполне самостоятельный знатный муж, а не как любящий сын. Словом, все военачальники выказывали сдержанное, выжидательное спокойствие.
— Итак, наши противники — Железнобокий и Эдрик? — спросил ярл.
— Нет-нет, не Эдрик, — заверил Кнут. — Он наш человек. Мы имеем дело с Ульвкелем, который улизнул от тебя у Рингмары, он, видать, решил умереть здесь.
— Не иначе, — хмуро сказал ярл. — А ты стал с флотом тут, на мысу, чтобы вмиг оставить эти позиции, такой у тебя план?
Кнут заметил, что всегда ценил Эйриково честолюбие.
— Ведь ты мучишься из-за того, что упустил Ульвкеля, верно?
Ярл промолчал.
Кнут набросил на плечи светлый плащ, предложил им выйти из дома и принялся показывать на местности позиции и посты — низкую гряду холмов к северу от Крауча, где они различили в вечернем сумраке развевающийся Ландейдан, белый стяг Кнута, в кроне сухого дерева, отлогую долину с извилистым ручейком между Коньюдоном и деревушкой Ашингдон, дымы которой виднелись на западе, широкую Темзу, что спокойно вливалась в море перед свежескошенными полями по левую руку короля, — сообщил, как расставил войска, вписал их в местность, корабли с подкреплением на морской стороне, будто он готовится бежать.
— На самом-то деле это ловушка, — заключил Кнут. — Остается только ждать.
Эйрик обвел взглядом отлично продуманные боевые позиции короля, одобрительно хмыкнул и заметил, что по пути сюда они не видели никаких признаков передвижения войск, стало быть, Железнобокий довольно далеко.
— Нет, — решительно отвечал Кнут. — Он идет вдоль Темзы и будет здесь через день-другой, со всем своим войском, хочет на сей раз биться до конца.
Он описал четыре поражения, которые потерпел летом и осенью, при Пенселвуде, Шерстоне, Брентфорде и, наконец, при Отфорде, подробно рассказал, как Железнобокий расставлял свои силы и вел сражение, упомянул о его зависимости от конницы, о маневренности, о том, что он отдает предпочтение лучникам и любит внезапность, — в итоге как-то само собой возникло впечатление, будто король сознательно позволял застигнуть себя врасплох, чтобы выманить у молодого англосакса его секреты.
Напоследок Кнут оглядел нереально мирный пейзаж и уверенно произнес:
— Для нас это отличное место.
А ярл обронил:
— Интересно, что именно Эдрик рассказал о нас? Ведь Железнобокий поверил ему!
На это у Кнута ответа не было.
Судя по всему, он явно не желал никаких вопросов. А Гест меж тем присмотрел себе укрытие и стал готовиться к своей судьбе, ибо страна эта слишком велика, слишком сильна и слишком многолюдна, чтобы покориться, по дороге на юг она снова предстала перед ним — огромная, неохватная держава, которая поразила его, еще когда он ступил на землю Винчестера и услышал орган.
В Коньюдоне они встретили и Эйвинда, который за минувший год отощал, как скелет, ослаб телом, лицо покрывала серая бледность, глаза были красные, воспаленные, а все потому, что он, мол, долго лежал больной, горячка какая-то привязалась, даже в двух последних сражениях участвовать не довелось.
Он увел их подальше от чужих ушей, на холм ближе к Темзе, и сказал, что летом получил вести с родины, через корабельщиков из Вика, и выяснил, что Ингольв, как и многие другие хёвдинги Оппланда и Хедемарка, объединился с новым конунгом, Олавом сыном Харальда, неужто Хаварду не понятно, чем это чревато, а?
Воспаленные глаза Эйвинда буравили брата. Но Хавард сказал, что, по его мнению, это ничего не меняет, он же сторонник конунга Кнута и останется таковым, что бы там ни предпринимал отец у себя в Хове.
— А вот я в этом не уверен, — возразил Эйвинд. — Ведь два года назад, когда мы отправились в поход, Аса ждала ребенка, но Сигурд погиб нынешним летом под Брентфордом, отца у ребенка нет, это мальчик, Аса крестила его Ингольвом. И корабельщики говорят, Стейн сын Роара не признает мальчонку, дескать, это не его внук, рожден слишком рано. Ну, я той осенью в Хове не был и ничего не знаю, но ты-то был и, поди, что-то знаешь?
Пока Эйвинд рассказывал, Хавард смотрел на море. Сейчас он согнал Митотина с плеча, бросил беглый взгляд на Геста, сел и подпер голову руками, Митотин меж тем неторопливо кружил над ним.
— Я не припомню, — сказал Гест, — чтобы Аса водила шашни с мужчинами.
— Вот и я тоже не припомню, — решительно бросил Хавард. — Она мужчин не любит. А что Ингольв? Он позволит мальчонке остаться в Хове?
— Ингольв говорит, что ребенка родила Аса, а значит, это его внук, независимо от того, приходится ли он внуком Стейну или нет, народ сказывает, он рад мальчику и зовет его своим маленьким трэлем.
Хавард улыбнулся и вытянул руку, чтобы Митотин вернулся на прежнее место.
— Похоже на него. Но при чем тут Олав сын Харальда?
— Не знаю, — вздохнул Эйвинд. — Знаю только, что, если Кнут завоюет Англию, он и на Норвегию двинет, вместе с хладирским ярлом или с сыном его, о котором составил себе высокое мнение. Как нам тогда быть?
Хавард задумался и ответил не сразу:
— Все ж таки я не думаю, что мальчонка может нам навредить, пусть даже он не Стейнова рода, Аса-то не хотела идти ни за Сигурда, ни за кого другого, поэтому, на мой взгляд, новость эта скорее хорошая, чем плохая. Но скажи-ка мне, брат, не слыхал ли ты чего о Раннвейг.
— Нет, — сердито буркнул Эйвинд. — Хотя надо полагать, вскорости она вернется домой, Рёрек-то выступил против Олава, конунг ослепил его и выслал в Гренландию.
Хавард рассмеялся:
— Туда ему и дорога! Глядишь, с новым конунгом мы поладим куда лучше, чем тебе кажется, только бы тут все кончилось.
— А ведь я прав, братишка, — продолжал Эйвинд, — не разумеешь ты, что к чему. Мы — люди Кнута, хотим мы того или нет, ибо клятв своих не нарушаем — ни ты, ни я, ни кто другой из сынов Ингольва.
Хавард медленно повернулся к нему лицом, встал.
— А тот, на кого мы сейчас целиком и полностью полагаемся, зовется Эдрик Стреона, величайший изменник во всей датской державе. С этим ты согласен?
— Сейчас ты говоришь совсем как Ингольв.
— Да, я же его сын.
Минуло два дня, и вот ночью Гесту опять привиделось дерево, только на сей раз не дерево, похожее на пламя, а пламя, похожее на дерево, — и сквозь золотую листву рвался крик, кричал ребенок, о котором рассказывал Эйвинд, маленький трэль Ингольв, он лежал на руках у Асы, а она твердила, что Гест единственный мужчина в ее жизни. Но прежде чем он приложил ухо к губам мальчика и спросил, отчего он кричал, Хавард двинул его в живот. Оба сидели рядом на куче сырой соломы и, точно подслеповатые рыбы, таращились во мрак, вместе с двумя десятками других (среди них был и Обан). Новый крик рассек темноту, затем еще один, и еще, завязалась схватка. Только на сей раз Железнобокий никого врасплох не застал и кричали его люди, потому что на них дождем сыпались стрелы Эйриковых воинов, которых ярл выставил на обоих склонах неглубокой долины между Коньюдоном и Ашингдоном.
Англичанам пришлось отступить, а когда они чуть свет устремились в конную атаку, Кнут, согласно плану, двинул в бой свои полки. Но половину войска до поры до времени придержал. Эйрик, расположившийся на берегу Крауча, тоже пока бездействовал.
Непривычное зрелище предстало глазам ярловых воинов: их господин спокойно сидел на коне на краю поля брани — обок своего знаменосца, по обыкновению пешего, — смотрел во взбудораженную ночь, которая с первыми лучами солнца мгновенно преобразилась в бурлящую, горланящую сумятицу. На гребне холма в стороне Темзы замер в седле еще один вождь — король Кнут в окружении ближних советников, под белоснежным Ландейданом, сотканным дочерьми Рагнара Лодброка.[111] Он тоже выжидает, словно бы наблюдая солнечный восход над величавым ландшафтом.
Но вот Эйрик отдал коннице приказ выдвигаться вдоль берега реки, по просеке, специально проложенной ими в лесу, и Гест с Обаном, пользуясь случаем, влезли на буролистый дуб, склонившийся к реке, и оттуда следили неспешное Эйриково продвижение вплоть до перешейка меж Краучем и Темзой, где он опять остановился в ожидании, по-прежнему оцепенело — спокойный; для Обана это было уже чересчур, он зажал ладонями уши и затрясся, будто в смертных корчах.
— Что ж он там расселся-то?!
Датский конунг тоже не шевелился. Как вдруг знаменосец его подал знак, и в тот же миг ярл со своей конницей и конунг с пешим отрядом, который будто из-под земли вырос на склоне у него за спиной, ринулись в бой. На полном скаку, с яростными криками, Эйрик промчался по редколесью и ударил в тыл противнику, разом упразднив всякий порядок в этой схватке, которую впоследствии назовет сухопутным морским сражением, воины бились мелкими, разрозненными группами, один на один, как корабельные дружины, и на первых порах казалось, будто возникший хаос на руку датчанам. Тогда-то Гест наконец увидел молодого королевича, последнюю надежду Англии — точно орел в могучем полете он озирал сумятицу сечи, снова и снова пересаживался на свежего коня взамен убитого, рядом с ним Эдрик Стреона в своем приметном синем платье с печальным гербом Мерсии, более сдержанный, чем Железнобокий, выжидательно-безучастный, однако уверенный в себе и осмотрительный, насколько мог судить Гест, и все еще на стороне англичан.
Смотреть тошно, хоть глаза закрывай. Когда же около полудня над полем брани пронесся стон, Гест понял, что дело впрямь пошло неудачно, перевес за Железнобоким, за этим юнцом, который лишь без малого год назад выступил из тени недоумка-отца и успел сделаться героем и вождем несчастного народа. Вдобавок начался дождь, тяжелые, холодные струи хлестали с гнойно-желтого неба, и Гестова рана снова напомнила о себе ледяной стужей. Обан, не таясь, плакал, громко, навзрыд, как дитя; на соседнем суку, встопорщив крылья, сидел Митотин, нервозно поглядывал на речной берег, где его хозяин вместе с отрядом, которому Эйрик приказал оборонять мост, в ожесточенной схватке из последних сил удерживал позиции.
Внезапно над этой удручающей картиной прозвучал сигнал рога, Эдриковы воины тотчас повернулись спиной к истории и занялись ранеными, будто сеча для них была окончена. Кнут заметил сей удивительный поворот и не промедлил заполнить пустоту, оставленную олдерменом, Ландейдан плугом прорезал поле брани в направлении усадьбы и реки, но все произошло так тихо, что Гест лишь задним числом сообразил, что Железнобокий примерно с сотней воинов опрокинул заслон, промчался по мосту и дальше, вверх по склону невысокого холма на севере, оставив за спиной кровавую неразбериху. Вымокший Хавард выбрался из реки и яростно ударил мечом по воде. Эдрик меж тем собрал своих и тоже поскакал прочь по холмам, на восток, к Лондону.
На этот раз Хавард был цел и невредим, впервые вышел из сражения без единой царапины.
Однако такой исход совершенно не устраивал Кнута, он-то замышлял хитроумную ловушку. Поэтому, когда забрезжил рассвет, король выступил по следу англичан, собрав всех боеспособных воинов, коих оказалось свыше восьми тысяч человек, в том числе Эйрик ярл и сын его Хакон. И Хавард, который пренебрежительно распрощался с Гестом, с древолазом, как он выразился, с гнилой душонкой.
— Давно пора, — бросил он.
Гест промолчал. Он жив, вот и всё.
Следующие несколько дней он сообща с Обаном и примерно двумя сотнями других, в большинстве легкоранеными, а также обитателями близлежащих деревень, расчищал поле брани, отделял раненых от убитых. Обан исполнял эту работу стиснув зубы, решительно и смело, et divisit lucem ас tenebras,[112] хоть и измученный смертью, смрадом, стонами, собаками и птицами, а Гест в первый же вечер наткнулся в одной из братских могил на тело Гейрмунда, своего отвергнутого темнобородого зятя, там же он обнаружил второго исландца из тех, кого встретил в Восточной Англии, и затем ходил от могилы к могиле, с палкой в одной руке и мечом в другой, искал, переворачивая каждый труп, вглядывался в лица, пытаясь распознать знакомые черты, в отчаянной надежде не найти того, что ищет, — подобно сотням родичей, бродивших среди этих мук и страданий, только чтобы в душе, как именует ее Писание Господне, добавилась еще одна рана. Он не нашел Торгрима, не нашел и Одинов нож, весточку, которая наконец-то доберется на север, в мирный Скагафьярдар, к сестре, с ее пятью детьми и богатым мужем, снискавшим добрую славу.
Зато они нашли Ульвкеля, несгибаемого защитника Восточной Англии, который без малого двадцать лет верой-правдой служил своему нерешительному королю; Гест не знал олдермена в лицо, но скорбный плач раненых сказал ему, что ошибки быть не может, это Ульвкель, и он воздал израненному телу хёвдинга почести, подобающие возрождению Торгрима, позаботился, чтобы его похоронили отдельно, а поскольку Ульвкель был христианином, они поставили на могиле крест, и Обан отслужил мессу за упокой души. В эти дни он отслужил мессу за упокой несчетных душ, датчан и англичан, иначе он не мог, таким образом он славил жизнь.
Но даже в нездешней пустоте, царящей на поле брани, живут дерзкие побеги надежды, и не успели похоронить мертвых и разместить раненых в палатках и домах, как народ начал препираться по поводу того, вправду ли Эдрик Стреона дезертировал и привел Железнобокого к решительному поражению или же англичане разыграли бегство, чтобы заманить Кнута в ловушку. И это последнее суждение распространялось все шире, не только среди англичан, но и среди датчан, потому что дни текли за днями, шел дождь, падал снег, снова прояснялось, а о двух армиях не было ни слуху ни духу, пропали они, канули в глубинах Англии. Вдобавок ашингдонское население потихоньку начало роптать, ведь за несколько недель до сражения Кнут позволил своим мародерствовать, и Обан блуждал в этой новой враждебности, не ведая, куда податься. И однажды вечером, когда они сидели у костра на северном берегу Крауча, он доверительно сказал своему исландскому другу, что больше не может здесь оставаться, работа исполнена, он свое дело сделал, Кнут с войском, поди, не вернется, не иначе как разбит наголову, так, может, Гест, владеющий столь многими немыслимыми жизненными искусствами, пособит ему, во имя Господа, украсть лошадь.
Гест мрачно усмехнулся. Что ж, у него никогда не было полной уверенности, что Одинов нож не зарыт где-то тут, в этих кошмарных болотах, верил он в это не больше, чем в то, что жив, и любил Обана как человека, чтущего жизнь.
— Пожалуй, я украду двух, — сказал он.
Pax Cnutonis[113]
Через месяц с лишним после битвы при Ашингдоне двое голодных, оборванных нищих вошли в Йорвик; в Нордимбраланде лежал снег, все было тихо-мирно, и архиепископ Вульфстан II встретил их поистине как восставших из гроба, обнял Обана и суховато приветствовал Геста.
Они думали, архиепископ спросит, как они здесь очутились. Или скажет, что здесь им оставаться нельзя, по всей стране бушует месть, бьют датчан и их пособников.
Но Вульфстан поведал, что Эдрик Стреона оставил поле брани при Ашингдоне, предав своего господина, Железнобокого, причем тот предательства не заподозрил. Затем Кнут преследовал их по всей стране, и вот неподалеку от Глостера Эдрик сумел-таки убедить измотанного Железнобокого заключить соглашение с датчанами. Стороны встретились и договорились, что Железнобокий сохранит за собой Уэссекс, где датчан и без того проживало очень мало, но подчинится Кнуту, то есть на самом деле отдаст ему все свое наследство.
И снова Эдрик обнаружил свою лживую натуру, посоветовав Кнуту сразу же нарушить соглашение и убить Железнобокого и двух его малолетних сыновей, пока они у него в руках. Кнут, однако, с этим не спешил и позволил поверженному противнику расположиться в Лондоне, а сыновей его предположительно отправили за пределы страны, кое-кто говорил, в Свитьод.
Гест и Обан переглянулись.
На север они шли больше месяца, ничегошеньки не зная о происходящем в стране и не рискнув расспрашивать людей, которые, пожалуй, могли бы их просветить.
Теперь Гест яростно бросил архиепископу, что все это совершенно не вяжется с тем, что он наблюдал, сидя на дереве во время битвы. Да и Железнобокий никак не может быть настолько наивным, чтобы еще раз довериться Эдрику!
Вульфстан даже не соблаговолил ответить.
— Война кончилась, — веско произнес он, с уверенностью, какой они прежде за ним не замечали.
Тою же ночью Гест заговорил с Обаном о том, не стоит ли им отправиться дальше — на север, на побережье, на Иону.
Но монах был измучен и оглушен, вдобавок он-то уже попал домой, счастливый, как смертельно больной, которому вдруг полегчало. И Гест, послушавшись внутреннего голоса, встал, собрал свои вещи и в одиночку покинул город. Но ушел недалеко, силы иссякли. Тогда он вернулся назад, лег рядом с Обаном, тот не спал, смотрел на него своими умными глазами.
— Что же нам делать? — сказал Гест.
Обан задумался, потом обронил:
— Во всяком случае, в одном ты оказался прав: мы выжили.
— Нет, я говорил так, только чтобы утешить тебя. На самом деле я думал, мы умрем. Ничего я не предвидел.
Несколько дней спустя архиепископ получил от ярла письменное известие, что Железнобокий найден мертвым в своей постели, в Лондоне. Вульфстан не скрывал, что уверен: за этим преступлением тоже стоит не кто иной, как Эдрик. Еще ярл писал, что архиепископу должно прибыть в Лондон, и как можно скорее.
Дело в том, что опьяненный победой Кнут вздумал ни много ни мало посвататься к вдове своего заклятого врага, королеве Эмме, венчанной супруге Адальрада и мачехе Железнобокого, которой минувшим летом удалось бежать в Нормандию, к своему герцогскому семейству. И Вульфстану предстояло на датском корабле отправиться к Эмме в Нормандию с предложением снова стать королевой Англии; в случае согласия она получит гарантию, что если подарит Кнуту сына, то сын этот станет наследником престола, коего означенный король недавно лишил ее сыновей от Адальрада.
Когда Вульфстан получил это послание, при нем находились Гест, Обан и два молодых клирика. Старец сперва побледнел как полотно, глаза забегали, он вскочил со скамьи, заметался по башенной комнате, где они собрались, чтобы подготовить рождественские богослужения.
Затем он еще раз прочел послание Лейфинга, вслух, будто проповедь, трактуя текст во всех его примечательных последствиях, неожиданно засмеялся и, перепуганный собственной реакцией, серьезно повторил свой давешний отзыв о новом короле:
— Кнут — великий человек. Если он получит Эмму, все магнаты в стране объединятся вокруг него. — Он вздохнул. — И не только. Нормандский герцог тоже станет ему опорой. А тогда и король Генрих Саксонский,[114] и Папа непременно дадут ему свое благословение. Боже всемогущий!
В тот же вечер Вульфстан посетил Дага сына Вестейна, который правил здесь в отсутствие Эйрика, велел Гесту перевести для него послание и потребовал охрану, дабы препроводила его следующим утром на юг.
Услышав о сватовстве, Даг громко рассмеялся, сказал, что замысел этот принадлежит не иначе как Эйрику или Гюде, которую Господь, помимо прекрасной наружности, наделил многими талантами, и добавил, что архиепископ может взять с собой людей, каких выберет сам.
Вульфстан пожелал, чтобы и Гест сопровождал его. А Гест отказался. По возвращении в Йорвик он облачился в монашескую рясу и решил отныне устремить взор к небесам, как его бесценный друг Обан, с которым он намеревался совершить паломничество, не в Румаборг по стопам некоего ярла, но на Иону, на Святой Остров в Ирландском море, с пламенеющим дубом без желудей.
Вульфстан всегда относился к Гесту с какой-то неизъяснимой тревогой, теперь же увидел его совсем по-новому, словно ощутил укол собственной совести, прикусил губу и вполне дружелюбным тоном сказал, что Гест, разумеется, волен поступать по своему усмотрению, но ему не должно забывать, что Англия не его держава, а Вульфстанова, посему он, Вульфстан, обязан внести оную лепту в обеспечение мира.
Его слова прозвучали скорее как вопрос, а не как довод, и Гест ответил, что архиепископ, вероятно, прав и бракосочетание Эммы и Кнута принесет пользу и Англии и церкви, тем более что совершит его сам Вульфстан.
— Но ты, верно, думаешь о той женщине из Нортгемптона, Кнутовой фаворитке? — спросил он.
— Да, — сказал архиепископ. Он и правда не мог выкинуть ее из головы, эта Альвива, или как ее там, вызывала у него серьезные опасения, ведь она уже родила королю двух сыновей.
— Верно, и он крестил первенца Свейном, — заметил Гест, — в честь своего отца, и я не думаю, что король с нею расстанется, он хочет иметь обеих женщин, и тут ты ничего поделать не в силах, но, пожалуй, сможешь убедить Эмму потребовать, чтобы он не выставлял Альвиву напоказ, не навлекал позор на себя самого и на королеву, с этим он наверное согласится.
Лицо Вульфстана по-прежнему было непроницаемой маской.
— Трудное дело, — вздохнул он.
— Да, — кивнул Гест. — Однако думаю, при твоем уме все получится. Ведь Кнут наверняка давным-давно продумал все то, о чем мы сейчас говорим, и только ждет, чтобы ты это сказал, тогда он увидит, что ты на его стороне и желаешь ему добра — ему и Англии.
— Facta est lux,[115] — опять вздохнул архиепископ и пошел собираться.
Зиму и весну Гест жил у Тейтра и Гвендолин, а не то и в монастыре с Обаном. Читал, учился и снова начал писать, но не хронику деяний Эйрика ярла, нет, он копировал манускрипты, которые клал перед ним Обан, и занимался этим с таким же рвением, с каким, бывало, резал по дереву, с избавительной страстью в каждом движении. Копировал из «Ecclesiastica» Беды[116] — рассказ о святом Катберте, копировал «De virtutibus et vitiis» Алкуина,[117] а также молитвослов, составленный Вульфстаном в бытность его монахом в Эли.
Еще он учил Тейтра, правда понемногу, потому что Тейтр до сих пор превыше всего ценил молчание и обыкновенно проходил день, а то и два, прежде чем он отвечал на вопросы или сообщал свое мнение, к тому же он с трудом принимал растущую Гестову набожность.
У Гвендолин отношения с Гестом тоже не ладились, и однажды она напрямик сказала ему, чтобы он перестал разговаривать с Тейтром, ведь о чем бы ни шла речь, толковали они про Исландию, Тейтр от этого впадал в беспокойство, уходил на охоту, ночевал под открытым небом, даже в снегопад.
Гест посмотрел на друга, но тот сидел с совершенно непроницаемым видом.
Гвендолин проворчала, что вид у него точь-в-точь такой, как когда он думает про Исландию. И всю эту весну, мирную весну, она продолжала твердить, что Тейтр не должен исчезнуть. Пока он вдруг добровольно не примкнул к отряду, который Даг сын Вестейна послал на север, в Берницию, а когда задача была выполнена, там и остался. Гвендолин пришла в монастырь вместе со всеми тремя сыновьями и сказала, что муж ее отправился в Исландию.
— Нет, — возразил Гест. — Он вернется.
И Тейтр вернулся. К тому времени настало лето, и Гвендолин полюбопытствовала, где он был. Тейтр ответил, что был на шотландской вересковой пустоши, в одной деревушке, он не скажет, как она называется, но опять вернется туда, если Гвендолин еще хоть раз спросит, где он был.
Больше Гвендолин словом не поминала ни Исландию, ни мысли, которые, как она видела, по-прежнему бродили у него в голове.
А Геста все так же недолюбливала.
Гвендолин была женщина высокая, светловолосая, богачка, по происхождению отчасти датчанка, вдова английского купца, который на двух кораблях ходил во Флемингьяланд и в Нормандию. Трое их сыновей уже достигли отроческого возраста и мало-помалу мужали. Тейтр ходил с ними на охоту, брал с собой на работу, выговаривал им, когда они болтали по-английски, стреляли мимо цели из луков, которые он для них смастерил, или неловко сидели верхом, но проявлял такое терпение, какого Гест от него никак не ожидал. Особенно Тейтр любил младшего мальчика, тому было всего восемь лет, но характером он отличался от братьев, странноватый был, нелюдимый, звали его Олав, а в обиходе кликали просто Братишкой, пока он вдруг не перерос братьев — десяти и двенадцати лет от роду — и не превзошел их силой, с той поры его называли только Олавом, а случилось это нынешним мирным летом, когда датский король Кнут сочетался браком с английской королевой Эммой и тем скрепил нерушимый союз двух могучих держав, что было торжественно провозглашено и осенено благословением на трех языках во всех церквах Англии, в том числе и в Йорвике.
Как-то раз Тейтр спросил у Геста, почему Гвендолин больше не рожает детей.
— Родит еще, — успокоил Гест.
Но Тейтр не унимался: ему-де досадно, что Гвендолин не нарожала еще детей, для него было бы легче поселиться тут на покое, коли б у них были дети. Гест повторил свой ответ и спросил, вправду ли Тейтр хотел бы остаться в Англии, навсегда.
— Да, — отвечал Тейтр.
Но все же досадно ему, что Гвендолин не рожает детей. А спустя несколько месяцев он объявил ей, что ее сын Олав вообще-то его, Тейтров, сын и пусть она скажет мальчику об этом.
— Как прикажешь тебя понимать? — спросила она.
— Скажи ему, что я его отец, — нетерпеливо выпалил Тейтр.
— Так ведь это неправда.
— Он этого не знает. Я здесь уже без малого два года и вполне мог бы здесь находиться при жизни его отца.
Гвендолин в жизни ничего подобного не слыхивала, так она ему и сказала. Но Тейтр твердил, что пришел к такому решению после долгих раздумий и другого выхода не видит.
— Вдобавок мальчонка куда больше похож на меня, чем на своих братьев, так что вполне можно считать его моим сыном. А ты больше не рожаешь детей.
Гвендолин не соглашалась: люди-то подумают, что она изменяла мужу, хозяину двух кораблей, а она себе такого не позволяла.
Тейтр ожидал подобных возражений и ответил, что, живя у нее, всегда был готов защитить ее честь, а теперь хочет посвататься, жениться на ней, тогда никто не посмеет судачить ни о ней, ни о нем, ни о детях, если, конечно, она не предпочтет, чтобы он уехал в Исландию, ведь какой ему смысл оставаться в Англии, раз у него даже сына здесь нет.
И Гвендолин сдалась.
Хотя Олаву не сказала ни слова. Тейтр терпел целую неделю, потом сказал ему сам:
— Ты мой сын, — и пристально посмотрел на мальчика.
Олав легонько улыбнулся, взглянул на него и ответил, что давно это знает. Тейтр так растрогался, что невольно спрятал лицо и возблагодарил Господа. В тот же день он попросил Геста пойти от него сватом к Гвендолин, она вдова и может сама принять решение, пусть Гест перечислит ей сокровища, какие Тейтр скопил за годы, проведенные вместе с Хельги, все это добро он принесет в семью, и в конце концов оно достанется Олаву, их сыну. Двум другим мальчикам Тейтр будет опекуном.
Гвендолин дала согласие.
В Англию и правда пришел мир. И народ поверил в него, начал привыкать к нему и даже наслаждаться им, кое-кто даже поговаривал, что датский король лучше истинного англосакса наводит в стране порядок. К тому же Кнут сдержал многие из своих обещаний, данных церкви, витану и народу, отстраивал монастыри, храмы и города, раздавал привилегии и земли, издавал законы, сделал богатыми иных из прежних бедняков, с большим шумом порушил остатки Адальрадовой системы управления, посадил всюду своих людей, причем отнюдь не только датчан, многие из бывших его противников тоже удостоились доверия и почета, от какого у большинства гордыня взыграет.
Однако ж затем он внезапно обложил народ данью наподобие «датских денег», которые в не столь уж давнем прошлом выплачивались грозным северным владыкам морей, и твердой рукою собрал оную, целых семь тысяч двести фунтов серебра выложила Англия да еще больше одиннадцати тысяч фунтов — строптивые лондонцы, что привело к беспорядкам и яростным протестам, пока не выяснилось, что эти сумасшедшие деньги нужны Кнуту, чтобы распустить войско, избавить народ от орды недисциплинированных вандалов, и в первое же лето он отослал домой в Данию большую часть своего флота, вот как надежен был мир.
Архиепископ Кентерберийский Лейфинг отправился в Рим заручиться для Кнута папским благословением, Вульфстан же сделался ближайшим советником короля. И опять пожелал иметь Геста подле себя.
Но Гест опять сказал «нет», хватит с него хёвдингов и власти, равно и тех сторон оной, что благословлены церковью. Поведал архиепископу о том, как при Ашингдоне сидел на дереве, и о так называемом побеге, приведшем его всего-навсего обратно в Йорк, где ярл рано или поздно его найдет, так бывает всегда.
— А чем плохо быть человеком ярла? — заметил Вульфстан.
На сей счет у Геста были сомнения: что хорошего, когда не можешь уйти.
Однако перед расставанием ему хотелось попросить архиепископа кое о чем: когда этой весною торговые корабли снова начали ходить в разные страны, Гест надумал написать своему старому другу Кнуту священнику в Нидарос и хотел, чтобы Вульфстан поставил на письме свое имя, это произведет впечатление на датского клирика, который учился в Англии и знал Вульфстана по имени и в лицо со времен Эли.
Вульфстан ответил, что с удовольствием выполнит его просьбу.
Гест уснастил послание памятными выдержками из своих путаных бесед с Кнутом, в кратких словах поведал об английском походе, о недавно заключенном мире, а особенно о новых своих друзьях в английской церкви и отослал его с норвежским торговым судном, которое отплывало из Гримсбера теплым и тихим днем на исходе лета.
Вместе с Тейтром и маленьким Олавом Гест поехал туда, торжественно вручил кормчему письмо в деревянном ларчике и щедро заплатил за доставку через море и за то, чтобы кормчий передал его непосредственно адресату, и больше никому.
Когда же они стояли на песчаном берегу, глядя, как корабль скользит по штилевому морю, Гест вдруг осознал, что мысль отправить это письмо родилась не только из его воспоминаний о старом нидаросском друге, но шла и от человека рядом с ним, от Тейтра, который нынче захватил с собой лук, тот самый, что они когда-то смастерили в Оркадале, а вдобавок, словно по волшебству, обзавелся сыном. Ведь у Геста тоже был сын, на севере Норвегии. Или даже два сына, если он верно истолковал Эйвиндов рассказ, поэтому его жизнь в Англии лишена того огромного внутреннего покоя, какой присущ Тейтровой. Тейтр нашел здесь дом, впервые, а Гест удовольствовался чем-то похожим на тепло, запомнившееся ему по первым йорвовским годам, но все это хрупко и бренно, как детство.
Кстати, по возвращении из Ашингдона с Гестом произошло кое-что еще — рана на плече почти закрылась.
— Море такое большое, — сказал Олав.
— Да, — кивнул Гест и взглянул на Тейтра. — Есть у моря конец?
— Море — это путь, ведущий во все стороны, — сказал здоровяк, широко улыбаясь.
— Ты умеешь плавать? — спросил Олав, который уже говорил по-исландски не хуже отца. Тейтр взъерошил ему волосы, спросил, в своем ли он уме, скинул одежду, пробежал по бесконечному песчаному пляжу и исчез в медлительных волнах прибоя. Они смотрели ему вслед.
— Он пропадет, — сказал Олав.
— Нет, — сказал Гест и вдруг вспомнил, что как-то раз Тейтр говорил ему, что не умеет плавать, потому, дескать, и не сбежал, когда они с Хельги сыном Скули обогнули Агданес; и Гест вновь задумался о том, почему так и не допытал Тейтра про нож, который ему дал Клеппъярн. Только ли Клеппъярн велел Тейтру разделаться с Гестом, если не удастся выдворить его из страны? Или за этим отчаянным приказом стояла и его родня, Торстейн, Хельга, стремившиеся защитить себя и тех, кому жить в Бё?
Между тем Тейтр появился снова.
Олав торжествующе поднял взгляд на Геста и сказал, что, когда вырастет, купит себе корабль, переплывет море и завоюет Исландию, вместе с отцом. Гест согласно кивнул: хорошая мысль, так исландцам и надо.
Гест
Едва ли не завершающим свидетельством наступления мира стало прибытие на север Эйрика ярла, почти два года минуло с того дня, когда он впервые вступил в Йорвик; прибыл он вместе с сыном Хаконом и супругой Гюдой, которая большей частью находилась в Ноттингеме.
Но в этот ветреный зимний день в Нортумбрию явился не триумфальный кортеж, ярла сопровождало немногим более сотни людей, выглядел он очень усталым и к народу вышел лишь через две с лишним недели.
В своем обращении он сказал, что вернулся, дабы править в Нортумбрии справедливо и великодушно, и вовсе не намерен становиться вторым Эйриком Кровавой Секирой. Но прежде всего он хочет отпустить тех из своих воинов, что желают воротиться в отчий край, в Норвегию. Правда, тут им придется идти на риск, ведь страну собрал под своею рукой новый конунг, Олав сын Харальда, который вряд ли предложит старым хладирским воинам особенные условия, однако Эйрик предоставит им необходимое количество кораблей и никого принуждать не будет. Те же, кто предпочтет остаться, могут рассчитывать на полную его поддержку и помощь во обеспечение достойной жизни в новой стране.
Во время этой первой встречи с войском ярл вообще не коснулся самого жгучего вопроса: намерен ли он создать новый флот и отвоевать Норвегию, ведь теперь тыл у него защищен и нехватки в средствах он не испытывает.
Эйрик держался так, будто этот вопрос не существует или будто Олав сын Харальда не более чем рой назойливых мух, который можно прогнать нетерпеливой рукою.
В таких обстоятельствах свыше половины хладирских воинов предпочли остаться. Им Эйрик дал землю и деньги, другим же — восемнадцать кораблей, которые в течение весны покинули Хумбер, а сам погрузился в планы паломничества в Рим, поскольку сложности, опять потихоньку намечавшиеся на севере ввиду неопределенности границ с Шотландией и сумасбродства тамошнего короля Малькольма, можно считать частью мирной жизни.
Той зимою Гест не видел ярла. Он держался в стороне от замка и дружины, а ярл чуждался монастыря и церкви и вроде как забыл про Геста.
Однако ближе к середине лета прямо в город вошел по реке норвежский корабль, торговый корабль с грузом кож, стекла и медной посуды. Кормчий сошел на берег, отправился прямиком в церковь Святой Троицы и сообщил, что привез письмо архиепископу. Но Вульфстан находился при Кнуте, и кормчего проводили к ярлу. А немного спустя трое дружинников явились в монастырь за Гестом и Обаном — Эйрик желал говорить с ними.
Их препроводили в тот самый зал, где ярл в начале похода принимал побежденных противников. С той поры Гест здесь ни разу не бывал, и снова ему подумалось о том, почему он так и не сбежал, ибо стужа вернулась, как только он увидел глаза ярла, которые впились в его собственные и полностью ими завладели.
Ярл был один, короткостриженые волосы поседели, стали почти белыми, двигался он по-прежнему гибко, пружинисто, но исхудал, в облике и жестах сквозила угловатость.
— Чем же занимается маленький исландец? — без предисловий спросил он.
Гест заметил, что ярл потерял один зуб и слегка шепелявит, отчего кажется более миролюбивым.
— Пишу, — отвечал Гест.
— Значит, ты умеешь писать.
— Да, теперь умею.
Он увидел на массивном дубовом столе деревянный ларчик с открытой крышкой, свой собственный ларчик. Ярл деловито кивнул.
— Письмо пришло, — сказал он. — На имя архиепископа. Но Даг говорит, оно для тебя. Можешь перевести мне его?
Гест подошел к столу, вынул из ларчика пергамент, развернул и сперва невольно улыбнулся, но тотчас почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы при виде неровного почерка Кнута священника, буквы у ученого датского мудреца выходили кривые, неустойчивые, и латынь его была не из лучших, но писал он о теплых ветрах, что наконец-то принесли на север лето, а пришли они с новым конунгом, который оказался истинным вершителем христианских заветов Олава сына Трюггви. При желании Кнут священник мог бы служить мессы прямо на улице, и скоро у него будет новая церковь, куда больше прежней, возводят ее на том же месте, вдобавок сердце его исполнено ликования, что Господь может видеть все это и прочесть Гестово письмо, исторгшее слезы из подслеповатых клириковых глаз, — ведь Гест не только жив, он друг самого Вульфстана. Далее следовало путаное экуменическое изложение одного из давних сокровенных помыслов Кнута: он мечтал служить при архиепископе в Кантараборге, или лучше в Йорвике, а еще лучше в Бремене… Ярл быстро наскучил этими рассуждениями и перебил Геста вопросом, вправду ли он читал, что там написано, а не совершенно другое.
— Я читал, что написано, — сказал Гест.
— Не верю я тебе, — произнес ярл и взглянул на дрожащего Обана, стоявшего рядом. — И от священника дружины пожалуй что проку не будет. Ступай приведи Гримкеля.
Обан исчез и вернулся с аббатом монастыря. Ярл приветствовал его и попросил перевести письмо. Гримкель изложил то же самое, что и Гест. Ярл поблагодарил и жестом отпустил его, потом сел и надолго умолк.
Свечерело. Гест с Обаном смиренно стояли, глядя на ярла, который сложил руки на животе, вытянул ноги и вроде как задремал.
— Вода в реках высоко стоит? — неожиданно спросил он.
— Да, высоко, — ответил Гест. — Дождей выпало много.
— Что ж, тогда скоро в город доставят дар, — сказал Эйрик. — От Гюды.
Он кивнул на ларчик и пергамент, сделал Гесту знак забрать то и другое и исчезнуть.
Дар оказался органом. И прислан был не только Гюдой, но и Вульфстаном. Доставили его на двух плоскодонках, выгрузили на берег, перенесли в церковь Святой Троицы, где пятеро франкских мастеров установили его под неусыпным надзором нетерпеливого ирландского монаха, который всю свою взрослую жизнь служил органистом в Руане и тоже был «подарком», от нормандского герцога, брата королевы Эммы, — словом, глазам изумленных обитателей Нортумбрии медленно, но верно открывалось поистине великое чудо.
Звали органиста Давиддом, но он предпочитал полученное при крещении имя Климент, и в тот день, когда Климент впервые поднял свои гибкие руки и, точно голубиные крылья, уронил их на клавиши, трепет пронизал тысячи слушателей, собравшихся в празднично украшенном храме и возле него, и Гест снова испытал огромное потрясение, подумав о том, что Господь даровал ему аж двух сыновей там, в Норвегии, и столь же прекрасную жизнь здесь, по другую сторону непреодолимого моря. Тейтр тоже посерьезнел и словно бы растерялся, стоял, оборотясь лицом к низкому пасмурному небу и положив руку на плечо своего девятилетнего сына.
Еще полгода ярл провел в уединении, не выходя из замка. Бог весть, чем он там занимался, а теперь вот снова призвал к себе Геста и в первую очередь хотел поблагодарить за советы, которые Гест давал ему, особенно в ходе замирения. Гест недоуменно посмотрел на него.
— На тебя опять напала давняя хворь? — спросил ярл, буравя его взглядом.
— Человек не может быть сразу в двух местах, — пробормотал Гест как в тумане.
— Верно, — буркнул ярл. — Но ты-то, уж точно, способен разом и спать, и бодрствовать. Вдобавок ты забываешь все, что тебе не годится.
Геста охватило леденящее беспокойство, он опустил глаза, потом вдруг спросил:
— Где Эдрик Стреона?
— Об этом мы сейчас говорить не будем. Я хотел обсудить другое…
— Ты убил его… — Геста осенила догадка. — Убил тем мечом, который подарил ему здесь, в Йорвике, а случилось это в Лондоне, на прошлое Рождество. Голову Эдрика ты приказал насадить на кол, а затем предал казни сорок самых преданных ему людей, верно?
— Да-да-да, — раздраженно бросил ярл, будто тема эта давным-давно исчерпана и забыта. Сейчас его интересовало мнение Геста касательно распри меж здешним женским монастырем и одним из его прежних оруженосцев, который надругался над монахиней, опекавшей в Йорвике детей-сирот. Может ли Гест пособить ему в этом деле?
Гест покачал головой.
От имени настоятельницы дело вел Гримкель, с досадной настырностью, произносил длинные тирады о таких понятиях, как защищенность и безопасность, не только для служителей церкви, но для всех, для бедных и богатых, а особенно об ответственности, каковая лежит на властителе, коли он питает надежду слыть справедливым.
Эйрик предложил убить оруженосца, но Гримкель убийства не желал, он хотел справедливости в гражданском порядке. А виновник, парень лет двадцати, из темных лесов суровой ярловой родины, не понимал ни что натворил, ни как ему себя вести, подобно слишком многим в этом сборище варваров, которые, судя по всему, не уразумели, что война кончилась.
Сама ситуация Эйрику была не в новинку. Новым было, что истец не желал осуществить свое законное право. И его до крайности раздражало, что Гримкель, ученый и настойчивый клирик, ярлов земляк, не умел ему этого объяснить, лишь непрерывно красовался и блистал своими рассуждениями, а вдобавок привлек на свою сторону Гюду, чем вконец взбесил Эйрика.
— Что думаешь по этому поводу? — спросил он Геста.
Ярл сам зашел в скрипторий, где Гест выводил одну из Вульфстановых молитв на алтарном образе, который вырезал своими руками.
Гест словно и не слышал вопроса.
— Пятнадцать лет в Норвегии был мир, — сказал он. — Все годы, пока ты сидел в Хладире. Гримкель хочет, чтобы и здесь было так же, хочет, чтобы люди могли безопасно ходить по улицам, вот и все.
Эйрик бросил взгляд на алтарный образ, одобрительно кивнул и заметил, что от этого ответа мало проку.
— Верно. Потому что мне кажется, ты и без моих советов знаешь, что надобно делать.
— Так или иначе завтра ты едешь с нами. Я сказал! — грозно бросил ярл.
В тот вечер Гест бродил по Йорвику, смотрел по сторонам, не то проверял, знает ли его, не то старался запечатлеть в памяти, будто ему предстояло навсегда покинуть город. В Бё он этого не сделал, но не забыл в Нидаросе, в Хове, в Хедебю… А наутро, как велено, явился к Дагу сыну Вестейна, который созвал всю дружину, вместе со всеми вскочил на коня и отправился в путь.
Ехали долго. Ярл скакал впереди. Остановились у обширного луга на окраине Тадкастера, где четыре года назад принимали капитуляцию Ухтреда.
Ярл шагом подъехал к раскидистому буку, забросил на сук веревку, сделал на ней затяжную петлю, оставил болтаться возле своей головы, а сам обратился к дружине с речью, сказал, что привел их сюда, подальше от чужих глаз и ушей, чтобы не навлекать на них позор, хоть, может статься, они того и заслуживают, ведь один из них обесчестил в Йорвике монахиню, а норвежский закон однозначно гласит, что силой принудивший женщину к соитию обязан заплатить за эту мерзость полную виру, в худшем же случае его объявляют вне закона.
Назвал он и ряд других проступков, совершенных воинами, которые сидели на конях и смотрели на него, сказал, какое наказание предусмотрено за них законом, и в заключение провозгласил, что они теперь находятся не в Англии, не в чужой стране, которую должно разорять, жечь и завоевывать, они в Норвегии, в своем родном краю.
Ярл перевел дух и осведомился, не хочет ли кто-нибудь что сказать, к примеру в свою защиту. Все молчали. Ярл повторил вопрос и еще раз подчеркнул, что они не в Англии, а в Норвегии. И тут кто-то спросил, зачем он повесил на дерево петлю.
Эйрик запрокинул голову, посмотрел вверх, будто затем, чтобы выяснить, куда это может привести, — посмотрел сквозь листву в облака, потом перевел взгляд на дружину и усмехнулся:
— Она будет висеть тут.
За все время он ни словом с Гестом не обмолвился.
Но на следующий день Эйрик опять пришел в скрипторий и позвал Геста выйти на улицу, принять дар, от имени Гримкеля.
— А сам он разве не может? — спросил Гест.
Гест вышел на улицу и увидел двух ярловых слуг-свейнов по сторонам нарядной четырехколесной тележки. Сверху она была покрыта тканым нежно-зеленым ковром, похожим на бархатно-мягкую траву, а на ковре стоял плоский черный ларец, окованный золотом. По знаку ярла Гест шагнул к тележке, поднял крышку ларца — внутри оказалась огромная книга. Он открыл ее и прочитал: «Biblia sacra».[118] Слова эти были выведены почерком еще более красивым, чем даже Вульфстанов, до того красивым, что он мнился поистине неземным.
— Это книга, — сказал ярл.
— Вижу. И переписана она в Клюни.
Ярл кивнул. Гест перевернул еще несколько страниц.
— Откуда она у тебя? — спросил он.
Ярл с досадой посмотрел на него.
— Я заплатил за нее две сотни серебром, — ответил он. — В Кантараборге. Она принадлежала одному из бургундских монастырей.
Гест поблагодарил от имени монастыря, он был так потрясен, что едва не лишился дара речи, ему чудилось, будто затылок буравит воспаленный взгляд Кнута священника: как бы его старый друг воспринял такое? Поди, умер бы от восторга. Сделав над собою усилие, Гест закрыл ларец, положил руки на крышку, перевел дух, нутро словно стиснула горячая рука.
— Э-эй!.. — Ярл попытался привести Геста в чувство. — В том письме, которое ты получил из Нидароса от друга своего, Кнута священника, вроде бы говорилось о новой церкви, что строится на месте старой…
— Да, а что? — спросил Гест, поскольку ярл умолк.
— Ты, случайно, не знаешь, какова судьба колокола, который я в свое время даровал Кнуту священнику?
Гест улыбнулся.
Хмуро глядя в землю, Эйрик осведомился, не может ли Гест написать еще одно письмо, насчет доставки оного в Нидарос он сам позаботится. Очень ему любопытно узнать, не висит ли его колокол на звоннице храма, возведенного новым конунгом, ведь это означало бы, что он обратит в христианство неверующий народ, его, ярлов народ, норвежцев?
Гест ответил, что напишет письмо, снова открыл крышку ларца, взглянул на искусный переплет, поднял книгу, всмотрелся в инициал, самый простой и чистый знак их всех троих: In principio creavit Deus caelum et terram…
Ни Эйрика, ни Хакона, ни Гюды Гест больше не видел, до самого Рождества, когда они слушали в церкви бурные пассажи Климентова органа, присутствовал там и Вульфстан. Затем ярл снова исчез, на сей раз не заперся в своих покоях, а уехал из Нортумбрии, и не было о нем ни слуху ни духу, пока не настало пятое английское лето. В один прекрасный день пришла весть, что конунг Харальд Датский, старший брат Кнута, скончался, и Кнут отправился за море принять бразды правления отчим краем, дабы впредь именоваться могущественнейшим властителем на суше и на море.
Меж тем Эйрик и Торкель Высокий правили в Англии как его наместники.
Но Хакон и Гюда вновь водворились в Йорвике. И Гюда начала томиться скукой. Сын в отсутствие ярла правил Нортумбрией, обеспечивал справедливость, учился, с ревностной помощью Гримкеля. А Гюда скучала. И однажды вечером неожиданно встретилась Гесту на дороге в Рипон, где Тейтр годом раньше купил землю и обосновался хозяином вместе с Гвендолин, сыном и двумя пасынками.
Во всей своей ослепительной красе Гюда стояла перед ним на дороге, с черным жучком на шее, в сопровождении потной придворной дамы и одного-единственного стража, в летнюю жару они шли пешком, странновато, ведь Гест тоже шагал пешком, собирал растения, которые дают черную краску. В первую минуту Гюда удивилась, заметив его, будто и думать о нем забыла, но потом решила, что, быть может, он сумеет ее развлечь.
Однако ей хотелось говорить только об утрате брата, конунга Харальда, о церкви в Роскилле, о Хедебю. А Гесту это было не по душе, он видел датские города и знал, что при всей своей красоте они лишь бледная тень английских и что переезд из мест, где родился, в места, где находишься сейчас, преображает те и другие и заставляет людей тосковать, где бы они ни были.
Вдобавок всего-навсего неделю назад он получил второе письмо из Нидароса, в котором Кнут священник сообщал, что ярлов колокол вправду звонит в новой церкви, но ни слова не писал о том, что Гесту действительно хотелось узнать, — о жизни в усадьбе на далеком северном фьорде в Халогаланде. И он строго сказал Гюде, что негоже ей жаловаться да тосковать, надобно довольствоваться тем, что она имеет здесь, в Англии, незачем Бога гневить.
Гюда посмотрела на него с удивлением, пожала плечами, явно растерянная.
Они пошли дальше, Гюда по дороге, Гест обок, на расстоянии восьми — десяти шагов, а чуть поодаль за ними поспешали запыхавшаяся придворная дама и страж, который словно бы спал на ходу. Гюда долго молчала, не то переваривая обиду, не то желая, чтобы Гест раскаялся, но ведь он самый обыкновенный подданный, так под стать ли ей на него обижаться? И прежде чем он собрался с мыслями, приказала ему идти рядом, чтобы ей не приходилось кричать.
— Нет, — сказал Гест.
Она остановилась и пристально посмотрела на него, так что в конце концов он пристыженно опустил глаза и все же подошел ближе.
Гюда оглянулась на придворную даму и стража, велела им отвернуться, наклонилась, быстро поцеловала Геста в щеку и торопливо продолжила путь.
Гест устремился следом, хотел посмотреть, покраснела ли она, был ли это поцелуй, каким женщина дарит мужчину, или ласка матери, утешающей растерянного ребенка, но румянца не увидел, только отрешенную улыбку, и разочарованно шагал рядом, пока она не заговорила вновь, теперь о своем муже, о ярле. Гест набрался храбрости и сказал, что боится его.
Гюда вскинула голову и заметила, что среди знакомых ей людей один лишь ярл постоянно менялся: бывало, только подумаешь, будто знаешь его, а он уже совсем другой; раньше ей это нравилось, ведь она могла доверять ему, всегда, теперь же стало пугать, к тому же и перемены в нем прекратились, нежданно-негаданно, в не самый подходящий момент, словно он добрался до конца пути.
— Наверно, ему достаточно Нордимбраланда, — сказал Гест.
Гюда остановилась и долго с удивлением смотрела на него.
— Может, велишь им повернуться?
Она не сразу поняла, о чем он, но потом крикнула даме и стражу обернуться, а сама наклонилась и опять поцеловала Геста в щеку.
— Но это последний раз. И я желаю, чтобы отныне ты сопровождал меня в таких прогулках и рассказывал мне все, что знаешь, ведь ты умный ребенок. Как же я могла забыть тебя?
В самом деле, как она могла? Отныне Гест только и думал, что о ее коже, о тонких пальцах, о голубой жилке, просвечивающей на запястье, о веснушке над левым глазом, о волосах, похожих на блистающее черное пламя, — он думал о ней день и ночь, когда писал, спал, ел, молился. Однако на исходе осени она вдруг пришла к нему с недвусмысленной просьбой, более того — с четким приказом: ему должно отправиться с ярлом в Шотландию.
— В Шотландию? — удивился Гест. — Что ему там понадобилось?
К тому времени Эйрик, сложив с себя полномочия Кнутова наместника, воротился в Йорвик, с войском, состоящим из датчан, англосаксов и кельтов: сызнова вспыхнули разногласия с королем Малькольмом.
— Опять война? — воскликнул Гест. — Это выше моих сил.
Гюда рассмеялась, а он осерчал, это ее требование выглядело сейчас как подоплека всех их встреч, свело их на нет и привело его в ярость.
— К тому же ярл не желает меня видеть, — продолжал он.
— Как раз желает, — сухо бросила Гюда.
— Он даже не разговаривает со мной.
— Да нет же.
— Что я там буду делать?
— Ну уж это тебе самому решать, ведь, по-твоему, ему достаточно Нордимбраланда, вот и постарайся, чтобы он его сохранил.
Разговор этот происходил в монастырском саду, который годом раньше был отдан под его ответственность и которым он занимался с таким же тщанием, с каким выводил на бесценной коже священные письмена. После ухода Гюды он бродил средь поблекших осенних деревьев, размышляя о ее странных словах, более весомых, чем любые другие, и не в меру многозначных именно сейчас, ведь здешний сад так напоминал Гесту зеленые оазисы из рассказов погибшего Эйнара о Йорсалаланде, — плодородный островок в песчаном море пустыни. Гест достиг конца пути, цели своих скитаний, места, где он желал находиться. Завершившаяся война в Англии стала его собственной войной, оттого и мир был его личным делом, а слова Гюды предостерегали, что все это может опять исчезнуть, коли он не пожелает стать на защиту.
Тем же вечером он пошел к ярлу, попросил доложить о себе; некоторое время Эйрик заставил его мерзнуть за дверьми, однако встретил дружелюбно, тепло, сказал, что не ожидал увидеть его, и добавил, что за минувший год он вроде бы стал еще меньше.
Когда они сели, а слуг выпроводили за дверь, ярл заговорил тем же заинтересованным тоном, как в тот вечер целую вечность назад, при встрече в Тадкастере, когда Гест показывал ему свою рану, клеймо мести. Эйрик казался беззаботным, непринужденным, веселым, вытянул из Геста все, что можно, касательно опасной ситуации на севере, отпускал хитроумные замечания, на которые Гест либо отвечал, либо нет, — давняя, знакомая игра. Но Гест увлекся, чуть ли не загорелся. И ярл улыбался, хотя сразу посерьезнел и кивнул, когда Гест спросил, помнит ли он речь, произнесенную перед дружиной под Тадкастером, возле дерева с петлею-удавкой, ведь тогда он установил мир словом, а не оружием.
— Это были мои воины, — веско сказал ярл. — А Малькольм — наш враг.
— Нет, — возразил Гест. — Он враг англичан.
— Но теперь это наша страна.
— Как Норвегия?
— Нет, — немного подумав, ответил ярл. — Как кошель серебра. Большой кошель.
На это Гест ничего не сказал. Эйрик тоже молчал. Потом встал и произнес, что, как бы то ни было, Гест отправится с ним на север, с этой своей верой в силу слова, там-то и выяснится наконец, кто он на самом деле — вестник беды или вестник удачи. Последние слова он проговорил с кривой усмешкой.
Гест пропустил иронию мимо ушей — а что ему оставалось? — и сказал, что в таком случае хотел бы иметь рядом друга, Тейтра.
— Лучника? — спросил ярл, который знал Тейтра лишь по рассказам Дага и Хакона.
— Да, — кивнул Гест.
— Почему?
— Потому что я ему доверяю.
— Почему?
Гест рассказал о бегстве через всю Исландию и за море, о первом времени в Норвегии, о ноже, которым Тейтр не воспользовался, но позднее подарил Гесту на крестины. Ярл поразмыслил об этом, однако, по всему судя, Гестовой уверенности не разделял.
— Говорят, он всегда стреляет без промаха? — спросил он.
— Да, — улыбнулся Гест. — Говорят, он бы и луну с неба мог сбить, коли б ярл не запрещал, ярл-де любит луну, потому она до сих пор и на небе.
Эйрик тоже улыбнулся, вопросительно.
— Стало быть, здешний народ говорит, что я люблю луну и защищаю ее?
— Да.
Ярл помолчал, как бы смакуя это умозаключение, потом улыбка разом исчезла, и он буркнул:
— Вот вздор!
Настала зима, подморозило. Даже снегу чуток выпало, когда они наконец выступили на север, весьма и весьма крупным отрядом, что, по мысли ярла, обеспечит сговорчивость короля Малькольма. Через посланцев властители условились о встрече в Бамборо, чуть к югу от священного острова Линдисфарн и изрядно южнее реки Твид, то бишь на землях, которые по-прежнему контролировал Эйрик.
Но на пути через Берницию от Малькольма доставили новое послание, с вопросом, нельзя ли перенести встречу на север от Твида, например в Карем, где годом раньше состоялось большое сражение, сиречь на территорию, подвластную самому Малькольму.
— Нет, — сказал ярл. — Мы встретимся в Бамборо.
Он устремил взгляд на посланцев, спросил их имена и нет ли средь них кого из знатного рода.
Вперед выехал молодой мужчина с иссиня-черными знаками на левой щеке, сказал, как его зовут, какого он рода, и отвесил глубокий поклон. Эйрик тоже поклонился, а засим предложил обозреть его войско, пересчитать и запомнить число. После этого он подозвал к себе Дага сына Вестейна, который подал ему меч, тот самый, каковой ярл в свое время даровал Эдрику Стреоне и каковым позднее убил его. Этот меч Эйрик вручил молодому хёвдингу, а тот вынул клинок из ножен и с недоверием воззрился на сверкающую сталь.
— Скажи королю Малькольму, что это мой ему дар, — произнес ярл, — и он останется у него как знак дружества независимо от того, сумеем ли мы прийти к согласию или нет. Возвращайся немедля к твоему суверену и передай, что через два дня мы встретимся в Бамборо, а мой сын… — Эйрик обернулся к Хакону, — поедет с вами и будет заложником у короля Малькольма, от переправы через Твид на юг до возвращения через Твид на север.
Гест, сидя обок Тейтра прямо за ярловой спиной, увидел по лицу Хакона, что отцово решение было для него как гром среди ясного неба, и тотчас подумал: уж не этого ли опасалась Гюда? не этому ли он должен был помешать? Но и оглянуться не успел, а Хакон уже подскакал к шотландцу, поклонился, и они тронулись на север.
К назначенному сроку король Малькольм в Бамборо не явился. Прибыл тот же посланец (без Хакона) с известием, что шотландский король задержится на два-три дня, обстоятельства крайне неблагоприятны, реки вышли из берегов.
— Пусть собирает столько воинов, сколько хочет, так ему и скажи, — отвечал ярл. — Столько, сколько надобно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Тогда и Хакон тоже будет в безопасности.
Пять дней спустя шотландские силы окружили деревушку. Ведь Эйрик расположился не в замке, который стоял на скалах в море и который было удобно оборонять, но посреди скопления жалких домишек, в панике оставленных населением. Сам Малькольм въехал в деревню под охраной двух десятков воинов, кроме того, его сопровождали трое советников, женщина ослепительной красоты, монах и маленький мальчик, сидевший на лошади вместе с ним. Рядом скакал Хакон, живой-здоровый.
Король — мужчина в Эйриковых годах, с короткой, ершистой бородой, с волосами до плеч, одетый в темную кожу, — спешился, приветствовал ярла, приложив руку к сердцу, потом указал на монаха и женщину: это, мол, его дочь Беток и муж ее Кринан, аббат в Данкельде. А мальчуган — их сын, Дункан.
— У меня-то нет сыновей, — пояснил он. — Дункан — мой наследник, и разговор у нас пойдет о границах его Шотландии.
Эйрик поклонился. Малькольм обернулся к своей свите, произнес несколько слов, которых Гест не разобрал, после чего женщина с мальчиком и охрана удалились, остались только аббат, советники и Хакон.
Ярл пригласил их в дом, на стол подали напитки. На первых порах разговор шел о сражении при Кареме, где много Эйриковых воинов сложили голову. Так они более-менее нашли общий язык, и Малькольм сказал, что граница должна бы теперь проходить по Твиду. Эйрик оставил это без внимания, он в довольно туманных выражениях рассуждал о двух гордых народах, которым необходимо прийти к согласию, о Шотландии, которую донимали беспорядки на побережье, особенно на севере, где постоянно бесчинствовали оркнейские ярлы, а потому она заинтересована в прочном мире на юге, и в заключение сказал, что они непременно договорятся.
— Только ты сперва отведи свои войска.
Лишь немного погодя Малькольм уразумел, что это означает, хотя ярл повторил свою фразу несколько раз, с терпением, способным сокрушить камень. Минула полночь. Ярл наклонился над столом и указал на Дага, который все это время дремал возле двери:
— Это Даг сын Вестейна, моя правая рука, воевода и мой брат. Через два дня он вместе с войском отправится на север, к Твиду, ибо отныне станет властвовать Берницией. Он будет наблюдать за этой границей.
Малькольм кивнул и заявил, что нынешней же ночью отведет свои полки, что на южном берегу Твида есть деревушка под названием Норем, с мостом, там он через три дня встретится с Дагом.
Он бросил взгляд на зятя, аббата Кринана, тот легонько кивнул.
Эйрик встал. Они обменялись рукопожатием. Малькольм пошел было к выходу, но ярл остановил его и спросил, заберет ли он Хакона снова на север, до речной переправы.
Малькольм опять взглянул на аббата, который на сей раз покачал головой:
— Munera capiunt hominesque deosque.
Эту фразу Гест перевел, только когда шотландцы покинули деревушку:
— Дары смущают и людей и богов.
Ярл задумчиво посмотрел на него и спросил, что бы это значило:
— Имеет ли он в виду землю, которую я ему даровал, или меч? Или то, что сам дал мне, — мир и моего сына?
— Не знаю, — отвечал Гест.
Оставив Дагу большую часть войска, Эйрик в сопровождении восьми десятков человек — Хакон, Гест и Тейтр были среди них — поскакал обратно, на юг. Гесту казалось, он был свидетелем чуда. Но погода вконец испортилась, и в снежной круговерти он вдруг услышал крик и увидел, как Хакон машет рукой, — отец упал с коня. Ярл лежал в бурой болотной жиже, мелкие снежинки быстро засыпали волосы и бороду.
— Поднимите меня, — прошептал он. — Поднимите.
Его подняли, закутали в шерстяные одеяла, посадили на коня. Однако своими силами держаться в седле Эйрик не мог, пришлось его привязать, и он, точно тряпичная кукла, раскачивался из стороны в сторону, пока на рассвете они не прибыли в Дарем, где Хакон занял епископскую усадьбу и уложил отца в постель. Говорить ярл не мог, пищу не принимал, дрожал в ознобе и хрипел, точно умирающий.
Хакон попросил епископа найти лекаря, но в остальном держать язык за зубами, пока Даг не обеспечит на севере замирение, — молчать, если даже ярл умрет. Все следующие дни он сидел на табурете подле отца, Тейтр командовал караулом, а Гест с епископом сновали туда-сюда с горячей водой, питьем, дровами, исполняли поручения… И впервые разговор отца и сына шел о том, что прежде было под запретом, — о Норвегии. Хакон так и не отказался от мысли, что пресловутое обещание, которое он дал конунгу Олаву, ничего не стоит, ибо дано под принуждением.
Ярл же твердил, что никогда бы не стал давать Олаву обещаний, даже под нажимом.
— Я бы такого не сделал.
В этом было различие меж ним, Хаконом и шурином, королем Кнутом, меж тремя мужами, которые держали в своих руках судьбу Норвегии: ярл намеревался держать свое слово, несмотря ни на что, Хакон был готов нарушить обещание, данное в смятении, по опрометчивости или от слабости, а Кнут делал лишь то, что необходимо, и потому именно он, а не хладирские мужи освободит Норвегию, вот так устроен мир.
Гесту не удавалось прочесть по лицу Хакона его мысли, ведь Хакон уже не был юнцом, он походил на отца в расцвете славы, в те времена, когда Гест в лучах вешнего солнца стоял перед ними в Хладире и слышал, как срубили голову Рунольву, — и внезапно его осенило, почему он так и не распростился с этим княжеским домом: наверное, все дело в мести, она исподволь зрела в нем, хотя сам он этого не сознавал, месть была хитра и коренилась так глубоко, что ускользала от мысли, недаром ярл много раз на это намекал.
Потом он снова отметил, что у Эйрика недостает одного зуба, впрочем, с тем же успехом он мог бы лишиться и двух, и, успокоившись, опять сделался угодливым исполнителем разумных наказов Гюды. Но гонцов за нею не послали. Лишь в связи с этим ярл выказал неуверенность, как в тишине после Рингмарского сражения, он будто хотел защитить себя, и сын это понимал.
— Ты боишься умереть, — сказал он.
— Нет! — выпалил отец, пытаясь сесть. Но не смог. Взглядом он приказал епископу выйти вон, потом посмотрел на сына. — Да, боюсь. Теперь боюсь.
Он перевел взгляд на Геста и вскричал:
— А вот он боится всегда, хоть опасаться ему нечего!
Повисло долгое молчание. Потом Эйрик тихо проговорил, словно давая последнее напутствие:
— Если Кнут выразит недовольство замирением с Малькольмом, не защищай этот шаг, скажи, что так решил я, именно я, а не ты и не Даг. Обещаешь?
Хакон обещал. Гест с привычной для малорослого человека обидой отметил, что его опять как бы и не видят, и подумал: вот лежит мужчина, если он умрет, то оставит вдовой не кого-нибудь, а Гюду, мужчина, так и не узревший истинного Бога, но помышлявший о границе меж двумя странами, которая уменьшила его владения, мало того — изо всех сил старавшийся унести месть с собою в смерть, как давным-давно следовало бы поступить и ему.
Но ярл не умер. Больше месяца он пролежал в Дареме. Пока Даг сын Вестейна не закончил пограничные дела с шотландцами и не воротился на юг. Как раз тогда грянула одна из здешних оттепелей, которые случаются совершенно не ко времени. Ярл, седой, состарившийся, но с победоносной улыбкой на губах, сидел на шкуре возле епископского дома, глядя на бледное солнце.
— Пришлось мне отдохнуть маленько, — сказал он Дагу, который быстро соскочил с коня и бросился к нему. Ярл схватил его за руку и неуверенно стал на ноги. — Видишь, я крепок, как конь.
Три дня спустя они прибыли в Йорвик, где ярл был передан под опеку супруги и надолго скрылся из глаз окружающих. Лишь летом он появился вновь, причем выглядел на удивление бодро. Издалека. Вблизи было видно, что взгляд у него как мутная вода. Государственными и военными делами он тоже не интересовался, препоручил сыну и Дагу все то, с чем не справлялся Гримкель.
Ярла интересовали только вести с родины, которые он узнавал от купцов, священников и скальдов, что приезжали в Йорвик к нему на поклон, с дарами и прошениями. Он принимал их и терпеливо выслушивал, расспрашивал о новых порядках в Норвегии, был сдержан и неизменно отметал все призывы взяться за оружие. Эйрик ярл все для себя решил. Он сидел на своем месте, на юге и на севере царил мир, а умный человек затем и воюет, чтобы установить мир.
— И не думайте, будто я так говорю потому только, что состарился! — восклицал он.
Об этом Гесту рассказал встревоженный Гримкель, который полагал, что один только маленький исландец в состоянии вразумить ярла.
— Он просил меня прийти? — спросил Гест.
— Нет, — ответил Гримкель.
— Тогда я к нему не пойду, — сказал Гест.
За последние полгода он и Гюду в глаза не видел. Таинственное поручение, возложенное на него в Шотландии, было исполнено незримою дланью, которая не притязала ни на одобрение, ни на внимание. Однако наутро аббат явился снова, на сей раз с ярловым приказом. Гест пошел в замок, был впущен, но Эйрик встретил его с удивлением:
— Что тебе нужно?
— Гримкель сказал, ты хочешь говорить со мной.
Ярл стоял у окна. Теперь он опустился на лавку.
— Нет, я тебя не звал.
Гест собрался было удалиться, но ярл остановил его.
— Гримкель боится утратить свое влияние, когда я состарюсь и умру, — сказал он, — вот и хочет, чтобы ты меня вразумил.
Гест молча кивнул.
— Ты ничего не скажешь? — спросил ярл.
— Нет.
Ярл спокойно взглянул на него:
— Я не здоров и не болен. Так, серединка на половинку, и ничего поделать не могу. — Он вдруг вспомнил о чем-то и шевельнул длинными костлявыми пальцами. — Поди-ка сюда!
Гесту пришлось скинуть с плеч рясу, показать рану.
— Надо же, почти заросла, — удивился ярл.
Хочешь не хочешь Гест кивнул.
— Это Обан тебя излечил?
Гест пожал плечами: дескать, кто его знает, но Обан, пока был рядом, все время интересовался раной, пользовал ее травами, производил всякие загадочные манипуляции, в конце концов она стала зарастать — медленно, как взрослеет ребенок, — и вполне возможно, этому способствовали Обановы руки.
— А вот мне он помочь не в силах, — пробормотал Эйрик. — Больше года дневал тут и ночевал, но толку чуть. И на все мои вопросы отвечает одно: дело в том, что я не препоручил себя Господу.
Гест надел куртку и опять собрался уходить.
— Это оттого, что он боится. Как увидит тебя, руки у него дрожат и мысли путаются.
— Чепуха! — бросил ярл.
— Тебе следовало бы обращаться с ним так же, как с Гюдой и с Дагом, — сказал Гест. — Уважительно.
Ярл фыркнул:
— Больше тебе нечего сказать?
— Нет, — отвечал Гест.
От короля Кнута пришло цветистое послание, в котором он вопрошал, может ли племянник Хакон присоединиться к нему, направится ли он, Кнут, в Румаборг или будет готовить поход на Свитьод либо на Норвегию. И ярл без возражений отпустил сына, только обнял его, дал с собою дорогие гостинцы, поблагодарил и похвалил за все, что он совершил в Нордимбраланде и в конфликте с королем Малькольмом.
— Теперь ты можешь забыть все, что я говорил, и быть сам себе хозяином.
Но перед отъездом Хакон пришел в сад и спросил, не желает ли Гест сопровождать его, ведь он научился ценить исландца.
— Нет, — сказал Гест.
— Почему?
— Не знаю, — ответил Гест, и это была чистая правда.
Хакон задумался, потом спросил:
— Ты любишь моего отца?
— Да.
Хакон опять задумался:
— Он никогда не поедет в Румаборг, верно?
— Ни один из нас не поедет, только я не знаю, оттого ли, что он болен, или оттого, что не хочет. А может, по обеим причинам. Твой отец странный человек. Вроде меня.
Они сидели на каменной садовой ограде, болтали ногами, слушали жужжание первых насекомых. За цветущими деревьями виднелся город и крест на башне церкви Святой Троицы. Была весна, теплый вешний вечер. Неожиданно Гест кое-что вспомнил и спросил:
— Вы собираетесь завоевать Норвегию, прогнать конунга Олава?
— Да, — ответил Хакон. В этот миг он, как никогда, был похож на отца. Во всем облике ни следа рисовки и щегольства, ни дорогого оружия, ни золотых перстней, взгляд и осанка полны достоинства. — Да, — повторил он, словно отметая все сомнения.
— В Нидаросе, — сказал Гест, — у меня есть друг, он священник, из сторонников конунга Олава. За то время, пока я здесь, он прислал мне три письма, но уже почти два года от него нет вестей. Ты не откажешь мне, если я попрошу взять его под защиту, коли он еще жив? Он хороший человек.
Хакон сказал, что сделает все возможное, и вдруг добавил:
— Я помню его.
Они посмотрели друг на друга, улыбнулись. Потом Хакон полюбопытствовал, известно ли Гесту, что сталось с тем ножом, с Одиновым ножом, который он отдал Торгриму тогда, ночью, в Восточной Англии, и Гест рассказал, что при Ашингдоне нашел убитыми Гейрмунда и двух других исландцев, Торгрима среди них не было.
— А прошлым летом я получил вот это. — Гест достал затертый вкосник, ленточку, которую его мать некогда соткала для маленькой Аслауг и которую он теперь носил на кожаном ремешке, как прежде нож. — Ее привез исландский купец. Он сообщил, что Аслауг нож получила и что в Скагафьярдаре ей живется хорошо, но теперь она нуждается в моей помощи, она купила половину корабля для своего сына, ему уже пятнадцать, и он может отправиться в Норвегию, просить место в дружине конунга Олава.
— Его тоже надобно взять под защиту? — спросил Хакон, с отцовской суровой язвительностью.
— Нет, — отвечал Гест. — Это мать хочет отправить его в Норвегию, сам он хочет приехать сюда, помолиться в церкви, которую Кнут и Эмма построили под Ашингдоном, хочет увидеть место, где погиб его отец.
Гест умолк. Аслауг прислала ему еще и серебряную чарку искусной работы, вероятно как неопровержимое доказательство собственного благополучия, рассчитывая поразить брата, однако на Геста это произвело удручающее впечатление, частица беспомощного исландского благополучия, не идущего ни в какое сравнение с тем миром, в каком жил он сам.
— Чего же она тогда хочет? — спросил Хакон.
— Она хочет, чтобы я проводил его в Ашингдон, а потом уговорил оставить Кнута и Эйрика и перейти к норвежскому конунгу Олаву.
Хакон нахмурил брови:
— И ты это сделаешь?
— Нет. Иначе не стал бы тебе рассказывать. — Гест улыбнулся. — Я спросил у твоего отца, а он ужасно разозлился, велел приказать парню остаться, если он здесь появится, и в случае чего посадить его под замок.
— И что же, ты так и поступишь?
— Нет. Я вообще не стану ничего делать. И твой отец это знает.
Хакон задумчиво кивнул. За спиною у них солнце клонилось к закату, на монастырской стене напротив чернели две тени, высокая и низкая. Холодало. Они спрыгнули с ограды, зашагали через сад. Внизу было еще прохладнее. Наконец Хакон сказал:
— Как по-твоему, в том, что меня отзывают отсюда именно сейчас, есть некий подспудный смысл? — Он смотрел на яблоневый цвет, белыми снежинками слетавший на росистую траву и в тихий ручей, змейкой бегущий меж корявых старых корней.
Гест сказал, что не понимает вопроса и лучше Хакону в этом не копаться.
Они попрощались. Гест получил кожаный кошелек с золотыми монетами йорвикской чеканки (на одной стороне король Кнут, rex anglorum,[119] на другой — вороны Ландейдана) и добрый совет держаться ярла, оставаться при нем, что бы ни случилось.
— Ибо теперь я понимаю, что вас не разлучить.
Но когда Хакон ушел, Гест кое-что придумал. Конечно, он жил в безупречном мире, который не хотел покидать, но в этой безупречности кой-чего недоставало, и остаток нынешнего дня и весь следующий мастерил из дощечек от старых ящиков водяное колесо, насадил его на круглую спицу, а концы ее закрепил меж камней по берегам садового ручья. Колесо было почти такое же, как то, какое некогда сделал ему отец, только чуть побольше, и вертелось оно медленнее, потому что этот ручей тек неспешно. Странно, думал Гест, почему я раньше не догадался сделать колесо, ведь оно успокаивает, как тогда, в детстве, а еще думал о том, что когда-нибудь сюда придет Гюда, спросит, что это за штука и нельзя ли ее к чему-нибудь приспособить, а он скажет, что нет, просто на колесо приятно смотреть, и она с ним согласится.
Следующие несколько дней он мастерил скамейку, низкую, чтобы сидеть, не болтая ногами, возле водяного колеса и слушать журчащий голос Йорвы, хотя от детства его отделяло целое море; водяное колесо и шелест фруктовых деревьев — два его мира разом.
Но Гюда не приходила.
И это его огорчало, словно он не желал понять, что был всего лишь орудием этой загадочной женщины, которая соединила в себе двух других его возлюбленных, Ингибьёрг и Асу, соединила в существо более высокого порядка, сохранив при этом собственную неповторимость. Колесо вертелось день и ночь, а она не появлялась, даже не зашла спросить, как поспевают яблоки, хотя в минувшие годы никогда об этом не забывала.
Однако Гест снова увидел свои руки за работой, а тот, кто видел свои руки за работой, вечен и бессмертен, и он снова взялся резать по дереву, на досуге, когда не писал, и прежде всего сделал красивую спинку для скамьи, вырезав на ней тот же узор, что на фронтоне органа в церкви Святой Троицы. Потом он украсил резной каймою одну из лопастей водяного колеса и обнаружил, что она превратилась в живую змейку, которая увлекала его взгляд и мысли далеко-далеко. Пришел Обан, долго любовался колесом и змейкой, посидел на скамье и сказал, что теперь Гест, наверно, понял, как важно им было остаться в Йорке. Обан, конечно, не Гюда, но и он тоже ногами не болтал и сказал то, что нужно, то, чего Гюда, пожалуй, в конечном счете не сказала бы.
Исподволь в голове у Геста начал обозначаться другой вопрос, давнишний, коренящийся в боязни, что длиться вечно ничто не может, и сводившийся к тому, о чем они с ярлом говорили еще при первой встрече, к закону в душе человека, ведь мог ли ярл в самом деле — пусть даже состарившись и устав от жизни — не испытывать ни малейшего поползновения отомстить новому норвежскому конунгу и вернуть себе отчий край, неправда ведь, что он сидит здесь тихо-мирно?!
И когда однажды под вечер пришел Гримкель и сообщил, что Эйрик желает с ним говорить, Гест тотчас отправился в замок, чтобы получить окончательный ответ на свой вопрос: как ты сумел задавить в себе жажду мести? И ярл наверняка скажет: только силою воли. Потом он, вероятно, слегка усмехнется и добавит, что Хакон и король Кнут все равно отвоюют отчий край, умный человек обретает то и другое, и месть и уважение, поскольку слово свое не нарушает, не в пример глупцу, которому не дано ничего.
Но ярл не дал ему повода заговорить об этом, он полулежал в мягком кожаном кресле и повел речь о давних переговорах насчет мира в Шотландии, решительно заявил, как важно, что Гест запоминал все слово в слово, а главное, что добился соглашения именно он, ярл, а не Хакон.
Гест удивился давнему и совершенно никчемному упрямству, с каким все это было сказано, а потом на него вдруг снова нахлынула зимняя стужа, и он почувствовал, что его видят насквозь, неусыпно за ним следят, — неужто ярл знает, чем он занимался в монастыре?
Он покорно промямлил, что конечно же все помнит, но ярл не успокоился, пока он не пересказал все, сперва своими словами, потом ярловыми, особенно подчеркнув роль Хакона — неосведомленного заложника и все ж таки сына своего отца.
— Значит, Кнут не одобрил это соглашение?
— Нет, — ответил ярл, уже спокойнее.
— Он считает это предательством?
— Да, — сказал ярл и закрыл глаза в знак того, что аудиенция окончена.
Гест пошел восвояси, изнывая от нового беспокойства, в особенности загадочным знаком ему казалось то, что за все время в замке он ни разу не вспомнил о Гюде, а ведь был так близко от нее, только открой дверь и…
Вновь настало лето, как никогда знойное и душное, Гюда выходила со свитою в город, и Гест издали наблюдал за нею; в противоположность супругу, она была совершенно неподвластна времени, если не считать подушечки жира на шее, заметной на ярком солнце, но это Гюду не портило, она как была, так и осталась небесной гостьей на земле.
В город прибывали торговые корабли и купцы, ибо Йорвик процветал в мирном своем великолепии, приехал новый архиепископ, получил торжественную аудиенцию у ярла, проинспектировал монастырь — водяное колесо весьма похвалил, — послушал раскаты органа в церкви Святой Троицы. А в тот вечер, когда Гест вез из сада первые осенние яблоки, он вдруг заметил знакомый силуэт впереди конного отряда, который аккурат спешился возле замка, — тяжелая ширококрылая птица опустилась на деревянную крестовину, вбитую в землю одним из приезжих. Это был Митотин, а возглавляли отряд Хавард и его брат Эйвинд, более не страдавший таинственной лихорадкой, но, как и все остальные, потный, красный, запорошенный дорожной пылью.
— Маленький исландец, — вскричал Хавард, поднял его с телеги, заключил в объятия и, судя по всему, не держал зла на ашингдонского «древолаза». И Хавард, и его брат были одеты и вооружены, как англосаксонские хёвдинги, и цвет лица у обоих изменился — серый оттенок исчез без следа.
— Мы прибыли повидать ярла, — сказал Эйвинд, хлопнув по ладони пергаментным свитком. — Но он, говорят, не принимает.
— Хворает он, — отозвался Гест и первым вошел в замок. В аванзале за столом сидел Гримкель и с превеликим усердием что-то писал, за спиной у него в углу спал единственный стражник.
— Он не желает, чтобы его беспокоили, — буркнул аббат.
Но Гест смело отворил дверь; ярл, лежа на столе, шепотом разговаривал с Обаном, которого призвал осмотреть гнойник в горле, мешавший ему глотать и говорить.
Гест шагнул ближе, сообщил о новоприбывших.
Ярл покосился на вошедших, сделал Обану знак удалиться, опять-таки жестом велел и Гесту выйти вон и прислать сюда Гримкеля: пусть послание переведет надежный человек.
— Кто не пишет, не будет и читать, — шепотом сказал он Гесту, с каким-то непонятным упрямством.
Гест вышел на улицу, где воины меж тем расположились в траве отдохнуть. Хавард развязал мешок, достал еду, пригласил Геста сесть и стал рассказывать, что два года провел в Норвегии, в Хове. С неизъяснимым трепетом Гест слушал рассказ друга о жизни в усадьбе на берегу Мера: старый Ингольв постарел еще больше, но правил своею отчиной с прежней хёвдингской суровостью, к великой досаде Сэмунда, и оба они были ярыми сторонниками конунга Олава.
Упомянул Хавард и о сыне Асы, мальчонке сравнялось семь лет, и Ингольв называл его теперь не маленьким трэлем, а маленьким конюшим, возможно, он и станет наследником, коли его не обставят двое сыновей Раннвейг, с которыми она воротилась домой, проведя четыре года в Халогаланде.
Гест не решился подробнее расспросить об Асе, о ребенке — растет ли тот как положено или маловат для своих лет, ласковый эпитет «маленький» несколько встревожил его, — и о Сандее; в глазах у него рябило, а Хавард засмеялся и сказал, что с охотою расскажет и больше, пусть Гест только попросит, — нравилось ему вить веревки из побратима. Пересилив смятение, Гест попросил. И Хавард не спеша поинтересовался, знает ли он, что у Ингибьёрг не одна усадьба, а две. Гест, как наяву, увидел перед собой эти две усадьбы у подножия гор, увидел мост через реку, который строил своими руками, когда Ингибьёрг, стремясь развеять печаль по мужу, решила соединить усадьбы в одну.
— Ну а теперь она надумала снова их разделить, — сообщил Хавард. — И одну отдать сыну своему Грани, который женится на той девочке, спасенной тобою в Хавгламе.
— На Стейнунн?
— Это которая старшая?
Гест кивнул.
— Да, на ней, — сказал Хавард. — А младшую она обещала одному из людей Харека, не помню кому… — Он легонько улыбнулся.
— И что же? — нетерпеливо воскликнул Гест.
— Вторую усадьбу она передаст младшему сыну, по имени Торгест. Он унаследует половину всего, чем она владеет, хотя отец его так больше и не объявился, не то бы усадьба досталась ему. Представляешь? Пусть даже он этого не заслужил…
Гест сумел улыбнуться, невзирая на липкую рябь перед глазами, хотел утереть потный лоб, ведь все это обрушилось на него в одночасье, два мира, которые даже в мыслях соединить невозможно, столкнулись, но вдруг сообразил, что уже не ощущает жаркой банной духоты, пот высох, обернулся инеем, глаза кое-что подметили, еще когда побратим устремился к нему в порыве искренней радости встречи. Хавард снова убрал еду в мешок, так к ней и не притронувшись, схватил Митотинову крестовину — испуганная птица взмыла в воздух, — продел в петлю за седлом. Тут Гест обнаружил, что остальные тоже не отдыхали, не закусывали, но ждали, готовые к отъезду; в этот миг из мощенного камнем перехода сломя голову выбежали Эйвинд и два его спутника и вскочили на коней.
Гест хотел спросить, в чем дело, отчаянно хватал ртом воздух, хотел крикнуть, что зря они так, ярл болен, стар и все равно бы скоро умер, но не мог вымолвить ни слова, хотел напомнить про Свольд, сказать, что понимал это и предвидел, более того — ожидал, и спросить, по чьему приказу они действовали — конунга или Ингольва, однако тут Хавард, резко поворотив вздыбленного коня, сказал, что их корабль стоит в Хумбере и они возвращаются в Норвегию:
— Навсегда. Я передам Асе поклон от тебя.
Гест не шевелился, не мог.
Хавард натянул поводья, сдерживая коня.
— Что бы ни случилось, — крикнул он, — знай, я рассказал тебе чистую правду, ибо я твой друг!
Он дал шпоры коню и поскакал вдогонку за отрядом. И вдруг Гест услыхал собственный пронзительный голос, перекрывший воркование голубей, топот конских копыт и шум купеческих повозок, солнечный свет и кровь в его жилах:
— Это ты убил Онунда!
Хавард резко остановил коня, повернулся и спокойно посмотрел на него через пустую площадь.
— Почему? — крикнул Гест в эту призрачную пустоту. — И почему ты не сказал?
Побратим легонько усмехнулся.
— Беги! — крикнул он. — Беги, маленький исландец!
В следующий миг отряд исчез. А Гест все стоял, глядя по сторонам и ничего не видя, город вокруг снова полнился движением, которое царило в нем с тех пор, как мир принес ему свободу. И тут Гест наконец побежал, бросил телегу и побежал назад, к монастырю, где Обан задумчиво сидел в тени под стеною и потягивал из кожаного меха вино.
— Они убили ярла!
Монах не понял, даже когда Гест повторил эту фразу и поспешил дальше, в келью, спрашивая себя, хочет он жить или нет, и по обыкновению не получая ответа. А руки его меж тем собирали вещи, это и был ответ, собирали оружие, серебряную чарку Аслауг, кошелек с золотом, подаренный Хаконом, серебряную змейку, что носил на шее Пасть, Тейтров нож и свою бесценную книгу. Потом он опять вышел наружу и тотчас увидел лицо Обана, на котором проступили мелкие морщинки, словно нити основы на изношенной ткани, открытый рот, умоляющий сказать, что это неправда. Увы, Гест не лгал.
— Это мы виноваты, — крикнул Обан. — Даг нас убьет.
— Нет, — перебил Гест. — Только меня.
Обан бросил взгляд на водяное колесо, скорчился, будто от судороги, но сразу же выпрямился, вид у него был как тогда, на дереве в Ашингдоне.
— Надо бежать, — крикнул он. — Надо…
— Нет! — снова перебил Гест, на сей раз непререкаемым тоном. — Даг знает, что ты здесь ни при чем. Он никогда не причинит тебе зла. Если ты не пойдешь со мной.
Он быстро расцеловал друга в обе щеки, выслушал новую порцию ирландских ламентаций и поскакал прочь из города.
Направился он в Рипон. Тейтр с сыновьями, проклиная жару, свежевал оленя. По лицу друга он сразу понял, что Даг сын Вестейна ни перед чем не остановится, чтобы найти убийцу ярла и разделаться с ним так, что смерть Транда Ревуна покажется детской забавой.
Здоровяк оставил работу, вытер руки, меж тем как взгляд его спокойно скользнул по каменным оградам вокруг усадьбы, по загону, где в тени бука дремали одиннадцать кобыл и вороной жеребец, по Гвендолин, которая медленно шла от колодца с двумя ведрами воды. Взглянув на Тейтра, она уронила ведра — муж ее не иначе как опять собрался в Исландию.
— Нет! — Она рухнула на лавку и закрыла лицо руками. Тейтр же не спеша, словно в полусне, продолжал размышлять и, наконец приняв решение, просто сказал, что должен переправить Геста за пределы страны.
Гвендолин вскочила и крикнула, что в таком случае ему надо взять с собой сына, Олава. Тейтра опять охватили сомнения. Он смотрел на двенадцатилетнего мальчика, стоявшего рядом, и никак не мог прийти к решению — коли возьмет его с собой, то непременно вернется, Гвендолин это знала.
Тейтр скрылся в доме, собрал вещи, снова вышел — Гвендолин стояла во дворе, со всеми тремя сыновьями, точно неприступная крепость; Тейтр велел старшим отвести Гестову лошадь подальше на пустошь и утопить в трясине, знаком подозвал Олава, тот просиял и вскочил в седло.
Они поскакали прочь, не оглядываясь. И не говоря ни слова.
Молчали до тех пор, пока не настала ночь. Тейтр с Гестом лежали у костра, слушая шелест листвы и ровное дыхание Олава, и тут Тейтр спросил, куда они отправятся. В Исландию?
Гест не знал. Он думал о тех двух местах, что жили в его грезах, — о Сандее и Йорве, и о двух женщинах, Ингибьёрг и Асе, окутанных пеленою глубокой печали и давным-давно соединившихся в его душе в одно существо.
— Двинем на север, — неуверенно сказал Гест. — В Катанес… На Оркнейские острова…
Тейтр не возражал, он любил Шотландию, там были горы, по крайней мере высокие холмистые кряжи, а возле Думбартон-Рока живет его друг, норвежец, с которым он познакомился под Клонтарфом. Гест спросил, где расположен этот Думбартон, а услышав, что на западном побережье, у Ирландского моря, спросил, не найдется ли у этого друга корабля или хоть челна на продажу, и Тейтр ответил, что это вполне возможно, ведь друг его — важный человек.
Однако полной ясности по-прежнему не было, хотя Гест и пытался объяснить, что произошло в Йорвике и почему.
— А ты терпеливый, — сказал Гест, поскольку друг не выказывал любопытства.
Тейтр буркнул, что не понимает, о чем это он, и вообще, пора спать, а завтра Гест снова станет самим собой.
Но Гест и назавтра был сам не свой, ночью ему грезилась Йорва, сожженная дотла, и теперь он решил держаться в стороне от дорог, так что через Стратклайд они двигались медленно. На другой день лошадь Олава сломала ногу, мальчик пересел за спину к Гесту, потом Тейтрова лошадь поранилась, и великану пришлось идти пешком. Ночевали все время под открытым небом, а когда раз-другой понадобилось спросить дорогу, переговоры вел Тейтр. Гест молчал, он размышлял — размышлял, глядя на отца и сына, которые смеялись и затевали игры, светловолосый смышленый мальчуган вправду походил на отца, а тот, конечно, уставал, но после нескольких часов сна вновь был бодр и, как заяц, бежал по верещатникам. Лето близилось к концу, когда они вышли к Клайду и на другой стороне искристого фьорда, прорезавшего пустынное западное побережье Шотландии, увидели скалы Думбартон-Рока. Гесту опять подумалось, что он добрался до конца пути. Снизу вверх он посмотрел на Тейтра, который казался совершенно невозмутимым, как в тот раз, когда они пересекли Исландию, а Тейтр сверху вниз посмотрел на него, с улыбкой, ведь перед ними раскинулся Клайд, гладкий, спокойный, две радуги сияли над ним в лучах заката, и он походил на ту исландскую реку, которую Гест не мог преодолеть. Тейтр сложил на траву оружие и мешок с вещами, скинул рубаху и сказал:
— Поплыву на ту сторону. Ждите здесь.
На следующее утро Тейтр вернулся с обшарпанной лодкой без паруса и лишь с парой весел. Судя по его лицу, что-то не так, подумал Гест. Но Тейтр ничего не говорил: мол, коли Гест молчит, то и он говорить не станет, ему ведь даже неизвестно, куда они отправятся, и ему это не по душе.
Гест по-прежнему молчал. Посмотрел на лодку, однако ж сесть в нее не попытался. Тейтр опустился на жесткий моренный песок, устремил взгляд на фьорд и его окрестности, потом признался, что друга своего не видал, зато потолковал кое с кем из исландцев и они сказали, что нордимбраландский ярл убит, коварно, из-за угла, в стране полный хаос — ищут убийц.
— Это всё? — спросил Гест.
— Да, — сказал Тейтр и, помолчав, добавил, что лодку он украл, а стало быть, лучше всего им поскорей отсюда убраться.
Они отчалили от берега, но свернули в первый же рукав фьорда — так решил Тейтр — и поплыли меж могучими синими утесами, а через некоторое время наткнулись на старого рыбака, который сидел на отлогом берегу, чинил сети, но человек этот понимал только Обаново наречие, так что они далеко не сразу выяснили, что за горой, у следующего фьорда, есть церковь, вот с тамошним священником им и надо потолковать.
Во время разговора старик то озабоченно косился на их утлую лодку, то, на всякий случай, поглядывал на небо — погода стояла изменчивая, — а уж потом кивнул на скалы.
Гест дал ему золотую монету, заодно всучил и лодку. Дальше они опять пошли пешком. Лил дождь. Заночевать пришлось прямо в горах. Тут только Тейтр обнаружил, что Гест вроде как что-то прижимает к животу, сидит и не то дитя укачивает, не то привычно старается унять какую-то боль внутри.
— Что там у тебя? — спросил Тейтр.
Гест опустил глаза, потом посмотрел на него и сказал:
— Книга.
— Библия?
— Нет.
— А что же за книга тогда?
— Моя книга. Я ее написал. Там записано все, что я видел.
Тейтр задумался:
— Так-таки все?
— Да, — сказал Гест, разжал руки, открыл книгу, устремил взгляд на пергамент, пробежал по строкам, рукопись была совершенна, буквы четкие, красивые, как у Вульфстана, даже еще красивее, потом закрыл книгу и снова прижал к себе. — Я думал, что помню все, но нет, у меня в голове протечка, я сплю, вижу сны и забываю, а вот теперь все здесь, на этих страницах, и никогда не исчезнет. Никогда.
Тейтр сломил несколько веток, бросил в костер, потом спросил, нельзя ли подержать книгу. Гест протянул ему ее. Тейтр взял книгу, взвесил на ладони, полистал и долго сидел в ожидании, что Гест что-нибудь скажет. Но тот молчал.
— Там что же, и про меня написано? — в конце концов выдавил Тейтр.
Гест улыбнулся:
— Не по душе мне море, не по душе лес, не по душе эта земля, я… — он сделал широкий жест рукой, — родом отсюда.
Тейтр хмуро захлопнул книгу, перебросил через костер. Гест поймал ее, снова прижал к животу. Немного погодя Тейтр спросил, не пора ли ложиться спать, с закрытыми глазами ему лучше думается, а сейчас аккурат надо о многом поразмыслить. Гест согласился: спать так спать.
На другой день они вышли к фьорду с церковью. Гест долго беседовал со священником, словно скрывать ему было совершенно нечего или словно он пришел в родной дом и хочет остаться. В конце концов Тейтр не выдержал:
— Куда же мы пойдем?
— На Святой Остров, — сказал Гест, чтобы священник не понял. — Ни в Катанес, ни на Оркнеи я не хочу…
Тейтр снова сказал, что Гест сам не свой. В тот вечер он опять завел речь о книге:
— Ты и про лук написал? Который мы мастерили в Оркадале?
— Да, — ответил Гест, чувствуя вроде как облегчение оттого, что все ж таки не стал расспрашивать друга про нож. — Много.
— Это как?
— Я долго думал о нем, пока писал, вот и получилось много.
Тейтр покачивался взад-вперед, и Гест догадался, что сейчас он задаст вопрос, который обдумывал целый день.
— А про Олава ты написал?
— Конечно. Я написал, что он твой сын.
Тейтр закрыл лицо руками и долго сидел так, потом опустил руки и улыбнулся:
— Мне по душе твоя книга.
Они заночевали в усадьбе у священника, утром их на лодке доставили к вершине фьорда, а дальше они опять зашагали пешком на север, так распорядился Тейтр, который упорно хотел в Катанес, домой в Исландию, им необходимо попасть домой.
Но Гест сказал «нет».
— У нас нет дома.
— Тогда в Норвегию, у тебя же в Норвегии два сына!
Гест остановился и воскликнул:
— Неужто тебе не понятно, что убийство ярла — это месть?! Она повсюду и никогда не перестает. Ярл это знал. Потому-то и отдал королю Малькольму то, что он хотел получить, и использовал собственного сына как заложника, чтобы защитить его. Теперь он унес месть с собой в могилу. А я должен унести ее с собой на Иону, потому что Даг будет искать меня везде, куда бы я ни скрылся, но он не должен найти меня в Норвегии, где живут мои сыновья, не должен найти меня, не должен… Во мне отрава, Тейтр, я болен и сею заразу, с тех самых пор, как мой отец… мой отец…
Он бессильно поник. Тейтр смотрел в пространство. Потом сдался.
— Ладно, — сказал он, помолчал и добавил: — Только ради твоей книги!
Они перевалили через еще один кряж, на запад, и спустились к очередному фьорду, который Тейтр переплыл, чтобы опять стащить лодку. Следующую горную гряду одолели за три дня, потому что Гест больше не мог идти, пришлось его нести, и Тейтр нес, а сынишка шел рядом, тащил оружие. Когда впереди наконец открылось море, над которым ползли низкие тучи, Гест вконец обессилел, и Тейтр, хочешь не хочешь, взял дело в свои руки. Захватив с собой золото, полученное Гестом от Хакона, он отправился в ближайшее поместье и сказал, что хочет купить корабль, за любую цену, а еще попросил рассказать, как добраться до Ионы.
Тою же ночью они отправились в путь, прошли меж островами прямиком в Ирландское море, погода была хорошая, с берега задувал слабый ветер, правда, то и дело принимался дождь, ненадолго переставал и принимался снова, так уж повелось в этом царстве воды и ветров, где путаются все времена года. Гест и Олав крепко спали, когда на рассвете Тейтр привел корабль в белую бухту на самом севере Ионы, единственного неземного места на земле.
Причалив к берегу, Тейтр пошел в монастырь, где как раз закончилась утренняя месса, вывел аббата за собою на росистый луг и воззрился на него воспаленными, красными глазами.
— Откуда ты, брат? — опасливо спросил аббат, глядя на здоровяка, который крепко стиснул мощные челюсти и скрипнул зубами, сжимая кулаки.
Призвали монаха, разумевшего по-исландски, Тейтр объяснил, в чем дело, и отвел их к кораблю, где Олав и Гест по-прежнему спали на корме.
— Мои сыновья, — сказал Тейтр и, разжав кулаки, обеими руками указал на них, будто на дивное диво.
— О ком из них ты рассказывал? — спросил монах.
— О нем, — ответил Тейтр, сгреб Геста со всеми одеялами и меховой подстилкой и отнес на траву.
— Вы можете о нем позаботиться? Он сущее дитя, но вообще-то святой и никогда не причинит вам зла.
Аббат и монахи вопросительно переглянулись, аббат кивнул.
Тейтр поблагодарил и хотел отдать им последние золотые монеты, но они отказались. Тогда он перенес на берег Гестовы пожитки, кроме оружия, положил с ним рядом, сунул книгу ему под мышку, потом столкнул корабль на воду и поставил парус.
Он обогнул мыс и пошел левым галсом, а потому не видел, как аббат выпрямился возле Гестова ложа и что-то крикнул, да и слов его не слышал, слышал только ветер и море. Правил Тейтр на юг, к острову Мэн. А оттуда взял курс на Ланкастер, там он продаст корабль, купит себе и сыну коней, и они поскачут назад, в Йорвик, единственное место, где Гест наверняка найдет его, если когда-нибудь передумает и ему потребуется помощь, чтобы добраться до Исландии, а может, до Норвегии, коли не сумеет он устроиться под деревом на Ионе.
Примечания
1
Бонд — свободный землевладелец, сельский хозяин. (Здесь и далее прим. пер.)
(обратно)2
Хёвдинг — глава большого рода и предводитель бондов своей округи.
(обратно)3
Вира — выкуп за убийство свободного человека
(обратно)4
Йорсалаланд — древнескандинавское название Палестины.
(обратно)5
Ярл — правитель области в Норвегии и Дании, представитель высшей знати, уступавший в социальной иерархии только конунгу.
(обратно)6
Берсерк — свирепый воин, который в боевом исступлении сокрушал все и вся на своем пути.
(обратно)7
Альтинг — всеисландское вече, учрежденное в 930 г. и ежегодно собиравшееся на Полях Тинга в юго-западной Исландии; там решались споры, вершился суд, заключались различные сделки
(обратно)8
Тингман — доверенный человек хёвдинга, при необходимости выполняющий на тинге его поручения
(обратно)9
Вик — селение в южной Исландии.
(обратно)10
Обычай требовал в тот же день объявить на ближайшем хуторе о совершенном убийстве, иначе убийство считалось позорным и убийца был не вправе откупиться вирой.
(обратно)11
Адальрад — английский король Этельред Неразумный (978–1016).
(обратно)12
Альвы — по древнескандинавским поверьям, духи природы.
(обратно)13
Годи — предводитель общины-города в Исландии.
(обратно)14
Вёлунд — волшебный кузнец в скандинавском фольклоре
(обратно)15
Исландия приняла христианство в 999-м или в 1000 г.
(обратно)16
Виса — простое строфическое стихотворение, обычно предназначенное для пения.
(обратно)17
Кеннинги — составные метафоры, зашифровывающие ключевые понятия скальдической поэзии, например дорога сельдей — море.
(обратно)18
Гои — в языческом календаре, сохранившемся в Исландии, месяц с середины февраля до середины марта.
(обратно)19
Нид — хулительные стихи.
(обратно)20
Эйрик, ярл, сын Хакона — правитель Норвегии в 1000–1015 гг.
(обратно)21
Марка — мера веса (216 г.) и одновременно денежная единица.
(обратно)22
Сикилей — древнескандинавское название Сицилии.
(обратно)23
Кнарр (кнорр) — морское торговое судно.
(обратно)24
Имеется в виду Эгиль сын Скаллагрима (Скаллагримссон; ок. 910–ок. 990) — величайший исландский скальд.
(обратно)25
Нидарос (Трандхейм) — старинное название г. Тронхейм.
(обратно)26
Хакон Добрый (Хакон Воспитанник Адальстейна) — норвежский конунг (ок. 945–ок. 960).
(обратно)27
Имеется в виду хладирский ярл Хакон Могучий, правивший Норвегией в 974–995 гг.
(обратно)28
Олав Трюггвасон (сын Трюггви) — норвежский конунг (995–1000); при нем Норвегия и Исландия официально приняли христианство.
(обратно)29
Свольд — островок, местонахождение которого неизвестно, в сагах сказано только, что расположен он близ берегов Вендской земли.
(обратно)30
Эйрар — берег в устье реки Нид.
(обратно)31
Бьёргвин — старинное название г. Берген.
(обратно)32
Миклегард — древнескандинавское название Константинополя.
(обратно)33
Драпа — хвалебная скальдическая песнь, отличавшаяся особенно сложной формой.
(обратно)34
Эйрик Кровавая Секира (ум. 954) — норвежский конунг.
(обратно)35
Имеется в виду Харальд Прекрасноволосый (ок. 848–ок. 931) сын Хальвдана Черного — первый единовластный конунг Норвегии
(обратно)36
Кассиан Иоанн (ок. 360–ок. 435) — основатель монашества и один из главных теоретиков монашеской жизни; двадцать четыре «Собеседования» посвящены различным предметам нравственного христианского учения.
(обратно)37
«О граде Божием» (лат.) — сочинение бл. Августина.
(обратно)38
«Церковная история» (лат.).
(обратно)39
«Жемчужина души» (лат.).
(обратно)40
Тавлеи — игра на доске, вроде шашек, популярная в древней Скандинавии.
(обратно)41
Вик — побережье Норвегии от Лангесуннсфьорда до Ёта-Эльва.
(обратно)42
Свитьод — древнескандинавское название Швеции
(обратно)43
Халогаланд — давнее название северной Норвегии.
(обратно)44
Серкланд — страна сарацин.
(обратно)45
Кровавый орел — позорная казнь у викингов: жертве рассекали ребра со стороны спины, поднимали их и выдергивали легкие.
(обратно)46
«Тёкк» означает «благодарность».
(обратно)47
Вальхалла — палаты Одина, куда вступают павшие в битве воины.
(обратно)48
Халльфред сын Оттара, по прозвищу Трудный Скальд, — исландский скальд, служил у конунга Олава сына Трюггви.
(обратно)49
Скули сын Торстейна — исландский скальд, внук Эгиля сына Скаллагрима.
(обратно)50
Халльдор Некрещеный — исландский скальд.
(обратно)51
Южные острова — древнескандинавское название Гебридских островов.
(обратно)52
Тренды — жители Трёндалёга, области в Норвегии.
(обратно)53
Румаборг — древнескандинавское название Рима.
(обратно)54
Вейцла — кормление, сиречь принудительное (для хозяев) содержание владетельного лица со свитой, а в данном случае — ратников.
(обратно)55
Свейн Вилобородый — датский конунг (ок. 986–1014), завоеватель Англии (1012 г.).
(обратно)56
Ран — в скандинавской мифологии: морская богиня.
(обратно)57
Евр. 5:5.
(обратно)58
Молиться — то же самое, что говорить (лат.).
(обратно)59
Лендрман — обладатель земельного пожалования от конунга, приносивший ему присягу верности.
(обратно)60
Одинов мёд — поэзия
(обратно)61
Смертельная вражда (лат.).
(обратно)62
Флокк — древнескандинавский скальдический стих без рефрена.
(обратно)63
Харальд Синезубый сын Горма — датский конунг (ок. 940–ок. 985).
(обратно)64
Не кара, но причина доставляет страдания (лат.).
(обратно)65
Вознесем сердца (лат.).
(обратно)66
Велик Ты, Господи, и премного славен (лат.).
(обратно)67
Орел — символ Бога.
(обратно)68
В начале сотворил Бог небо и землю… (лат.) Быт. 1:11
(обратно)69
Другие же просто поверят и никогда не поймут (лат.)
(обратно)70
Откуда это чудовище (лат.).
(обратно)71
Просветленный путь (лат.).
(обратно)72
Созерцательный путь (лат.).
(обратно)73
Имеется в виду св. Августин Кентерберийский (ум. 605) — бенедиктинец, архиепископ, просветитель Англии.
(обратно)74
Кантараборг — древнескандинавское название г. Кентербери.
(обратно)75
«Эйрик ярл дозволил нам воздвигнуть новую церковь» (лат.)
(обратно)76
«Перешел в нашу веру» (лат.).
(обратно)77
Драконьими головами украшали штевень боевых кораблей.
(обратно)78
По обычаю, скандинавы спали без одежды.
(обратно)79
Кнут Могучий — датский конунг (1019–1035), в 1016–1035 гг. был королем Англии.
(обратно)80
Хьяльтланд — Шетландские острова.
(обратно)81
Западные острова — Англия.
(обратно)82
Херсир — местный предводитель в Норвегии, рангом ниже ярла; первоначально мелкий племенной вождь.
(обратно)83
Хермод сын Одина — персонаж древнескандинавской мифологии, герой и вестник богов.
(обратно)84
Валланд — древнескандинавское название Франции.
(обратно)85
Хьяльтландец — уроженец Хьяльтланда, то есть Шетландских островов.
(обратно)86
Праздник всех святых (лат.).
(обратно)87
Противное [излечивается] противным (лат.).
(обратно)88
Олав сын Харальда (Олав Святой) — норвежский конунг (1016–1030).
(обратно)89
Гардарики — древнескандинавское название Руси.
(обратно)90
Флемингьяланд — древнескандинавское название Фландрии.
(обратно)91
Фюркат, Хедебю, Трелаборг — поселения и лагеря викингов на территории Дании.
(обратно)92
Клонтарф — место сражения 23 апреля 1014 г., когда скандинавские захватчики были разгромлены близ Дублина ирландцами под командованием верховного короля Бриана Бороиме; скандинавы потеряли шесть тысяч человек, однако Бриан и его сын пали в битве.
(обратно)93
Олдермен — представитель высшей знати в англосаксонском обществе, назначенный королем управлять широм, то есть графством.
(обратно)94
Альфред Великий — король Уэссекса (849–899).
(обратно)95
К сведению (лат.).
(обратно)96
Вероятно, имеется в виду король Уэссекса Эдуард Старший (ум. 924).
(обратно)97
Йорвик — древнескандинавское название г. Йорк.
(обратно)98
Святой Колумба (ок. 521–597) — ирландский миссионер, причисленный к лику святых.
(обратно)99
Нордимбраланд — древнескандинавское название Нортумбрии, англосаксонского королевства в Англии.
(обратно)100
…и Дух Божий носился над водою… (лат.); Быт. 1:2.
(обратно)101
Эгиль был захвачен в Йорке своим врагом Эйриком Кровавой Секирой (в то время правителем Йорка). Ночью, в ожидании казни, он по совету своего друга сочинил хвалебную песнь об Эйрике. Исполнив ее наутро перед конунгом, Эгиль получил разрешение уехать.
(обратно)102
Паллий — епископский плащ.
(обратно)103
Танет — остров в устье реки Стор, у берегов Кента.
(обратно)104
Я не карлик! (лат.)
(обратно)105
Орган (лат.).
(обратно)106
Здесь: он умирает (лат.).
(обратно)107
Хьёрунгаваг — залив, где Хакон ярл и Эйрик ярл сражались с йомсвикингами.
(обратно)108
Глубокая и пустая (лат.).
(обратно)109
Маюскул — прописная буква.
(обратно)110
В истории эта деревушка известна также под латинским названием Ассундун.
(обратно)111
Рагнар Лодброк — легендарный викинг, согласно сагам живший в IX в.
(обратно)112
И отделил свет от тьмы (лат.). Быт. 1:4.
(обратно)113
Кнутов мир (лат.).
(обратно)114
Имеется в виду Генрих II Святой, император Священной Римской империи (973–1024).
(обратно)115
И стал свет (лат.). Быт. 1:3.
(обратно)116
Имеется в виду «Церковная история народа англов» англосаксонского летописца Беды Достопочтенного (672 или 673 — ок. 735).
(обратно)117
«О добродетелях и пороках» (лат.) — трактат Флакка Альбина Алкуина (ок. 735–804), ученого монаха эпохи Каролингского возрождения.
(обратно)118
«Священное Писание» (лат.).
(обратно)119
Король английский (лат.).
(обратно)


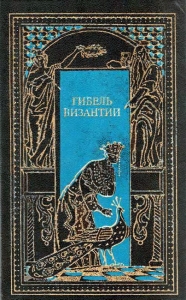
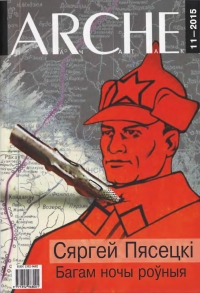



Комментарии к книге «Стужа», Рой Якобсен
Всего 0 комментариев