Владимир Коломиец Терское казачество. Вспомним, братцы, про былое
…Весьма от давних лет по Тереку реки жительство свое имеем, а каким случаем, по указу иль без указу, при котором государе сначала поселились, того за давностью сказать не можем…
(Из разговора гребенских казаков)Укрепление – это камень, брошенный в поле, дождь и ветер снесут его; а станица – это растение, которое врастает в землю корнями и понемногу застилает и охватывает поле…
(Из разговора горцев)Вместо предисловия Терские казаки… терцы!
Кто вы? Что за люди, сделавшие так много для России и оставившие такой заметный след в ее истории?
Согласно историческим сведениям первоначально в слово «казак» вкладывался социальный смысл: человек, по злой необходимости отделившийся от своего рода-племени, лишившийся своего скота, кочевой и потому ставший бродягой, скитальцем. От тюркского: бездомный, изгой, вольный человек. Уже в раннем Средневековье это название, не имея еще этнического наполнения, было поистине международным.
В «Словаре географическом Российского государства» (XVIII–XIX вв.) недвусмысленно подчеркивается преемственность этого социального явления на Руси: «Пока татары южными Российского государства странами владели, о российских казаках ничего слышно не было. Они начались уже по истреблении татарского владения в тех же местах, которые татарам подвластны были: ибо, как между татарами находились казаки, но и русские, заняв их жилища и приняв их обычаи, казаками были прозваны». И далее здесь же: «Везде появились казаки, и название сие сделалось общим всем конным войскам, легковооруженным, из платы служащим».
Историки терского казачества считают, что первыми поселенцами на Тереке были новгородские ушкуйники и рязанские казаки. Сначала в XIV в. появились новгородские ушкуйники – вольные дружины, которые, совершая походы на лодках (ушкуях), через Хволынское (Каспийское) море проникали в устье Терека и поднимались вверх. Женились они на женщинах из местных обитателей Кавказа и селились у «гребней» гор, при впадении Аргуна в Сунжу. В первой четверти XVI века через Дон и Волгу на Терек устремились рязанские казаки. После того как в 1520 г. рязанский удел отошел к Москве, «молодеческая» часть рязанского казачества, служившая там в качестве порубежной стражи, привыкшая к свободе и своеволию, поднялась с места и ушла на далекий Терек, к недосягаемому в то время для Москвы подножию Кавказского хребта, и поселилась там. Переселение казаков на Терек не оспаривалось ни кумыками, ни кабардинцами. Более того, прибывшей вольнице были предложены места по предгорьям. Казакам местность понравилась, рядом с рекой – лес, дальние гребни гор, и у подножья – ровные поляны, травы в пояс. Коси сено, паси скот, паши землю, сей хлеб. И безопасно – никакая царская погоня не достигнет.
Однако это укрывательство продолжалось недолго. Местное население очень страдало от посягательств на земли Кавказа со стороны крымских ханов и турецких султанов. Казаки не раз помогали соседям обороняться, но силы были неравны. Крымский хан и турецкий султан заставляли покориться Большую Кабарду, а Малой грозил Шамхал Тарковский. Казаки, видимо, и намекнули горским князьям попросить помощи у московского государя Иоанна Васильевича.
Первое посольство черкесских князей прибыло в Москву в 1552 г.
В 1555 г. в Москву отправилось посольство кабардинских князей. Существует предание, что с этим посольством в Москву прибыла и «станица» гребенских казаков, которых Иоанн принял милостиво, пожаловал «рекою вольною Тереком, от самого гребня до синя моря Каспицкого», велел им служить там свою службу государственную, беречь новую свою кабардинскую вотчину.
В 1557 г. в Москву прибыло посольство от старшего, наиболее влиятельного и почитаемого кабардинского князя Темрюка Идаровича с просьбой, «чтобы их государь пожаловал, велел им себе служить и в холопстве учинил». Просьба эта была уважена и закреплена в 1561 г. браком Ивана IV с дочерью Темрюка – Кученей, принявшей после крещения имя Мария.
В 1559 г. на Тереке появляются первые царские войска для защиты кабардинцев от Шамхала Тарковского. В 1563 г. в помощь царскому тестю Темрюку Идаровичу посылаются из Астрахани 500 стрельцов и 500 казаков и воевода Плещеев строит в Кабарде первый полурусский-полукабардинский город на правом берегу Терека, возможно, в Нижнем Джулате, на высоком мысу отрога Кабардинского хребта, возвышающемся над Тереком напротив бывшей станицы Пришибской (ныне г. Майский, КБР). В устье Сунжи строится военный город – Терка, который по требованию Турции в 1571 г. был оставлен. В 1577 г. там же, на Сунже, но в другом месте была построена вторая Терка. Турецкий султан потребовал оставить и ее, но она пустовать не стала. Ее заняли казаки Вольного Терского казачества. Этот год и стал официальным в рождении Терского казачьего войска.
Прибывали сюда и казаки поволжские. Попав в опалу и не желая терять свои вольности, они разбежались со своих мест. Существует предание о Ермаке: он ушел на север к Строгановым, одни ушли на Яик, а большинство – на Терек. XVII в. в истории края ознаменовался значительным притоком в терские станицы беглых крестьян из России. Бежали сюда, как в безопасное убежище, и представители кавказских народов – те, кому было тесно на родине, кого преследовали сами общества. «Все это были люди того же пошиба, что и русские вольные казаки», и поэтому последние легко с ними дружились и уживались.
Контактность казаков-терцев с местными северокавказскими народами сказалась как на антропологическом своеобразии и облике казачества, так и в характере материальной и духовной культуры населения казачьих районов. Влияние местных обычаев отразилось в убранстве дома, одежде, украшениях, некоторых бытовых традициях; куначество, свадебные обряды… Различное влияние на казаков прослеживается в области военного искусства: вооружении, военной тактики и стратегии, организации войск.
На первых порах для казачества большое значение имело государево жалованье, но с возрастанием роли земледелия росло значение земельных наделов, которые правительство жаловало казакам за военную службу. Рядом жалованных грамот правительства, особенно грамотой 1793 г., государство, выступившее верховным собственником земель страны, передавало земли казачьих общин им же в вечное пользование: казачьи общества или войска передавали землю в такое же пользование казачьим станицам, от которых уже казаки получали ее по паям. Так вместо денежных налогов за землю казаки начинают платить натуральный налог путем отбывания воинской службы со своим конем, оружием, амуницией. Казаки участвовали во всех войнах, которые вела Россия, и с честью исполняли свой долг защитников Отечества.
Часть первая
Глава I
Весна в тот год была ранняя. Уже в начале марта заметно пригрело и повеяло теплом. Вышло в полной своей красе сияющее солнце, и оставшийся местами снег стал рушиться и таять в его лучах, как сахар в кипятке.
Терек, всю зиму дремавший подо льдом, вдруг проснулся и шевельнулся с глухим ворчанием. Ровный, гладкий лед пронизали зигзаги темных трещин. Сверху, от истоков, побежала стремительно талая вода и, пробудив дремавшие силы реки, стронула из омутов рыбу.
Все пробудилось в природе при первом горячем дыхании весны. Беспокойно замычали коровы, забились в стойлах кони. Галки торопливо стали вить гнезда, собирая на дорогах клочья шерсти. Воробьи, вылетавшие из-под стрех, звенели как тысячи бубенчиков, словно подлаживаясь к весеннему звону, несущемуся из кузни, где спешно ремонтировался сельскохозяйственный инвентарь. С каждым днем звон этот, с приходом весны и тепла, становился громче и веселее. Но не все было так спокойно в станице. С тревогой прислушивались казаки к могучему дыханию реки, к глухим громовым раскатам трескающегося льда. Если детвора наслаждалась видом ледохода, то старики, поглаживая бороды и прикладывая руки к глазам, по старинным приметам старались угадать, как поведет себя река. А Терек так и рвался из-подо льда, стараясь оторвать его от берегов. И у всех была одна и та же мысль: «скорее бы сошел лед, и не наделала бед река, как бывало в прежние годы – хлынет буйным набегом в станицу, и радуйся». В один из таких дней по дороге, ведущей из Екатериноградской, люди заметили силуэты. Не то грачи или вороны прыгали по колеям, не то лошади обходят ямы и промоины. В солнечном мареве не поймешь. Как мираж. Ребятня побежала на курган, откуда лучше просматривалась дорога, а остальные продолжали гадать, стоя на месте. И вдруг из чьих-то уст вырывается: «Оказия»[1]. Все бы ничего. Оказии в станицы приходят каждую неделю, но сегодня ее никак не должно быть. Послали с сообщением к атаману.
В станице наметилось оживление. По улицам, то в одну сторону, то в другую, поскакали вестовые. У калиток стали собираться казаки и казачки, обсуждая, что за причина неурочного приезда оказии. Всех интересовал вопрос: кто же в ней едет? А потому, если взрослые, стоя в сторонке, наблюдали за происходящим у правления, то ребятня теснилась уже под самыми окнами атаманской канцелярии. Здесь в просторной комнате находился сам атаман Федор Иванович Кульбака, писарь Илья Олифиренко и несколько стариков-станичников. Писарь часто поглядывал в окно и сообщал атаману, что делается за двором. Атаман вел мирную беседу со стариками.
– Что-то оказия нынче не в срок? – спрашивали казаки один у другого.
– Да там, говорят, не оказия, а небольшой отряд, наши их уже встретили, – сообщил атаман.
– К чему бы это? – спросил писарь.
– Наверное, депеша[2], а может, еще что, – ответил спокойно атаман.
Вдали улицы показалась крытая коляска в сопровождении двух десятков казаков.
– Едут! – объявил писарь, выглянув очередной раз в окно.
Все насторожились. Разговор прекратился.
– Сейчас узнаем, что за причина, – сказал атаман и вышел из комнаты. В это время коляска остановилась у крыльца и из нее вышли двое офицеров. Младший, лет двадцати пяти, окинув взглядом вышедших и определив старшего, улыбаясь сказал:
– Здравствуйте, господа! Разрешите представиться: ротмистр Говорков – адъютант его превосходительства князя Воронцова. Генерал заночует в Екатериноградской, а завтра будет проезжать здесь. Примите соответствующие меры, – и он передал атаману запечатанный пакет.
Его открытое веселое лицо, любезность и простота обхождения понравились казакам.
– Разрешите представить моего спутника. Это офицер Его Величества Конвоя, – и он назвал фамилию, – знакомьтесь. Он везет списки отобранных им казаков в Конвой, наказному атаману.
Казачий офицер тоже понравился и атаману, и вышедшим с ним старикам. Лицо его было ни молодым, ни старым. Это было лицо много повидавшего в жизни, решительного и доброго человека. Оно не отображало ни жестокости, ни властолюбия, ни стремления полюбоваться собою или тем более намеренной иронией отнестись к встречавшим. Копна густых волос с редкими проблесками седины возвышалась над высоким лбом, еще совершенно свободным от морщин и складок. Серые с синевой глаза смотрели пытливо и прямо, губы были поджаты, отчего все лицо казалось несколько строгим.
Атаман пригласил всех в дом, где уже готовилось угощение.
– А это с дороги, – подал он гостям по бокалу вина.
– Не откажусь, – просто ответил адъютант. – О кавказском вине мне уже известно. – И он, не отрываясь, выпил весь бокал. Выпил и его спутник. После этого атаман объявил:
– Прошу за стол.
– Разрешите, я распоряжусь казакам, – обратился адъютант к атаману и, сделав необходимые распоряжения, вернулся в дом.
А казачата в это время все ближе теснились к дому, чтобы увидеть происходящее и услышать, о чем будут разговаривать в атаманском доме.
– Брысь отседова, – отгоняли их незлобно казаки-охранники, стоявшие у крыльца. Но те и не думали уходить.
– А кто это приехал? – спрашивали они.
– Кто кто? – дома батько расскажет, марш по домам.
А прибывшие с депешей казаки рассказывали на улице, что и в Георгиевск, и в Екатериноградскую прибывают офицеры-интенданты. Говорят, будут заготавливать сено, лошадей, сбрую. В связи с чем это, никто не знал, хотя понимали, что это неспроста. Вскоре по станице разнеслось, что завтра здесь будет проезжать наместник Кавказа князь Воронцов.
Михаил Семенович Воронцов был генералом Отечественной войны 1812 года. Это его гренадерская дивизия подверглась интенсивной атаке французов у Бородино. Гренадеры Воронцова ударяли в штыки, опрокидывая наступающие колонны. Воронцов сам водил их в эти кровавые схватки и возвращался с ними на место, не выпуская шпаги из рук и не переставая улыбаться. Атаками командовал сам Даву. При втором или третьем натиске французам удалось было вскочить в левую флешь. Но это был только момент. Сверкнули штыки. Лошадь Даву грянулась оземь, и маршала вынесли из свалки на плаще. Французы откатились. Потом замелькали другие генералы – Компан, Дессе, Ранн. Они сменяли друг друга, обливаясь кровью. Наконец, унесли Ранна, высокого и черного, нещадно ругавшего свою двадцать вторую рану. Воронцов огляделся. Боже, как мало осталось у него гренадеров. Сердце его сжалось. Между тем огромные французские колонны катились на них, как морской прибой. Свинцовый вихрь вырвался из волн атаки и ударил по флешам. Ряды воронцовских гренадеров еще более поредели. Солдаты дрогнули и, сбиваясь тесными кучками, пошли в отход. Воронцов крикнул остаткам какого-то батальона, еще державшего строй и равнение:
– За мной! В штыки! Смотрите, братцы, как умирают генералы!
Удар в бедро опрокинул его наземь. Он хотел взмахнуть шпагой, но клинок лязгнул под картечной пулей, и половины его как не бывало. Однако рука Воронцова не выпустила куска изуродованной стали даже и тогда, когда солдаты усадили его на скрещенные ложа четырех ружей и бегом потащили с флешей. Даже когда его поднесли к Багратиону, он все еще сжимал этот обломок в опущенной книзу руке. Бледное лицо его было обрызгано кровью, но он улыбался.
– Куда угораздило тебя, душа-граф? – спросил Багратион.
– В ляжку, ваше сиятельство.
– А дивизия твоя?
Воронцов показал сломанной шпагой на землю.
В 1815–1818 гг. Воронцов командовал русским оккупационным корпусом во Франции. Был близок к деятелям преддекабристских организаций. В 1820 г. вместе с Н. И. Тургеневым пытался основать дворянское общество для постепенного освобождения крестьян. В 1828—44 гг. он был новороссийским и бессарабским генерал-губернатором. В 1844 г. назначен наместником на Кавказе и главнокомандующим отдельным кавказским корпусом. Несмотря на то, что Воронцов был угодливым царедворцем и тщеславным карьеристом, ум, образование, известный либерализм выделяли его из рядов царских администраторов.
Но вернемся в станицу. Как только стало известно о приезде наместника, стали передаваться разные толки. Одни говорили, что он едет в Тифлис в связи с какими-то событиями, другие – что он едет сдавать дела. И хотя простому казачьему населению было все равно, по какому поводу едет Воронцов, любопытство брало верх.
На следующий день станица встречала кортеж князя Воронцова. Казаки поднесли наместнику хлеб-соль на серебряном блюде, в церкви Михаила Архистратига был отслужен молебен, где церковный хор с упоением пел «Спаси, Господи, люди твоя» и «Многая лета». А на выходе из церкви выстроенные как на строевом смотре казаки исполнили свою любимую:
Всадники-други, в поход собирайтесь, Радостный звук вас ко славе зовет! С бодрым духом храбро сражайтесь! За царя и Россию смело в бой вперед!Каждый в это время думал о своем. О своем думал и Воронцов. Он ехал, чтобы подготовить вверенные ему войска и область к возможной войне. Генерал знал, что царь и двор не простят ему, если он по усталости или еще по каким причинам не сделает срочных распоряжений, как здесь, на Северном Кавказе, так и в Тифлисе. И не дай Бог сделать какую-либо ошибку в своих действиях. Там ошибок не любят…
– Что я имею здесь на случай войны? – промелькнуло в голове. Конечно, сил было явно недостаточно. Но этот бодрый, самоуверенный настрой казаков, а затем беседа с казачьим старшиной на время вернули его в прошлое.
Вспомнил Воронцов весну 1845 года, когда он прибыл на Кавказ командующим отдельным кавказским корпусом и наместником на Кавказе. Вовсю шла Кавказская война. Тогда он застал уже конец приготовлений второй экспедиции в Дарго, укрепленную резиденцию Шамиля. Первая экспедиция, предпринятая в 1842 г. генералом Граббе, была направлена от Герзель-аула по долине реки Аксай через непроходимые леса Ичкерии и потерпела полную неудачу. Новая экспедиция предложена была по другому направлению: в обход через Андийский хребет.
Преодолевая необыкновенные трудности пути в горных трущобах, покрытых дремучими лесами, ведя беспрерывные бои с упорным и отчаянным противником, войска, руководимые самим Воронцовым, подошли в июле к Дарго и взяли его с боем. Однако Шамиль успел ускользнуть.
– Я все равно его догоню, – сказал тогда Воронцов, и началась погоня. Кругом поднимались утесы. Внизу, сдавленная склонами, билась о камни Койсу, взметая белые пенящиеся брызги. Грохот заполнял ущелье. Узкая дорога, больше похожая на вьючную тропу, шла над бездной, и идти становилось все труднее. Шедшая впереди казачья разведывательная группа остановилась.
– Спешиться, – подал команду есаул, и казаки медленно слезли с коней.
Дальше двинулись, держа лошадей в поводу, но дорога становилась все хуже и хуже. Пришлось опять остановиться.
– Тут недолго переломать ноги не только лошадям, но и себе, – слышалось в колонне.
– Была бы польза, – раздавалось в ответ.
– Да уж на этот раз Шамилю не уйти от нас, – поговаривали казаки, раскуривая свои трубки.
– Верно гутарите, казаки, – ободряюще поддержал разговор подошедший есаул. – На этот раз мы непременно доберемся до его логова.
Вынужденная остановка произвела в колонне замешательство.
– Почему остановились? – спросил подъехавший к казакам полковник Радецкий и, увидев причину, замолк.
Узкая дорога, по которой двигался отряд, оборвалась.
– Не иначе дождем размыло, – сказал полковник, но подъехавший Воронцов заметил:
– Да нет. Это похоже на подрыв. Не иначе Шамиль за собой следы заметает.
Казаки и солдаты молча смотрели на генерала. А он спросил:
– Так что будем делать? – И словно убеждая себя в том, что это препятствие им не взять, он еще раз заглянул в обрыв.
– Ничего не поделаешь! Придется возвращаться назад, – с грустью заметил он Радецкому.
– Как же так, ваше высокоблагородие? – нарушая субординацию, вдруг сказал казак, стоящий неподалеку. – Возвращаться теперь нам никак нельзя.
– А что же делать? – заинтересованно спросил Воронцов, поглядывая то на Радецкого, то на казака. А тот уже продолжал:
– Это самое узкое место у реки, и его надо использовать.
– Как?
– Мы спустимся вниз, переберемся через реку, закрепим там канат, а второй конец передадим вам. По нему и будем переправляться.
Только начали смельчаки спускаться к реке, как с противоположной стороны раздались выстрелы.
– Ваше высочество, зайдите за выступ, – закрывая Воронцова, сказал есаул и тут же был ранен в руку.
– Это Шамиль оставил засаду, – сказал Радецкий и увел Воронцова в укрытие.
Солдаты дали ружейный залп. Затем несколько залпов дала легкая пушка, которую везли с собой казаки, и стрельба с противоположной стороны прекратилась. Разведчики переплыли бурный горный поток. Им передали бечеву, потом канат, который они закрепили на противоположном берегу. По канату и переправились люди через реку. Однако Шамиля и в этот раз не удалось догнать.
После сытного обеда, в хорошем расположении духа, Воронцов интересовался у стариков делами казачьих станиц. Заметив за столом молодого красавца-казака, спросил:
– Чей это молодец?
– Мой сын, Григорий, – просто, но с достоинством ответил атаман, степенно поглаживая свою черную с проседью бороду.
– Похвально, похвально! А я только что вспомнил нашу первую встречу, – сказал он атаману. – Спасибо, защитил тогда старика.
– Да неужто вспомнили, ваше высокопревосходительство, – растроганно спросил атаман. – Вы еще тогда мне медаль выхлопотали.
– Вспомнил, вспомнил! А ты еще молодцом. Не трудно в седле сидеть? – спросил он, улыбаясь.
– Да нет, атаман еще бодрый. И казаков молодых учит, как надо, – вступил в разговор адъютант.
Улыбаясь, генерал откинулся в кресле, с облегчением избавляясь от согнутого положения туловища, стеснявшего заметный живот. Образовавшаяся пауза вновь вернула его к предыдущим мыслям.
– Что же предпринять нам для скорейшего замирения Кавказа? – спрашивал Воронцов. – Почему горцы идут за Шамилем? Страх, а еще что? – И, не получив ответа, сам ответил:
– Да запоздали мы со всем этим. – И отдал распоряжение приготовиться к движению.
Вскоре на дворе раздалась команда:
– Бить в барабан! – то есть трогаться, и огромная кавалькада, окружающая наместника, тронулась в путь – на Владикавказ.
– Песельники, вперед! – скомандовал Воронцов и, обгоняя охранявшие его войска, вырвался на своей карете в голову команды.
И над строем разнеслась песня:
Вспомним, братцы, про былое, Что, как сладкий сон, прошло, Жизнь – раздолье удалое, Наше время золото!Под звуки старой казачьей песни, под гудение духовых инструментов и барабанов генерал вновь ушел в воспоминания: «На Кавказе столько дел! А на пороге – новая война!».
День выдался теплым. На далеком небосклоне кучились облака, порой начинали темнеть и забираться ввысь, суля грозу или дождь, но скоро светлели и расплывались, истаивая в пылающем небе.
Уже прошли казачьи сотни, потянулись телеги, четко промаршировали егеря, а жители станицы все еще стояли у южных ворот, глядя вслед уходящей из станицы колонне.
Глава II
Вернувшийся из Владикавказа атаман тотчас позвал к себе сыновей:
– Гриша! – сказал он старшему, – поедешь служить в Конвой Его Императорского Величества. Списки наказной атаман утвердил. Сам офицер Конвоя о тебе сказал: «Хлопец красивый, здоровый и нравственности хорошей». Так что готовься.
Братья молчали. Старший от неожиданной вести не мог произнести слова, а младший с гордостью смотрел на него и не смел нарушить молчания.
– А ты, Егор, поступаешь в распоряжение наказного, – продолжил отец. – К осени формируют отряд в Крымскую армию, предупредили – быть наготове. – И снова молчание.
– Теперь лошадь надо покупать новую? – спросил Григорий, выходя из оцепенения.
– А как же, купим какую требуется, – ответил отец.
Казаки знали, что для службы в Конвое необходим годный к строевой службе конь, определенной масти и роста, седло и весь конский убор кавказского, существующего в Конвое, образца. Кроме того, при зачислении в Конвой казак должен иметь в полной исправности черкеску, бешмет, шаровары, башлык, бурку и черную папаху, три пары белья, сапоги, чувяки с ноговицами и бурочные чулки, а также исправную шашку с портупеей и кинжал с поясом.
– Когда собираться? – спросил Григорий.
– Как обычно, в мае, – ответил отец и повел разговор уже как начальник, знающий каждую минуту, под кем он стоит и кто под ним.
– Вот, – вынул он лист с приказом, – завтра объявлю в станице, кому собираться.
За сыновей атаман был спокоен. Службу они познали сполна. Григорий проходил службу на Камбилеевке и близ Грозного, бывал и в стычках. Да и Егор не новичок в службе, хотя и младший: «Гоняли здорово, чего говорить, – думал атаман, – мало кто оставался небитым, но школу оба прошли отменную. Правда, Григорий теперь женатый», – сочувственно промелькнула мысль, но он ее отбросил.
– Сейчас чего не служить? – обращается он к обоим и начинает вспоминать о своей службе в войне с Персией и в Русско-турецкую войну.
– Три года в походах и боях. В двадцать три года получил орден Св. Георгия и увенчал свои подвиги офицерским званием.
– Никогда не забуду, – он облизнул сухие губы и подергал ус, – после Конвоя, когда уже начальствовал, в станице молились за меня, чтобы вернулся живым из стычек с горцами. Ох, и лихое было время!
Григорий и Егор слушали отца с оживленным интересом. Кое-что они слышали и раньше, но от услышанного как-то немножко похолодели и даже оглянулись вокруг.
Персия, Карс, война с турками – как это героически далеко, а тот, кто тогда мерз, стрелял, получал награды, сидит рядом и рассказывает:
– Вот из этого дома я, в свое время, уезжал в Конвой, – обняв за плечи сыновей, продолжал атаман. – Казаки-конвойцы – это телохранители. Изо дня в день они при царе и его августейшем семействе. Это высочайшие выходы по случаю Нового года, крещенского водосвятия, пасхальной заутрени, дней рождений, бракосочетаний, это встречи и проводы иностранных гостей и прочее. То надо проводить кого-то из близких до границы, то великокняжеский выезд в театр.
Глаза отца искрились. Вспоминал ли он взятие Карса, выезды казачьего Конвоя или великосветские парады под Петербургом, в нем ощущался казак, на первом месте у которого в торжестве дисциплина и верность присяге.
– Казаки-конвойцы – это не блестящие кавалергарды на гнедых конях, не золотистые кирасиры и уланы. Терцы в черкесках из фабричного сукна, без гусарских ментиков на дорогом меху, в папахах вместо черных доломанов напоминают царю, более чем кто-либо из окружающих, народ, от которого он отгорожен дворцами и охраной. И казаки всегда у него за спиной.
– Скажу тебе, Гриша, царь был милостив к казакам. Помню, однажды он говорил: «Помните, казаки, за Богом – молитва, а за царем – служба, и служба эта не пропадет. Если с кем что случится и нужна моя помощь – обращайтесь!» Конечно, я не помню, чтобы кто-то к нему обращался, но, видно Богу угодно, чтобы кто-то из моих сыновей пошел по моим стопам, – ласково сказал отец. – Ты не знаешь, сынок, как будет успокоена моя старость тем, что ты отслужишь в Конвое.
Вера отца в царское обещание была столь великодушна, что сыновья даже залюбовались им, и каждый про себя подумал: «Дай Бог, чтобы такие старики были долговечны на земле».
– Батя, а не тяжело тебе быть атаманом? – спросил Григорий, чтобы перевести разговор.
– Сам побудешь, испытаешь, тогда и узнаешь, – не задумываясь, ответил отец.
А сыновья, глядя на его седеющую голову, продолжали размышлять: «Кому понять тоску старого казака, когда он готовит к проводам сыновей. Вот заскорбела душа и выплеснулось. Недаром же сказано в писаниях: "и всходит утро, и гаснет заря;…взверзи на Господа печаль свою"».
– Не думайте, что все это легко, – сказал атаман и снова обнял сыновей.
В хату вошли жена атамана и невестка.
– Будем готовить казаков в путь-дорогу, – сообщил он им новость. А пока те приходили в себя, продолжил:
– На следующей неделе, в четверг[3], поедем в Прохладную, покупать Григорию коня!
В Прохладную атаман с сыновьями выехал ранним утром. На севере косо висела Большая Медведица, а вокруг еще лежала черная густая мгла. Миновав Куян, так казаки называли северную сторону станицы, они выехали на страшноватый ночным видением Терек. Река дугой подпирала пришибские кручи, показывая свои неистовые силы и скрывая где-то на глубине казачьи тайны. «Да, сколько тайн знает река?» – подумал атаман и стал вспоминать, как они с Настей после захвата абреками бежали из Малой Кабарды, переправившись через Терек. «Кто сейчас знает, как они попали в станицу? – подумал он, и сам же себе ответил, – только Терек».
Было прохладно. Лошади негромко шлепали копытами по увлажненной пыли. Попыхивая самокруткой, атаман продолжал вспоминать: «Сколько пришлось выезжать в такую рань». Вспомнились почему-то долгие ночи у костра и неприхотливый ночлег: вместо подушки седло, пропахшее лошадиным потом, вместо одеяла – бурка.
Ехали шагом. Когда подъехали к Малке, засерел бледный дрожащий рассвет. Переезжали реку вброд. Внизу под ногами лошадей поблескивала прозрачная вода. Григорий и Егор даже стали различать белые камни на дне.
Когда выбрались на берег, их взору предстала станица и бескрайняя, впереди, степь. На огромной поляне, вытоптанной лошадьми, раскинулась своего рода ярмарка. Товар – только кони. Сюда съехались торговцы из Большой и Малой Кабарды, из Моздока. Были здесь грузинские и армянские скупщики, казаки, солдаты и цыгане. Повсюду разносился говор, смех, забористые шутки.
– Берите! Чистых кровей лошадь. Настоящая кабардинка, – предлагал владелец, когда атаман с сыновьями стали разглядывать одну из них.
– Хороша лошадка, – подтвердил атаман, обращаясь к Григорию.
– Не краденая, клянусь! У самого начальника округа такой нет, – продолжал хвалить владелец.
– Поедем дальше, посмотрим еще, – трогаясь, сказал атаман.
Как только они двинулись дальше, их окликнули:
– Федор, салам алейкум! – поприветствовал его стоящий неподалеку горец. – Не иначе, приехал выбирать коня?
– Алейкум салам, Джамбот! – ответил на приветствие атаман и спешился. Они обнялись, как старые кунаки, обменялись новостями.
– Вот, готовлю сына на службу, – показал он на Григория, – конь нужен.
– А это младший? – показал горец на Егора. – Да.
– Хороши джигиты, – удовлетворенно высказался кунак, пожав обоим руки и похлопав по плечу.
– Хороший конь нужен?
– В столицу служить еду, какой попало не пойдет, – ответил Григорий.
– Ту видишь? – показывая на одну из лошадей, сказал кунак.
– Которую, что в середке? – переспросил Григорий, – вороная?
– Да, да! Хороший конь, бери!
Кунак говорил правду. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы по достоинству оценить лошадь. Но они еще раз внимательно осмотрели ее, спросили о цене и, подтвердившись мыслью, что она действительно стоит этих денег, решили – брать.
Собралась толпа.
– Добрый конь, – похвалил усатый казак.
Вороной между тем перебирал ногами, словно танцуя, подразнивал покупателей.
– Да ты попробуй ее в седле, – посоветовали в толпе, и Григорий подошел к коню. Вороной был оседлан, но только Григорий протянул к нему руку, он, играючи, взбрыкнул задними ногами и обдал того комьями липкой глины, полетевшей от копыт. Вокруг захохотали.
– Это тебе не на кляче дрова возить, – сказал кто-то, и опять смех.
У Григория даже шея покраснела от стыда и обиды. Но отец подбодрил:
– Не робей, оботрется.
Пока вокруг судачили, Григорий вновь подошел к коню, смело потрепал его по шее и вскочил в седло. Конь не сдвинулся с места. Тогда Григорий достал из-за голенища плетку и хлестнул ею по крупу. Вороной взвился на дыбы, тряхнул головой и, пробиваясь через людское кольцо, победно заржал и поскакал прочь.
Толпа загудела, заволновалась. Десяток всадников понеслись по равнине, растянувшись цепочкой, пытаясь догнать коня. Однако никому не удалось настичь вороного. Вытянувшись в струну, он мчался ровным наметом.
Черная грива его, как крылья, играла под ветром. По одному, по двое, на взмыленных лошадях верховые возвращались обратно.
– Вот это конь! – слышалось в толпе.
– Скакун золотой, святая правда, – подтверждали разгоряченные всадники.
А жеребец, почувствовав силу в руке, державшей повод, показал все, на что был способен. Они несколько раз обскакали станицу, пролетели по обрыву над Малкой, которая делала здесь крутой поворот, а вороной все скакал, не зная устали. И с каждым часом он становился все покорнее. Когда Григорий решил, что пора возвращаться к базару, и направил туда коня, он почувствовал, что лошадь ему повинуется. Солнце теперь светило казаку в спину, согревая его тело и сердце, наполненное ликованием и смутным ожиданием перемен, которые непременно должны произойти в его судьбе.
Они остановились. С боков коня падала пена, он стоял статный, разгоряченный в облаке пара, струившегося на солнце от мокрой шерсти. Но в темных глазах коня уже не было ярости и протеста.
Григорий слез с седла, взял в руки лошадиную морду и поцеловал в лоб, где красовалось лучистое белое пятно.
Назад они возвращались уже в полдень. Солнце припекало. Вокруг парило. Переправившись обратно через Малку, атаман, посмотрев в сторону Эльбруса, заметил:
– Кажется, гроза приближается.
– Где, где? – в один голос спросили братья.
– Да вот она идет, находит, – указал он на показавшуюся тучу. Туча появлялась с гор тихо, беззвучно, как далекая, темная тень. От нее стало веять прохладой.
– Не с градом ли? Что-то холодит, – встревоженно спросил Егор у отца.
– С градом ли, с бурей ли, будет нехорошо.
Туча стала быстро сгущаться, расти, клубиться. На ней начали возникать какие-то седые башни, черные трубы с дымными кольцами. Вдруг она забормотала глухо и грозно.
– Надо поторопиться, а то застанет, – предупредил атаман. И они пустили лошадей в намет.
Туча глухо, предостерегающе заворчала, напомнив о себе. Солнце еще не зашло, но туча стала его заслонять, и вокруг быстро стало темнеть. Сверкнула молния. Предшествуя грозе, налетел ветер. Он пригибал к земле траву, цветы, расшевелил деревья. Терек, к которому они вскоре подъехали, вспенился, отражая отблески молний. Раздался треск грома. Один, другой… Сильные порывы завихрили все вокруг, да так, что стало трудно двигаться. Но это продолжалось до тех пор, пока не полил дождь. Ветер сразу стих, как будто ему намочили крылья. Дождь хлынул прямой, ливневый. Казаки сразу же промокли, но хода не сбавили. Небольшая речушка Деменюк вместо ручья теперь бушевала рыжим пенным потоком. Он нес траву, кустарник, вырванный с корнем, солому, какие-то доски. Егор сходу попытался перескочить бурлящую речушку, но отец придержал его.
– Стой, сынок, не торопись – берега сейчас коварны. Смотри, с каким шипением они погружаются в пенную воду.
И действительно, обваливающиеся берега словно предостерегали их. Они отъехали в сторону и, найдя более мелкое место, проскочили речку.
– Ну, вот мы и дома! – в сердцах произнес атаман, когда они, выстроясь в цепочку, въезжали в станицу.
А дождь лил, не переставая. Сверкали молнии, сгущая тьму…
Глава III
В радостном, но беспокойном ожидании летели дни в станице. В конце месяца горными потоками опять вздуло Терек, и потонули его берега. Лес по-над станицей залило как никогда. Казалось, вот-вот и верхушки потонут. Но это продолжалось недолго. Вскоре разлив спал. Из воды то тут, то там торчали кусты, куги, коряги, стволы деревьев. А по-над берегом стали просматриваться зеленые полянки, жадно ловившие солнечное тепло после долгого пребывания под водой.
В эти дни освобожденный от службы Григорий, закончив дома хозяйственные дела, уходил на реку. Он садился на ствол поваленной ивы, у кромки песка, полого уходившего под воду, и предавался размышлениям. Сухой, ободранный ствол, на котором он сидел, поблескивал на солнце, будто отлит из металла. Глядя на него, Григорий вспоминал: эта ива когда-то была любимым местом его свиданий с Машей. Она надежно прикрывала их от посторонних глаз. Она росла на самом краю Терека, и ее ветви свисали до самого берега. Идя на свидание, он поднимался к иве по пригорку от реки, а Маша спускалась туда по заросшей давней тропинке, протоптанной конями. Бывало, разлученные на много дней, истомленные тревожным и нетерпеливым ожиданием, они стремительно обнимались под этим деревом и, безотчетно поддаваясь обоюдному влечению, целовались. Лунный свет падал на их сближенные лица и радостно терялся в сумеречной темноте. Положив беспокойную руку на ее крепкое горячее плечо, он рассказывал ей о службе, о домашних делах. Однажды он упомянул о том, что отец намекнул о женитьбе.
– Ну, и женись, Гриша, станешь семейным, – тихо тогда сказала Маша и запнулась.
– На ком? На тебе, да? Ты как… – только и успел проговорить он ей. Маша не дала ему договорить. Она прильнула к нему губами, без робости падая на мягкий ковылек, и с тихим радостным удивлением ответила:
– А на ком же еще? Ты давно мой!
– О чем вопрос, Машенька! Я тоже давно решил.
Он попытался расстегнуть ей кофточку, но она резко отдернула его руку и протестующее сказала:
– Не смей трогать, я глупая, а ты? – И она всхлипнула. У него тогда сжалось сердце горячим комочком. Он осторожно обнял ее, а она, притихшая, не отстранилась, но потребовала:
– Гриша, скажи своим, пусть присылают сватов.
– Обязательно скажу, родная, – взяв ее за руки, пообещал он.
А в это время бледно-розовый осколок луны, повисшей над Тереком, заслонила набежавшая из-за гор тучка и прикрыла шелестящую иву легкой, дрожащей на свету тенью. Неожиданно смолкла трель сверчков. Налетел горный ветерок и хлопотно качнул верхушки деревьев. А они, забыв обо всем на свете, сидели рядышком и целовались еще горячей, чем накануне. Маша в тот вечер ушла первой, взяв с него слово, что он пойдет следом за ней и непременно расскажет о своих намерениях отцу. Свою же мать она еще утром посвятила в эту задумку.
– А я давно мечтаю выдать тебя замуж, – сказала ей мать.
– Почему, мам, торопишься, думаешь, никто не возьмет такую? – спросила Маша.
– Ну, не совсем так, если нашелся женишок, – улыбаясь, отвечала ей мать.
– А ты не смейся, – с обидой проговорила Маша, – вот уйду к мужу, и будешь плакать.
– Да, это верно, доченька, – уже серьезно ответила мать, гладя ее по голове.
Маша бурно расцеловала ее и принялась хлопотать по дому.
«Вскоре у них действительно были сваты. А потом была свадьба», – вспоминал Григорий.
Мелкий ивнячок подступал зарослями к самой воде и скрывал его от берега. Вода круто огибала песчаный мыс и вековым однообразием наваливалась тяжелой стремниной на расположенный ниже обрывистый берег. Терек перед ним был во всей своей красе. Григорию приятно было глядеть на выпуклую, как ему чудилось, реку, которая со змеиным шипением наползала на него из-за песчаного мыса, завораживая таинственным движением своего гибкого тела.
От реки несло прохладой. Тихие всплески рыбы рождали в серо-пенистых отражениях магниевые вспышки, которые, серебристо расширяясь, плыли по поверхности, чтобы вновь появиться. Темный сом вольно подплыл к берегу, а затем, развернувшись, медленно ушел на глубину. «На ночь надо забросить крючки, глядишь, и сядет», – подумал Григорий, но тут подошли друзья, с кем предстояло ехать в Конвой.
– Не съездить ли нам на рыбалку? – обратился к Григорию один из них.
– Сейчас самое время, рыба прямо играет, – ответил Григорий.
– Давайте завтра, – вступил в разговор второй подошедший.
На том и порешили. Разговор продолжился. И надо было видеть лица товарищей, гордых за то, что им предстоит служить в Конвое Его Императорского Величества, хотя души всех их бередили одни и те же думы: «Скоро расставаться с родной стороной». Думы, думы, как трудно бывает управлять вами. Даже самый волевой человек далеко не всегда в состоянии подчинить себе их течение, как часть, вырвавшись из-под контроля его разума, вы, словно потоки талой воды, растекаетесь вширь, дробясь на отдельные ручейки, не всегда понятные в своем течении. И не успевает разум погнаться за одним из этих ручейков, как рядом появляется второй и третий, и порой уже невозможно бывает оценить тобою же порожденные мечты, надежды, ожидания…
На следующий день, загрузив в каюк[4] рыбацкие снасти, друзья двинулись по Тереку. Разлившаяся река казалась безбрежной. Она была залита солнечным сиянием, раздробившимся огнем и серебром на легкой ряби. Ветерок и дыхание холодной воды умеряли жгучую ласку солнца, но не приглушали радостные весенние голоса и звон проснувшейся природы.
Остановились в устье речушки, впадающей в Терек, среди нерубленого леса, населенного фазанами, рябчиками и мишками, осторожно издали принюхивающимися к пришельцам, среди первозданной тишины и дивного запаха неоглядной лесной пустыни. Вытащили каюк на берег и стали осматриваться.
– Эгей, Алексей! – позвал Григорий своего друга Гевлю, первым вернувшись к берегу.
Тот откликнулся совсем рядом из-за камыша:
– Не шуми! – И тотчас, хлюпая по воде, выбрался на берег.
– А рыбы здесь уйма, скажи, Тимофей? – обратился он к товарищу, который выбирался следом.
– Посмотрел – так и плещется, – ответил тот.
Поставив в протоке сети, казаки несколько раз поднимали их, выбирали рыбу и снова ставили на место. Так незаметно пробежал день. Небо, закрытое спустившимися к вечеру тучами, начало темнеть. Но вода в реке продолжала еще долго отсвечивать, отражая невидимые для казаков последние отблески зари.
– Разводи костер, – сказал Скорику Григорий, а сам с Гевлей стал чинить растянутую на поляне сеть. Тимофей быстро исполнил задание. И вот они сидят у костра, над которым в котелке варится уха, и ведут разговор.
– Ну что, батя не говорит, когда нам отправляться? – спросили Григория.
– Пока нет, но, видно, скоро, – ответил тот. – Быстрее бы. – И стал рассказывать про службу в Конвое, что поведал им с Егором отец. Потом пошли еще разговоры.
– Что-то Шамиль опять воспрял духом, – вспомнив недавний разговор с отцом, стал рассказывать Григорий. – Пытался проникнуть в Грузию, а сейчас вроде бы поручил одному из своих наибов прервать сообщение Владикавказа со Ставрополем.
– Как бы здесь не заполыхало, – помешивая уху, сказал Скорик. – Кто-то их науськивает.
– Приказано и нам усилить бдительность, – вступил в разговор Гевля. – Послали наших на днях в дозор. Подобрались они к берегу, глядь, а в камышах лодка, у воды люди. Разговаривают, показывают что-то за реку. Это были наши разведчики, которых посылали на ту сторону выведать, не готовятся ли абреки к нападению. Но наши же не знают.
– Эй, вы, у лодки! Стоять! – кричат они. Один из разведчиков так поспешно прыгает в лодку, что она зачерпывает воду.
– Да свои мы, свои, – отвечает раньше всех пришедший в себя усатый казак. – На той стороне были. – Он выждал с минуту, потом, держа в одной руке винтовку, а другой держась за камыш, стал подниматься на берег.
– А это был Терентьевич – наш станичник, – завершил рассказ Гевля.
А природа жила своей жизнью. На реке вдруг сильно и неожиданно плеснулся крупный осетр, а в береговых зарослях раздался треск – это пробирались на водопой кабаны.
Лес вокруг притаился, словно прислушиваясь к звукам, изредка нарушавшим тишину.
Ели уху не торопясь. Потом Григорий долго лежал на шелковистой прохладной траве, заложив руки за голову. Далеко в вышине мерцали звезды. Ближе к полуночи над Тереком стало обозначаться смутное зарево – всходил мглистый месяц. По деревьям прошумел короткий порыв ветра. Григорий слышал, что Гевля и Скорик еще не спят, но окликать их не стал, а встал и пошел на речку. Под берегом мягко плескались крохотные волны, тучки, закрывавшие месяц, таяли и разбегались.
– Давайте ложиться спать, – обратился Григорий к друзьям, возвратившись к костру. – Рыба вовсю гуляет, вода, должно быть, прибывает шибко. Сети придется поднимать до света.
В это время над костром пролетела какая-то невидимая птица. По-над берегом опять послышалась возня, наверное, к воде опять шло стадо кабанов. Шуршали листья, с треском рвались мелкие корешки – это клыкастые, наверное, копались в земле или искали прошлогодние желуди. По воде явственно доносился шорох и треск, и даже казалось, что кто-то отфыркивается.
Рыбы под утро друзья поймали еще больше, чем накануне, хотя одна сеть, вероятно, из-за подъема воды, оказалась сбитой с места.
А когда солнце встало, они плыли домой. Оставались считанные дни до отъезда их на службу в Петербург. Их это и радовало, и в то же время томило неизвестностью.
Глава IV
В столицу колонна выезжала из Прохладной. Шум, говор, голоса провожающих соединились со звуком сигнальной трубы и дробным боем барабана. И под этот шум конный строй, растягиваясь, медленно выходил на дорогу. Впереди ехали верховые казаки, по-домашнему, совсем как у себя в станице, шумно и бранчливо спорившие о чем-то. Дальше шли брички с кухонным снарядом и поварами. За ними двигались крытые фургоны, нагруженные мукой, крупой, мясом, вином и прочей снедью, а за ними снова верховые казаки.
Офицер конвоя, осматривающий колонну, на рысях обогнал хозяйственную часть и, поднимая пыль, исчез впереди. У выезда из станицы стояли последние провожатые, среди которых были офицеры и писари из Владикавказа, свободные от службы казаки и родственники отъезжающих казаков из близлежащих станиц. Одни с грустью, другие с завистью смотрели на уезжающих в Петербург казаков. А те, последний раз помахав рукой провожающим и мысленно простившись с родной стороной, уже обозревали местность и смотрели вперед, где прямо перед ними простиралась дорога, конца которой не ведал никто. Раздалась песня:
Венценосец наш Державный! Мы спешим к тебе с мольбой И к престолу предков славных Льнем покорной головой!Вряд ли кто в колонне представлял, что, выехав в этот теплый весенний день, они пробудут в пути до летней жарищи. Тянулись дни, недели, месяцы. Проехали Тихорецкую, затем были Ростов, Воронеж, Орел, Тула. А за Тулой была Москва. Широкий почтовый тракт возвестил им о приближении Первопрестольной. По бокам потянулся зеленый лес, красивый и, как они говорили промеж себя, весь в шумах ветреных. Изменился облик крестьян, встречающихся на пути: подмосковные мужики, выходившие посмотреть на казаков, были в высоких шапках, у кого-то лапти новые, а онучи обвязаны лыковыми мочалами.
Колонна, поднявшись по подъему, выехала на вершину холма, и перед казаками открылась Москва. Они спешились, помолились и стали рассматривать город. Москва как на ладони. В мареве. А в нем золотые искры крестов и куполов. Рядом веяло душистой свежестью, Москвой-рекой, раздольем далей – чем-то привольным. Григорий заворожено смотрел на Москву и внимательно слушал офицера конвоя, который, показывая рукой, рассказывал:
– Вон там Донской монастырь, розовый. А вон Казанская, а то Данилов, Симонов.
Казаки слушают, вертя головами, а офицер продолжает:
– А Кремль-то, ах, хорош! Правда, – и декламирует лермонтовское четырехстишье:
Москва! Москва! Люблю тебя, как сын, Как русский, – сильно, пламенно и нежно! Люблю священный блеск твоих седин И этот Кремль зубчатый, безмятежный.Казаки притихли, любуясь Москвой. А она светилась в туманце широкая, покойная, удивляя множеством башен и изобилием церковных куполов. Почему-то вспомнились слова из песни о знаменитом Степане Разине:
Ты прости, народ московский! Ты прости-прощай, Москва… И скатилась с плеч казацких Удалая голова…У Григория даже слезы навернулись на глаза. Он вспомнил, как пели эту песню старые казаки, и ему уже тогда представлялась вот такая же картина, как Разин поклонился на все четыре стороны, и вот это: «И скатилась с плеч казацких». За этими словами слышится даже удар топора о плаху… Григорию представилось, как везут Разина по улице, как бежит и мечется народ по площади, как он поднимается и выходит на помост. Как поклонился и… Ты прости, народ московский! Ты прости-прощай, Москва! Все притихли. Каждый думал, что сравнить с этим Кремлем, который, окружаясь зубчатыми стенами, красуясь золотыми главами соборов, возлежит на высокой горе, как державный венец на челе грозного владыки.
Нет, ни Кремля, ни его зубчатых стен, ни соборов, ни пышных дворцов его описать невозможно. Надо видеть, видеть… надо чувствовать все, что они говорят сердцу и воображению!
Где-то над рощами слышался вороний грай, а впереди далеко-далеко, за городом, снова проступали синеватые дебри Подмосковья, где казаки-конвойцы вскоре выедут, чтобы продолжать путь к столице.
…Было раннее свежее утро, когда колонна казаков-конвойцев подъехала к Аничковой заставе Санкт-Петербурга.
– Кто такие? Куда едете? – спросили двое стражников, выйдя за шлагбаум.
– Терцы мы! В Конвой Его Императорского Величества едем, служить! – ответили сразу несколько казаков.
Вышел дежурный офицер и, переговорив со старшим колонны, крикнул:
– Открывай!
И шлагбаум открыли.
Цокали копыта лошадей по булыжной мостовой. Григорий с волнением разглядывал город. «Вот, это столица! Как здесь все внушительно и величаво», – думал он. Сидя в седле прямо, как и всякий опытный наездник, он задумчиво посматривал вперед. Улица прямая и ровная вела их к цели. Конь, будто угадывая, что хозяин о чем-то задумался, ступал медленно, а один раз даже остановился в нерешительности. Это произошло против собора, из открытых дверей которого доносилось на улицу величавое церковное пение.
– Боже ты мой! – вспомнил Григорий. – Да сегодня же праздник – Преображение, как говорили в станице – Спас. В этот день мать, беря его в церковь, говорила:
– Помни, сынок, три у нас Спаса. Первый – медовый, значит, лету конец. Второй Спас – яблочный. Спас – Преображение, яблоки светят. Третий Спас – орешный, орехи поспевают после Успенья.
Преображение Господне… Ласковый, тихий свет от него в душе – доныне. Должно быть, от утреннего сада, от светлого голубого неба, от ворохов соломы, от яблок, хоронящихся в зелени, в которой уже желтеют отдельные листочки. Ясный, голубоватый день, не жарко, август. Григорий вспоминает, как ожидали крестный хор, а потом начиналось освящение. Священник в необыкновенной ризе читал над яблоками молитву и начинал их окроплять. Так встряхивал веником, что брызги летели, как серебро, сверкая тут и там…
Он тронул каблуком остановившегося коня, и жеребец с очень стройными ногами гордо двинулся дальше. Продолжали цокать копыта, удаляя всадников от места, заставившего дрогнуть сердца.
На одном из перекрестков они повернули и вскоре остановились у подворья. Коновязи, лошади одинаковых мастей и казаки: кубанцы и свои – терцы. Забились вновь казачьи сердца, что-то знакомое и привычное прошлось по душе.
Из подворья, обнесенного забором и разделенного каменными тумбами, вышел офицер.
– Приехали, дорогие! – восторженно поприветствовал он их. – Рады видеть вас, а мы уже заждались. – Он снял папаху и перекрестился.
Казаки спешились и тоже перекрестились.
– С прибытием, – еще раз обратился к ним офицер, – извините, что не встречаем торжественно, служба! – И он обнялся с офицером, сопровождавшим новобранцев.
Терцев окружили свободные от службы казаки-конвойцы, и начались расспросы…
Глава V
Петербург не дал казакам расслабления. Уже через месяц, освоившись, они приступили к несению службы.
Стоя на часах[5], Григорий все чаще и чаще стал слышать от придворных о возможной войне с Турцией.
– Давно их надо проучить, – говорил один чиновник какому-то генералу, на что последний отвечал:
– Еще бы подождать, не готовы мы.
– Подготовку надо ускорить, – говорил все тот же чиновник. – Царь не случайно посылал наше посольство в Константинополь. Ментиков обязательно раздует конфликт.
– Но это уже зависит не от нас, – отвечал генерал.
Григорию вспомнился разговор с отцом перед отправкой в Конвой.
– Чувствует мое сердце, что обманчиво нынешнее спокойствие, – говорил он. – Как бы не пришла беда!
– Да что может произойти? – запальчиво спросил тогда Григорий. – Нас Государь призвал к себе по очереди, и о какой-либо угрозе никто не ведает.
– Это так, сынок, – отвечал отец. – Но все эти посольства в Константинополь, частые поездки здесь, на юге, не случайны. Как бы к осени не разгорелось!
– Да кто нам может угрожать? – уже раздраженно спросил Григорий.
– Южный сосед, – просто ответил отец. – Чувствуют они чью-то поддержку, вот и нахальничают.
– Турция, что ли? Так мы ей уже не раз преподавали урок, – продолжал Григорий, – думаю, она не сунется.
– Дай-то Бог, – тихо сказал тогда отец, обнимая его за плечи.
А дело обстояло следующим образом. В середине XIX века узловым вопросом международных отношений стал «восточный вопрос». Он возник в связи с тем, что экономические интересы европейских стран, в первую очередь Англии, Франции, России и Австрии, сталкивались в поисках новых владений на Балканском полуострове и в Передней Азии, где им противостояла слабеющая Османская империя. Передовые страны Европы стремились к разделу турецких владений и самой Турции в целях расширения рынков сбыта.
Россия издавна была связана с братскими народами Балкан, поэтому влияние в балканских землях считалось одной из основных внешнеполитических задач. Кроме того, России также нужны были рынки Ближнего и Среднего Востока, откуда ее за последнее десятилетие все более энергично вытесняли англичане и французы. России нужно было получить свободный, обеспеченный силой оружия выход судов с хлебом через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. Поэтому в голове русского императора Николая I все более зрела идея ликвидации Турецкой империи и утверждение российского щита на берегах Босфора и Дарданелл.
Турецкое правительство, шедшее на поводу у английских и французских дипломатов, само было настроено против России. Оно жило идеями реванша за неудачи, испытанные в войнах с Россией, вынашивая планы возвращения Кавказа, Крыма, берегов Черного и Азовского морей.
Английские и французские дипломаты всячески способствовали разжиганию конфликта между турецким правительством и русским царем, подталкивая султана на войну против России, обещая ему вооруженную и иную помощь. В случае такой войны Англия могла обнажить меч под благородным предлогом «защиты» слабой Турции от сильного царя и тем выиграть в общественном мнении Европы, чтобы легче было сколотить антирусскую коалицию. Этим замыслам английского правительства, как никогда, благоприятствовала внутренняя обстановка во Франции. Вступивший путем авантюр на французский престол Наполеон III искал способы погасить ненависть народа к установленной им контрреволюционной диктатуре крупной буржуазии. Наилучший способ он видел в победоносной войне против какого-либо из двух сильнейших виновников поражения Наполеона I – России или Англии. Обстановка складывалась так, что можно было найти даже поддержку одного из них – Англии в войне против другого – России.
Английская и французская дипломатия, провоцируя войну между Россией и Турцией, усиленно разжигала в 1850–1852 годах спор вокруг «святых мест» в Палестине. Со времен Крестовых походов христианские церкви в Иерусалиме («святые места») находились под покровительством папы Римского и Константинопольского православного патриарха. С XVI века «ключи» от этих «святых мест» хранило католическое духовенство Иерусалима, но в XVIII веке они перешли к православному духовенству, имевшему мощную поддержку в лице царской России.
За ширмой этого спора скрывалась борьба России и Франции за влияние в делах Турции и Ближнего Востока вообще. Дипломатические агенты Наполеона III при полной поддержке английского посла в конце концов добились от турецкого султана отмены привилегий, которыми пользовалась православная церковь в «святых местах», в пользу католической церкви.
С этим никак не мог смириться Николай I. Он направляет в Константинополь чрезвычайное посольство во главе со своим фаворитом, князем А. С. Меншиковым, который был в то время начальником штаба Морского ведомства, и поручает ему предъявить султану решительное требование о «святых местах» и о праве опеки царя над православным населением Турецкой империи. Английские и французские дипломаты, по секрету заключив между собой сделку о единстве действий, всячески домогались обострения разгоравшегося конфликта. И это им удавалось, потому что и сам Ментиков не старался улаживать конфликт. Ему было доподлинно известно, что царь замыслил напасть на Босфор и его – своего фаворита, отличавшегося хорошей способностью угадывать державную волю, послал в Константинополь только за тем, чтобы создать предлог для нападения. Английский и французский послы в Константинополе больше всего боялись, как бы между султаном и чрезвычайным послом Николая не уладилось все мирно, а Меншиков сам старался не допустить того же, заботясь только о том, чтобы виновником конфликта стала Турция.
Переговоры закончились дипломатическим разрывом. Но в это время оставляется и мысль о Босфорской экспедиции, так как, будучи в Константинополе, Меншиков сильно усомнился в ее реальности. Ясно было, что больше двух дивизий одновременно Черноморский флот не сможет доставить к Босфору, а как же эти две дивизии справятся со 100-тысячной турецкой армией? Они попросту будут разбиты или взяты в плен. Меншиков донес о своих соображениях Николаю, и авантюристический план нападения на Босфор был похоронен. Но это вовсе не означало отказа от войны. На смену старому плану пришел новый, подсказанный Николаю его наставником по военной части фельдмаршалом Паскевичем: занять сухопутными войсками придунайские княжества – Молдавию и Валахию, находившиеся под властью Турции, потребовать от султана уступок в «восточном вопросе». Если же он не будет уступчив, «признанием независимости княжеств положить начало разрушению Оттоманской империи».
Глава VI
Как представлял перспективу грядущей войны царь, в терских станицах было неизвестно. А пущенное в ход колесо войны между тем вертелось. Царь направил 80-тысячную армию под командованием генерала М. Д. Горчакова для оккупации Молдавии и Валахии и отдал приказание начать подготовку к наступлению в Закавказье, в первую очередь на турецкие крепости Карс и Баязет. Однако основные силы Отдельного Кавказского корпуса увязли в борьбе с горцами. Умный и ловкий, с железным характером и безграничным властолюбием, Шамиль, сумевший подчинить своей власти значительную часть горцев, вот уже двадцать лет вел их на борьбу с Россией. С переменным успехом велась эта упорная борьба, в пылу которой с обеих сторон проливались потоки крови, разорялись крепости и станицы, гибли в пламени аулы и хутора.
В то время, когда в Тифлисе и Петербурге строились планы покорения горцев, Шамиль наводил порядок среди подчинившихся ему народов. Вся территория была разделена им на наибства (округа), во главе которых стояли наибы – доверенные лица имама. Наиб был начальником пяти участков, составлявших провинцию. Он пользовался духовной и гражданской властью. Наибство содержало триста всадников. Все мужчины в возрасте от шестнадцати до шестидесяти лет были обязаны военной службой. Призывавшиеся ополченцы делились на десятки, сотни и полутысячи. Шамилем был установлен собиравшийся с населения подоходный налог. Каждый крестьянин обязан был вносить в казну натуральный сбор по шесть мер с каждых пятидесяти мер собранного зерна, по одной овце с каждой сотни овец, а кроме того еще платить подать за пользование пастбищами. Снабжение продовольствием и огнестрельным оружием было поставлено у Шамиля настолько хорошо, что он мог выставлять для боевых действий отряды численностью двадцать тысяч человек. Он устроил в горах выделку холодного и огнестрельного оружия. Начал отливать собственные пушки и ядра, а в Ведено, Унцукуле и Гунибе он устроил пороховые заводы. Обосновавшись в Северном Дагестане, он совершал набеги на подвластные русским селения, крепости, станицы. Кавказский корпус был вынужден отвлекать огромные силы для охраны и защиты гарнизонов и поселений. В связи с этим и командующему корпусом князю Воронцову, и Николаю I, и военному министру приходилось всерьез думать, откуда же набрать силы для прикрытия кавказско-турецкой границы.
– Я могу выделить для границы шесть с половиной батальонов пехоты, четыре сотни казаков, четырнадцать орудий и пять эскадронов драгунского полка, – доносил Воронцов.
В то же время царю доносили, что турецкое командование сосредоточило у границ огромную армию, численность которой намеревалось довести до пятидесяти тысяч человек.
Царь и военное командование понимали, что если снять с кавказских крепостей и укреплений войск в большем количестве, чем находил возможным Воронцов, то можно потерять весь Кавказ.
После долгих раздумий было решено перевести на Кавказ, и как можно быстрее, 13-ю пехотную дивизию, предназначенную раньше для Босфорской экспедиции и расположенную в Севастополе. Были отданы распоряжения о повышении бдительности и боеготовности в войсках корпуса и в казачьих станицах.
Получив известие о том, что Шамиль готовится к нападениям, атаман Федор Кульбака собрал станичное правление.
– Казаки! – обратился атаман к присутствующим. – Поступило сообщение, что Шамиль готовится к новому походу. Как бы к нам не нагрянули его нукеры!
– Не иначе, опять хочет напасть на Военно-Грузинскую дорогу, – сказал кто-то из стариков.
– Да, да, это как в прошлый раз, попытаются нарушить сообщение Тифлиса со Ставрополем, – послышалось в ответ.
– Кто же это их науськивает? Ну, никак не хотят спокойно жить.
– Что будем делать, казаки? – спросил атаман. – Караулы я уже усилил, наладил связь с соседними станицами, а что еще?
– Надо съездить к кунакам в аул, послушать, что они скажут по этому поводу, – предложил кто-то.
– Добре, я думаю, что это будет нелишне, – ответил атаман и объявил, кто завтра поедет с ним за Терек.
Выехали утром. С Терского хребта быстро наползал туман и застилал пространство белесой пеленой. В его клубящемся мареве то скрывались, то появлялись горы и окраина аула Азапшей, в который ехали атаман с сыном и десяток казаков.
Перебравшись через Терек, оглянулись. Станичная церковь прощально перебиралась сзади по небу своими куполами, в лицо дул свежий ветерок. Сытые лошади с охоткой трусили по дороге. Настроение приподнятое. Всякий раз, когда млеет душа к оставленной позади вольной округе, хочется запеть что-нибудь казачье, былинное. И казаки запели:
Дремлет знойная степь… Вон, обоз казаков Протянулся как цепь по вершинам холмов, Что за пыль там взвилась в стороне далеко И столбом поднялась к небесам высоко? Ближе, ближе… И вот на вспененных конях Мнится туна людей с ярой злобой в очах. И свернули в кружок свой обоз казаки, И защелкал курок, засверкали клинки…В аул въехали, когда туман совсем разошелся. Из мечети, мимо которой они проезжали, глухо доносился молитвенный речитатив муллы. Навстречу шли двое горцев. Один из них тянул на веревке отчаянно упиравшегося белого барашка, нахлестывая его хворостиной, другой что-то приговаривал.
– Недаром говорят: упрям, как баран, – заметил атаман, указывая на упрямившееся животное.
– Метко замечено, – поддержал кто-то из казаков.
– Куда это они его? – спросил Егор.
– Сегодня пятничный намаз, наверное, помянуть святого пророка или в благодарность за милость или радость, – отвечал атаман, но кто-то переспросил:
– Как это?
– Может, родила жена джигиту сына, может, еще чего, вот он на радостях и готов славословить аллаха. А для этого нужен подарок.
– Немало подарков, наверное, огребает мулла, – сказал Егор, на что атаман ответил:
– Не бери греха на душу, – и тронул коня.
В это время из мечети стали выходить верующие.
– Салам алейкум, Федор, – приветствовал атамана один из них.
– Алейкум салам, – ответил на приветствие атаман своему кунаку Джамболату и спешился. Дальше они пошли пешком и, соблюдая все правила этикета, говорили, как положено, о домашних делах, о новостях в станице, в ауле. Федор поделился с кунаком радостью, что его сын Григорий уехал в столицу, с чем тот не преминул его поздравить. А потом уже во дворе Джамболата Федор рассказал ему о цели своего приезда.
– Шамиль хочет, чтобы Кабарда присоединилась к его движению, – сообщил кунак. – Но у кабардинцев нет единого мнения по этому вопросу, мы не хотим воевать с русскими. – И он рассказал вкратце о встрече с Шамилем, на которой недавно был.
– Шамиля больше всего тревожит, что не все горцы привержены исламу и всем установлениям шариата, его печалит, что им гораздо ближе адаты – обычаи и правила предков, – рассказывал кунак. – Покойный Кази-Мухаммед твердо внушил ему, что только посредством шариата и мюридизма – беспрекословного послушания всех джигитов мюриду-имаму – возможно духовное, нравственное и политическое возрождение горцев, которое, по его убеждению, приведет к освобождению от русского владычества.
– Шамиль поставил себе задачу заставить всех горцев признать ислам и шариат, – продолжал кунак. – И он убежден, что для этого нужна железная рука.
– Где нет страха, там нет послушания, а где нет послушания, там нет и порядка, – любит он вспоминать древнее изречение Востока.
– А больше всего он недоволен кабардинскими князьями, – продолжал кунак, – говорит, в Кабарде среди князей очень много пройдох, у русской печки греются.
– Это он так говорит, потому что вы ему не подчиняетесь, – потеребив бороду, сказал атаман.
– Это точно! – подтвердил Джамболат. – Он так и говорил: «Если не будут подчиняться князья – народы тоже не станут подчиняться. А вы заключили русских в свои объятия, едва они успели прийти на Терек».
– А ты не знаешь, Джамболат, намеревается ли Шамиль напасть на Военно-Грузинскую дорогу? – спросил атаман кунака.
– Вот этого я сказать не могу, – ответил Джамболат, – не знаю. Шамиль своими планами со всеми не делится. Хотя, призывая князей к объединению, он намекал о подготовке какого-то дела. Он так и сказал: «С помощью Аллаха начатое дело да сбудется! Тем, кто нас в этом поддержит, мы отплатим сторицей». А вот от других я слышал, – Джамболат перешел на шепот, – турецкий Омар-паша якобы предложил Шамилю соединиться с ним. А что это значит, я не знаю.
Уже на следующий день полученные сведения атаман сообщил во Владикавказ, а оттуда в Тифлис. Шамиль действительно выступил с пятнадцатитысячным отрядом и остановился в Карате, затем дошел до Цунта и оттуда послал своего сына Кази-Магома с семью тысячами войска в Грузию через Алазань на Цинандали, где взяли в плен княгиню Чавчавадзе и Орбе-лиани. На обратном пути Кази-Магом, увидев, что переправа через Алазань занята русскими войсками, отступил. Дагестанский же отряд под командованием князя Аргутинского, совершив переход с высот Турги-Дага на Лезгинскую линию, перейдя пять снеговых перевалов, освободил Мессельдегерское укрепление и вынудил Шамиля бежать на Ириб.
Глава VII
Внешние успехи николаевской политики в конце 40-х годов XIX века казались значительными. Но его тревожил призрак возрождающегося наполеоновского империализма, разрушительного для всей системы «равновесия» в Европе. Российское правительство сильно преувеличивало и слишком долго недооценивало результаты переворота, упразднившего республику в пользу империи Наполеона III. Признать его, конечно, пришлось вслед за всеми державами. Николай только дразнил Наполеона, а себя тешил тем, что не хотел называть его «братом» своего самодержавия и называл «другом» или «кузеном». Мнимая видимость все чаще закрывала для него и скрывала от него реальный смысл действительных отношений.
А этот реальный смысл был в нарастающей изоляции России. Державы крайнего Запада, Франция и Англия, были определенно враждебны и крайне недоверчивы к нему. Замкнувшись в себе и решительно противопоставляя себя Западной Европе, николаевская Россия все настойчивее развертывает свой особый империализм на Востоке. Она ставит русские интересы на Востоке в резкое противоречие с устремлениями Англии, а затем и Франции к экономическому господству в азиатских странах. Обостряются международные конфликты на почве Ближнего Востока. Тут николаевское правительство проводило с настойчивой последовательностью тенденцию преобладания России, трактуя Турцию как страну внеевропейскую, а потому стоящую вне «европейского концерта», и отстаивало право России сводить свои счеты с нею вне воздействия западных держав.
Ослабление власти Оттоманской Порты над подчиненными ей областями казалось Николаю признаком близкого распада Турции.
Он был уверен, что с Англией можно сговориться, достаточно разграничить сферы влияния. Он дважды, в 1844 г. при посещении Лондона и в 1853 г. в беседе с английским послом в Петербурге, лично обсуждал возможности раздела Турции.
Николай, живший в мире династической мифологии, по выражению его немецкого биографа, приписывал, в своем державном самосознании, решающее значение в ходе политических событий личным отношениям, взглядам и предположениям правящих лиц, смешивая иной раз значение формальных международных обязательств и личных бесед или писем, какими обменивались власть имущие. Технику международных отношений он представлял в форме личных сношений и отношений между государями, непосредственно или через уполномоченных ими послов. Он строит существенные заключения и расчеты на прусской дружбе, австрийской благодарности за венгерскую кампанию, на английском благоразумии, к которому обращается в личных переговорах, на плохо понятом самолюбии Наполеона III, которому должно польстили приглашения в Петербург с обещаниями «братского» приема у русского самодержца (что французский император, естественно, понял как обидную бестактность), и т. п. Преувеличивая значение приемов, традиционных в международных сношениях эпохи абсолютизма, Николай дипломатическими иллюзиями отгонял от себя до последней возможности ожидание неизбежного взрыва огромной борьбы… В обманчивом расчете на то, что западные державы в конце концов уступят и не пойдут на решительную борьбу против русского протектората над Турцией и ее христианскими подданными, Николай поставил вопрос ребром о своем притязании на авторитетное покровительство православной церкви в пределах Турецкой империи, т. е. ввиду государственно-правового и административного значения константинопольского патриарха – над всем православным населением Оттоманской Порты. А на объявление войны Турцией 14 октября 1854 г. ответил манифестом, где причиной войны выставил защиту законного права России охранять на Востоке православную веру.
Станица. В воскресный день в церкви, как обычно, шел молебен. Церковный хор пел на клиросах. А батюшка в шитой золотом ризе басил у амвона. Курилась в его руках кадильница, на всю церковь пахло ладаном и топленым воском. Горели в подсвечниках свечи, поблескивало золото икон, смотрели на молящихся строгие глаза святых. У амвона стоял атаман с семьей, а вокруг все станичное население. Староста-бородач с блюдом двигался в обход по храму, и по подносу звенели бросаемые в него монеты.
– Пресвятая Богородице, спаси нас, – поет хор, и все в храме крестятся. – Спаси от бед рабы твоя Богородице.
Пылают свечи, густо клубится ладан, звенит кадило, дрожит синеватый воздух. Когда служка подсыпал батюшке в кадило ладан, в церковь вошел посыльный из казачьего правления и что-то сказал на ухо атаману. Тот тут же приказал писарю:
– Пригласи после службы членов правления ко мне.
Вскоре молебен закончился и народ повалил из церкви. Храм затих. В алтаре служки переодевали батюшку, стягивая с него ризу. Вернулся староста с блюдом в руках.
А в правлении собирались приглашенные казаки. Атаман Кульбака, высокий, сухонький, в синей черкеске с голубыми отворотами на рукавах, ходил по комнате, заложив руки за спину. Мягкие сапоги делали его шаги бесшумными.
– Казаки! – обратился он к присутствующим. Его голос удивительно не вязался с внешностью. По комнате раздался густой рокочущий баритон.
– Получена депеша из Владикавказа. Сообщают, замечена возня на турецкой границе. Область объявляется на военном положении. Думается мне, как бы не вспыхнула война.
– А мне кажется, это их очередной фарс, – заметил старый казак Скорик. – Пошумят, постреляют на границе, налетят шайкой человек в триста на солдатский пост в четыре человека – и назад. Знаем мы этих вояк.
– Да нет, Дмитрия, ты же знаешь, здесь войны начинаются внезапно, вспомни прежние – персидскую и ту же турецкую, – он повертел в руках присланную бумагу. – Отдан приказ о мобилизации. Нам в двухнедельный срок надо подготовить сотню.
– А куда она пойдет? – спросил кто-то из казаков.
– Первый Владикавказский полк идет в полном составе на турецкую границу, но готовится отряд и в Крымскую армию, – отвечает атаман.
– Ну, что ж, атаман, приказ надо выполнять, – продолжал все тот же старый казак Скорик, поправляя затянутую наборным поясом черкеску – Как гласит завет апостола Петра: «Бога бойтесь, царя чтите и всякой власти от Бога поставленной повинуйтесь».
Упоминание об этом словно солнцем озарило лица казаков. Ведь они сызмальства помнили, что они слуги царя и опора трона. И так из поколения в поколение блюли честь казачью, гордились казачьим званием и грудью становились на защиту Отечества.
– Я думаю, что мы срочно примем меры и, раз это надо, в срок выставим сотню отборных казаков, – вновь обратился к присутствующим атаман.
Казаки молчали, понимая, что атаман после этого скажет что-то важное и к чему-то обязывающее.
– Кармалика! Тебе поручаю возглавить сотню, – обратился атаман к одному из членов правления. – В помощь тебе даю Чечеля и Белобловского, урядников подберете сами, – как о давно решенном сказал он.
– Любо! – раздалось в правлении. Казаки зашумели, кивая головами. А Кульбака покопался в бумагах и добавил:
– А эти казаки пойдут в Крым, к Меншикову, – и зачитал список, в котором был и его сын Егор.
Вскоре станица провожала казаков в Закавказье. Старики, матери и жены шли за ними до южных ворот. Люди пели, плакали, кричали. Казаки стреляли в воздух. Были и пьяные. «Нам царь-батюшка выдал водку, – кричали они, – а потому мы пьем и других угощаем. Ох, и достанется супостату от нас», – грозились они на турок.
Почти следом ушел отряд и в Крым.
С давних времен так уж повелось, что для казака, по сравнению со многими его занятиями, первым было ратное дело. Словно гранитный утес, непоколебимо и твердо стояло казачество, принимая на свою богатырскую грудь случайность и невзгоды борьбы с врагами России на всех далеких и близких окраинах широкого Российского государства.
В то время, когда на Руси всегда боялись «красной шапки» – солдатского звания, казаки испокон веков считали ратное дело самым честным, святым и привлекательным и первой заботой своей ставили, чтобы «воинским промыслам помешки не было».
Еще задолго до того, как в России была введена всеобщая воинская повинность, казачьи матери говорили детям: «Мы привыкли видеть жертвы за любимого царя», и «Мы уже триста лет царям служили на своих лихих конях, много раз врагов разили, отличалися в боях».
Казак, верный слуга государства, всегда (был) готов стать под полковые знамена для защиты своего края и борьбы с врагами России. И эта постоянная готовность жертвовать всем за благо государственное, за честь и корону царскую стяжала казачеству неувядаемую славу и разнесла грозу казачьего имени далеко за пределы нашего Отечества.
Французский генерал Де-Брак, один из лучших кавалерийских офицеров армии Наполеона I, в своей книге «Аванпосты легкой кавалерии», изданной в 1831 г., дает самые лестные отзывы о боевых качествах казаков.
– Казаки, – говорит он, – лучшая легкая кавалерия в Европе, вполне достигшая цели своего назначения. Им свойственны инстинкты волка и лисицы; они привычны к войне и отличаются крепостью тела, а лошади их чрезвычайно выносливы… Если казаки разделяются при отступлении тем больше, чем продолжительны ваши атаки, то не думайте, что они потеряли уверенность и оробели. Нет, этот способ их отступления, способ, чрезвычайно опасный для преследующего неприятеля, которому часто приходится раскаяться в своей смелости. Если же другие европейские войска наскоро собираются при отступлении, то это верный признак их деморализации; тогда нужно сильно насесть на них.
Упоминая о казаках, я указал на них как на совершенный образец, потому что некоторые офицеры, не участвовавшие в войне или участвовавшие в ней не на аванпостах, считают своей обязанностью презрительно отзываться об этой кавалерии, не верьте им!
Спросите всякого настоящего боевого офицера, и он скажет вам, что легкие кавалеристы, которые, подобно казакам, окружают армию бдительной и непроницаемой сетью и, защищая ее, вместе с тем утомляют противника, постоянно наносят удары и лишь редко подвергаются им, прекрасно и вполне удовлетворяют назначению какой бы то ни было легкой кавалерии.
Искони казачество само заботилось о развитии казачьей удали, силы и храбрости. Каждый казак проходил службу в полку и каждому была приписана его станица.
Каждое войско, каждый казачий полк имеет свое знамя (штандарт). На знамени изображается крест – знак веры православной, начальные буквы имени государя (вензель) и государственный герб – двуглавый орел, – показывающие казаку, за кого и за что он обязан сражаться: за веру, царя и Отечество!
Знамя для полка в войске подобно «тельнику», кресту, даваемому христианину при крещении. Как тельник не может быть оценен, продан, куплен или заменен другим, так и знамя не имеет цены, и полк, потерявший знамя, не только теряет свое честное имя, но и сам перестает существовать, а чины его распределяются по другим частям. Ближайшие же защитники знамени расстреливаются.
Поступая на царскую службу, казак приносил присягу. Ну, а как он ее выполнял, сражаясь за веру, царя и Отечество, есть масса славных героических примеров.
Глава VIII
Военные действия турки открыли в ночь на 16 октября, напав на пост святого Николая на Черном море. Несмотря на героическое сопротивление небольшого русского отряда, легшего целиком в неравном бою, укреплением они овладели. Так началась война. В это же время Турция начала свои наступательные действия по всему фронту: 40-тысячная армия двинула к Александрополю и 18-тысячная – к Ахалциху. Командующим Кавказским корпусом вместо Воронцова, который в это время болел, был назначен князь Бебутов, начальником штаба – князь Барятинский. Сорокатысячному Анатолийскому корпусу мы могли противопоставить всего 14 тысяч человек Александропольского отряда, который лично возглавил князь Бебутов. А Ахалцихский отряд князя Андронникова, численностью семь тысяч человек, готовился к встрече в два с половиной раза сильнейшего корпуса Али-паши.
Вызвав к себе генерала Орбелиани, Бебутов приказал:
– Завтра выйдете со своим отрядом вперед и будете двигаться в сторону Александрополя. Будьте бдительнее, постарайтесь не вступать в бой с главными турецкими силами.
Перед утром отряд снялся с места и пошел навстречу врагу. Манифест о войне на Кавказе еще не получили, и Орбелиани точных турецких сил не предполагал. Казачьи разъезды, преодолевая пологие холмы и овраги, двигались впереди, грузинские дозоры шли слева и справа. Семитысячный отряд, при 28 орудиях, растянувшись, двигался по долине. Редкие облака высоко проходили над долиной, изредка из теснин набегал холодный ветерок. Легкая пыль курилась по дорогам. Казачьи разъезды, перейдя неглубокий овраг и поднявшись на очередной холм, увидели перед собой селение Баядур. Местность перед ними внезапно ожила. Поднялась пыль, послышался гул и звон, ржание коней. Темные фигуры всадников замелькали на дорогах, и спустя пятнадцать минут огромная, темная движущаяся масса турецкой армии заполнила долину. Звуки рожков, бой барабанов, мерный шаг спокойно и размеренно шедших, словно на учении, турецких батальонов заглушил все.
В блеске и сверкании оружия, в тяжелом движении 30-тысячная армия Абды-паши подходила к Баядуру. Это было 3 ноября. Орбелиани, не ожидавший такой встречи, был в растерянности. С нескрываемой тревогой смотрел он на подходившие войска.
– От боя нам не уйти, – придя в себя, объявил он окружающим его офицерам.
– Это точно, – подтвердили те, – нельзя медлить. – И тут же по отряду разнеслось:
– Приготовиться к встречному бою!
Русский отряд стал быстро разворачиваться. Батальоны по команде занимали определенные позиции. Егеря заняли близлежащие высоты, а за ними с ружьями наперевес стала пехота. Половина орудий была установлена в центре, а остальные расположили по флангам. На одном из них расположился Владикавказский казачий полк.
Раздался орудийный выстрел, за ним второй, через минуту около генерала Орбелиани, просвистев, упали три ядра. А он сидел в одной и той же позе, не обращая внимания на огонь, ни слова не говоря, не отдавая приказаний.
– Что с ним? Пора действовать. Турки заканчивают свой маневр, – крикнул казачий полковник. – Бой в поле – единственное, что должны сделать мы.
Генерал вдруг встал и не спеша пошел по-над линией своих войск. Он, несомненно, был храбр и личной храбростью решил повести за собой кавказских солдат.
– Ваше превосходительство, турки открыли огонь, сейчас они пойдут в наступление.
Прикажите начать атаку! – снова, уже громче, сказал тот же полковник.
Орбелиани обвел всех глазами и махнул рукой. Что подразумевал он этим жестом, неизвестно, но все поняли это как знак разрешения атаки.
– Батареи, по наступающему врагу огонь! – закричал он, и уже давно ждавшие этого артиллеристы дали орудийный залп из четырнадцати пушек.
– Беглый, с переменой по картечи, огонь! – снова закричал он, видя, как десятки снарядов разорвались в самой гуще наступающих янычар.
– Ну, братцы, пришел и ваш черед, – обходя солдат, говорил Орбелиани. – На вас первый удар, зато вы первыми и погоните турок.
– Казаки, ударьте во фланг, – приказал он владикавказцам.
Бой был скоротечный. Турки яростно напирали, и сколько бы еще держался этот отряд, потерявший восемьсот человек, неизвестно. Раздалась весть:
– Наши идут!
И действительно, вскоре подошли основные силы во главе с Бебутовым. Турки генерального сражения не приняли и отступили за реку Арпачай. Здесь обе стороны простояли десять дней. Тем временем отряд князя Андронникова нанес 12 ноября поражение Али-паше при Ахалцихе. Его 7-тысячный отряд наголову разбил 18-тысячный отряд Али-паши, потеряв 361 человека, тогда как турки потеряли более 3,5 тысячи человек и в наши руки попало 11 орудий, 23 знамени и значка, весь турецкий лагерь и даже канцелярия Али-паши.
Известие о победе Андронникова при Ахалцихе вызвало в войсках Александропольского отряда всеобщее ликование. Все рвались в бой.
Главнокомандующий собрал военный совет. Сообщив об Ахалцихской победе, он сказал:
– Я понимаю ваше стремление поскорее идти в бой, господа офицеры, но давайте оценим свои силы и возможности.
– Мы имеем десять тысяч человек и 32 орудия, а что имеет противник?
– Турки у Баш-Кадыклара сосредоточили 36-тысячный отряд при 46 орудиях, – доложил начальник штаба. – Командует им сам Ахмед-паша.
Бебутов был начальником, у которого решительность не переходила в запальчивость. Он видел неравенство сил, а оно было значительно, поэтому дальнейшие действия он решил обсудить детально, чтобы в полной мере соединить боевой пыл войск с разумными действиями на поле боя.
– Как они расположены? – задал он вопрос.
– Позиции турок сильно укреплены, – сообщил инженер, – кроме того, они удобно прикрыты скалистыми оврагами.
– Располагаются они своим излюбленным манером – каре, – показывая на карте, докладывал начальник штаба. – Дозорные казаки доложили, что основные силы у них на флангах. На левом фланге располагается основная масса турецкой кавалерии и курдов, в центре сил меньше, турки надеются на обрывистые овраги.
– Вот туда вначале и ударите, – приказал Бебутов командиру гренадерской бригады.
– Есаул Ковалев, – обратился он к командиру 1-й казачьей батареи, – будьте готовы к перемещению батареи по фронту, чтобы и помогать наступающей пехоте, и тыл противника беспокоить.
– Нижегородцам наступать на правый фланг противника, и как только там начнется бой, а Ахмед-паша начнет посылать туда подмогу, ты, Камков, – обратился он к казачьему полковнику, – ударишь своими казаками в левый фланг. Хорошо бы прорваться в тыл.
Обсудив еще и еще раз различные варианты боя, Бебутов отдал приказ о наступлении.
19 ноября, после непродолжительного артиллерийского обстрела, Александропольский отряд начал наступление против сильно укрепленной турецкой позиции. Решительное наступление гренадерской бригады и смелые действия казачьей конницы были настолько решительны и дерзки, что Ахмед-паша сказал окружающей его свите: «Русские или с ума сошли, или упились своею поганою водкой!». Он махнул платком, и многотысячная конница ринулась на девять сотен линейцев, прикрывающих правый фланг. Несколько минут шла невообразимая свалка, в которой ржали кони, взлетала густая пыль, слышались хриплые крики, удары, вопли и брань.
– Казаки! Держись! – прокричал полковник Камков и кинулся с резервом на наседающих турок. Кони без всадников носились по полю, а треск сабель, орудийные залпы и крики людей тонули в общем невообразимом хаосе.
– Братцы, дадим жару басурманам! – кричал в пылу боя полковник Евсеев, и шесть сотен казаков лавой врезались во вражеский фланг.
– Молодцы, терцы! – только и успел прокричать Бебутов, как казаки были смяты. Они повернули коней и, миновав выдвинутые во фланг пехотные батальоны, ринулись в тыл.
– Аллах дает нам победу. Судьба опять благосклонна к нам, – воскликнул наблюдавший за боем Ахмед-паша. Туча турецкой конницы, вопя и размахивая саблями, неслась за казаками.
В это время лихой есаул Ковалев, выехав наперерез туркам, в 50 метрах установил свою батарею и, не отстегивая орудий, несколько раз осыпал картечью не ожидавшего ничего подобного неприятеля. Передние кони разом остановились, но их сшибали задние всадники. Пехотные роты, свернувшись в каре, тоже дали залп по туркам. В ту же минуту вновь ударила картечью казачья батарея, и вся масса турецкой кавалерии повернула назад. Линейцы кинулись в шашки, за ними пошли нижегородцы, – и весь правый фланг с частью центра турецкого расположения был смят и опрокинут. Турки были быстро разбиты, потеряв лагерь, весь обоз, 24 орудия и около шести тысяч человек. Последствия Баш-Кадыкларской победы были громадны.
Турция, понеся огромные материальные потери и моральный урон, в этот год до весны следующего года каких-либо значительных боевых действий не предпринимала, что дало возможность усилить наши войска и перегруппироваться.
Глава IX
Однако победа под Баш-Кадыкларом особо не прозвучала тогда в России, ибо за день до этого – 18 ноября произошло крупное морское сражение черноморской эскадры с турецким флотом при Синопе, закончившееся нашей победой и затмившее все события того времени. Царю нужны были громкие победы, а истребление турецкого флота в Синопе являлось таковым. Поэтому реакция в Петербурге на победу была выше всех похвал. И царя, и министров, потерявших всякую ориентацию в отношениях с западными державами и хорошо не представляющих себе дальнейшего хода войны, эта победа приободрила, обнадежила в успехе опрометчиво начатой кампании. Считая Меншикова своим главным доверенным лицом в Крыму, царь отнес эту победу к его заслугам.
– До какой степени я обрадован был радостной вестью славного Синопского сражения, – писал он князю, – не могу довольно тебе выразить, любезный Меншиков!
Не менее восторженно писал светлейшему и военный министр князь Долгоруков:
– Вы не можете себе представить счастья, которое все испытали в Петербурге по получении известия о блестящем Синопском деле. Это поистине замечательный подвиг!
А произошло это так.
Перевезя из Севастополя на Кавказ 13-го пехотную дивизию, Черноморский флот снова собрался на Севастопольском рейде. 5 октября Нахимов получает предписание из штаба выйти с эскадрой, состоящей из кораблей «Ягудиил», «Храбрый», «Чесма», «Императрица Мария», трех фрегатов, двух бригов и одного парохода, крейсерство[6] между Анатолией и Крымом.
Не успел Нахимов выйти в крейсерство, как Меншиков получил известие о том, что турки предполагают 9 октября начать военные действия. Стало известно и то, что из Константинополя усиленно перевозятся в Батум войска и орудия. По эскадре был отдан приказ, чтобы по выходу в море все орудия были заряжены ядрами, приготовлены ударные трубки, ружейные патроны и абордажное[7] оружие.
А 26 октября Меншиков сообщает, что турки переправились на левый берег Дуная, где стояли войска Горчакова, и заняли город Калафат.
– Следовательно, – прочитал Нахимов в предписании, – войну должно почитать действительно начавшеюся.
1 ноября Нахимову доставили царский манифест от 20 октября об объявлении войны Турции. Ознакомившись с манифестом, адмирал передал всем командирам судов сигнал:
– Война объявлена. Турецкий флот вышел в море, отслужить молебствие и поздравить команду.
На «Императрице Марии», где он сам находился, был собран весь экипаж.
– Ребята! – обратился он к команде. – За царя и Отечество положим головы, но в Севастополь без славы не воротимся.
– Ура! – прогремело ему в ответ.
В тот же день эскадра вышла в море. Преодолевая волны и ветер, они подошли к Синопскому полуострову и увидели на рейде четыре турецких судна. Начавшийся шторм вынудил эскадру отойти в море. Все вокруг на несколько дней затянуло туманом. И когда Нахимов, воспользовавшись свежим восточным ветром, 11 ноября снова подвел корабли к Синопу, он увидел там уже не четыре судна, а 7 фрегатов, 2 корабля, 2 парохода и шлюп, стоящие под прикрытием береговых батарей. Это была эскадра под флагом одного из лучших турецких адмиралов – Осман-паши, наставником у которого был англичанин Адольфус Слейд, состоящий на турецкой службе в чине контр-адмирала и носивший звание «Мушавер-паша», что означало «паша-консультант». Турецкая эскадра имела цель проследовать вдоль анатолийского побережья к турецкому порту Батуму и, посадив там на суда десант, совершить нападение на Сухум.
Адольфус Слейд с тремя пароходами обошел незадолго перед тем абхазские берега, выгрузил там до шестидесяти бочонков пороху и много свинца в пластинах, уведомив горцев, что около 20 ноября к ним придет из Синопа турецкий флот с многочисленным десантом. Синопская бухта, хорошо защищенная от ветров и наблюдений, была избрана сборным пунктом турецкой эскадры, и суда приходили в бухту постепенно, чтобы отсюда в полном составе двинуться к Кавказу.
Пока Нахимов обдумывал план предстоящего сражения, к его эскадре присоединился фрегат «Кагул», а в ночь на 16 ноября флагманский корабль адмирала Новосильского «Париж» телеграфом уведомил его: «Начальник 4-й флотской дивизии прислан для присоединения к вам с кораблями «Париж», «Три святителя», «Великий князь Константин».
Это было серьезное подкрепление. Теперь в эскадре было семь кораблей. И хотя соотношение было не в пользу русских, Нахимов не хотел и думать, чтобы упустить без боя неприятеля, отысканного с таким трудом.
С утра 17 ноября на море прояснилось. В 9 часов сигналом с «Императрицы Марии» флагман потребовал к себе Новосильского и командиров кораблей для сообщения им плана атаки и нужных при этом наставлений. Совещание было недолгим – немногим более часа. В 11 часов командиры вернулись на свои корабли и объявили командам, что завтра эскадра отправляется в Синоп для истребления стоящего там турецкого флота. На корабли были розданы копии приказа командующего эскадрой и вычерченная диспозиция, на которой было точно нанесено расположение неприятельских судов, батарей и места, где должны стать на якорь русские корабли.
И Нахимов, и офицеры, и матросы – все понимали, что завтра будет жаркий день, что одолеть врага будет непросто и, может быть, многих из них не станет. Противник силен. У него не только больше кораблей, не только пароходы, которые смогут маневрировать независимо от ветра, но еще и береговые батареи.
Закончив напряженный день, команды поужинали. В торжественной тишине матросы писали письма, может быть последние, другие поверяли товарищам последние мысли, последние желания. А потом по сигналу адмирала корабли один за другим снялись с рейда и отправились к Синопу, где их ждала гибель или слава.
Ночью погода испортилась.
Наступившее утро встретило русскую эскадру неприветливо. После мрачной, бурной и дождливой ночи сквозь сплошные свинцовые тучи, закрывавшие все небо, уныло и медленно пробивалась заря. Над кораблями ревел порывистый ветер с частым холодным дождем. Только в 9 часов утра рассвело. В половине десятого по сигналу адмирала эскадра снялась с дрейфа, а через пятнадцать минут на «Императрице Марии» был поднят сигнал: «Приготовиться к бою». Этого сигнала ждали и к нему готовились, поэтому на кораблях не было никакой спешки и суеты. Оставалось сделать еще одно приготовление – пообедать, им и занялись команды, сев в одиннадцать часов за обед. Корабли проходили последние мили, стремительно приближаясь к Синопу, и через полчаса, когда был окончен обед, раздались призывные звуки тревоги.
– Все люди встали на свои места, для вступления в бой предназначенные, и орудия в деках зарядили двумя ядрами, – записали дежурные в вахтенный журнал. Матросы смачивают палубу, опускают сукно над крюйт-камерами[8], командоры уже взялись за шнурки ударных замков.
Напряжено внимание. Все ждут.
Уже подошли на пушечный выстрел. Еще ближе. Видно, как турки наводят орудия. Только русские еще не знали, что наводят они орудия не на корпуса кораблей, а на мачты и паруса.
– Если стрельбой по рангоуту[9]" не удастся замедлить атаку, то хотя бы выбить как можно больше людей, которые бросятся от орудий на марсы[10] и реи убирать паруса, – говорил своим офицерам Осман-паша. – А когда их много погибнет, огонь можно будет перенести на корпуса.
В половине первого, когда русские корабли стали разворачиваться в боевую линию, все турецкие суда по выстрелу с фрегата «Ауни-Аллах», на котором поднял свой флаг турецкий главнокомандующий, открыли пушечный огонь по их рангоуту.
Нахимов, разгадавший их хитрость, уже после первого залпа дает сигнал: «Взять на гитовы», – то есть подобрать паруса и тем самым уменьшить возможность их повреждения. Одновременно, не крепя парусов, все корабли вслед за флагманским открыли ответный огонь по неприятелю.
Хитрость турок обернулась против них же. Первый залп почти не причинил вреда русской эскадре, у них же появились пробоины.
«Императрица Мария», на которой находился Нахимов, методично громила батальным огнем 38 орудий своего правого борта и меткими выстрелами четырех 68-фунтовых бомбических орудий нижнего дека турецкий флагманский корабль «Ауни-Аллах».
Уверенно и искусно работали артиллеристы. Их ядра и бомбы без промаха поражали фрегат Османа, и через полчаса он, не выдержав состязания с искусным противником, отклепал якорные цепи, чтобы бегством спастись от выстрелов.
Через два часа после начала сражения замысел Нахимова был в основном выполнен. Турецкой эскадры не существовало. Только отдельные суда и береговые батареи № 5 и № 6 посылали беспорядочные выстрелы по русским кораблям. Когда в половине пятого на помощь Нахимову на «Ростиславе» с еще тремя кораблями прибыл Корнилов, и они перестали стрелять. Видя картину всеобщего разрушения, Корнилов приказал командиру парохода «Одесса» Федору Керну подойти к сидевшему на мели меньше всех пострадавшему фрегату «Несими-Зефер», отбуксировать его, чтобы затем привести в Севастополь. Но фрегат оказался не плавучим. Сняв с него 200 турок и убрав убитых, его подорвали. В бухте не было больше ни одного турецкого судна. От эскадры Осман-паши остались только обломки судов, плавающие по рейду, да торчащие из воды мачты фрегатов, корветов и транспортов. На дне покоились 11 боевых судов – «цвет турецких фрегатов и корветов», два купеческих брига и два транспорта. Вместе с Осман-пашой были взяты в плен ограбленные своими командами командир «Фазли-Аллаха» Али-бей и командир корвета «Фейзи-Меабуд». Один из фрегатов не спустил флага. Но по нему открыл разрушительный огонь «Париж», и фрегат, изрешеченный ядрами и усеянный трупами, выбросился на мель у батареи № 6. «Императрица Мария» перенесла свой огонь на фрегат «Фазли-Аллах». Он тоже загорелся, подобно своему флагману, бросился к берегу и сел на мель против города. На «Неджми-Фешан» переносить огонь не пришлось. По нему вел огонь «Великий князь Константин», заставивший его тоже выброситься на берег.
«Чесма», бросив якорь вслед за «Великим князем Константином», вместе с ним била из своих орудий по крайнему левому фрегату «Навек-Бахри», одновременно отстреливаясь от турецких батарей № 4 и № 3. Вместе с экипажем «Великого князя Константина» офицеры и матросы «Чесмы» пришли в восторг, когда фрегат взлетел на воздух. Командир корабля немедленно развернул корабль в сторону одной, а потом другой батареи и огнем своих 42 пушек одного борта смыл батареи до основания. Подожженные турецкие суда один за другим взлетали в воздух. Их горящие обломки падали на городские кварталы Синопа, и там занялся пожар, быстро охвативший весь город.
Наша эскадра не потеряла в сражении ни одного корабля, но повреждения, причиненные кораблям, были значительны. Более всех пострадала «Императрица Мария». В ее корпусе было 60 пробоин, разворочены кормовая часть и галереи, подбиты мачты. На эскадре было 235 раненых и 38 человек погибших.
Корнилов в рапорте Меншикову писал: «Одушевление, с которым сражались и офицеры, и нижние чины, наполняет душу восторгом. После битвы я осматривал раненых – и ни одного выражения ропота или уныния».
Впечатление, произведенное Синопской победой, было огромно, так как в этой войне было много непонятного не только для народа, но и для просвещенных слоев общества. По-разному толкуемый спор о святых местах в Палестине, посольство Меншикова, происки западных дипломатов, переход русских через Прут – все это одно за другим облетало Россию. А официальные известия были полны гнетущей неопределенности. Ни цели войны, ни смысл дипломатических мер против Турции, о которых ходили путаные слухи, не были ясны, и никто не брался их разъяснять. Декларативные заведения газет и манифестов о святости войны для русского сердца не могли убедить народ: война не затрагивала его интересов. Все было покрыто непроницаемой мглой. Россия погрузилась в тяжелое, мрачное раздумье.
Известие о Синопе блеснуло в этой атмосфере яркой молнией. Здесь, по крайней мере, было понятно: и то, что турки покушались на Кавказ, завоеванный русским оружием, и то, что их следовало побить, и то, что Нахимов их побил, и даже то, что, может быть, туркам и их союзникам неповадно больше будет лезть куда не надо и война закончится благополучно, не наделав многих бед, не принеся огромных жертв. Но чем громче раздавались приветственные клики, тем тяжелее становилось на душе у виновников торжества.
– Ужасно то, – говорил Нахимов, – что победа подвинет против нас войну, ибо англичане увидят, что мы им действительно опасны на море, и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот.
И опасения эти были ненапрасны. В Константинополе, Лондоне и Париже разгром турецкой эскадры в Синопской бухте был воспринят с крайним раздражением. Черноморский флот вдруг возник перед взорами политических деятелей Англии, а заодно и Франции, как самая реальная сила на пути экспансии. Турецкий флот оказался для него слабым противником. Ясно стало, что и вообще руками Турции много не сделать. Но разгром злосчастного «союзника» был еще и тем долгожданным предлогом для вступления в войну Англии и Франции, о каком обычно говорят: если бы его не было, его нужно было бы создать.
Смысл войны с Россией определился теперь конкретно и ясно: чтобы владеть Востоком и Балканами, нужно уничтожить русский флот на Черном море, разрушить его главную базу. Синоп заставил задуматься, так ли это просто сделать. Они сделали вывод о том, что с моря взять Севастополь невозможно.
Часть вторая
Глава I
В Англии и Франции немедленно началась подготовка к вторжению в Крым. Донесения русских агентов из этих стран отчетливо рисовали эту лихорадочную деятельность. Уже 23 декабря из Константинополя в Севастополь отправился английский пароход «Ретрибюшн». Официальной целью этого визита было известить власти о вступлении английского и французского флотов в Черное море (для «защиты турецкого»). Наделе же капитан парохода Дрюмонд и прикомандированный к нему французский разведчик лейтенант Бони должны были выведать силу береговой обороны Севастополя и определить возможности нападения на город с моря. Они сделали вывод, что с моря взять Севастополь невозможно. А во Франции уже готовилась сухопутная армия для отправки в Крым. В донесении от 14 января 1854 г. сообщалось: «Состав французской армии, отправляемой на Восток: пехотные полки двухбатальонного состава, а кавалерийские – трехэскадронного. Численность всей армии с включением егерских батальонов, артиллерии и обоза должна составить 42 тысячи человек».
Сборными пунктами для отправления назначены Тулон и Алжир. 4 февраля агент доносил: «Все полки, входящие в состав 1-го экспедиционного корпуса на Восток, направляются к Тулону с целью переброски в Константинополь». После высадки войск в Константинополе союзный флот планирует атаковать порты Крыма и Азовского моря, – сообщал тот же агент.
28 февраля сообщалось, что командующий английским экспедиционным корпусом лорд Раглан намерен высадить две первые свои дивизии в Персконе, чтобы отрезать русские войска, находящиеся в Севастополе, который в то же время будет атакован главными силами англо-французского флота.
По мере того как разрабатывались военные планы, аппетиты французского и английского правительств все более разгорались. Генералы увлеклись до того, что теряли чувство меры. По сообщениям из Парижа от 7 марта, назначенный главнокомандующим французской экспедиционной армией военный министр маршал Сент-Арно хвастался, что «начнет войну на Востоке и возвратится во Францию уже в начале июня, приняв начальство над финляндской армией, назначенной для отнятия Финляндии у России и отдачи ее Швеции». Однако ни во Франции, ни в Англии не забывали первоочередную задачу – уничтожение русского Черноморского флота и его главной базы.
Когда пароход «Ретрибюшн» еще выполнял свою «дипломатическую» миссию в Севастополе, французская и английская эскадры уже вошли в Черное море в готовности атаковать русский флот, если он выйдет из базы. Официально война между западными державами и Россией еще не была объявлена, но фактически это означало начало войны. Оно застигло Черноморский флот в крайне неблагоприятном положении. 15 января адмирал Корнилов – начальник штаба Черноморского флота констатировал, что флот находится в осадном положении и не в состоянии предпринять активных действий против вражеских эскадр.
– Корабли наши, – писал он, – покуда не в полной готовности. Герои Синопа потребовали мачт новых и других рангоутных дерев, а старики (корабли, не участвующие в сражении) подорваны усиленным крейсерством в глубокую осень и нуждаются в капитальных исправлениях. Меры берем, но нелегко исправить без адмиралтейства и без запасов.
Правда, французские и английские адмиралы под впечатлением разгрома турок в Синопской бухте пока не старались искать встречи с русским флотом, но господство неприятельских флотов на море ухудшало положение черноморской береговой линии на Кавказе. Незначительные силы русских войск, охранявшие Кавказское побережье, оказались в опасном положении. Черноморский флот не был в состоянии прикрыть эти войска. Поэтому Паскевич, Воронцов и начальник береговой линии вице-адмирал Серебряков настаивали на выводе русских гарнизонов из укреплений.
– Если мы не успеем этого исполнить, – обращался Серебряков к Воронцову, – то неприятель может со временем вынудить гарнизоны к сдаче их голодом, и в таком случае укрепления будут заняты турецкими гарнизонами.
В феврале 1854 г. гарнизоны большинства укреплений были сняты.
Обо всем этом знали и в Петербурге, и в Севастополе. Однако самонадеянный и упоенный легкими успехами Николай I не придавал значения предупреждениям агентуры и своих дипломатических представителей при западноевропейских дворах. Даже предупрежденный о намерении английского и французского правительств ввести свои флоты в Черное море, он написал Меншикову:
– Ежели точно англичане и французы войдут в Черное море, с ними драться не будем, а пусть они отведают наших батарей в Севастополе, где ты их примешь с салютом, какого они, может, и не ожидают.
Далее он писал:
– Высадки не опасаюсь, а ежели бы позднее и была, то, кажется, и теперь отбить их можно.
Князь Меншиков был в это время в Крыму высшей властью, полным распорядителем всех имеющихся здесь военных сил. После возвращения из Константинополя в мае 1853 г. он был оставлен в Севастополе и как начальник Главного морского штаба должен был готовить к войне Черноморский флот. 19 ноября царь подчинил ему объявленные на военном положении Таврическую губернию и часть Херсонской. Меншиков с представленными ему правами командира отдельного корпуса стал начальником и сухопутных войск.
Тонкий царедворец и дипломат, князь Меншиков полностью разделял мнение царя и потому не хотел считаться ни с какими предостережениями людей, сознававших опасность, угрожающую Крымскому полуострову и Севастополю. Он не верил в то, что противник решится высадить в Крыму большие силы, а поэтому не видел необходимости в серьезном укреплении города с суши.
– На Севастополь могут напасть только шайки разбойников, – говорил он. – На них не стоит обращать внимание, достаточно лишь прикрыть баррикадами городские окраины.
Меншиков даже не стал рассматривать план Корнилова, где помимо усиления береговой обороны предлагались меры по укреплению Севастополя с суши. А в проекте как раз предусматривалось сооружение батарей на Малаховой кургане, который станет впоследствии ключом обороны города. Князь не привык менять свои убеждения, и благодушие не покинуло его даже после 15 (27) марта, когда французское и английское правительства уже официально объявили войну России.
Вскоре русские войска, оккупировавшие до этого Молдавию и Валахию, ввиду угрожающей позиции Австрии были выведены в Бессарабию. Это еще более приблизило опасность к Крыму. Теперь англичане и французы получили возможность высвободить свои силы, посланные на помощь туркам на Дунай. Английские газеты открыто призывали союзных главнокомандующих к нападению на Крым. В июне 1854 г. английский официоз «Таймс» пояснил: «Политическая и стратегическая цель предпринятой войны не может быть достигнута, пока существует Севастополь и русский флот. Как скоро этот центр русского могущества на Черном море будет разрушен, рушится и все здание, сооружением которого занималась Россия столько веков… Севастополь – это ключ позиций между Дунаем и берегами Менгрелии…»
Глава II
Севастополь. Первый день сентября. В жемчужном небе, на горизонте за нежными облаками поднимается солнце. Крикливые чайки пролетают над морем. Слышен ласковый плеск волн. Облитая солнцем гладь моря свежит город, нанося его запах легким ласковым ветром. Воздух над живой гладью моря свеж и целителен. Крупные чайки лениво машут крыльями и пролетают так близко, что можно различить каждое их перышко. Простор, воля! Вдалеке идут корабли. Они скользят по бесконечной равнине плавно и бесшумно.
По городу распространилась весть о том, что с моря подходит неприятельский флот. Толпы севастопольцев устремились на городской холм, к морской библиотеке, откуда открывается обширный вид на море и окрестности Севастополя.
Неприятельская армада шла медленно и была еще далеко. Можно было различить только два парусных корабля, а за ними густое облако дыма. Это во множестве шли пароходы, которых нельзя было ни сосчитать, ни определить их направления. Ясно становилось одно – враг идет на Севастополь. Но куда он держит курс и где высадится? Эта мысль владела и толпой, собравшейся на холме, и на вышке морской библиотеки, где с подзорными трубами стояли адмиралы Меншиков, Корнилов, Нахимов и другие. Казалось, что неприятель нападет с часу на час. По эскадре был отдан сигнал: «Приготовиться к походу». Но вскоре оптический телеграф принес известие: мимо Таркан-хута прошло семьдесят неприятельских судов, потом по телеграфу сообщили, что вражеские корабли идут тремя колоннами и уже насчитано больше сотни вымпелов.
В действительности же шло 89 боевых кораблей – паровых и парусных – и 300 купеческих транспортов. На них разместилась 62-тысячная армия со 134 полевыми и 114 осадными орудиями. Англичане, французы и турки везли, кроме того, 11200 туров, 24 тысячи фашин, 180 тысяч земляных мешков, 30 тысяч кирпичей, 21600 штук различного шанцевого инструмента, запас продовольствия на полтора месяца, средства для переправ, лошадей, повозки, фураж и многое другое.
Идя к крымским берегам, враги опасались встретить при высадке отчаянное сопротивление русских, однако увидели перед собой пустынный берег, по которому разъезжал десяток казаков-дозорных.
Уже на следующий день двое из них доложили Меншикову, что противник занял Евпаторию трехтысячным десантом французской, английской и турецкой пехоты с 12 орудиями.
– Основные же силы десантной армии высаживаются на отлогий берег между двумя озерами в 18 верстах южнее Евпатории, – доложили они.
Узнав о высадке крупных сил неприятеля у Евпатории, князь Меншиков приказал разбросанным войскам сосредоточиться на реке Альме.
– Генералу Горчакову поручаю командовать правым флангом и центром, – распорядился он. – Генералу Кирьякову – левым флангом.
При этом конкретных задач он им не поставил, как не распределил между ними и прибывающие войска. Так, московский пехотный полк, совершивший форсированный марш в 150 верст за 65 часов, не получил никаких распоряжений и расположился по своему усмотрению. Вместо укрепления позиций войска бездействовали, хотя главнокомандующий не мог не знать, что река Альма везде проходима вброд и служить преградой для противника не может.
Никакого внимания не было проявлено и к солдатам, которым предстояло сражаться с неприятелем.
– Армия не видела своего главнокомандующего, ни одна часть не слыхала его приветствия, – вспоминал полковой адъютант Киевского гусарского полка И. Величко.
8 сентября союзники пошли по направлению к Альме, не встречая никакого сопротивления. Ушедшие вперед французы отдыхали, поджидая англичан, и даже принимались варить кофе в непосредственной близости от русских позиций. Наконец они вошли в зону огня русской артиллерии. Против 62 тысяч союзников со 134 орудиями у нас действовало 33 тысячи при 96 орудиях. Мало того, что их было в два раза больше, чем русских, у них было еще одно важное преимущество – нарезные дальнобойные ружья, стрелявшие в три, а то и в четыре раза дальше, чем гладкоствольные ружья русской пехоты. Удар французов генерала Воске пришелся как раз в обход нашего левого фланга, который главнокомандующий и другие генералы посчитали «неуязвимым от природы». Превосходство неприятеля, лучше к тому же вооруженного, было слишком значительно. И никакое мужество, никакая стойкость войск не могли возместить слабость вооружения и бездарность высшего командования русской армии. Русские полки были построены плотными батальонными колоннами по 24 шеренги в глубину, как это делалось всегда до появления дальнобойных нарезных ружей. Каждая неприятельская пуля валила сразу четырех, а то и пять человек.
– Их тактика отстала на полстолетия, – выразился о наших войсках вечером этого дня маршал Сент-Арно.
Понеся огромные потери (5709 человек убитыми и ранеными), русская армия отступала. Войска отступали с поля сражения в полном порядке, но неумелое, хаотическое и суетливое управление растерявшегося Меншикова в последующие дни совершенно их дезорганизовало.
Во втором часу дня 8 сентября, узнав, что на Альме началось сражение, Корнилов немедленно сел на коня и отправился туда. Всю дорогу из головы не выходила одна мысль: там, на Альме, сегодня решится участь войны. До слуха доносились частые звуки орудийных выстрелов, а когда Владимир Алексеевич приблизился к позициям, эти звуки стали редеть, и вдруг, к ужасу своему, он увидел то, чего никак не ожидал: русская армия стала отступать. Русские солдаты, предводимые храбрыми офицерами, всячески старались дать отпор врагу. Решительные, с непоколебимым мужеством предпринимавшиеся штыковые контратаки разрозненных русских батальонов наводили панический страх на врага. Особенно отличились в этих контратаках Владимирский полк, три раза бесстрашно бросавшийся на врага, после чего в нем осталось всего 11 офицеров и столько солдат, что их пришлось свести в один батальон четырехротного состава и сборный Кавказский казачий эскадрон (сотня). Дважды казаки лавой обрушивались на противника, но всякий раз их артиллерия, ведя губительный, прицельный огонь, вынуждала их отойти. Солдаты и казаки проявили стойкость, изумившую даже врагов. «Русские солдаты дрались в деле при Альме с невыразимой храбростью. Даже те, которые падали на землю тяжело раненные, еще употребляли в деле свое оружие, как скоро замечали приближение неприятеля», – вспоминали позже они.
Были у казаков и особые моменты.
– А ну, казаки, ударьте по флангу француза, – обратился командир пехотного полка к сотнику. – А то как бы они нас не окружили.
– За мной! – скомандовал сотник, и терцы наметом поспешили в указанное направление. Но что это? Навстречу им скакал приличный кавалерийский отряд.
– Шашки вон! – скомандовал сотник.
– Шашки… ша-шки, – разнеслось эхом по рядам, и сотня стала рассыпаться веером в цепь. Засверкали клинки, и началась сеча. Вскоре французская кавалерия, не выдержав стремительного натиска казаков, побежала прочь, наседая на свою же пехоту. Казаки врубились в гущу французов и начали рубить неприятеля и слева, и справа. Но они, опомнившись, вдруг дали дружный залп, отчего казаки вынуждены были отступать, а тут ударила их артиллерия. Один снаряд раздался рядом со всадником, и казака взрывом выбросило из седла. Он лежал на земле и уже прощался с жизнью. И вдруг подходит к нему конь, склонился и лизнул шершавым языком в щеку. Казак застонал. А конь опять лижет щеку и будто без слов зовет, дескать, садись, спасу. А казак не может с земли подняться. Тогда конь лег рядом, казак кое-как мешком лег поперек седла, и конь вынес его к своим. За этот бой Егор Кульбака был награжден знаком отличия военного ордена – Серебряный крест на Георгиевской ленте с изображением в центре святого Георгия Победоносца[11]. В целом же исход сражения был неудачным, и генералы, оказавшиеся неспособными руководить войсками, больше всего были озабочены тем, чтобы свалить собственную вину на других. Отступление было тоже проведено ниже всякой критики, и только вялость союзников и малое количество у них конницы помешало ряду незначительных арьергардных столкновений превратиться в катастрофу.
Вместо того, чтобы отступать к Севастополю – главной военной базе полуострова, Ментиков отвел войска к Бахчисараю.
Поражение на Альме резко изменило настроение и в городе. Возвращающиеся с поя боя солдаты рассказывали о небывалой дальности неприятельских выстрелов, об огромной численности войск противника и громадном флоте, в составе которого много паровых кораблей. Жители, допоздна не уходившие с улиц, погрузились в печаль. Безмолвие сменило прежнюю уверенность в успехе защиты города. Всем стало понятно, что опасность никогда еще не была так близко. Но солдаты и матросы и жители не собирались покорно сдать город сильному врагу. Пусть гибель, но с оружием в руках, только через трупы защитников враг войдет в Севастополь. Это настроение передавал им и начальник штаба флота Владимир Алексеевич Корнилов. Начальнику гарнизона генералу Моллеру и командовавшему эскадрой Черноморского флота Нахимову достало достаточно благородства, чтобы уступить главное начальствование младшему в чине вице-адмиралу Корнилову, угадав в нем душу всей обороны.
Корнилов, став во главе обороны Севастополя, отдал короткий, но огненный приказ, дошедший до сердца каждого солдата, моряка, обывателя, с этой минуты ставшего «севастопольцем».
«Братцы! Царь рассчитывает на нас. Мы защищаем Севастополь. О сдаче не может быть и речи. Отступления не будет. Кто прикажет отступать, того колите. Я прикажу отступать – заколите и меня!»
В Севастополе закипела работа по приведению его в состояние обороны. Руководили работами Корнилов, Нахимов и инженер-подполковник Тотлебен. На работы стало все население, включая женщин и детей, и в несколько дней буквально из-под земли вырос весь южный фронт крепости – те легендарные бастионы, о которые одиннадцать месяцев будут разбиваться все усилия врага.
Началось затопление кораблей для преграждения неприятелю доступа на рейд. Флот жертвовал собой для крепости. Один за другим опускались на дно синопские победители, их экипажи и орудия образовали гарнизон и артиллерию воздвигаемых укреплений и батарей.
Полученное союзниками известие о затоплении русских кораблей у входа на рейд вынудило изменить их первоначальный план. Главнокомандующий французской армией Сент-Арно по этому поводу сказал:
– Теперь мы уже не можем проникнуть на рейд даже после взятия с сухого пути Константиновского форта и других северных батарей.
На бивуаке у р. Качи он записал в дневнике: «Русские заградили вход в их порт. Это изменит, может быть, мой план атаки. Я, вероятно, двинусь на юг».
Совещание союзных главнокомандующих закончилось поздно вечером, а наутро их армия двинулась к реке Бельбек. Ночью они переправились через нее. А во второй половине дня жители увидели, как на Меканзиеву гору по опушке леса поднимается длинная вереница людей в красных мундирах. С горы они стали спускаться к Черной речке. Вслед за красными мундирами (англичане) потянулись темные шинели (французы). На солнце сверкали лезвия тысяч штыков.
Убедившись, что северная сторона будет оставлена неприятелем в покое, Корнилов решил с морскими батальонами перейти на южную сторону и защищать город. А здесь в это время вовсю кипели работы на укреплениях. Солдаты и матросы, жители города – старики, женщины, дети – рыли рвы, насыпали валы и брустверы, подносили землю и камень, устанавливали снятые с кораблей все новые и новые орудия.
– Войско кипит отвагой, – так говорил окружающим Корнилов, хотя про себя думал, что сил, конечно, недостаточно.
Укрепление сухопутного (южного) фронта составляли уже тогда слева направо (с востока на запад) I, II бастионы, Малахов курган (Корниловский бастион), III, IV, V, VI, VII бастионы. Это была главная оборонительная линия.
Но обширная протяженность укреплений, разделенных оврагами, балками, не позволяла одному лицу управлять войсками, особенно артиллерией. Поэтому, собрав всех старших офицеров на совещание, Корнилов объявил:
– Предлагаю все бастионы и батареи южной стороны разделить на три части и назвать их дистанциями.
Все согласились.
По диспозиции, объявленной в тот же вечер, все бастионы и батареи южной стороны распределили.
Укрепления от батареи № 10 до пятого бастиона включительно составит первую дистанцию (семь пехотных батальонов с 16 полевыми орудиями). Командование здесь возлагалось на генерал-майора Аслановича, артиллерией бастионов и батарей – на капитана 1 ранга Иванова.
Начальником войск второй дистанции (от 5-го бастиона до 3-го включительно) был назначен вице-адмирал Новосильский. Ему было дано восемь морских батальонов с 8 орудиями. Начальником артиллерии на этой дистанции назначался контр-адмирал Юхарин.
В состав третьей дистанции вошли укрепления от 3-го бастиона до Килен-Бухты с важнейшим пунктом обороны – Малаховым курганом. Назначая начальником войск этой дистанции (шесть флотских батальонов с 8 орудиями) контр-адмирала Истомина, Корнилов учитывал громадную важность этой позиции, укрепленной пока слабее других.
В помощь Истомину он назначил способного и энергичного саперного подполковника Ползикова, хорошо зарекомендовавшего себя при постройке укреплений на правом фланге обороны. Себе же в помощь Корнилов взял инженерного подполковника Тотлебена, недавно прибывшего из Южной армии, но уже показавшего энергию и распорядительность при укреплении северной стороны.
Оборонительные работы противник мог сорвать внезапным нападением, но он этого не сделал. В это время маршал Сент-Арно скончался, а сменивший его генерал Канробер все еще спорил с Рагланом о плане дальнейших действий. Защитники Севастополя удивлялись медлительности своих врагов, и каждый подаренный им союзниками час использовали для того, чтобы противник не мог застать оборону такой, какой она была и день, и час назад.
Корнилов был душой обороны. Одетый в блестящую генерал-адъютантскую форму, он проезжал впереди свиты вдоль укреплений. Он слышал восторженные крики приветствовавших его людей, уверенных в правоте своего дела. Корнилов останавливался перед войсками, крики мгновенно смолкали, и в мертвой тишине он произносил то, что единственно только и могло произноситься перед мужественными, не поддавшимися никакой панике людьми. А потом гремело долго не смолкающее «Ура!».
Этот горячий энтузиазм массы солдат, матросов, жителей адмирал, как эстафету, передавал от бастиона к бастиону.
Глава III
Неприятельские войска, подойдя к Севастополю, расположились около него двумя лагерями. То есть они распределили между собой позиции, охватывающие Севастополь с юга. Против Городской стороны – от Стрелецкой бухты до Сарандинскиной балки, в трех верстах от города, расположились две французские дивизии. Правее их, против Корабельной стороны до самой Черной речки и тоже не ближе трех верст от города – четыре английские дивизии. На Сапун-горе французы расположили свой обсервационный корпус в составе двух дивизий для охраны с тыла войск, обложивших Севастополь.
Дивизии осадного корпуса стояли неподвижно, как бы любуясь издали не затихающей ни днем, ни ночью работой русских на оборонительной линии. А в бухтах, которые перед этим были захвачены неприятелем, шла разгрузка судов. На берегу росли штабеля снарядов, туров, фашин, пороха, прибавлялось число оседлых орудий. С берега все это постепенно перетаскивалось к английскому и французскому лагерям. Утром 19 сентября, через Большую севастопольскую бухту на Графскую пристань с северной стороны были перевезены для подкрепления севастопольцам Московский, Бородинский, Тарутинский полки с двумя полевыми батареями и терский казачий отряд. А на другой день в Севастополь пожаловал и сам главнокомандующий, к немалому удивлению всего гарнизона. И хорошо сделал князь, что показался на глаза людям, изверившимся в своем главном начальнике. Проехав по линии укреплений, Меншиков увидел кипучую деятельность защитников Севастополя, сделавших без него столько, сколько трудно было и ожидать. Но князь делал вид, что ничему не удивляется, что именно так и должно было все делаться в его отсутствии и что все это чуть ли не исполнение его замыслов. Это же была заслуга тысяч людей, поднявшихся на защиту родного города. И тон в этой работе задавали моряки.
С началом осады на Городской стороне, в тылу главной оборонительной линии, защитники Севастополя начали сооружать вторую с тем, чтобы из-за этой линии можно было поражать сосредоточенными выстрелами вторгнувшегося противника. Это была пока траншея, в которой могла помещаться пехота, составлявшая резерв дистанции. Потом постепенно на второй линии устраивались батареи.
За второй линией путем укрепления городских окраин создавалась третья оборонительная линия: в зданиях южной окраины города заделывались окна и двери, устраивались бойницы, ставились орудия для обстрела подступов со стороны 4-го бастиона и Городского оврага, улицы заграждались баррикадами.
В строительстве укреплений участвовали все без исключения защитники Севастополя. Особенно много инициативы и изобретательности вложили в это дело военные инженеры, чей подвиг в обороне города русской славы составил блестящую страницу в летописи военной истории. Немалая заслуга инженеров в том, что они умели подхватывать разумную инициативу рядовых защитников, развивать ее, прилагая к ней свой опыт и искусство.
Особенно наглядно это проявилось при создании так называемой контрапрошной системы, то есть системы укреплений, вынесенных перед оборонительной линией.
– Кульбака, Бардош, Чумак, – вызвал к себе казаков-терцев командир. – Пойдете сегодня в боевое охранение.
– Есть, – ответили те.
– Зря головы не подставляйте, – напутствовал он.
Казаки прибыли на позицию. Секрет устроили в 50 саженях от передовой линии. Не успели они осмотреться и освоиться, как послышались винтовочные выстрелы. Пули чикали рядом, почти обдавая своим теплом казаков. Единственной надеждой на спасение было лечь на землю и найти укрытие.
Они залегли.
Но пули продолжали визжать рядом. И тогда Егор Кульбака, назначенный старшим, скомандовал:
– Окопаться!
Уже через полчаса каждый выкопал для себя небольшую ямку, прикрыв ее со стороны противника грудой камней. Спрятавшись в таком немудреном сооружении, казаки оказались в более менее защищенном укрытии. Они имели теперь возможность наблюдать за противником, иногда постреливать по его позициям, а сами оказывались неуязвимыми для вражеских пуль.
– Молодцы, терцы! Молодцы! – хвалили казаков моряки и солдаты, меняя их на позиции.
– Не застанет теперь нас француз в казачьей крепости, – шутили солдаты, слыша визг отлетающих от камней вражеских пуль.
Отсюда недалеко было и до мысли, а что, если таких завалов устраивать побольше да усиленно тревожить из них неприятеля ружейным огнем, не удастся ли таким образом если не приостановить, то хотя бы замедлить приближение его к оборонительной линии.
За проявленную смекалку казаки были поощрены начальством. А охотников теперь идти в завалы стало еще больше. Впереди оборонительной линии, в 75—100 саженях от вражеских параллелей и апрош, то есть как раз на таком расстоянии от них, на каком выстрелы гладкоствольных ружей были досягаемы, стало все больше и больше появляться небольших бугорков. Из-за них все чаще сыпались пули, не давая английским и французским солдатам вести вперед апроши, устраивать параллели, возводить батареи. Эта стрельба бесила неприятеля. Он обстреливал завалы из ружей, но толку не получалось: пули ударялись о камни и отскакивали назад, не принося никакого вреда сидевшим в укрытиях смельчакам.
Тогда противник открывал по завалам артиллерийский огонь, не обходилось, конечно, без жертв, посылал отряды солдат разорять завалы. Но и тут русские сообразили, что надо делать: отрывали укрытия поглубже, предохранявшие от осколков бомб, что-то вроде участков траншей. Дальше – больше. Лейтенант Пересыпкин взял пятнадцать матросов со штуцерами и лопатами и пробрался на высоту, где засели англичане. Ночью храбрецы отрыли небольшую траншею и повели ее вперед, к неприятелю, а через шесть дней английским стрелкам пришлось убегать из своей траншеи. Представляя Пересыпкина к награде, начальник 3-й дистанции отмечал: «Ныне на правом фланге траншеи наши штуцерники в таком расстоянии от неприятельских батарей, что не дозволяют прислуге заряжать орудия, и неприятельские штуцерники так отдалены, что не достают до наших батарей». Этот опыт тоже стали вскоре использовать и в других местах.
То, до чего казаки дошли своим умом, а солдаты и матросы развили исходя из боевой обстановки, не было, однако, совершенной новостью в обороне крепостей. Сооружения, названные ими контртраншеями, давно были известны инженерам под названием ложементов[12] и из опыта боевых действий на Кавказе и на Дунае, и из учебников фортификации. Требовалось только научить защитников Севастополя, как лучше устраивать завалы, ложементы, а польза их, по опыту, стала совершенно ясна. В связи с этим начальник инженеров Тотлебен провел на 5-м бастионе занятия, где была проведена пробная закладка ложементов, при этом определялись наиболее рациональные способы отрывки, потребное количество людей и инструментов. Англичане и французы, узнав о новшествах, стали нападать крупными отрядами на отдельные ложементы. Но русские и тут нашлись: стали несколько соседних ложементов соединять в сплошные траншеи.
Глава IV
Над станицей спускался вечер. Сквозь кроны деревьев проступали звезды. Шелестел тихо лес, а Терек, будто переговариваясь, шумел своими перекатами. На сторожевых вышках зажглись огоньки, а в хатах огни потухали. Только у атамана в окошке еще долго горел огонек.
Сентябрь на Кавказе выдался теплым и мягким. Через открытое настежь окно станичного правления налетели ночные бабочки. Они роем вились вокруг лампы и бились о стекло. Но собравшиеся здесь казаки не замечали этого.
– Опять из Дагестана тревожные вести? – спросили атамана казаки.
– Ага. Шамиль снова поднимает своих мюридов в набеги. Его посланцы уже шныряют и здесь, в Кабарде. Угрожают некоторым князьям расправой, если те не порвут с русскими.
– Не успел обуздать их Воронцов, – вступил в разговор писарь. – Надо было запереть их в ущельях и лишить возможности свободного перемещения.
Атаман встал. Свет лампы заколебался в стекле, и тени легли на его лицо.
– Сколько же нужно сил, чтобы осуществить этот план, – с грустной улыбкой сказал он.
– Конечно. Для этого надо много войск, – согласно отвечал писарь. – Но где их взять? Война.
В комнате возникло оживление.
– Горцев ущельями и лесом не запугаешь. На выстрел они всегда ответят выстрелом, – вступил в разговор старый казак. – Но мы ведь с вами знаем, что не все горцы склонны к грабежам и войнам. Взять наших соседей – кабардинцев. Многие из них хотят мирной жизни.
– Им нужны не солдатские посты и крепости, а города, дороги.
– Мы об этом Воронцову и говорили, – вновь вступил в разговор атаман. – Между народами Кавказа надо не клинья вбивать, а проложить дороги между аулами, станицами и крепостями, которые уже становятся городами, чтобы облегчить им жизнь. И горцы потянутся к нам.
– Не успел этого сделать Воронцов!
– А с Шамилем надо кончать, его фанатики житья не дают аулам, которые хотят жить мирным трудом. А сколько бед принес он нам?
– Настанет и его час, – вздохнув, сказал атаман, – быстрее бы закончилась эта союзническая воина.
Известие о том, что началась война, пришибцы поначалу приняли к сведению чисто умозрительно: на земле испокон веку где-нибудь воюют, а здесь, на Кавказе, постоянно. Прежде известия приходили из Закавказья, а теперь война шла и на Турецком фронте, и в Крыму.
– Если версты посчитать, – говорили станичники, – выйдет одинаковое расстояние, и не так уж далеко.
В своем истинном обличье война явилась в станицу в виде мобилизации казаков первой, а затем и второй очереди.
– Вот и докатилась война до нас опять, – говорили старики, надеясь на ее скорейшее завершение.
Судя по заносчивому тону войсковых офицеров, проезжающих в Тифлис, по проповедям батюшки при богослужении, победа, можно сказать, стояла у самых ворот. Но вместо известия о победе неожиданно пришло известие, что французы и англичане осадили Севастополь, что армия терпит поражение за поражением и только героизм моряков Черноморского флота еще удерживает город.
Организовав осаду Севастополя, союзники стали готовиться к штурму. Явившийся из неприятельского лагеря на 4-й бастион перебежчик сообщил, что англичане и французы предполагают 23 сентября штурмовать город. Потом бомбардировку намечалось начать 28 сентября, но этому замыслу не суждено было исполниться, потому что русские не дали им установить на позициях осадные орудия. Назначенную бомбардировку французам и англичанам пришлось отложить еще на неделю. 3 октября на военном совете было решено рано утром 5 октября начать усиленный обстрел оборонительных укреплений, привести к молчанию русскую артиллерию и вслед за этим штурмовать Севастополь. К этому времени французам удалось установить против Городской стороны 49 осадных орудий, англичанам – против Корабельной 73 орудия. Этим 122 орудиям крупных калибров русские противопоставили 118.
4 октября по усиленному движению противника у батарей и параллелей можно было заключить, что он заканчивает приготовления к бомбардировке. К сооруженным батареям французы и англичане подкатывали орудия, подвозили снаряды.
Русские не ошиблись в своих предположениях. Адъютант одного из пехотных полков французской армии о происшедшем 4 октября сообщал своей семье: «Отдан приказ открыть огонь завтра, 5-го в 7 часов утра… Люди поели суп, попили кофе и дожидались за ружейными козлами, пока артиллерия сделает удобные бреши, позволяющие нашим колоннам устремиться на штурм города».
Наступившее утро было пасмурное, стоял густой туман. Около шести часов туман стал рассеиваться, и тогда с оборонительной линии было замечено, как у французских батарей на Рудольфовой горе солдаты открывали амбразуры, вынимая из них мешки с землей. Ровно в шесть часов русские моряки-артиллеристы послали на французские батареи первые ядра. Французы ответили беспорядочной стрельбой. С оборонительной линии огонь усилился, и началась отчаянная артиллерийская дуэль. Над бастионами свистели неприятельские ядра, рвались бомбы, разрушая брустверы и амбразуры, поражая прислугу у орудий. В ответ с оборонительной линии моряки вели привычный для них батальный огонь. Звуки выстрелов и разрывы бомб, свист ядер и осколков сливались в непрерывный гул. Над батареями стояли облака порохового дыма, то и дело в воздух поднимались фонтаны земли, камней, обломков дерева. Матросы и солдаты, занятые делом, как бы не обращали внимания на этот ад. Они подносили заряды, заряжали орудия, убирали убитых и раненых, тут же исправляли повреждения, тушили часто возникавшие пожары, заменяли подбитые орудия и лафеты запасными. На место павшего товарища сразу же становился другой. Никто не ждал приказаний, каждый чувствовал себя так, будто от него одного зависит успех обороны и участь Севастополя. Воля сотен и тысяч людей слилась в единую волю – волю народа, вставшего на защиту своего города, дорогого сердцу уголка родной земли. Так началось первое бомбардирование союзниками Севастополя, длившееся три дня. Первый день этого бомбардирования омрачился гибелью Корнилова. С начала бомбардировки он был на 4-м бастионе, где подбадривал матросов, указывал им, куда целиться, распоряжался. Потом отправился на 5-й бастион, где встретился с Нахимовым. Кругом падало так много вражеских снарядов, что командир бастиона капитан-лейтенант Ильинский, опасаясь за жизнь Корнилова, стал просить его уйти.
– Ваше превосходительство, зачем вы ездите по бастионам? – говорил он ему, – Вы нас обижаете.
– Чем? – спросил Корнилов.
– Да как будто не уверены в нас. Я вам ручаюсь исполнить свой долг.
– А зачем же вы хотите мешать мне исполнить свой долг? – ответил Корнилов. – Мой долг видеть всех.
Оба адмирала еще долго стояли открыто, во весь рост, под сильным огнем неприятеля, разговаривали и наблюдали за разрушениями, производимыми артиллерией в укреплениях противника. Более трех часов продолжалась непрерывная канонада с обеих сторон. Это было ожесточенное состязание, не приносившее пока заметного перевеса ни русским, ни французам, – состязание огня, воли и нервов. Вдруг на одной из неприятельских батарей, действовавших по 5-му бастиону с Рудольфовой горы, взметнулся огромный столб черного дыма. Это взрывом порохового погреба разрушило батарею, перебило и переранило прислугу.
– Ура! – обрадовались успеху матросы у орудий.
– Ура! – подхватили солдаты пехотных батальонов, стоявшие в прикрытии сзади бастиона.
Ободренные этой удачей матросы стали живее работать у орудий, еще чаще посылать ядра и бомбы на Рудольфову гору, и скоро там взлетел в воздух второй пороховой погреб. Неприятельские выстрелы заметно поредели, и около половины одиннадцатого вовсе смолкли.
В это время Нахимову доставили известие о том, что неприятельский флот приближается со стороны Качи к Севастополю, и он верхом на коне отправился к рейду, на свой корабль «Двенадцать апостолов».
Союзному флоту надлежало начать бомбардировку города вместе с осадными, но он опоздал и вступил в бой, когда французские батареи уже смолкли. Выпустив 50 тысяч снарядов, неприятель так и не подавил береговых укреплений Севастополя. Он мог принять на свой счет звучащие теперь горькой иронией слова Сен-Арно, сказанные подчиненным генералам перед отправкой десантной армии в Крым: «Стрелять издалека и много служит признаком, по которому узнаются плохие войска».
Русские в ответ выпустили только 16 тысяч снарядов, но огромный флот союзников с израненными корпусами кораблей и исковерканными палубами, перебитым рангоутом и множеством убитых и раненых стал отступать.
Неприятельский флот ретировался, французские батареи на Рудольфовой горе давно уже молчали. Но еще продолжали громить укрепления Корабельной стороны с Зеленой горы Воронцовской высоты англичане.
На Малаховой кургане с самого начала бомбардировки распоряжался Истомин. Перевес все больше клонился на сторону англичан, потому что артиллерия у них была сильнее и по количеству орудий, и по калибрам. Но моряки, оборонявшие Корабельную, духом не падали и надеялись отбиться.
В начале двенадцатого, поднимаясь верхом на своей гнедой лошади от Докового оврага на Малахов курган, Корнилов услышал громкое «Ура!» – матросы приветствовали его.
– Будем кричать «Ура!» тогда, – обратился адмирал, – когда собьем английские батареи, а теперь покамест только эти замолчали, – и он указал в сторону Рудольфовой горы.
Оставив лошадь за бруствером батареи, шагах в пятидесяти от башни, Корнилов пошел к башне. Зашел в первый этаж, распорядился устроить там перевязочный пункт, поговорил с Истоминым и стал возвращаться к лошадям, чтобы ехать к Бутырскому полку, стоящему около Ушаковой балки, как неприятельское ядро угодило ему в левую ногу и раздробило ее. Флаг-офицер Жандр и еще несколько офицеров, бывших поблизости, бросились к адмиралу, подняли его на руки.
– Отстаивайте же Севастополь! – сказал им Корнилов.
На носилках смертельно раненного адмирала доставили в морской госпиталь. Последними словами героя были: «Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна. Благослови, Господи, Россию и Государя, спаси Севастополь и флот».
С гибелью Корнилова оборона Севастополя лишилась своего организатора и главного руководителя. Теперь взоры всех с надеждой обратились к победителю турок при Синопе, к тому, кто прогнал вражеский флот от Севастополя. Эти надежды были не напрасны. Никакие официальные полномочия, если бы ими даже был обличен Нахимов, не могли сравниться с тем сознанием своего морального долга и ответственности перед родиной, которое владело им в это страдное время.
Отбив нападение неприятеля с моря, Павел Степанович обратился к делам сухопутной обороны. Он знал, что враг, получив отпор, не уймется и будет снова рваться к Севастополю. Хорошо, если спокойно пройдет ночь. Утром снова загремят орудия, полетят ядра, будут рваться бомбы. Но возникшее безначалие на оборонительной линии длилось недолго. 9 октября Моллер приказом по гарнизону объявил: «Его светлость князь Меншиков изволил возложить на командира Севастопольского порта г. вице-адмирала Станюковича все обязанности по защите г. Севастополя, которые исполнял начальник штаба Черноморского флота генерал-адъютант Корнилов».
В очень трудном положении оказался Нахимов. К нему шли по всем делам обороны, со всеми нуждами и просьбами, а прав у него не было. Станюкович же свои права оберегал ревниво и прямо сказал Нахимову, чтобы он ни во что не смел вмешиваться.
На месте Нахимова другой генерал или адмирал, может быть, и радовался бы, что с него свалилась страшная ответственность, и устранился бы от опасного дела, выжидая, чем все это кончится, с уязвленным самолюбием наблюдал бы, как пойдут дела у Станюковича. Так мог поступить в положении, подобном тому, в каком оказался Нахимов, сам же Станюкович. Так мог поступить Моллер, во время бомбардировки 5 октября от страха забравшийся в погреб, – мало ли было их, осыпанных милостями самодержца и оказавшихся не годными на войне генералов и адмиралов! Берх, главный командир флота и портов на Черном море, благополучно отсиживался в Николаеве, как будто у него были там дела поважнее, чем оборона главной базы флота, и участь флота в Севастополе его волновала меньше всего. Да и главнокомандующий морскими и сухопутными силами в Крыму князь Меншиков предпочитал в самое горячее время находиться на северной стороне, а вовсе не на бастионах южной.
У Нахимова не могло возникнуть вопроса, где ему быть. Конечно там, где решается судьба Севастополя, вместе с матросами, солдатами и офицерами. Оскорбляемое Меншиковым и Станюковичем самолюбие, все личные обиды отступали у него на задний план, терялись в сознании воина-гражданина, превращались в нуль перед высокими моральными нормами, определявшими все поведение адмирала.
Он знал, что здесь, на оборонительной линии, ему никто не помешает – ни Станюкович, ни Меншиков, они не поедут сюда, под пули и ядра, и здесь, среди своих, воодушевленных теми же мыслями, что и он сам, Павел Степанович чувствовал себя полным и признанным хозяином.
Глава V
Его императорское величество Николай I за власть держался цепко. Он много труда и времени затрачивал на дела государственного управления и стремился лично и деятельно руководить ими. В министрах он видел не полномочных руководителей отдельных ведомств, а лишь исполнителей своей воли. Широко разветвленная система министерских докладов «на высочайшее имя» по самым разнообразным вопросам создала императору возможность играть роль верховной власти, непосредственно распоряжающейся в стране.
Он считал своей обязанностью лично разрешать все сколь-нибудь существенные дела и вопросы. Компетентность предполагалась как-то сама собой…
Ближайшим кругом помощников государя в делах управления была его «императорская главная квартира», из тщательно подобранных, фильтруемых людей, близких, надежных, исполнительных и преданных. Своих генералов и флигель-адъютантов Николай держал в близости и милости, но очень сурово наказывал даже за сравнительно маловажные проступки.
Недоверчивый, подозрительный, он верил чинам своей свиты, видел в них людей, которые знают его взгляды и желания и готовы беспрекословно проводить их в жизнь, притом не за страх, а за совесть.
Таким для него был и Меншиков. Но когда князь намекнул царю о том, что опасается, как бы не пришлось оставить южную сторону Севастополя и перевести весь гарнизон на северную, царь заявил, что и слышать не хочет о столь быстром оставлении города, и потребовал от Меншикова начать наступательные действия, чтобы нанести удар неприятелю и тем «поддержать честь оружия нашего». Нужна была победа, чтобы не допустить окончательного падения престижа в Европе, сгладить тяжелое впечатление и от высадки союзников в Крыму, и от поражения на Альме.
Меншиков понимал, что оставление Севастополя без попытки наступательного действия, которой требовал от него Николай, ему не простится. Именно для такого действия царь распорядился отправить к нему с Дуная IV корпус в составе 10-й, 11-й, 12-й пехотных дивизий и бригаду 14-й пехотной дивизии V корпуса. Теперь наступлением в тыл или фланг осадного корпуса союзников можно было отвлечь противника от Севастополя и облегчить участь города. И Меншиков предпринимает одно за другим два наступления.
Едва дождавшись прибытия одной дивизии с Дуная, он приказывает ее начальнику генералу Липранди атаковать в тылу у союзников английскую позицию у Балаклавы. Направление этого удара было очень выгодное. В случае успеха англичане лишались бы в Балаклаве своей базы, а русская армия оказалась бы в тылу неприятеля, и продолжать осаду Севастополя стало бы почти невозможно.
Липранди был дельный генерал, атаку организовал умело. Полки 12-й дивизии быстро сбили турок, занимавших передовую позицию, но ингерманландские гусары, атаковавшие укрепления, были отражены с жестоким уроном. Тогда азовцы, днепровцы и украинцы овладели пятью английскими редутами, взяв 11 пушек и знамя. Потеря орудий произвела на англичан удручающее впечатление, и Раглан приказал своей кавалерии немедленно контратаковать. Начальник кавалерии генерал Лукан, указав командиру гвардейской бригады лорду Кардигану объект атаки, сказал:
– Милорд, вот неприятель, и там наши орудия!
Доблестный Кардиган ринулся со своей бригадой вперед. Наскок семисот гвардейцев на огромных гунтерах был настолько стремителен, что наш Уральский казачий полк, не успевший развернуться, был буквально сметен. Ворвавшись на 3-ю Донскую и 2-ю батарею 12-й бригады, бившие картечью до последней минуты и не успевшие уехать англичане изрубили их и, не задерживаясь, понеслись дальше, увлекая за собой запряжки, повозки и ошалелых уральцев. Вся эта масса обрушилась на Киевский и Ингерманландский полки и опрокинула их. Предел этой бешеной скачке положил казачий полковник Еропкин, вовремя подоспевший с тремя сотнями сводного кавалерийского полка, где были и казаки-терцы. Конница, взяв английскую бригаду во фланг, совершенно уничтожила ее, изрубив до четырехсот английских гвардейцев. Французы пустили, было, в атаку свой конноегерский полк, но и он был обращен в бегство. Потери с обеих сторон были огромны – по одной тысяче человек. А вся Европа изумлялась отваге легкой бригады Кардигана. Но ведь и наши уланы и казаки, изрубившие эту знаменитую бригаду, как будто тоже неплохи! Они захватили их редуты, прикрывающие Балаклаву, почти полностью уничтожили кавалерийскую бригаду, в руках русских оказались Федюхины высоты, находящиеся в тылу осадного корпуса союзников. Победа была блестящая, но, чтобы закрепить ее и развить успех, нужно было дать Липранди подкрепление, но он его не получил.
Через десять дней, когда подошли остальные две дивизии, у Меншикова создается даже перевес над противником в силах. Теперь-то, казалось, русский главнокомандующий не упустит случая разгромить врага.
Меншиков тоже помышляет о новой победе, более успешной, чем под Балаклавой, своим блеском затмевающей прежние неудачи. Но сам князь, став главнокомандующим, просто не знал, что ему делать с большими войсковыми массами. На Альме, например, он был на поле боя, молча наблюдал, что там происходит, но вмешиваться не стал. Не знал, с какого конца. Потом увел армию на Куликово поле – зачем? Он тоже не знал. Лишь бы подальше от неприятеля. Петр Горчаков подсказал ему, что лучше вести ее к Бахчисараю, дабы не дать неприятелю перерезать сообщение Севастополя со страной. И Меншиков повел.
Дела под Балаклавой князь целиком перевалил на Липранди. Удача – хорошо, неудача – в ответе будет Липранди. Так же распорядился Меншиков и о наступлении 24 октября. Он поручил это дело только что прибывшему командиру 4-го корпуса генералу Даненбергу. Неважно, что генерал этот бестолковый и уже провалил два сражения на Дунае, – ему по штату положено командовать корпусом, пусть и командует.
Главнокомандующий решил отвлечь французов демонстрацией, а главный удар нанести по английскому корпусу на Инкерманских высотах, разрезать союзную армию пополам и, введя в дело крупные конные массы, оттеснить англичан к Балаклаве, французов – к Стрелецкой бухте и сбросить тех и других в море.
В жестоком Инкерманском сражении 24 октября план, хорошо задуманный и плохо выполненный, потерпел полную неудачу. Диспозиция Инкерманского сражения была составлена без карт. Их генерал Даненберг оставил в Херсоне, заявив, что «эту местность он знает, как свой карман». Карман оказался, однако, с прорехой: вся местность оказалась пересеченной глубокими оврагами, которые не были приняты во внимание составителями диспозиции. В ударную группу было назначено 37 тысяч человек при 134 орудиях (левый фланг). В центре Горчаков (Петр) должен был отвлечь на себя французов (у него было 20 тысяч человек и 88 орудий). Против французов же демонстрировал и наш правый фланг Тимофеева (10 тысяч человек и 40 орудий). Лишь этот последний и выполнил поставленную задачу, приковав 1-й французский корпус генерала Форе. Горчаков бездействовал, позволив 2-му французскому корпусу Боске прийти на выручку англичанам. У огромной массы русских войск не нашлось в этот день руководителя. Даненберг оказался беспомощным на поле боя и ничем не распоряжался. Командир первой двинувшейся на неприятеля дивизии генерал Соймонов, про которого говорили, что он один из немногих честных и мыслящих генералов, был смертельно ранен в самом начале атаки. А князь Ментиков был вдали от поля боя, в Георгиевской балке он развлекал шутками и остротами приехавших в Севастополь царских сыновей. К тому же англичане, как и на Альме, имели дальнобойные нарезные ружья и наносили ими страшные потери русским войскам. Изумительный героизм русских солдат, массами бросавшихся в штыковые атаки, не смог спасти положение. Отбив нападение, неприятель стал преследовать отступающих артиллерийским огнем, но тут заговорили орудия пароходов «Владимир» и «Херсонес», удачно поставленных Нахимовым в бухте, и вражеская артиллерия замолчала.
Попытка разгромить правый фланг осадного корпуса, при ином руководстве имевшая шансы на какой-то успех, дорого обошлась русской армии. Она потеряла больше десяти тысяч человек – почти треть участвовавших в сражении войск, – из них около трех тысяч убитыми, войска потеряли веру в бесталанных генералов.
На союзников стремительность атак и героическое сопротивление русских солдат произвели сильнейшее впечатление. Под этим впечатлением англичане и французы, замышлявшие штурмовать Севастополь 25 октября, перестали думать о штурме. В этом смысле под Инкерманом русскими не все было потеряно. Но одно дело – впечатление противника и его намерения, русским солдатам неведомые, другое дело – кровь десяти тысяч товарищей, пролитая в один день, и неудача, поражение.
Глава VI
К началу кампании 1854 года действующий Кавказский корпус был усилен. Александро-польский отряд насчитывал 22 тысячи человек при 74 орудиях, Ахалцихский – Андронникова – 14 тысяч при 24 орудиях и вновь сформированный Эриванский – барона Врангеля – 5 тысяч человек с 12 орудиями. Всего 41 тысяча человек при 110 орудиях. Это третья часть всех числящихся по росписи на Кавказе сил.
Турецкая армия насчитывала 100 тысяч человек, а главных своих сил у Карса насчитывала 60 тысяч при 84 орудиях.
В 20 числах мая турки открыли кампанию, но стали нести поражения:
– авангард Ахалцихского отряда под командованием князя Эрнстова разбил отряд Гассана, перебив 2 тысячи турок и взяв 2 орудия, сам Гассан погиб;
– отряд Андронникова в сражении у Чолоха 4 июня разбил Селим-пашу, перебил 4 тысячи турок и захватил 36 знамен и 13 орудий;
– Эриванский отряд барона Врангеля в первых числах июля вышел навстречу 16-тысячному отряду турок, вышедших из крепости Баязет, чтобы его атаковать, и 17 июля на Чингильских высотах разбил, а 19-го – овладел Баязетом.
Тем временем главные силы обеих сторон, Александропольский отряд князя Бебутова и Анатолийский корпус Куршид-паши, оставались в бездействии друг против друга. Бебутов стремился выманить турок из неприступной позиции Хаджи-Вали на поле, разбить их и на их плечах ворваться в Карс.
Бездействие русских и затруднения с фуражом побудили Куршида решиться на атаку русского отряда, и 24 июля произошло самое упорное и жестокое сражение всей войны – сражение при Кюрюк-Дора.
На рассвете 24 июля 60-тысячная турецкая армия по настоянию руководивших ею иностранных офицеров двинулась для атаки нашего 22-тысячного отряда под командованием самого Бебутова.
На равнинах в трех верстах от Кюрюк-Дора и завязался ожесточенный бой, в котором казаки-линейцы покрыли себя неувядаемой славой. Жестокое побоище шло 4 часа, с утра до полудня. В самом разгаре боя стоявшие на правом фланге казаки были пущены в атаку на обходившую наши войска турецкую конницу. Три сотни полковника Скобелева (отца белого генерала), за ними полк Камкова, три сотни донцов и конно-мусульманская бригада, поддержанные дивизионом тверских драгун, с дружным «Ура!» кинулись вперед. Вся масса турецкой кавалерии была в миг рассеяна. Линейцы, заехав вперед правым плечом, атаковали дивизион конной артиллерии и взяли три орудия. Турецкий уланский полк, бросившийся на выручку орудий, был атакован с фронта сотнями Скобелева, донцами и тверскими драгунами, а с фланга – линейцами Камкова и почти весь истреблен. Увлеченные преследованием линейцы гнали противника до тыла его расположения сквозь интервалы турецкой пехоты. В конце концов турки были разбиты и в полнейшем расстройстве отступили в Карс, потеряв при этом в бою 15 орудий, 26 значков и знамен и до 10 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Кроме того, у них разбежалось до 12 тысяч башибузуков. Наши потери – 3 тысячи человек.
Несмотря на блестящую победу, князь Бебутов все-таки не решился приступить к осаде Карса, крепости, защищавшейся 40-тысячной турецкой армией, и осенью отошел к Александрополю. Остаток лета прошел в партизанских стычках. Потерпев полное поражение по всему фронту, турецкая армия никакой активности больше не проявляла. Чолох, Чингильские высоты и Кюрюк-Дора отчасти скрасили год Альмы и Инкермана.
Глава VII
Мрачная полоса поражений не сломила веры севастопольцев в победу. Получая очередную весть о прорыве где-либо или о гибели товарищей, казаки уже не сжимались, не вздрагивали, как прежде, а проникались еще большей жаждой победы. На весы было брошено все: пережитый стыд, выстраданная боль, пролитая кровь. Теперь Егор с товарищами знал: завоевать победу означало вернуться домой.
Шел уже третий месяц героической обороны. Севастополь стойко выдерживал натиск сильного врага. Защитники его по-прежнему каждый день видели в самых опасных местах рядом с собой своего любимца и советчика Павла Степановича Нахимова. Даже офицеры, очень хорошо его знавшие и привыкшие к его сердечной отзывчивости на всякое доброе дело, поражались вниманию адмирала, когда он терпеливо выслушивал всевозможные предложения, независимо от того, от кого они исходили – от матроса, солдата или женщин, приходивших на бастион перевязывать раны защитникам или помогать в постройке укреплений.
А те, кто были формально наделены правами распоряжаться делами обороны, по-прежнему на бастионах не показывались. Это становилось ясным для начальства и дошло до царя. В конце ноября начальником гарнизона вместо генерала Моллера был назначен прибывший из Одессы Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен. Его поразила та неистребимая воля к победе и уверенность в успехе борьбы, которые владели всеми людьми в Севастополе. И нельзя было, конечно, не заметить, кем был для всех этих людей Нахимов. Остен-Сакену, может быть, даже стало немного не по себе, когда он увидел, что настоящим главой обороны, признанным всеми авторитетом является никакой не начальник гарнизона, а формально лишенный каких-либо прав вице-адмирал Нахимов. От того, как сложатся отношения с ним, во многом зависела репутация нового начальника, а деятельное участие Павла Степановича в руководстве обороны представлялось для успеха ее делом первостепенной важности. К тому же, принимавшемуся за новое дело Остен-Сакену очень важно было иметь постоянное содействие человека, которому до мелочей было известно все и на оборонительной линии, и в тылу, который своей распорядительностью мог предотвратить многие упущения самого Остен-Сакена. Он просит Меншикова назначить Нахимова помощником к себе, но тот, не возражая против фактического использования адмирала в этой должности, приказом узаконивать назначение не собирался. Тогда Сакен сам объявил Нахимова своим помощником.
Новое назначение ничего не изменило в ежедневных занятиях Нахимова, но только как-то закрепило, хотя и без надлежащего оформления, его положение. Павел Степанович, как и неделю и месяц назад, успевал всюду. Продолжая командовать эскадрой и наблюдая за рейдом, объезжал оборонительную линию, распоряжался снабжением батарей и бастионов, посещал госпиталь. Все мысли его в продолжении всего этого времени были сосредоточены на одном: не допустить, чтобы неприятель овладел Севастополем.
А обстановка все осложнялась. Положение вокруг Севастополя и особенно на Малаховой кургане становилось слишком серьезным. Тревожило Нахимова ухудшение снабжения гарнизона.
Однажды, побывав на Малаховой кургане, Нахимов направился на Городскую сторону. Лейтенант Ухтомский, предполагая, что он направляется в госпиталь, вызвался проводить его.
– А вам куда идти? – спросил адмирал.
– Хочу навестить в госпитале раненых своего экипажа.
– И прекрасно, – сказал Нахимов, – идемте вместе.
Дорогой он говорил о непорядках в гарнизоне, о злоупотреблениях. Его давно беспокоило питание солдат и матросов. Из-за плохого снабжения осажденного города, воровства интендантских чиновников и ухищрений частных подрядчиков, к услугам которых приходилось прибегать, оно было из рук вон плохим. Нахимов накладывал штрафы на должностных лиц, злоупотребляющих казенными суммами и провиантом, разоблачал махинации подрядчиков. Его деятельность в это грозное для Севастополя время была поразительно многогранна. Но каждый день, рано утром, часто после бессонной ночи, его неизменно видели на бастионах.
Прибыв в Гатчину, Николай I, уединившись с приближенными, весь день обсуждал «программу будущих мероприятий». Царь и придворные лихорадочно искали эффективные меры по перелому дел в Крымской войне и не находили их. Меншиков, регулярно присылающий донесения, намекал о сдаче Севастополя. Остен-Сакен, недавно назначенный начальником Севастопольского гарнизона, надеясь на Всевышнего, ожидал какого-то перелома.
Николай вздыхал, тер лоб, вставал из-за резного письменного стола и, заложив руки за спину, сутулясь, ходил по кабинету. Он любил Гатчину, но сегодня чувствовал себя пленником этой загородной резиденции.
При мысли о том, что Севастополь может быть сдан, Николая продирал мороз. «Это будет конец», – сидело в голове. Он подошел к столу. Не присаживаясь, посмотрел на исписанный лист бумаги, вверху которого было четко написано «Манифест», взял ручку и, подержав, снова ее отложил. Мысленно он винил своих министров, генералов в том, что они довели войну до поражения. И теперь вот – этот Манифест, в котором он, самодержец, должен обращаться к народу.
Неслышно ступая, в кабинет вошла Мария Федоровна, положила руку на плечо и спросила:
– Неужели все так серьезно?
– Если Севастополь падет, война проиграна, – хмуро ответил Николай.
– Вот мое последнее спасение, – сказал он и ткнул пальцем в Манифест. – Я должен подписать его. Мы сделали эту войну Отечественной, наподобие войны 1812 года.
Он вздохнул. Обмакнул перо и вывел размашисто: Николай I – 1854 г.
В начале 1855 года, усилив войска в Крыму, император Николай I повелел Меншикову перейти к наступательным действиям. Чтобы что-нибудь предпринять, Меншиков предписал генералу Хрулеву с заведомо слабым отрядом овладеть Евпаторией. Поиск этот успехом не увенчался, и 5 февраля отряд, потеряв 750 человек, был отражен союзниками от Евпатории. А 18 февраля войскам гарнизона и армии был объявлен приказ Меншикова: «Быв вынужденным по болезни выехать в г. Симферополь, поручаю командование войсками на время отсутствия моего генерал-адъютанту барону Остен-Сакену». Отдавая этот приказ, Ментиков не знал, что возвращаться в Севастополь после излечения ему не придется. Николай I, воспользовавшись его жалобами на болезнь мочевого пузыря, а более всего недовольный тем, что князь не смог за все время командования армией предпринять наступательных действий, еще 15 февраля уволил его от должности и назначил вместо него М. Д. Горчакова.
Остен-Сакен, временно вступивший в должность командующего войсками в Крыму, 18 февраля возложил командование Севастопольским гарнизоном на Нахимова, а через неделю Павел Степанович вступил еще и «в отправление должностей командира порта и военного губернатора г. Севастополя».
Но 18 февраля не стало Императора Николая Павловича, и на Всероссийский престол вступил Александр II. Смена главнокомандующего совпала, таким образом, со сменой монархов.
Глава VIII
Внезапная кончина (18 февраля 1855 г.) Николая I породила легенды: одна гласила, что Николай не мог пережить неудачи Крымской кампании и покончил с собой, другие обвиняли лейб-медика Мандта, иностранца, в том, что он «уморил царя». Легенды эти, распространившиеся с молниеносной быстротой, были настолько тревожны и держались настолько упорно, что уже в первые же дни после кончины Николая потребовалось правительственное оповещение о событии 18 февраля с целью их пресечения.
Литература, как официальная, так и мемуарная, представляет кончину Николая следующим образом: «Сей драгоценной жизни положила конец простудная болезнь, вначале казавшаяся ничтожною, но, к несчастью, соединившаяся с другими причинами расстройства, давно уже таившимися в сложении лишь повидимому крепком, а в самом деле потрясенном, даже изнуренном трудом необыкновенной деятельности, заботами и печалями, сим общим уделом человечества, может быть, еще более трона» Тот же Мандт писал: «В Гатчине государь стал неузнаваем: душевное страдание сломило его прежде, чем физическое. Если бы вы его видели при получении каждой плохой вести! Он был совершенно подавлен, из глаз катились слезы… Эти минуты бывали для государя нечеловеческим мучением». В более поздних заметках о Николае есть указание на то, что в Гатчине, где он тогда жил, «помнят про его бессонные ночи, как он хаживал и клал земные поклоны перед церковью». Что же так угнетало властелина? Приведенные выше фразы о силах душевных и христианских упованиях Николая опять и опять заставляют задуматься над тем, не имела ли основания народная молва. Была ли смерть следствием обострившегося гриппа или Николай не сохранил сил душевных и оборвал сам нить своей жизни?
Современники самым подробным образом описывают последние минуты Николая, мольбы императрицы о принятии Св. Тайн, прощании с семьей, находившимися во дворце сановниками и слугами, обряд исповеди и затем кончину его в 12 ч. 20 мин. пополудни 18 февраля.
Но причины этого внезапного «паралича» от этих описаний не становятся понятными, скорее наоборот. Более того, действия властей показывают, что они явно скрывали (пытались скрыть) подлинную причину «паралича» и скоропостижной кончины царя.
24 марта 1855 г. «с Высочайшего соизволения» вышла книга на русском, польском, английском и французском языках – «Последние часы жизни Императора Николая Первого» (без указания автора и издателя, с пометкой типографии II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии). Книга эта была направлена к тому, чтобы, кратко изложив ход болезни императора, его просветленную кончину, рассеять сомнения в неестественности его смерти. Почти одновременно в Брюсселе вышла скромная брошюра о последних днях императора, дающая богатую возможность чтения между строк. Это попытка психологического анализа внутреннего состояния Николая I во время Крымской войны, с сообщением попутно фактических сведений опоследних часах его жизни. Разъяснив Европе в напыщенных фразах неоцененного и непонятого ею покойного русского императора, автор подходит к изложению обстоятельств, подготовивших его кончину. Практический вывод у автора вполне определенный: Николай умер вследствие развившейся простуды. Теоретические же его рассуждения приводят к обратному заключению: огорченная душа Николая не вынесла испытаний, и «он за лучшее почел удалиться». Представим этому документу говорить самому за себя: «В беспрерывное течение тридцати лет (царствования), неутомимо сея добро, на остаток дней своих и в последний час свой пожать зло, проведя всю жизнь свою в том, чтобы силою труда и долготерпения воздвигнуть на зыблющейся почве Европы здание чести, справедливости и мира; видеть, что здание это разрушается в своих основаниях и, разрушаясь, оскорбляет седины его злословием, подозрением и неблагодарностью, – вот что уязвляет кровавыми ранами благородное и чувствительное сердце, вот что разбивает его, как стекло, натуру твердую, как гранит. Честь, которая столь долгое время поддерживала этого монарха в битвах, где сражался он равным оружием, эта самая честь должна была сделаться причиною смерти его в тот самый день, когда он увидел, что против него направлены оружия, несвойственные ему. Могли он покориться безуспешности своих усилий?… Нет, он не мог, он не должен был это сделать! При жизни он был бы мертв, по кончине он пережил себя…» Это многозначительное и торжественное многоточие пока ни к чему не обязывает автора.
На следующей странице он заявляет, что Николай умер от воспаления легких. Далее, указав на высокое призвание русского императора и воздав ему всяческие хвалы, автор взывает: «Отложите ваш приговор, люди, всегда готовые изрекать суждения дерзкие и пристрастные! Теперь не та минута, чтобы произносить суд, теперь настала минута молитвы. Вашему честолюбию, вашей ненависти нужна была жертва? Вот она, эта жертва. Довольны ли вы? Нет, потому что вы желали победить этого великого человека, а он победил вас своею смертью. Вы хотели унизить его, а Бог возвысил Его до Себя!» Ссылки на волю Всевышнего здесь явно прикрывают признание автора, что смерть Николая – акт его собственной воли («он победил вас»).
Но вернемся в Гатчину.
…Судьба свершилась. Уже 15 февраля граф Кисилев – генерал-адъютант, министр – в связи с тем, что уже с воскресенья государь не принимал от него докладов, поинтересовался у военного министра князя Долгорукова:
– Каково состояние здоровья Его Величества?
Тот ответил:
– Болезнь серьезная, но прямой или положительной опасности нет.
Когда он спросил об этом же 17 февраля у камердинера, тот ответил:
– Государь очень жалуется на боли в боку, худо почивал – много кашлял, а теперь успокоился.
На другой день, приехав во дворец, генералы, военные и гражданские сановники узнали, что государь находится в безнадежном состоянии, что он исповедался и приобщился. Призывал всех детей и внуков, прощался с императрицей, выговорил ей и прочим членам своего семейства утешительные слова, простился с прислугою своею и некоторыми лицами, которые тут находились и наконец последний и тихий вздох отделил душу от тленного тела.
– Судьба свершилась, – объявил камердинер. – Государь скончался.
В это время присутствующие тихо стали произносить слова соболезнования. Но голос военного министра прекратил размышления приглашением по принятому обычаю идти в придворную церковь для исполнения присяги императору Александру II.
Все пошли и исполнили обряд, а граф Кисилев со слезами на глазах – и с горем в душе – пожелал сыну, наследуя могущество отца, «наследовать и добродетели Его, в чем Бог да поможет Ему».
Через два дня, после обозрения и прощания, тело покойного из Зимнего дворца повезли в Петропавловскую крепость в царскую усыпальницу.
Процессия была столь же длинна, сколь и титул усопшего властелина —
Мы, самодержец и император Всероссийский, царь Польский, великий князь Финляндский, Великая Малая и Белая Руси и прочая, и прочая, а в этом «прочая» содержался перечень земель рублем, мечом, сговором или «волеизъявлением мужей знатных», присоединенных к империи, коих и числились повелителем и обладателем все Романовы (а точнее сказать, Гольштин-Готторны), с Петра III поочередно занимая трон, обагренный кровью пращуров. И каждому титулу: великий князь Киевский, Владимирский, Новгородский, Рязанский, Тверской, Смоленский, Ярославский и т. д., ханств: Казанского, Астраханского, Ногайского, Крымского, Сибирского, всех Кавказских, Закавказских и Закаспийских земель – соответствовала в процессии или корона, или иные символы как вещественное олицетворение царств, ханств, земель.
Эта символика в золоте, алмазах, бриллиантах возлежала на атласных пурпурных подушечках, покоилась в немощных старческих руках, окольцованных золотом, усыпанных алмазом и прочей мишурой, а руки несущие соединялись с мундиром, золотом вытканным, осыпанным драгоценностями. Медленно ползла, извиваясь змеею и вновь вытягиваясь, золотосверкающая алмазоносная процессия от дворца к крепости, от последнего жилища царя до его вечной обители.
Глава IX
Григорий Кульбака, разводя посты, вспоминал, как недавно хоронили Николая I. Он тогда отличился, охраняя траурный кортеж. Какой-то безумец пытался выхватить корону из рук одного генерала, чуть не нарушив шествие. Он его задержал. Тогда молодой император заметил его и выделил. Теперь он – урядник. Часто приходится охранять царя, а иногда и сопровождать. И нет-нет, но встают вопросы: «Как поведет себя новый царь? Как поведет дальше войну? Всего несколько месяцев назад все происходило по-другому, и газеты писали, что Севастополь выстоит. Как могло случиться, что Россия проигрывает Крымскую кампанию?»
И там, под Севастополем, бьется с англо-французами его брат Егор.
Но он, конечно, не знал, что к этому времени армия союзников значительно усилилась. Руководство осадными работами принял на себя присланный Наполеоном III инженер-генерал Ниель. Он предложил направить главную атаку на Малахов курган, так как, овладев им, союзники легко смогут уничтожить остатки русского флота, город и арсеналы. И этот план был принят.
Для усиления английских войск, осаждающих Корабельную сторону, сюда были переведены две французские дивизии. Они начали деятельную подготовку к захвату холма Кривая пятка, господствующего над подступами к Малахову кургану. Захватив его, можно было установить на нем батареи, начать усиленное бомбардирование укреплений Корабельной стороны и под прикрытием артиллерийского огня продвигаться к Малахову кургану.
Понимая огромное значение Кривой пятки, французы называли его «Зеленый холм». Для устойчивости всего левого фланга обороны Истомин с самого начала осады настаивал на занятии ее и устройстве здесь сильного укрепления, которое держало бы под огнем все подступы к Корабельной стороне. Меншиков три месяца препятствовал этому, ссылаясь на то, что неприятель сосредоточивает главные усилия против 4-го бастиона, а от укреплений левого фланга он слишком далеко и растягиваться не следует, ибо это потребует дополнительных сил и средств.
Теперь, когда противник направил главные усилия на Малахов курган, командование не сопротивлялось занятию и укреплению Кривой пятки. Но укреплять холм теперь предстояло под огнем противника. Была опасность, что французы попытаются сбросить посланные туда войска прежде, чем они успеют там укрепиться. Поэтому прибытие группы солдат инженерной роты казаков-терцев с артиллерийской батареей было кстати.
– Ко времени прибыли, братцы! – просто обратился адмирал Истомин к казакам. – Противник вот-вот полезет сюда, чтобы сбить наших с холма, – и он указал направление, откуда мог появиться враг.
В это время воздух содрогнулся, и на дороге, по которой только что проехали казаки, с оглушительным грохотом взметнулся столб земли и песка. На полном скаку на холм на взмыленных конях пролетела батарея и, заняв позицию, открыла ответный огонь. После каждого выстрела дергались и откатывались стволы орудий, изрыгая языки пламени. Командир батареи – смуглый казак, нервно пощипывая усы, сообщил:
– Прощупывают гады. Здесь они и полезут, чтобы не дать нам укрепиться.
Раздались взрывы.
– Казаки, убыть на редут и ждать команды, – передал приказание Истомина адъютант.
Перед тем как уехать, хорунжий подошел к казаку-артиллеристу и сказал:
– Держитесь, братцы, помощь подойдет!
– Будем стоять насмерть, – ответил тот, и казаки тронулись.
Дорога оказалась запруженной подводами, навстречу шли матросы. Это командование укрепляло опасный участок. А с противоположной стороны опять загромыхали пушки. Снаряды посыпались в самую гущу, началась суматоха. Лошади ржали, пучили глаза, вставали на дыбы. Люди разбегались кто куда, падали на землю.
Казаки резко свернули с дороги и поскакали напрямик в указанном направлении. Волною взрыва Андрея Чумака швырнуло на землю. Нога запуталась в стременах, и жеребец, как бешеный, понес его по полю, волоча за собой, покуда не подбежал к люнету[13], где располагался штаб. Общими усилиями казаки освободили Андрея, и он, хотя и не прочно, но встал на ноги.
– Спасибо, – проговорил он не то казакам, не то коню, который стоял рядом, моргая глазами, словно в чем-то провинился.
– Вот, брат, какие дела, – похлопывая коня по крупу, говорил Андрей, когда его окружили товарищи.
– Казаку на роду написано – умереть в поле, а я мог погибнуть на море.
Все заулыбались. А Тимофей Бардош пошутил:
– Ну, теперь, Андрей, тебя никакая пуля не возьмет, раз снаряд не взял.
Притомившийся Андрей с шумом дышал, его широкая грудь поднималась и опускалась, подобно кузнечным мехам. И он только и смог ответить:
– Это мелочи.
Начальник французских инженеров генерал Бизо предложил идти на штурм холма и овладеть им. Но казаки, солдаты и матросы дважды отбили их атаки. И тогда Канробер, охлаждая пыл Бизо, приказал приступить к осаде «Зеленого холма».
Чтобы помешать продвижению осаждающих, русские и здесь смело выдвинули на 150 саженей вперед ложементы, соорудив их всего в ста саженях от неприятельской параллели. Французы несколько раз пытались отбить ложементы, но каждый раз их отбрасывали назад батальоны Камчатского полка. В честь геройской защиты передовых позиций камчатцами укреплению на Кривой пятке было присвоено наименование Камчатского. Комендантом его был назначен командир правой батареи Корниловского бастиона капитан-лейтенант Сергей Сенявин.
Не решаясь больше атаковать ложементы, французы начали усиленную бомбардировку Камчатского укрепления и Малахова кургана. Одной из жертв этой бомбардировки стал контр-адмирал Истомин. Утром 7 марта он по брустверу траншеи возвращался с Камчатского люнета на Малахов курган. Капитан-лейтенант Сенявин, провожавший его, испугался:
– Ваше превосходительство, сойдите в траншею, тут очень опасно идти.
– Э, батенька, – ответил Истомин, – все равно от ядра не спрячешься. – Едва успел он это сказать, как неприятельское ядро снесло ему голову…
В день похорон Истомина в Севастополь прибыл новый главнокомандующий – князь М. Д. Горчаков. По своим личным качествам он не больше Меншикова подходил для того, чтобы командовать героическими защитниками Севастополя. Он сразу же начал уверять войска в скором изгнании неприятеля из Крыма, но этим его словам не особенно верили, ибо в Севастополе было немало людей, служивших под начальством Горчакова на Дунае и хорошо знавших, что он на что-либо решительное не способен. И действительно, уже в первых письмах царю и Долгорукову новый главнокомандующий доказывал, что «ход дел в Крыму издавна весьма испорчен», что без больших подкреплений отстоять Севастополь не удастся, и считал лучшим выходом из положения – оставить город.
А руководство обороной по-прежнему всей тяжестью лежало на плечах Нахимова, и он не тяготился этим бременем. По-прежнему его встречали на бастионах толпами, несмотря на его же запрещение не выходить из блиндажей, чтобы не подвергаться опасности.
Неприятель между тем заготавливал в больших количествах порох, подвозил артиллерию, возводил новые батареи, подтягивал подкрепления. Перебежчики доносили русским о том, что готовится новая продолжительная бомбардировка оборонительной линии, за которой должен последовать штурм.
Ранним утром 28 марта с корабля в Стрелецкой бухте взвилась ракета – и неприятель открыл огонь на всей оборонительной линии.
Бомбардировка продолжалась десять дней, до 8 апреля. Враги выпустили по Севастополю почти в два раза больше снарядов, чем в ответ им русские, но не добились успеха. Штурм был снова отложен на неопределенное время.
Через несколько дней после бомбардировки в Севастополь пришел приказ о производстве Нахимова в адмиралы. Этим же приказом барон Остен-Сакен возводился в графское достоинство, полковники Васильчиков и Тотлебен производились в генерал-майоры и зачислялись генерал-адъютантами в царскую свиту.
Глава X
Вступив на родительский престол, Александр II очень переживал за положение дел в Севастополе. Получая разноречивые донесения соответствующих начальников, он стал терять надежду на сохранение города. Желая явить новый знак монаршего доверия к своим верноподданным, он часто вызывал к себе членов своей свиты, министров, генералов штаба и подолгу советовался с ними по поводу того или иного события в Крыму.
Узнав, что из Севастополя прибыл известный русский ученый хирург Пирогов, царь приказал немедленно пригласить его к себе. И вот Пирогов, пробывший несколько месяцев на «русской Голгофе», еще не повидавшись с семьей, прибыл в Михайловский дворец. Встретила его Великая княгиня Елена Павловна, которая перед сражением под Инкерманом представила ему свой план – основать женскую помощь больным и раненым на поле битвы, и предложила взять управление делом.
После приветствия княгиня с восторгом обратилась к Пирогову:
– Верьте, Николай Иванович, я знаю о вашей титанической работе. Я очень горжусь вами, я понимаю!
– Понимаю, что первые наборы сестер не всегда были удовлетворительны, ибо проводились с большой поспешностью и некоторые сестры брались без образования, – горячо говорила Елена Павловна, теребя на шее крупные белые бусы.
– Ничего, Ваше высочество, – отвечал Пирогов. – Замечательно, что самые простые и необразованные из наших сотрудниц выделяют себя более всех своим самоотвержением и долготерпением. Одна из них заведовала категорией тяжелораненых и безнадежных к излечению, так солдаты звали ее сестричкой. Другая, также простая и необразованная, посещала по собственному желанию наши форты, была известна, как героиня. Она помогала раненым на бастионе, под самым огнем неприятельских пушек.
– Как же! – услышал Николай Иванович голос сзади и вздрогнул. – Это же Дарья! Отец дал ей пятьсот рублей, медаль и обещал еще тысячу, когда она выйдет замуж.
Николай Иванович обернулся. На резном диванчике возле стены сидел средних лет грузный военный в спускавшейся до бедер белой куртке с золотыми позументами, отороченной на воротнике и рукавах голубым песцом. «Государь!» – мелькнуло в голове.
Александр заметил его догадку и, показав рукой, что можно сидеть, что это замешательство вполне заменяет приветствие.
– Дарья – не милосердная сестра, Ваше величество, – заметил Николай Иванович, двигая свой стул так, чтобы впредь можно было адресоваться и к великой княгине, и к государю, – хотя, конечно, героиня.
– Так надо бы взять. Что вы не можете брать и других женщин, из разных слоев общества? – удивился Александр.
– Отчего же. Но для этого нужно принести присягу, обещать исполнять известные условия. Дарье как раз предлагали вступить, она даже приходила ко мне подробнее справиться об условиях приема. «Надобно, – разъяснил я, – по крайней мере год оставаться целомудренной». «Можно и это», – согласилась она, но больше уже не являлась.
Александр расхохотался.
– К чему такой пуризм! Это уж, верно, твое, тетя. Не отпирайся. Так, пожалуй, ты сэкономишь мне тысячу, которая теперь лежит на мне.
Смеясь, Александр откинулся в угол диванчика, с облегчением избавляясь от согнутого положения туловища, стеснявшего заметный живот, и принялся ритмично барабанить пальцами правой руки по полочке стоявшего возле диванчика резного торшера.
– Ты же слышал, что говорит Николай Иванович, – отвечала княгиня. – Экономия по этому пункту, кажется, не состоится.
– Вообще все действия сестер, – подытожил Пирогов, – особенно сравнительно с действиями администрации, должны быть названы не иначе как благородными. Собранные мною впечатления вы, Ваше высочество, найдете среди посланных вам ранее бумаг.
– Я читала, уже читала! – великая княгиня вскочила со своего места и, как будто бессознательно, большими шагами заходила взад и вперед по комнате, говоря все громче:
– Это прекрасно, глубоко! Ваше предложение передать сестрам нравственную дирекцию перевязочных пунктов и лазаретов заслуживает несомненно сочувствия! Не так ли, Александр?
– Да, пожалуй.
– Признаюсь, Ваше высочество, на факте женщины исполняют эти должности с самого первого дня своего прибытия в госпитали. Уже ранее, еще не быв ознакомлен с женской службой, я понял, что женская совестливость гораздо действеннее может влиять на злоупотребления администрации, чем официальная контрольная комиссия. Но сказать вам, кто понял это прежде меня? Наша госпитальная администрация! Она живо смекнула, куда приведет женский догляд, и стала громко роптать на превышение с моей стороны власти, прижали отпуск дров, теплого белья, горячей пищи. Я должен постоянно жаловаться, писать, требовать. При таком частом писании не всегда можно обдумать выражения, какие приняты в официальных бумагах. И вот некоторые выражения в моих письменных просьбах находят несоответственными. После десятка моих напоминаний, чтобы снабдили ледяные бараки дровами, Остроградский напал на мое выражение «имею честь представить на вид»…
– Однако что же прикажете делать с Отечеством, – неожиданно резко прервал Александр, – если лицам, поставленным в начальственное положение, начнут представлять на вид?… Я слышал про это ваше представление, слышал и считаю его неприличным! В высшей степени непозволительным и не могущим быть извинимым никакими обстоятельствами! Тем паче – спешкой. Для чего же и время, как не обдумать просьбу в инстанции!
Вспыхнувший мгновенно Николай Иванович не знал переходных состояний. Но тут он вспомнил свое возвращение с первой войны, и это воспоминание помогло ему сдержаться. Тогда он приехал с Кавказа, от Воронцова, где при осаде Салты впервые применил эфир, сделав с ним больше шестисот операций. Приехав возбужденный сознанием заслуг перед Отечеством, он тотчас по приезде был призван к военному министру, князю Чернышеву. В министерство, несмотря на больные ноги, он летел словно на крыльях, позабыв о своей одежде. А в то время произошла какая-то перемена в форме, и он, представ князю, получает выговор за несоблюдение оной с присовокуплением приказа немедленно отправиться в Медико-хирургическую академию и доложить о сем выговоре непосредственным своим начальникам. И многое бы сейчас дал Николай Иванович, чтобы этого не было! Его натянутые нервы не выдержали. Тут же, в кабинете министра, с ним случилась истерика, с рыданиями, криком, руганью и угрозами все бросить и навсегда уехать за границу, где уж, верно, сумеют оценить его труд!..
Зардевшая Елена Павловна ловила его взгляд, желая извиниться за выговор императора и боясь, что Николай Иванович бросит свой доклад вовсе. Но он продолжал.
– Всякий врач, – сказал он после паузы, которой, казалось, давал Александру время осмыслить всю неуместность его вмешательства, – должен быть убежден, что злоупотребления в таких предметах, как пища, питье, топливо, белье, лекарства, действуют на раненых так же разрушительно, как госпитальные заразы. Главные же врачи должны помнить, что, требуя от подчиненных необходимой субординации, они не должны употреблять ее во зло, как средство сокрытия истины. В нашей же обстановке нравственный контроль, разумеется, не может уж быть столь эффективен. – Он обращался к Елене Павловне, но метил в императора. – Каждый вечер, Ваше высочество, приходят ко мне сестры, и мы выдумываем всевозможные крючки, чтобы ловить госпитальных воров. Несмотря на то, еще не успели поймать, отчего куриный суп, в который на триста шестьдесят человек кладется девяносто кур, выходит таким, что на вкус курицей и не пахнет. Уж и котлы запечатывали – не помогает! А хорошо бы подкараулить… Право, жалко смотреть: полагается такое количество, что можно бы сносно кормить, а больные не видят супа…
– Хищения и взятки всегда и везде были, есть и будут! – с заметным усилием сдерживаясь, сказал Александр. – Спаситель сам избирал апостолов – да и то один из них оказался взяточник!
– Нет ни одного лишнего матраца. Нет вина, нет хинной корочки, – продолжил Николай Иванович, делая вид, что не замечает состояния императора. – Нет даже кислоты на случай, когда разовьется тиф. А он уже есть.
– Из штаба Горчакова доносят, что тиф не настоящий, – обрезал Александр.
– Но хоть и от не настоящего, а умирают, и уже кроме солдат есть и врачи, и медсестры… Занимает меня теперь транспорт. Особенно в холода. В открытых телегах везут больных семь дней из Симферополя в Перскон, оставляют без ночлега, в поле или в нетопленных татарских избах. Иногда дня по три без еды.
– Я встречал такой транспорт около Кременчуга, – сказал Александр, давая понять, что ни одно слово доклада Николая Ивановича не оставляет без проверки, – действительно, один полушубок на трех больных.
– И это при том, что целая площадь Симферополя завалена горою полушубков, пожертвованных народом, но никак не умеющих самостоятельно попасть по назначению, – заметил Пирогов.
– Этого не может быть! – вскричал Александр, вставая и глядя прямо в лицо Николаю Ивановичу, словно настаивая, чтобы тот взял эти полушубки назад.
– Как «не может быть», государь, когда я сам тому свидетель, – твердо повторил Николай Иванович и проводил ускользающий взгляд Александра. – Умолчу ли, Ваше величество, о невероятном транспорте, где взяли пятьсот раненых, только что получивших операцию, и их в пути оказалось не на что положить и укрыть от ливня. Они вопили о помощи, со всех сторон раздавалось стучание зубами, от которого бросало в дрожь.
Николай Иванович остановился, переводя дух и ощущая, как от своих воспоминаний приходит в тяжелую нервную испарину.
– До двадцати мертвых находили между ними каждый день… За кого же считают солдата? Кто будет хорошо драться, когда он убежден, что раненого его бросят, как собаку?
Только тут он заметил знаки, подаваемые ему Еленой Павловной, и увидел императора, согнувшегося на диванчике, с платком у глаз. Плечи Александра вздрагивали. Он стал сморкаться, тереть глаза, потом поднялся, и Николай Иванович остановился, давая ему время привести себя в порядок.
– Продолжай, – проговорил Александр, чувствуя, что на него смотрят, – это ужасно, тут и моя вина.
Есть два рода оправдания, поразился этим его словам Николай Иванович: один – просто врать, другой – говорить правду, описывая собственную вину, даже как нельзя хуже. Выслушав такого правдолюбца, поневоле остановишь свои обличения, духу недостанет сказать: да кто же, черт возьми, виноват тут, как не ты сам!
– Да, врачи тоже виноваты… виноваты, что, как пешки, не смеют пикнуть, гнутся, подличают и, предвидя грозу от разъяснения правды, молчат, – продолжал Николай Иванович. – И как у нас не хотят понять, что покуда врачи будут находиться в такой зависимости, что трясутся от одной мысли прогневать начальство, до тех пор ничего нельзя путного ждать. Если я принес хоть какую-нибудь пользу, то именно потому, что встал в независимое положение. Но всякий раз, нахрапом производя шум и брань, приносить эту пользу не очень весело. Никто и не подумает, что это делается для общей пользы, без всяких других видов… Думают сейчас, что это я для собственной выгоды.
Тут Николай Иванович, машинально провожавший глазами ходящего по зале императора, заметил, что в своем хождении Александр тщательно выбирает лишь узорчатые паркетины, на них только и наступает. «Да он, кажется, не слушает?» – подумал Николай Иванович и перенесся в Севастополь, в госпиталь, расположенный в бывших морских казармах. Лишь немногие раненые – на кроватях, большинство – на нарах. Матрацы, пропитанные кровью и гноем, по недостатку мешков и соломы остаются под больными дней по пять. В десятом часу начинаются перевязки, продолжаясь до двух или трех. В три раненых, которым необходима операция, несут в длинную, похожую на коридор комнату, и здесь на трех столах разом начинают операции. По десять-двенадцать в день, пока не стемнеет. И это еще легкий день. В войне много зла, – продолжает размышлять Николай Иванович, – но есть и поэзия. Человек, глядя смерти прямо в глаза, и на жизнь смотрит другими глазами. Много горя, много и надежды, много забот, много и разливной беззаботности. Как же остаться сложа руки одним только наблюдателем. Нет, начатое нужно кончить! Покуда чувствуешь, что полезен, покуда Господь дает здоровье и покуда не погнали тебя силой… Ты ехал в Севастополь не для того, чтобы рассказывать, что был там…
Глава XI
А положение в Севастополе оставалось серьезным. Неприятель продолжал заготавливать в больших количествах порох, подвозить артиллерию, возводить новые батареи, подтягивать подкрепления. Перебежчики доносили, что готовится новый штурм. И действительно, в апреле деятельность противника оживилась. Наиболее жаркое дело произошло в ночь на 20-е, когда французы овладели передовой позицией при редуте Шварца. Это был первый сколько-нибудь ощутимый успех неприятеля. Наша контратака, предпринятая уже днем и всего двумя батальонами Владимирского полка, успеха не имела. Мы потеряли 972 человека, французы – 683.
В последних числах апреля – начале мая союзники сосредоточили под Севастополем 170-тысячную армию (100 тысяч французы, 25 тысяч англичане, 28 тысяч турки, 15 тысяч сардинцы). Русские войска уступали им более чем вдвое: 55 тысяч в Севастополе да около 21 тысячи на Северной стороне, Бельбеке, Инкерманских и Мекензиевских высотах. На позициях союзников стояло 587 осадных орудий, на наших – 549.
В ночь на 10 мая французы готовили передовые позиции у Кладбищенских высот против V и VI бастионов, но после упорного ночного боя были отражены. В этом бою наши потери составили 2,5 тысячи человек, это четвертая часть защищавшего эту позицию отряда генерала Хрулева. Горчаков был поражен этим уроном и приказал в ночь на 11-е оставить эти позиции.
Пользуясь господством на море, союзники 12 мая заняли Керчь и предприняли ряд десантных операций.
22 мая генерал Пелисье, назначенный перед этим главнокомандующим французской армией вместо смещенного Канробера, овладел Федюхинскими и Балаклавскими высотами и долиной речки Черной. После этого он решил предпринять штурм наших передовых позиций у Малахова кургана. 25 мая начинается третья бомбардировка, еще более жестокая, чем две предыдущих. Она продолжается до 30 мая. В это время приходит повеление Наполеона III произвести штурм Севастополя 6 июня – в годовщину Ватерлоо, подчеркивающую англофранцузское братство по оружию.
С рассветом 5 июня союзники открыли четвертую бомбардировку. По мощи огня она превосходила все прежние. Обстрел ни на минуту не прекращался ни днем, ни вечером, продолжался и ночью. А в третьем часу ночи французская дивизия генерала Мейрана бросилась в атаку на 1-й и 2-й батальоны. Русские отбили пять атак. Две из них были направлены на Малахов курган. Пелисье послал туда войска в третий раз, и они, ворвавшись на батарею Жерве – у самого Корниловского бастиона, смели защищавший ее батальон Полтавского полка. Тут очень кстати появился генерал Хрулев с двумя десятками казаков. Он остановил возвращавшуюся с работ роту Севского полка, которая шла с лопатами в руках и ружьями за плечами.
– Ребята, бросайте лопаты! Благодетели мои, в штыки, за мной, – прокричал он.
– Казаки! Бей им во фланг! – И повел их на разъяренных французов, уже повернувших в наш тыл орудия батареи. Завязалась отчаянная рукопашная схватка. Наскок казаков заставил французов опешить, а тут на помощь севцам подоспели остатки батальона полтавцев. Когда ворвавшиеся французы были разбиты, из 138 человек в роте Севского полка осталось в живых только 33 человека. Штурм был блистательно отбит по всему фронту. Но положение крепости становилось с каждым днем все более критическим. На каждый наш выстрел противник отвечал тремя. Силы защитников таяли. Дивизии по численности равнялись полкам, полки сводились в батальоны. Лишь ценой нечеловеческих усилий удавалось по ночам исправлять повреждения от непрерывных бомбардировок. 8 июня был ранен Тотлебен, а 28 июня на Малаховой кургане был убит Нахимов. Обстоятельства смерти Нахимова поистине трагичны. Офицеры упрашивали его сойти с кургана, особенно сильно в тот день обстреливающегося.
– Не всякая пуля в лоб, – ответил им Нахимов, и это были его последние слова. В следующую секунду он был убит, и как раз пулей в лоб.
Горчаков сознавал, что дни Севастополя сочтены и дальнейшее отстаивание полуразрушенной твердыни влечет лишь бесполезные потери. Но он не обладал моральным авторитетом Кутузова, пожертвовавшего Москвой, и не смог сохранить для армии те 42 тысячи севастопольцев, что обагрили своей кровью развалины своих бастионов в июле-августе 1855 г.
В июне к Севастополю подошли подкрепления. Прибывшие из Петербурга генералы Бутурлин и барон Вревский убедили Горчакова дать полевое сражение.
4 августа сражение состоялось и закончилось нашим поражением. Наш урон составил: 8 генералов, 260 офицеров и 8 тысяч нижних чинов. У союзников погибло 1818 человек.
На следующее утро, 5 августа, загремела канонада пятого усиленного бомбардирования, длившаяся четыре дня, стоившая защитникам четырех тысяч человек и причинившая большой ущерб крепости. Горчаков и Остен-Сакен стали принимать меры по эвакуации, распорядившись о сооружении плавучего моста через бухту на Северную сторону А учащенный артиллерийский обстрел продолжался еще пятнадцать дней, унося ежедневно по 500–700 севастопольцев.
Обескровленный гарнизон был не в состоянии исправлять повреждения, силы его падали. К 20 августа французы находились в 60 шагах от Малахова кургана, англичане – в 200 шагах от III бастиона. Пылкий Пелисье решил нанести изнемогающей крепости последний удар.
На рассвете 24 августа открылся трехдневный огненный ад шестого усиленного бомбардирования. Неприятель выпустил за эти дни 150 тысяч снарядов (наши батареи – 50 тысяч). Севастопольцы потеряли за три дня 8 тысяч человек, батареи Малахова кургана и II бастиона вынуждены были замолчать. Держаться дальше в этих развалинах было немыслимо и без штурма.
27 августа ровно в полдень 58 тысяч англо-французов ринулись в атаку. У нас на всем сухопутном фронте крепости было 49 тысяч. После жестокого боя союзники были отовсюду отбиты, однако дивизии Мак-Магона удалось взять Малахов курган и сохранить его за собой, несмотря на отчаянные наши усилия вырвать его обратно. Не помогло самоотвержение командиров, ни героизм горсточки модлинцев, державшихся, несмотря ни на что, против всей неприятельской дивизии в развалинах Малаховой башни. Когда дело дошло до рукопашной, дрались все от генерала до рядового. На выручку остаткам 15-й дивизии и части 9-й подоспели Ладожский, Азовский и Одесский полки, но все усилия вырвать Малахов курган из рук врага остались тщетными. Был ранен генерал Хрулев, командовавший на Корабельной, ранены начальники дивизий: 9-й – генерал Лысенко и 12-й – Мартинау, а начальник 15-й дивизии генерал Юферов заколот штыком. Наши потери составили без малого 13 тысяч человек, у союзников, по их словам, выбыло 10 тысяч человек (7576 французов, 2451 англичан). Лично убедившись в невозможности продолжать борьбу, Горчаков решил воспользоваться утомлением союзников и отбитием штурма на всех прочих пунктах и приказал начать отступление с южной стороны. Отступление под прикрытием надежных арьергардов началось в 7 часов вечера и продолжалось всю ночь. При свете пожаров и непрестанно следовавших взрывов войска переходили бухту по двум плавучим мостам. Арьергарды парализовали все попытки неприятеля дебушировать из Малахова кургана и начать преследование.
Последними сошли с укреплений и проследовали по мосту Тобольский полк и небольшой отряд казаков-терцев.
В эту ночь на 28 августа были затоплены последние остатки Черноморского флота. В дни 28-го и 29-го были взорваны укрепления приморского фронта, и 30 августа неприятель стал занимать груды обгорелых развалин, которыми являлся Севастополь на двенадцатом месяце своей героической защиты. А затем две армии: русская, насчитывавшая в своих рядах с ополчением 115 тысяч человек и отошедшая к Бахчисараю, и союзная, насчитывавшая 150 тысяч человек, несмотря на уход турецкого отряда на Кавказ, встали в бездействии друг против друга. Обе стороны отдыхали от одиннадцатимесячного напряжения, как бы сознавая, что войне наступает конец и что участь ее уже была решена на куртине Малахова кургана в день 27 августа.
Глава XII
Военные действия 1855 г. на Азиатском театре не были столь решительными, как первые два года. Турки, очистив Закавказье, отступили к Эрзеруму. Только в Карсе они оставили 20-тысячный гарнизон, в надежде на сильные естественные и искусственные его укрепления, делавшие эту крепость неприступной. Но русские обложили Карс и успешно его блокировали.
Несколько раз турки пытались прорвать блокаду и пробиться на выручку к Карсу, но напрасно. Одна из таких попыток была сделана в конце августа и дала случай «закаленным в боях» линейцам показать во всю ширь свою удаль и умение пользоваться временем и обстоятельствами.
Получив известие, что сильный кавалерийский отряд турок численностью более трех тысяч человек, при четырех горных орудиях, сосредоточился в селении Пеняк, что в 20 верстах от Карса, по Карсо-Ольтинской дороге, Муравьев двинул против них отряд Ковалевского, передовую часть которого составляли четыре сотни казаков-линейцев, ракетная команда и сотня добровольцев. Давно уже тяготясь вынужденной бездеятельностью под Карсом, казаки, радуясь встрече с врагом, понеслись вперед, по-линейски, как привыкли скакать дома по тревоге. Длинной вереницей растянулись они по тесному ущелью и в 6 часов вечера были уже у Пеняка. Сняв один за другим дозоры и отогнав несколько табунов пасшихся лошадей, казаки бросились в шашки на встретивших их башибузуков.
– Вперед, казаки! – неслось со всех сторон, и уже передовая сотня ворвалась в Пеняк.
Турки выбежали на улицы, очумелые от неожиданности, с трудом приходя в себя. Они метались в разные стороны, искали своих коней. Но коней не было, а со всех сторон на них набрасывались казаки, сбивая с ног и рубя своими острыми шашками. Турки, не выдержав удара, обратились в бегство. Сперва они одиночками пытались убегать задворками, а затем сперва правофланговый, а затем и левофланговый полки обратились в бегство. Есаул Сердюк взял с боя одно орудие, остальные под прикрытием успели уйти. Али-паша, командовавший этим отрядом, попытался остановить бежавшие войска, но его окружили казаки. Он продолжал неистово сопротивляться и был бы зарублен, но подъехавший офицер успел остановить казаков. Али-паша был захвачен в плен. Сбитый с лошади, он стоял покачиваясь, не понимая, что с ним произошло. Исподлобья, свирепо посматривая на толпившихся перед ним казаков, он водил налитыми кровью глазами и твердил:
– Аман, Аман[14]!..
Кто-то крикнул из толпы:
– Что вы с этим супостатом возитесь? Кончайте его, да на коней! Отдыха не будет.
Но подъехавший ранее офицер дал команду:
– К командующему его, – чем закончил споры казаков.
Главная масса турок бежала по ольтинской дороге, а другая – к селению Котык. Пеняк был наш.
Хотя линейцам не давалось задачи атаковать весь отряд, они, упоенные успехом, продолжали его гнать. Они гнали неприятеля на протяжении 15 верст, и только наступавшая темнота и совершенное утомление лошадей заставили их прекратить преследование, в продолжение которого они взяли еще три орудия. Урон неприятеля составил 300 человек. В плен взяты кроме начальника отряда Али-паши один офицер и 45 нижних чинов, остальные разбежались по горам. С нашей стороны убитых не было. Ранены два казака и 6 добровольцев.
В сентябре положение нашей Кавказской армии усложнилось высадкой в Батуми Крымской турецкой армии Омер-паши. Этот генерал, недовольный унизительной, по его мнению, ролью, которую его заставляли играть англофранцузские начальники, совершенно не считающиеся с его мнением, настоял на переводе его армии из Крыма на Кавказ. С ним было 20 тысяч войск и 37 орудий. Одновременно с батумской армией Омера на деблокаду Карса должен был выступить из Эрзерума и Вели-паша.
Торопясь покончить с Карсом, Муравьев решил овладеть им приступом, однако кровопролитный штурм успеха не имел.
Непреклонная решимость Муравьева продолжить осаду Карса спутала все расчеты турок, надеявшихся, что русские снимут осаду с наступлением холодов. В последних числах октября начался снегопад. Снег завалил все проходы через Соганлуг, так что опасность движения турецких войск от Эрзерума отпадала.
Предоставленный собственной участи гарнизон Карса терпел большие лишения, и 16 ноября, когда исчезла надежда на выручку, крепость капитулировала.
Осада Карса длилась 108 дней. Из 30-тысячного гарнизона Вассиф-паши к моменту сдачи осталась половина. За время осады 8500 турок было убито и умерло, 2 тысячи взято в плен и до 3 тысяч бежало. Из сдавшихся 6500 иррегулярных были отпущены по домам, а 8 тысяч регулярных войск объявлены военнопленными, среди них и главнокомандующий мушир Вассиф-паша с восемью другими пашами. Трофеями были 12 знамен, 50 значков, 136 орудий. Муравьеву за это был пожалован титул графа Карского.
Узнав о падении Карса, Омер-паша отступил в Батум. Сдачей Карса и отступлением Крымской турецкой армии и закончилась кампания 1855 года, а вместе с ней и Восточная война…
349 дней севастопольской обороны обошлись русской армии в 128 тысяч человек, из которых 102 тысячи пало на укреплениях и 26 тысяч – в полевом бою. Союзники лишились 70 тысяч человек, не считая больных.
1 января 1856 г. Горчаков, назначенный в Польшу взамен ушедшего на покой Паскевича, сдал армию генералу Лидерсу, однако герой Трансильвании ничего уже поделать не мог.
В феврале 1856 г. в Париже начались переговоры о мире. 18 марта (по другим источникам 19 февраля 1856 г.) мирный договор был подписан. Россия теряла часть Дуная и часть Южной Бессарабии. Черное море объявлялось нейтральным, в результате чего Россия должна была ликвидировать там военный флот, базы и арсеналы. Севастополь был обменен на занятые русскими войсками турецкие крепости в Закавказье. Самой тяжелой была потеря влияния России на Балканах.
Глава XIII
А в мае в Царском селе происходил высочайший смотр казаков Собственного Его Величества Конвоя, уходящих на льготу. Погода была теплая, с солнцем. У Екатерининского дворца было много гостей. Белели шляпки высокородных дам, пиджаки сановников, блистали мундиры офицеров и прочих гостей.
Командир конвоя и штабс-офицеры на белых конях ждали государя. Зуд гордости и чванства в торжественную минуту особенно велик. Когда зазвучала труба и священник из верхних окон дворца вознес: «Спаси, Господи, люди твоя», начальник Конвоя поскакал навстречу государю. Бездыханно вросли в землю казаки, слушая царское поздравление:
– Конвой честно и верно служит своим царям и Родине как в походах, так и в мирное время, – обратился к ним Александр. – Предки мои ценили вас, как и я, беззаветную преданность кубанских и терских казаков Конвоя. Уверен, что и грядущие его поколения будут служить по примеру своих славных предков. Благодарю прежде служивших и ныне находящихся в строю Конвоя за службу.
Дружными криками «Ура!» со стороны казаков были покрыты благодарственные слова государя.
Многое уже видел за службу в Конвое терский казак Григорий Кульбака, но в этот момент трепет охватил его душу и неожиданная слеза навернулась на глаза. Это ведь и его три года службы в Конвое отражены в словах благодарности императора, который продолжал:
– За верную вашу службу, казаки, мое сердечное спасибо.
«Да, это и мне спасибо», – подумал Григорий и стал вспоминать. Уже на второй год службы он привык к царским особам так, как привыкают казаки к станичному атаману. Уже тогда он заслужил от царя улыбку и вопросы: «Как служится? Откуда, братец?».
Птица удачи коснулась своим крылом Григория и уже при новом царе. В прошлом году только и было разговоров о нем – терском казаке, которому оказал свое внимание сам молодой император.
«Ну, и что из этого? – думал Григорий. – Дурацкая получилась тогда ситуация, ну совершенно дурацкая. А царь заметил, и меня поощрили, теперь я – урядник».
«Но что из этого? – снова подумал Григорий. – Что я раньше видел в станице? Бахчу в степи, скотину во дворе, скачки, базар где-то в станице или городе. Тут вокруг сиятельные особы, камер-пажи, царская родня, а мне так хочется домой, на Терек, в родную станицу».
На высокой красивой лошади царь Александр II казался еще меньше, чем на земле. Не было в нем отцовской внушительности, и только глаза, как знал Григорий, большие, крупные.
Приятно было, что при словах благодарности «прежде служивших» государь полуобернулся в сторону, где стояли старики с пышными бородами, а «нынешним» – он как бы посмотрел в его сторону. Все вокруг внушало почитание, все говорило подданным: никакого другого порядка в русской истории не было и не может быть. Глядите на нас и знайте: другого никогда не будет!
Трижды проходили конвойцы церемониальным маршем посотенно на шагу, рысью, наметом, и все присутствующие махали им руками. Когда фронт снова выстроился, император подошел к столику и принял из рук начальника Конвоя чарку вина и произнес следующие слова:
– За дальнейшую славу Моего Конвоя, за здоровье прежде в нем служащих и за ваше здоровье, казаки!.. Ура!
А затем конвойцы показали фокусы джигитовки «при всем Петербурге». И чего только они не вытворяли на сытых кабардинских конях! И двое на одном, и трое – на двух, и боролись на скаку, и падали вниз. Клали коня на землю, подбирали раненого и, как в станицах, хватали с земли монеты.
– Ай да казаки! – неслось из толпы.
А казаки, жмурясь от солнца, еще более рьяно носились по кругу, думая про себя: «Глядите, вы – шляпки и белые пиджаки, это вам не ликеры попивать. Кто еще так может?»
Вечером конвойцы пригласили гостей на шашлыки. Обмывали награды и подарки, полученные от государя и величественных особ. Шутили и рассказывали байки. Обид не было, хотя обедали врозь, старшие чины – в зале с золотыми люстрами и росписью, нижние чины – в отдельных комнатах казармы.
Глава XIV
Окончилась Крымская война. Войска стали возвращаться домой, в том числе и на Кавказ. А здесь обстановка была неспокойной. Главными пунктами беспокойства оставались Западный Кавказ, а также часть Чечни и Дагестан, где после экспедиции в Грузию продолжал свои рейды Шамиль. И хотя неудачи преследуют его одна за другой и он сам начинает чувствовать, как меркнет его слава, он не остается в бездействии и продолжает свои набеги. Поэтому основные усилия кавказских войск теперь направляются на его подавление.
В 1856 году главнокомандующим на Кавказ назначается князь Барятинский, молодой еще военачальник, талантливый администратор, командовавший до этого левым флангом Кавказской линии. С этого года главные силы Кавказской армии направляются на окончательное покорение Кавказа.
Князь Барятинский предписал продвинуть правый фланг Кавказской линии к Майкопу и все занятое пространство заселить казаками. Задачу покорения Чечни он поручает генералу Евдокимову, и уже летом этого года ряд наибов Малой Чечни изъявили покорность. В 1858 году предпринимается покорение Большой Чечни. Евдокимову поручается демонстрация, сам же Барятинский предпринял поход в Аргунское ущелье, блестяще удавшееся. В эту кампанию имели место ряд сражений, в одном из них, при штурме аула Кишури, был убит начальник Кавказской гренадерской дивизии генерал Вревский.
Выжатый Евдокимовым из Малой Чечни, разбитый Барятинским в Аргунском ущелье Шамиль бежал в аул Ведень, в глубину лесов Большой Чечни. В январе 1859 года Евдокимов предпринял зимний поход на Ведень. Чеченская твердыня Шамиля, осажденная 17 марта, 1 апреля пала. С последними мюридами Шамиль бежал в Нагорный Дагестан.
Летом знаменательного 1859 года Барятинский пошел на Дагестан с целью нанести Шамилю решительный удар. Последним пребыванием Шамиля в Дагестане был Гуниб, до появления наших войск считавшийся неприступным. Здесь должно было свершиться величайшее в истории Кавказа событие. И произошло это так.
Начинавшая бледнеть луна выглянула из-за темных, с серыми краями туч, и неясный свет озарил дворы, улочку, спящий аул и людей возле дома Шамиля. На каменные плиты площади и крышу мечети заструился серебристый свет уже меркнувшей луны. Сильнее потянуло холодом с гор, тени задвигались и стали медленно таять, уступая место рассвету. Звезды гасли одна за другой, тая в утренней мгле и белесом сером небе.
Шамиль подошел к своим наибам, тихо о чем-то беседовавшим, и сказал:
– Настает утро, ночь уходит, братья, пора вспомнить о молитве!
Люди оживились, поднялись с мест, заходили по двору, снимая с коней попоны и расстилая по земле бурки.
– Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк Его. Молитесь, братья, ибо молитвы лучше сна! – негромко, но убежденно проговорил Шамиль.
И сейчас же все, и часовые, и люди, стоявшие у коновязей, и те, что занимали караулы вокруг дома, опустились на колени.
– Ля-илляхи! Иль Алла Магомет резуль-алла! – произнесли молящиеся.
А над ними все шире и светлей поднималось ясное летнее утро, и все алее становился восток, и горы окрашивались в радужные цвета зари.
Лица молящихся были сосредоточены и суровы. Было тихо, и только иногда с шумом переступали застоявшиеся кони да позвякивали о камни шашки молившихся часовых, не снимавших оружия и во время молитвы.
Проснулся и аул. Началось движение, слышались голоса, стучали раскрываемые двери, и при свете уже поднимавшегося солнца на улице замелькали люди.
Утренний намаз заканчивался, когда к Шамилю прискакал вооруженный всадник.
– Русские у аула! – разнеслось по улицам.
Гуниб расположен на горе, отделяющейся от соседних гор протоком Аварского Койсу и высокими, обрывистыми скалами. Гунибская гора имела при подошве до сорока верст в окружности и от двух до четырех верст высоты. Без сомнения, Шамиль считал себя на Гуниб-Даге (гора) совершенно в безопасности, и появление русских вблизи аула для него стало неожиданным.
Командующий войсками Прикаспийского края генерал-адъютант барон Врангель поручил ведение блокады полковнику Лазареву, а сам остановился в лагере, неподалеку от аула. 18 августа к нему прибыл сам наместник на Кавказе князь А. И. Барятинский.
Оценив обстановку, он вызвал к себе полковника Лазарева и приказал:
– Предложите Шамилю сдаться. Скажите, что я даю ему двадцать четыре часа на размышление.
– А еще какие передать условия? – переспросил Лазарев.
– Скажите, что, если он прекратит сопротивляться и вместе со своими мюридами сдастся, я дозволю ему свободный выход из пределов России в Мекку на постоянное место жительства со всей его семьей.
Лазарев передал все условия главнокомандующего, но Шамиль отверг их и выставил свои.
Раздраженный князь Барятинский потребовал, чтобы Шамиль сам явился к нему немедленно и дал решительный ответ: да или нет.
Шамиль ответил, что не согласен на сделанные ему предложения, и заявил:
– Наверху Бог, на Гунибе его правоверные мусульмане, а в руках их мечи для священного газавата.
Два дня по приказанию барона Врангеля войска готовились к штурму. И вот в ночь на 25 августа сто тридцать добровольцев, а за ними батальон егерей, обутых в лапти и поршни, с лестницами и крючьями, подсаживая друг друга, при полной тишине, вскарабкались на террасу, отделяющую нижний обрыв от второго. Не останавливаясь, они вскарабкались на вторую террасу с помощью лестниц и веревок, но уже под огнем противника, и затем на верхнюю площадь, где к шести часам утра собрался весь батальон.
Двадцать пятого числа в девять часов утра Шамиль был ошеломлен появлением у себя в тылу наших войск, преодолевших столь грозные вершины, которые он считал неприступными.
Войска окружили Ганиб. Огонь был приостановлен.
Шамиль, окруженный со всех сторон, вынужден был сдаться, но тянул время. Он послал своих парламентариев, сказав им:
– Удостоверьтесь, точно ли сардарь[15] здесь, – потому что хотел сдаться только ему лично.
– И еще спросите: какие будут условия? – напомнил он.
Князь ответил, что теперь ни о каких условиях не может быть и речи[16], но если Шамиль покорится немедленно, то он обещает ему и его семейству жизнь.
Шамиль колебался, но к вечеру передал, что готов выйти к главнокомандующему. Он просил полковника Лазарева прийти к нему и сопровождать его. Барон Врангель дал согласие.
Полковник Лазарев вошел в аул. На площади его встретила толпа хорошо вооруженных мюридов, среди которых у оседланной серой лошади стоял Шамиль. Поздоровавшись с ним, полковник Лазарев после тяжелого молчания сказал:
– Шамиль! Всему миру известно о твоих подвигах, и слава их не померкнет. Если ты, покорясь судьбе, выйдешь сегодня к главнокомандующему и предашься великодушию государя императора, то спасешь от гибели тысячу человек, оставшихся в живых и тебе преданных. Заверши свои славные подвиги поступком благоразумия и великодушия, а сардарь может много для тебя сделать. Он будет ходатайствовать перед государем об обеспечении будущности твоей и твоего семейства.
Шамиль колебался, опасаясь за свою жизнь, и предложил Лазареву остаться с его сыновьями, пока он вернется от главнокомандующего.
Полковник Лазарев ответил:
– Я не прислан к тебе аманатом[17]. Если хочешь, пойдем теперь же, а не хочешь, то я уйду назад.
Между тем некоторые мюриды, потрясая оружием, говорили, что за смерть их повелителя русские дорого заплатят. Другие советовали Шамилю не склоняться на убеждения полковника Лазарева.
– Если я явлюсь к главнокомандующему, дозволено ли мне будет вернуться к своему семейству? – спустя некоторое время спросил Шамиль.
На что Лазарев ответил:
– А никто и не хочет разлучать тебя с семейством, и, я думаю, препятствий к возвращению тебя в аул не будет.
Настала минута, в которую совершилось величайшее событие в истории Кавказа.
Шамиль, окруженный шестьюдесятью вооруженными мюридами, которые держали ружья наготове, вышел из родного аула.
Цепь солдат расступилась, и по горам Дагестана раздалось восторженное, единодушное и оглушительное «Ура!».
Шамиль в тревожном недоумении остановился, готовый повернуть назад. Но снова появился полковник Лазарев:
– Разве ты не понимаешь, что это войска приветствуют тебя по приказу сардаря! – обращаясь к Шамилю, воскликнул он.
Подозрительный Шамиль успокоился и продолжил путь. Шествие приближалось к войскам. Барон Врангель, ответив ласково на поклон Шамиля, сказал:
– Шамиль, хотя до сих пор русские были твоими врагами, теперь ты найдешь в них лучших своих друзей. – Видя до крайности растерявшегося Шамиля, он продолжил: – Я убежден, что главнокомандующий примет тебя хорошо.
– Я скажу это только тогда, когда возвращусь в аул, – тихо ответил Шамиль.
Князь Барятинский, находившийся в полутора верстах от аула Гуниб, сидел в роще, на склоне горы, на камне. Возле князя стояли граф Евдокимов, полковник Трамповский и переводчик, а чуть в стороне вся свита.
Шагах в шести от князя Шамиль остановился. Столь храбрый на войне, он теперь струсил. Он был в зеленой чухе (черкеске) и большой белой чалме с хвостом, бледен, губы дрожали. Робко, пугливо озираясь вокруг себя в полном убеждении, что настала минута, когда он должен расстаться с земной жизнью. Но произошло следующее.
– Шамиль, – сказал князь Барятинский, – я предлагал тебе сдаться ранее, обещая выгодные условия. Ты не принял моего предложения, и я сам с войсками пришел сюда, и, конечно, условия, предложенные тебе прежде, теперь не имеют уже места, а участь твоя зависит от государя императора. Я надеюсь, впрочем, что Его Величество уважит мое ходатайство о тебе.
Шамиль отвечал:
– Сардарь, я не внял твоим советам – прости и не осуждай меня. Я простой уздень, тридцать лет дравшийся за религию, но теперь народы мои изменили мне, даже приближенные разбежались, да и сам я утомился. Я стар, мне шестьдесят три года. Не гляди на мою черную бороду, я сед. Поздравляю вас с владычеством над Дагестаном и от души желаю государю успеха в управлении горцами, для блага их.
– Я немедленно пошлю тебя к государю императору, и один их моих близких повезет тебя, – сказал князь Барятинский, указывая на полковника Трамповского.
– Теперь же ты, как военнопленный, поедешь с ним в лагерь, а полковник Лазарев распорядится привезти туда и все твое семейство.
И князь уехал в лагерь.
– Так ты обманул меня, – меняясь в лице, закричал Шамиль Лазареву.
Положение было критическое.
– Успокойся, – ответил полковник, – вспомни, что там были мои слова, а здесь приказания главнокомандующего. Исполни их, и ты не будешь раскаиваться.
Шамиль сел на тот камень, на котором сидел князь, и задумался. Наконец он согласился и сел на лошадь. По одну сторону с ним ехал граф Евдокимов, по другую Трамповский, а за ним следовали два переводчика и сотня казаков.
Князь Барятинский точно исполнил свое обещание государю императору. Тридцатого августа Шамиль, как военнопленный, находился в пути к нашей столице. Князем Барятинским был отдан приказ из пяти слов: «Шамиль взят, поздравляю Кавказскую армию». А вскоре князь Барятинский получил рескрипт государя императора, в котором царь писал следующее: «Скажи моим кавказским молодцам, что они лучшего подарка не могли мне сделать ко дню моих именин и что я ими горжусь за новый их подвиг, которым они себя ознаменовали… Примите, храбрые войска, мое сердечное поздравление».
За взятие Шамиля Барятинский был пожалован званием генерал-фельдмаршал.
В 1860—62 гг. шло завоевание Западного Кавказа. В феврале 1863 г. на Кавказ прибыл новый главнокомандующий – великий князь Михаил Николаевич. Назначая своего брата наместником еще не успевшего окончательно замириться края, император Александр II проявил акт большой политической мудрости, показав народам Кавказа свое к ним доверие и расположение.
К 21 мая 1864 г. Западный Кавказ был также покорен. Так кончилась многолетняя война на Кавказе.
Глава XV
После восшествия на престол нового императора и окончания Крымской войны, а затем и Кавказской, повсюду царила атмосфера ожидания. Всякое слово Александра II истолковывалось в сторону общественного возрождения. И действительно, реформы посыпались на Россию как из рога изобилия – отмена крепостного права, судебная реформа, введение земских учреждений и общественного управления городов, университетский устав с выборностью преподавателей и профессоров, реорганизация армии.
Манифест 19 февраля 1861 г. торжественно провозглашал: «Осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови Божие благословение на твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага общественного».
В 1864 г. создаются земства – выборные органы, занимающиеся на местах народным просвещением, здравоохранением, строительством дорог и т. д. Судебная реформа 1864 г. провозгласила независимость суда. Суд становится гласным, вводится состязательный процесс, присяжные заседатели решали (по уголовным делам) судьбу подсудимого.
Крупные преобразования происходят в армии. Устаревшая рекрутская система наборов заменяется всесословной воинской повинностью. По уставу, утвержденному 1 января 1874 г., ее должны отбывать все мужчины, достигшие 20-летнего возраста. Действительная служба в сухопутных войсках продолжалась шесть лет. Коснулись эти реорганизации и казачьих войск.
До начала девятнадцатого столетия отдельные войска Терского казачества пользовались самым широким самоуправлением. Всеми войсковыми делами, не только хозяйственными, но и прочими, ведал старинный Войсковой Круг, вверявший управление войском войсковому атаману и прочей «старшине», избираемыми сначала ежегодно, а затем на более продолжительные сроки. Но этому порядку был положен конец в 1819 году, когда наместник Кавказа генерал Ермолов своей властью сменил гребенского атамана Зачетова и на его место поставил сначала бывшего войскового знаменщика Фролова, а потом и постороннего войску человека – полковника Ефимовича. При объединении всех поселенных на линии казачьих войск и полков в Кавказское линейное войско в 1832 году все войсковые дела были вверены войсковому наказному атаману из регулярных офицеров. Самое же войсковое управление было организовано значительно позже, по положению 1845 года, причем это управление составили: войсковой наказной атаман, войсковое дежурство, войсковое правление, бригадные управления, военно-судные комиссии, полковые и станичные правления и торговый словесный суд.
В 1860 году Кавказская линия была разделена на две – правую и левую, из которых первая составила Кубанскую, а вторая Терскую область. Вошедшие в пределы Терской области бригады Кавказского линейного войска образовали Терское казачье войско. Начальник Терской области являлся и наказным атаманом Терского казачьего войска. В 1865 году для управления войском была учреждена должность помощника наказного атамана. Но в 1869 году вновь последовало преобразование. Должность помощника наказного атамана была упразднена, а управление областью было образовано по принципу губернского. В гражданском отношении область, не исключая и войсковой территории, была разделена на семь округов. Для военного же управления ввели должность атаманов отделов, причем изменен был и штат войсковых хозяйственных управлений.
Таким образом, в 70-х годах девятнадцатого века войсковое управление Терского войска сосредоточивалось под общим начальством наказного атамана (начальника области) в войсковом штабе, войсковом хозяйственном правлении и двух управлениях отделов. В состав войскового хозяйственного правления, действовавшего под председательством наказного атамана, входили: старший член, два советника, асессор, делопроизводители, бухгалтер с помощниками, экзекутор, журналист и лесной ревизор.
Казачье население Терской области подчинялось одновременно двум властям: гражданской – в лице состоящих в ведении министра внутренних дел областных и окружных учреждений и военной – в лице атаманов отделов и войскового хозяйственного правления.
Эта двойственность управления была изменена в 1888 году введением нового «Учреждения управления Кубанской и Терской областей».
Местное управление областью, соединенное с административным заведованием войском, образовали начальник области (он же наказной атаман) и областное правление. Войсковое хозяйственное правление было упразднено, и все дела по управлению войсковым хозяйством и благоустройством перешли в ведение областного правления.
А с окончанием военных действий на Западном Кавказе государь соизволил выразить терцам свою милость в следующей грамоте от 12 июля 1864 года:
«Нашему вернолюбезному Терскому казачьему войску
Покорение Западного Кавказа, достигнутое рядом доблестных подвигов и долговременных трудов наших, заключило многолетнюю кавказскую войну. С достославным событием этим связано и имя вернолюбезного Нам Терского казачьего войска, издавна стяжавшего себе громкую славу на Кавказе. Предки нынешних терских казаков составляли из себя первых оседлых русских воинов для оплота от хищнических набегов горцев, и в продолжение двух столетий обитатели берегов Терека – под именем гребенских, терских, волжских, горских, моздокских, кизлярских, владикавказских, кавказских линейных, Сунженских казаков – не переставали обуздывать стремление диких соседей своих к внесению огня и меча в притерские русские поселения и сами проникали в ущелья гор для наказания хищников.
Геройские подвиги терских казаков в рядах наших войск на всем пространстве Восточного Кавказа приготовили покорение Кавказа Западного и дославное окончание Кавказской войны. В ознаменование монаршей признательности Нашей за таковую полезную для Отечества службу Терского казачьего войска Мы признали за благо – сократить для всех чинов оного сроки обязательной службы, назначая отныне: для полевой – 15 и для внутренней – 7 лет.
Пребывая за сим ко всему Терскому казачьему войску Нашею Императорскою милостию благосклонны, Мы надеемся, что все доблестное Войско, получая ныне, через сокращение служебных сроков своих и умиротворение всего сопредельного с Войском края, полную возможность развивать все более и более домашнее свое благосостояние, вместе с тем не перестанет и впредь находиться в постоянной готовности переносить свою боевую опытность всюду, куда укажут пользы Отечества. Славное же имя терских казаков будет занимать везде и всегда почетное имя в рядах русских воинов».
Пройдет несколько лет, и казакам представится возможность опять на деле оправдывать высокое доверие государя.
Вот как поется об этом в казачьей песне:
С Малки, с Терека, с Кубани довелось собраться нам, Чтобы дали басурмане честь и место казакам. Видно, турки, в самом деле, заартачились не впрок, — Позабыть уже успели прежде заданный урок. Лезут с грозною замешкой, – мы навстречу выйдем к ним, И казацкой острой шашкой туркам память подновим. Перед всем крещеным миром пусть же век поется нам: «Честь и слава командирам! Честь и место казакам!»…Часть третья
Глава I
Положение балканских народов, лишенных Парижским миром покровительства России, ухудшалось с каждым годом. В 1875 году вспыхнуло восстание сербского населения Боснии и Герцеговины. Турки пытались подавить его страшными зверствами. Особенно тяжким сделалось рабство болгар. Неоднократные представления России оставались без ответа Турции, заручившейся моральной и материальной поддержкой европейских стран, в частности Англии. 20 июня 1876 г. Сербия и Черногория, не имея больше сил созерцать гибель единоплеменников, объявили Турции войну. Эта война за правое дело вызвала большой подъем в российском обществе, нашла живейший отклик в благороднейших русских сердцах. Семь тысяч добровольцев встали в сербские ряды. Однако борьба была слишком неравной. Это показал разгром сербской армии под Дыонишем в октябре того года.
Россия поставила Турции ультиматум – прекратить военные действия. Турция подчинилась, но, чувствуя поддержку европейских держав, мало-помалу стала повышать тон. Император Александр II знал, что Турция просто так свои аппетиты не умерит, но чтобы так откровенно и нагло? Чувства его были оскорблены еще и тем, что Турция проявляла свои зверства при равнодушии Европы, а больше всего, что Турция отказалась принять Лондонский протокол и высокомерно потребовала демобилизации русской армии и невмешательства России во «внутренние дела» Оттоманской империи.
Находившийся в войсках Александр II созвал расширенный Совет:
– Как они все нас ненавидят! – с яростью высказался он в адрес европейских государств.
– Будь она проклята, эта Европа паршивая, – поддакнул ему Светлейший князь Николай Николаевич, – мечутся, словно кошки угорелые.
– Турция всерьез настроена против нас, Ваше Сиятельство, – стал докладывать царю военный министр. – Турки довели свою армию до 450 тысяч регулярных и 100 тысяч иррегулярных войск. На Балканах сейчас находится 300 тысяч человек, из которых 200 тысяч могут быть привлечены к действию против нас.
– Я впечатлен, не скрою, я ошарашен… И не возможной войной, а той наглостью турецкой и безразличием, с которым взирает на все это Европа, – печально ответил император.
Приняв решение о вмешательстве в балканские дела, царское правительство стремилось оказать поддержку балканским народам, но не хотело вступать в серьезный конфликт с Австро-Венгрией, которая намеревалась совершить интервенцию против Сербии и оккупировать Боснию и Герцеговину. В Вене тоже опасались конфликта с Россией. Обе стороны попытались договориться, чтобы найти мирное решение, для чего 8 июля 1876 г. в Чехии, в Рейхштадском замке, состоялось свидание Александра II и Горчакова с Францем-Иосифом и Андраши. В результате переговоров не было подписано каких-либо соглашений, но остались записи двух сторон, во многих пунктах расходившиеся друг от друга. То есть переговоры таили в себе много недоговоренностей, чреватых конфликтами. Вместе с тем Рейхштадские переговоры вызвали скрытое недовольство Германии. Бисмарк не хотел австро-русского сближения без участия Германии. Его тоже не устраивало усиление влияния России на Балканах без войны. Он хотел, чтобы Россия была втянута в ближневосточный конфликт, что обострило бы ее отношения с Англией и Францией из-за дележа турецкого наследства. В такой ситуации Россия попыталась договориться с великими державами по ближневосточным делам. По ее инициативе в Константинополе была созвана конференция представителей России, Англии, Германии, Австро-Венгрии и Франции с целью мирного решения балканского вопроса. Конференция, проходившая с 11 декабря 1876 г. по 30 января 1877 г., единогласно приняла решение предъявить Турции требование о введении в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Македонии автономного устройства. Однако турецкое правительство отвергло эти требования. Русское правительство добилось 31 марта 1877 г. подписания в Лондоне этими же странами протокола, подтверждающего постановления Константинопольской конференции.
7 апреля 1877 г. Турция отклонила Лондонский протокол. Еще до подписания Лондонского протокола Австро-Венгрия и Россия 6 марта 1877 г. подписали Будапештскую секретную конвенцию, по которой Австро-Венгрия соглашалась на нейтралитет в случае русско-турецкой войны, а Россия дала согласие на оккупацию Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины. В апреле Россия подписала договор о пропуске русских войск через Румынию к границам Турции и об участии румынских войск в войне с Турцией.
– Сами видите, что достоинству нашего государства наносится неслыханное оскорбление, – твердым голосом заявил Александр II. – Видит Бог, что со стороны российской предшествовали одни лишь искренность и миролюбие… – Александр сделал небольшую паузу и продолжил: – Раз Европа безразлична, а действия ее чисто показные, будем свято уповать исключительно на собственные силы. Не может так быть, чтобы русская армия не осиялась новою славой!
Царь качнулся в кресле. Наступила тишина.
– Ну, что вы молчите? – обратился он к присутствующим. – Дело за малым: давайте сообща составим манифест.
В тот же день был отдан приказ войскам Дунайской армии сосредоточиться у Кишинева, где расположилась главная царская квартира – штаб.
Кишинев. Тихий степной городок в Бессарабии, с зелеными улицами в белых цветущих акациях, особенно хорошо выглядит в весеннюю пору. Впечатляет белый собор с каменной дорожкой, расстеленной под аркой звонницы до самых архиерейских палат. Приветлив тенистый парк, где когда-то отдыхал А. С. Пушкин. Выделяется здание суда своими узорчатыми, литыми из чугуна ступеньками парадной лестницы. В общем, здесь еще не чувствовалось той нервозности и того тревожного ожидания военных событий, о которых уже писала западная пресса. Город готовился к встрече царя Александра II. На центральной улице белили хаты, чинили крыши, ремонтировала дороги и мостики. Деловая обстановка захватила людей, и мало кто думал о близкой войне. «Были же случаи в истории, когда войска стягивались к границе для демонстрации силы, перед сменой политики, – рассуждали обыватели, – так и теперь царь делает – на всякий случай». Поражала раскованность еще недавно забитых бессарабцев. Особенно это хорошо виделось на базаре. А они были действительно щедры. Даже такие весенние, когда дары земли не столь богаты, и то не скупы на веселье. На каруцах, из которых выпряжены кони, ровно стоят бочки с вином. Их толстые деревянные пробки, чопы, выделяются синеватыми потеками. Вино терпкое, цвета крепкого раствора марганцовки, дешевое. Здесь же мешки с орехами. В палатках висят связки гусей и уток. На лотках серебрится дунайская и днестровская рыба. В тени возов лежат и стоят бараны. Среди товаров бродят молдаване. На них высокие смушковые шапки – кочулы. Шапки мелькают среди бочек, как казацкие папахи в высоких травах буйных степей.
Словом, жизнь в Кишиневе бурлит, как вешний поток. Но старожилы уже поговаривали, что такого количества русских войск, что подходит к городу, они давно уже не видели. Печать мало-помалу выдавала информацию о положении дел в Европе. Но даже из тех скупых материалов, которые печатались в газетах, проскальзывали нотки, что война России с Турцией неизбежна. Было над чем призадуматься? Война была совсем близка. Она, как говорится, была на пороге. Для ее ведения уже было мобилизовано 530 тысяч человек, это около половины вооруженных сил России: 25 пехотных и 9 кавалерийских дивизий. Остальные 23 пехотные и 8 кавалерийских дивизий пока оставались на мирном положении. В казачьих войсках было мобилизовано свыше двух третей всех частей и выставлено помимо четырех полков кавалерийских дивизий еще четыре казачьи дивизии и четыре отдельные бригады. Из Терского казачьего войска в Закавказье было отправлено семь полков и одна батарея Терского войска, которые распределили по отдельным отрядам:
в Александропольском – 1-й и 2-й Горско-Моздокские, 1-й и 2-й Волгские, 2-й Кизлярско-Гребенской полки и 1-я Терская казачья батарея;
в Ахалцихском – 2-й Владикавказский полк;
в Эриванском – 2-й Сунженский полк.
А на Дунай пошли лейб-гвардии Терский казачий эскадрон Собственного Его Величества Конвоя, бывший при главной квартире, и 1-й Владикавказский полк, вошедший в состав Кавказской казачьей бригады полковника Тутолмина.
12 апреля 1877 г. Александр II произвел всем собравшимся на границе, в Кишиневе, войскам смотр, во время которого был объявлен манифест о войне. Государь поздравил войска с походом, а Конвою, Терским эскадроном которого командовал Григорий Кульбака, при этом сказал:
– Благодарю вас за молодецкую службу при мне! Поручаю вам брата своего Великого князя Николая Николаевича. Берегите его, а когда он пустит вас в дело, то, надеюсь, будете молодцами и не посрамите славу ваших отцов!
Перед дунайской армией была поставлена задача поскорее занять Румынию, чтобы лишить турок возможности активной обороны первой естественной преграды – линии Дуная. Затем, перейдя Дунай, частью сил организовать наблюдение за сильными крепостями, а остальной массой двинуть на Балканы и, преодолев эту вторую естественную преграду, наступать на Константинополь – цель всего похода.
Кавказскому корпусу предстояло отвлечь неприятельские силы от главного театра военных действий и овладеть Эрзерумом. Командовать дунайской армией был назначен Великий князь Николай Николаевич, а руководство военными действиями на Кавказе было поручено Наместнику Кавказскому Великому князю Михаилу Николаевичу.
Тем временем Турция тоже успела изготовиться к войне. Главнокомандующим – «сардарь-экремом» – был назначен победитель при Дьюнише Абдул-Керим. Ему было указано придерживаться активной оборонительной тактики, сосредоточить главные силы в знаменитом «четырехугольнике» крепостей – Рущук, Шумла, Базарджик и Силистрия, завлечь главные силы русских в Болгарию и затем разгромить их, обрушившись на левый фланг и сообщения. Одновременно с этим значительные силы турок под командованием Осман-паши были сосредоточены в Западной Болгарии, у Софии и Виддина, имея задачу наблюдать за Сербией и Румынией и воспрепятствовать соединению русской армии с сербами.
Глава II
12 апреля, в день объявления войны, наша армия в составе четырех корпусов стала переходить Прут.
Царь, напутствуя войска, сказал:
– Народ болгарский уже истомился под гнетом османов. Я верю, что Россия и наш великий народ в скором времени разрешат нужды болгар. Вы, ребята, идете в авангарде – вот вам и нести болгарам благо свободы!
И все войска, за исключением части сил I корпуса, которых от Унген повезли до Бухареста поездом, пошли походным порядком: VIII и XII корпуса к Бухаресту, XI – к Бранлову. Дороги были забиты. В центре по ним двигались обозы, слева – конница, справа – пехота. Впереди колонны двигались ревущие гурты скота, предназначенного на убой, за ними подводы с провиантом. Это был грандиозный поток, который поражал своей величественностью и мощью. Со всех сторон раздавались звуки духовых инструментов. «Барабанный бой наводил некий род ужаса, а шум литавр воспламенял кровь», – говорили очевидцы.
Командир XI корпуса князь Шаховский, опасаясь выдвижения турок на Сирет, вызвал к себе лихого казачьего офицера Стекова и приказал ему:
– Выдвинитесь вперед и разведайте обстановку. В случае появления крупных сил противника завяжите с ними бой.
– Есть! – ответил тот и отдал приказ 29-му Донскому полку приготовиться к выдвижению.
За девять часов они преодолели 80 верст и к вечеру, не встретив противника, заняли Барбашский мост – переправу через реку Сирет. Затем был занят Галац и Браилов, в устье реки Сирет были устроены минные заграждения. Развертывание армии было обеспечено.
14 июня армия подошла к Дунаю. Самым удобным местом для переправы было место у Фламунду, что в четырех верстах ниже Никополя. Однако Великий князь Николай Николаевич, сам сделав рекогносцировку, пришел к выводу, что турки, догадавшись о наших намерениях, возвели здесь сильные батареи и форсирование здесь Дуная повлечет большие потери. Вызвав к себе командира лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона, он приказал:
– Останетесь здесь и будете создавать видимость подготовки к форсированию. К вам еще подойдет пехота, вот вместе и производите демонстрацию.
А командиру 14-й пехотной дивизии генералу Драгомирову он приказал идти на Зимницу и там скрытно от турок подготовить плацдарм для форсирования Дуная.
В ночь на 15 июня началась переправа. Великий князь в парадном мундире, сверкая орденами и бриллиантами, сам выехал подбодрить солдат. Конь под ним шел размашистым аллюром, солдаты при появлении Светлейшего поднимались с земли. Николай, глядя вперед, подняв руку, кричал им:
– При мне, ребята, вставать ненадобно. Зато прошу вас, братцы, под пулями вражескими, на том берегу, не ложиться.
Возбужденный, он выехал на самый край берега. Дунай разлился после дождей так, что правый берег лишь угадывался в дымке. «И не какой он не голубой, – подумал Великий князь, – а красновато-бурый». И стал наблюдать за переправой. Одна колонна успешно, без единого выстрела переправилась на тот берег. За ней пошла вторая. Но тут неожиданно турки открыли огонь. Снаряды стали рваться около командующего и его свиты. Горячий конь гарцевал под ним, и адъютант заметил:
– Судьбой не шутят, давайте уедем отсюда. Береженого Бог бережет.
В это время рядом снова разорвался снаряд. Но Николай с нарочитой медлительностью слез с седла и попросил бинокль. Рядом кого-то убило, кто-то раненый уползал в кусты. А Великий князь невозмутимо продолжал наблюдать за переправой.
Огонь стал утихать.
– Молодец Драгомиров, хорошо подготовил форсирование, – отметил Николай, – эти кручи будут свидетелями геройской отваги и порыва войск и их командира.
В это время в тылу раздалась песня:
Дунай-реченька, она, братцы, широкая, Переправы да на ней нет, Нет ни брода, ни парома, Ни казачьего, братцы, моста…Это возвращался к переправе вызванный командующим лейб-гвардии Терский эскадрон.
Доказав личную храбрость, Великий князь, в сопровождении свиты и прибывшего Конвоя, поскакал к своей походной ставке, где усердно работали его штабисты. Испросив нужные ему данные, он сам засел за составление плана грядущего наступления.
– Я считаю, что в данной обстановке надо действовать дерзновенно и смело, – писал он в эти часы. – Иначе наши враги попытаются кусать нас со всех сторон, как бешеные собаки, испытывая нас на трусость и уязвимость…
– Дерзости, как можно больше дерзости! – призывал он.
Между тем положение переправившихся через Дунай войск было рискованным. Войска оказались между двух огней, имея на левом фланге главную турецкую армию Абдул-Керима в «четырехугольнике», а на правом – армии Османа в Виддине. Главнокомандующий полагал, что надо, не дожидаясь переправы всей армии, а для этого потребуется не менее двух недель, ускорить расширение плацдарма. Но как это сделать? Он созвал Военный Совет.
Предложений было немного, но каждое из них, по мнению Николая, было важным, поэтому было принято компромиссное решение: овладеть на правом фланге Никополем, на левом – Рущуком, расширить этим базу, выслать стратегический авангард для захвата важнейшего на Балканах Шипкинского перевала, поднять на борьбу болгар, а затем действовать по обстоятельствам.
Овладеть Никополем поручалось IX корпусу, которым командовал барон Кридинегер. Рущуком надлежало овладеть XI и XII корпусам, под общим командованием цесаревича Александра Александровича.
В центре VIII корпус генерала Радецкого должен наступать на Балканы, а его стратегический авангард – Передовой отряд генерала Гурко – должен был овладеть балканскими проходами и выслать конницу за Балканы.
Первым начал наступление генерал Гурко. Выступив 22 июня, он, не встречая достойного сопротивления, уже 25-го вступил в Тырново – древнюю столицу болгар. Началось наступление на правом и левом флангах. Передвижение русских и занятие Тырново очень встревожили султана Абдул-Гамида. Он снял с должности главнокомандующего Абдул-Керима и назначил на его место софийского пашу Мехмед-Али. Осман-паше он велит выступить из Виддина и сосредоточить свой корпус против правого фланга русских у города Плевена.
Наступила середина лета. Это разгар кампании, и Великий князь начинает торопить Гурко.
– Чтобы через десять дней Шипкинский перевал был взят, – приказывает он.
Был жаркий день. Собравший кое-какие сведения о противнике Гурко двинул свой отряд к перевалу. Ночь прошла в движении, для турок незаметном. Говорили шепотом, на речных бродах переправились без шума. А утром казачий разъезд доложил:
– В двух верстах отсюда турки.
– Каковы их силы?
– Более тысячи, – доложил казачий урядник.
Гурко сам обозрел турецкий лагерь и принял решение – напасть.
– Тут необходима быстрота, – объявил он собравшимся офицерам. – Они к бою явно не готовы.
– Но их много. И может быть, это не самые главные силы? – задал кто-то вопрос.
– Чем больше публики, тем больше беспорядков, – пошутил Гурко. – Пусть нас меньше, но в малом войске всегда больше храбрецов.
– Так что, вступаем в бой? – спросил начальник штаба.
– Немедленно. Успех в скорости! – подтвердил генерал, и тут же раздалась команда:
– К бою!
Отряд вмиг изготовился к атаке. День обещал быть жарким, рано запели птицы, радуясь солнцу и жизни.
– Казаки! Обойдите турок вон по той лощине, – показал он направление, – и ударьте его в шашки.
– Солдатушки, в штыки их. Ох, и боится он нашего штыка, – подбадривал солдат Гурко. – Я буду с вами.
– Поможете огнем, – обратился он к артиллерийскому офицеру. – Цели выбирайте по обстоятельствам.
Два часа длилось сражение, но турки атаку отразили. В этот жуткий момент казалось, что вот-вот решится кто кого, но неожиданно турки стали отходить. Казаки попытались преследовать их, но подъехавший командир остановил.
– На сегодня хватит, – восхищенно говорил он, – потрепали мы их здорово, братцы!
Поле боя представляло унылую картину. Горы трупов, брошенные повозки и отступающие толпы противника. Отряд Гурко, отойдя на несколько верст в сторону и найдя небольшую рощицу, сделал привал.
А на следующий день Передовой отряд двинулся на Казанлык в обход Шипкинского перевала. В сильную жару и по горным тропам отряд за шесть дней прошел 120 верст и вновь атаковал Шипку, но уже с другой стороны. Известие о том, что русские за Балканами, до того подействовало на турок, что занимавший Шипку отряд сам покинул прекрасную позицию, бросив на перевале 6 орудий, и отступил к Филипполю. 1 июля четыреста оставшихся на перевале турок сдались в плен и Шипка без боя была взята.
Великий князь восхищенно писал генералу Гурко: «Обнимаю тебя и искренне благодарю, друг мой. Свидетельствую свою благодарность и твоим молодцам. Россия вас не забудет!»
В то время, когда Передовой отряд Гурко перешел Балканы, а Рущукский отряд, переправившийся на левом фланге армии, собирался на Янтре, на правом фланге IX корпус генерала Криденегера подошел к Никополю. Войсковые колонны в походном порядке двигались через поле, покрытое бурьяном и стеблями кукурузы. Между пехотой рысила кавалерия и казаки.
– Вот где ждет нас первая слава, – показывая на крепость, говорил окружающим Криденегер.
На передовых укреплениях турки расположили свои батареи, и он принимает решение в первую очередь подавить их.
– Открыть огонь, – отдал он команду артиллерийскому начальнику, и артиллерия начала дуэль. Вызвав к себе кавалерийских начальников, он приказал:
– Сосредоточьтесь на турецких флангах и, как только прекратится огонь наших батарей, отбейте оставшиеся у турок пушки. Дальше действовать по плану.
Как только стих гул нашей пушечной канонады, кавалеристы смяли противника у пушек. Путь нашим войскам был открыт. Начался штурм. Криденегер приказал усилить натиск, но тут во фланг нашим войскам налетели янычары на резвых лошадях. Над наступающими нависла опасность.
– Картечью их бей, картечью, – прокричал генерал артиллерийскому офицеру, хотя знал, что эта картечь может поразить и своих.
– Главное сейчас – выдержать огонь и блеск сабель, – заметил он начальнику штаба и велел ввести в бой 1-й Владикавказский полк.
Вот тут и показали свою храбрость терские казаки. Полусотня Егора Кульбаки вклинилась в передовой турецкий отряд, и началась сеча. Остальные казаки соединились для совместной атаки. Артиллерия била с колес, не переставая двигаться. Казаки ловко вошли в интервалы между колоннами каре и стали валить янычар налево и направо. Громадное поле битвы представляло картину всеобщего разрушения. Убегающие турки швыряли зажженные фитили в пороховые фуры, которые взрывались с яростным треском, калеча лошадей и всадников. Раненые ползли к реке, кавалерия в беспощадном наскоке раскалывала им копытами головы, ломала руки и ноги. Тысячи турок, увлеченные общей паникой, бросились в город. Выехавший навстречу паша кораном останавливал бегущих и тем же кораном бил по головам сераскиров, понуждая их к храбрости.
А казаки гнали и гнали противника. 3 июля войска штурмом овладели передовыми позициями, а 4-го – и самой крепостью.
– В Никополе взято 2 паши и 7 тысяч пленных, 7 знамен и 113 орудий, – сообщил Криденегер Великому князю Николаю Николаевичу. – Погода была замечательная. Солнечные лучи сияли весь день, как бы предвосхищая нашу победу. Казаки показали себя во всей красе. Чудо-богатыри!
В день взятия Никополя стало известно о выступлении Осман-паши из Виддина, а 5 июля разъезды 9-й кавалерийской дивизии донесли о подходе неприятельской колонны к Плевену. Генералу Криденегеру в тот же день было приказано занять город. Он посылает туда 5-ю пехотную дивизию генерала Шильдер-Шульднера. Тот, не выяснив до конца настоящих сил противника, 8 июля атакует своей дивизией (8 тысяч человек, при 48 орудиях) Османа, численность войск у которого оказалась 17 тысяч человек при 30 орудиях, и неудачно. Дивизия теряет треть своего состава (1 генерала, 74 офицера и 2771 нижних чинов).
18 июля Криденегер снова атакует Османа. Эта вторая Плевна едва не обратилась в катастрофу для всей армии. Разгром IX корпуса был полным, весь тыл армии охватила паника, под влиянием которой едва не уничтожили единственную мостовую переправу у Систова.
Неудачно начинают складываться дела и у Передового отряда. Получив 16 июля свободу действий, генерал Гурко решил наступать всеми своими силами на Ени-Загору и разбить стоящую там отдельно от главных сил дивизию Реуфа (13 тысяч человек при 24 орудиях).
18 июля произошел успешный для отряда бой.
Стрелки сбили турецкий отряд и захватили 2 орудия. Но 19-го отряд, потеряв 20 офицеров и 498 нижних чинов, хотя и сам перебил 2 тысячи турок, вынужден был отойти к Шипке и Ханикиою.
Сохранение Шипки было единственным, зато крупным положительным результатом летнего периода Балкан. Удержав Шипку, наши войска разъединили действия всех трех турецких армий. Слабый числом отряд Гурко сделал все, что мог сделать, и с честью вышел из своего затруднительного положения.
Глава III
К началу войны три отряда кавказского корпуса уже стояли на границе. Командовал ими генерал Лорис-Меликов. Первый отряд самого Лориса насчитывал до 30 тысяч строевых при 96 орудиях. Второй Ахалцихский генерала Девеля – 9 тысяч при 24 орудиях и третий генерала Тергукасова – 11 тысяч при 32 орудиях. По этим отрядам и были распределены семь полков и одна батарея Терского казачьего войска. После объявления манифеста о начале войны с Турцией 1-й Горско-Моздокский полк получил приказ перейти границу на Арпачае и начать наступление.
– Казаки, выступаем! – построив полк, объявил командир. – Приказано идти на Шиш-Тапа.
Отслужили молебен. Сеял дождь. Бурая грязь налипала на сапоги, липли в руках папахи. Священник вяло бормотал: «О мире всего мира и о спасении душ наших Господу помолимся». Несколько человек, сопровождающих его, тянут: «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Казаки крестятся. Но вот звучит команда:
– На-кро-йсь!
– А за нею:
– По коням!..
Вмиг казаки в седле. И полк в полном порядке, без шума, сотня за сотней, переправляется через реку.
– Хорунжий Чередник, – вызывает командир полка казачьего офицера. – Назначаетесь в дозор. Следовать на расстоянии двух верст от основных сил, первая ваша задача – обнаружить и взять турецкие посты. Взять надо как можно тише, чтобы турки не узнали раньше времени о нашем наступлении.
– Понял, – ответил офицер и, взяв с собой два десятка казаков, поскакал вперед. Рассеявшись веером, они осмотрели местность, но противника не обнаружили. Но, въехав на очередной холм, они увидели впереди кошару. У коновязи мирно стояли оседланные лошади, вокруг тишина и покой. Это явно был пост.
– Спешиться, – приказал хорунжий, и казаки мигом оказались на земле. Десятерым он приказал быть наготове, а с остальными скрытно подкрался к кошаре, в которой спали турки.
– Приготовиться, брать будем без шума, – только и успел проговорить он, как появившийся словно из-под земли турок нанес удар саблей одному из казаков. Казак, охнув, упал. Но рядом с ним, сраженный шашкой, лег и турок.
Застигнутые врасплох турки сдались без боя и были отправлены в полк, а дозор продолжил путь. Это была первая жертва казаков в начавшейся Русско-турецкой войне.
Вскоре стало ясно, что турки, недооценившие русские силы и считавшие их слишком малочисленными для наступательной кампании, были застигнуты врасплох. Как стало известно, Мухтар, оставив в Карсе 10-тысячный гарнизон, поспешил с оставшимся у него слабым отрядом прикрыть Эрзерум. Отойдя за Соган-лугский хребет, он собрал на позиции у Зивина всего 4500 штыков и 6 орудий. Другой отряд в 7 тысяч прикрывал Эрзерум в Алашкертской долине. Положение их было критическим. Однако Лорис-Меликов не сумел воспользоваться своим огромным численным превосходством. Остановившись в 20 верстах от Карса, Лорис обратил все свое внимание на эту крепость и свел деятельность главных сил к рекогносцировке в ее сторону. Он подарил турецкому командованию целый месяц.
Пока наши главные силы бездействовали у Карса, Ахалцихский отряд генерала Девеля, в авангарде которого шел 2-й Владикавказский полк, двигался к Ардагану. 16 апреля отряд остановился вблизи крепости. Узнав о подходе нашего отряда, турки впереди крепости устроили укрепленный лагерь. Они построили вокруг крепости каменные укрепления, в которых засели до тысячи человек пехоты, усилили их конным отрядом, чтобы не дать возможности подойти русским сразу к крепости. Все 92 орудия, находящиеся в крепости, простреливали местность.
– Проведите разведку боем, – приказал генерал командиру полка, желая хотя бы приблизительно выяснить турецкие силы.
– Будет сделано! – ответил тот и вызвал к себе сотенных.
– Наша задача выманить из укреплений, как можно больше турок и завязать с ними бой. – Поставил он им задачу.
– Посмотрим, как они будут действовать, узнаем их силу, а заодно возьмем пленных.
– Хорунжий Чумак, – обратился он к одному из сотенных, – вы пойдете в центре, но будьте осторожны, как бы противник не устроил нам западню. Возьмите побольше ружейного запаса.
Вечерело. Распределив казаков, командир скомандовал: – Вперед! – И понеслась казачья лава на укрепление.
Турецкие пушки сделали несколько выстрелов и, не причинив вреда наступающим, прекратили огонь. Казаки приближались. Турки встретили их ружейным огнем.
– Шашки вон! – подал команду хорунжий, чтобы повести казаков на штурм. Но что это? С фланга прямо на них двигалась армада турецкой пехоты, ощетинившаяся штыками, а в тыл проскакал конный отряд.
– Спешиться! Винтовки к бою, – подал он команду. – Целься, пли…
Дружный залп возымел действие. Ряды противника поредели. Но его силы были больше наших.
– Братцы, отходим, ближе выстрела турка не подпускать, – раздалось по цепи, и казаки, отбиваясь ружейным огнем, отошли к своим.
Увидев результаты казачьей атаки, генерал Девель на штурм крепости не отважился и попросил подкреплений.
5 мая, когда для подкрепления прибыл отряд генерала Геймана, начался штурм крепости. Молодцом показала себя артиллерия. Это ее огнем было перебито 1750 турок, а остатки 4 тысячи бежали. На протяжении восьми верст преследовал Владикавказский полк противника, при этом казаки взяли в плен несколько офицеров и более 100 солдат. Трофеями были 400 пленных и все 92 орудия, стоящих в крепости. Наш урон составил 9 офицеров и 335 нижних чинов. После взятия Ардагана собрался Военный Совет. Главный его вопрос: как действовать дальше?
– Чтобы действовать против крепостей и против войск Мухтара, сил у нас явно недостаточно, – отмечали выступающие.
– Что же предлагаете делать? – спросил Лорис-Меликов.
– Надо выбирать что-то одно: или крепости, или живая сила противника, – заметил командир казачьего полка.
Были еще предложения. Но Лорис пренебрег знаменитым румянцевским правилом и выбрал первое – взятие крепостей. Он предписал Эриванскому отряду генерала Тергукасова отвлечь на себя все внимание неприятельской армии, а сам, присоединив Ахалцихский отряд, все свои силы, 37 тысяч человек, сосредоточил у Карса. Одну часть этих сил под командованием генерала Девеля он назначил для осадных работ, а другую – генерала Геймана – для защиты ее от удара полевой неприятельской армии. А тем временем к туркам успели подойти подкрепления, и в середине мая отряд Мухтара достиг 30 тысяч человек.
3 июня гарнизон Карса предпринял попытку прорыва осады, которая была отражена в славном деле при Аравартане казаками-терцами. Все дело здесь решила беспримерная атака 2-го Кизляро-Гребенского полка и северских драгун. Полк пошел в карьер на знаменитую арабистанскую пехоту, прикрытую огнем 50 орудий, прошел пять неприятельских линий, изрубив множество арабистанцев, понеся небольшие потери. Конники гнали турок до самой крепости.
В тот же день 3-го июня Лорис-Меликов, поблагодарив казаков и северцев, собрал старших офицеров.
– Обстановка тревожная, – сообщил он. – Неприятель не случайно стал учащать вылазки, по-видимому, он ждет помощи.
– Больше мы им такой возможности постараемся не дать, – заверил командующего казачий командир Миронов.
– Я надеюсь на вас, терцы, – сказал с благодарностью Лорис. – Но еще есть новость. Разведка сообщает, что к Соганлугу движутся турецкие войска.
– Да, это некстати, – с сожалением заметил начальник штаба, – но мы же и к этому готовились!
Слово взял Лорис-Меликов.
– Генералу Гейману приказываю двинуться за Соганлуг и воспрепятствовать Мухтару идти на выручку Карса, а также оказать содействие Эриванскому отряду, – объявил он.
9 июня отряд Геймана численностью 19 тысяч человек, при 64 орудиях, выступил на Милли-Дюз и Саракамыш. Разведка выяснила, что Мухтар с главными своими силами пошел в наступление на Эриванский отряд Тергукасова, а на Зивинской позиции оставил дивизию Измаила Хаки-паши.
Возник вопрос, идти ли к Хоросану и, встав между отрядами Мухтара и Измаила, бить их по очереди, не допуская их соединения, облегчив тем самым положение Эриванского отряда, или атаковать Зивин.
Гейман не был Котляревским и принял второе, посредственное, более легкое решение. 13 июня он атаковал зивинскую позицию. И хотя войска показали чудеса храбрости, в частности отличились опять казаки 2-го Кизляро-Гребенского и 2-го Волгского полков, штурм был отбит. Потеряв в этой атаке 844 человека, турки – 540, Гейман пал духом и отступил.
Лорис-Меликов, растерявшись, тоже снял осаду Карса и 28 июня отвел войска на границу.
Таким образом, почти все занятые территории, за исключением Ардагана, были потеряны, а Эриванский отряд, оставленный один против всей армии Мухтара, был поставлен в критическое положение. Обремененный ранеными, израсходовав свои припасы, отряд попал между двух огней: корпусом Измаила – из войск Мухтара численностью 8 тысяч человек при 24 орудиях и корпусом Фаика, который осадил Баязет.
Но благодаря энергии Тергукасова и подъему войск отряд благополучно отступил на русскую границу. Отступление длилось 10 дней на протяжении 180 верст, и 25 июня батальоны были уже в русских пределах.
Неблагоприятный оборот дел встревожил наместника Кавказа – Великого князя Михаила Николаевича, и он лично прибывает на фронт, чтобы взять на себя руководство операциями. Авангард Геймана находился в это время у Башкадыклара, главные силы Лорис-Меликова – у Кюрюк-Дара. Насчитывали они 30 тысяч человек при 120 орудиях, не считая Эриванского отряда.
Но инициатива перешла к противнику. Заставив русских отступить по всему фронту и получив подкрепления, Мухтар-паша решил перенести военные действия в русское Закавказье, имея конечным объектом Тифлис.
От Карса на Тифлис можно было двигаться либо через Ахалкалаки, либо через Александрополь. Первое направление было для турок самым выгодным. Здесь проходил кратчайший путь и была более богатая территория, так что Великий князь начал спешно стягивать войска туда. Однако Мухтар, не желавший сейчас генерального сражения, предпочел Александро-польское направление и медленно тронулся туда 2 июля. С ним было 35 тысяч войск при 56 орудиях. С 3 по 7 июля турецкая армия заняла позицию на Аладжинских высотах, где сильно укрепилась на фронте в 22 версты. Мухтар решил выждать здесь корпус Измаила с Эриванского направления и затем уже перейти в дальнейшее наступление.
6 июля 2-й Владикавказский полк, посланный на прикрытие движения нашей конницы из Паргета к Баш-Кадыклару, сначала отбил теснившую его неприятельскую кавалерию, вдвое превосходящую казаков числом, а затем занял стрелковую позицию и стал отбиваться огнем от окруживших его масс турецкой кавалерии. Израсходовав все патроны, полк вынужден был пробиваться через кольцо неприятеля, причем умело направленные командиром полка, полковником Паниным, казаки быстрым и решительным натиском заставили турок очистить путь и дать возможность полку не только уйти самому, но и вынести из боя своих раненых. За это молодецкое дело полку был пожалован Георгиевский штандарт с надписью «За дело 6-го июля 1877 г.».
Из России на Кавказ были выдвинуты 1-я гренадерская и 40-я пехотная дивизии. До прибытия этих подкреплений Великий князь не находил возможным штурмовать сильную Аладжинскую позицию, ограничиваясь рекогносцировкой ее и «полицейскими мероприятиями» в большем масштабе против волновавшегося населения.
Положение на Кавказе, таким образом, сделалось чрезвычайно похожим на создавшееся как раз в то же время на Балканах в результате Второй Плевны. Весь июль прошел в бездействии – с нашей стороны вынужденном, с турецкой – добровольном.
Глава IV
Как только началась война с Турцией, в Терской области начались волнения в нагорной части Чечни. Мятежники под руководством имама Али-бека, собравшись в несколько шаек, двинулись на плоскостную часть Чечни, надеясь поднять восстание и там. Однако быстрые и решительные действия войск остановили это движение в самом начале. Уже 22 апреля мятежники были разбиты близ аула Маюртун, а 28 апреля – около аула Шали. К сентябрю волнение в Чечне было подавлено, но разыгралось с еще большей силой в Дагестане, где улеглось только с наступлением зимы. Вызванная этими волнениями потребность в вооруженных силах принудила мобилизовать очередные полки Терского войска и пустить их в дело борьбы с восстанием в Чечне и Дагестане. Казаки занимали кордонные линии и посотенно были распределены по разным отрядам. Таким образом, Турецкая война повлекла за собой чрезвычайное напряжение сил Терского войска, которое с честью вышло из тяжелого испытания, быстро и в полной исправности снарядив 8 полков и 1 батарею в Турцию и 5 полков с батареей на службу в области.
– Знаю, товарищи, – писал наказной атаман в приказе по войску, – чего вам стоило это снаряжение после бедствий, постигших край в нынешнем году: после майских морозов, уничтоживших сады, после засухи, доведшей до совершенного бесплодия наши луга и нивы, после саранчи, унесшей многие посевы на Кизлярских низменностях. Знаю, что отцы выводили на продажу последний скот для того, чтобы купить коней сыновьям, что жены ваши, оставляя детей, сами становились за плуг, дабы освободить мужей на службу.
Тревожно было и в станицах. Нужно было охранять себя, и в то же время казаки круглые сутки несли службу на постах и секретах, охраняя от нападений Военно-Грузинскую дорогу. В жару и холод, в дождь и снег неслась эта нелегкая служба.
…Струйки тумана, гибкие и проворные, цепляются за ветки и солому шалаша, где расположился казачий секрет. Они оплывают его и проносятся дальше, чтобы слиться с уже непроницаемыми клубами пара, отрезавшего казаков от всего мира. Нельзя определить ни места, ни времени суток в этом все затопившем белесом море, пронизанном неопределенно расплывчатым, несильным светом. Зато эта бесцветно густая подушка, так нежно покрывшая все вокруг, удивительно доносит малейшие шорохи и звуки. Казаков дразнит и настораживает сдержанный говор гусей, кормящихся под берегом Терека. Слышны мельчайшие интонации их голосов, такие разнообразные, что поневоле подумаешь, что птицы делятся между собой впечатлениями далекого перелета. Иногда раздается серьезное и недовольное гоготание.
– Это вожак напоминает своим спутникам, что нельзя увлекаться разговорами, забывая об осторожности, – учит старый казак молодого.
Утки, занятые кормежкой, ведут себя потише. Редко когда вполголоса крякнет селезень, подзывая своих подруг. Зато, если что их всполошит, утки поднимают такой крик, точно наступил их смертный час.
Наступает день. Выбравшееся из тумана солнце разом осветило Терек, лес по его берегам, и сразу стало припекать. В самом деле, по мере того как оно всходило, с юга все чаще и чаще обдавало знойным, душным воздухом, будто открывали и закрывали печь.
– Точно, быть грозе! – сказал молодой казак Алексей Кошик и, подняв голову, внимательно вгляделся в небо.
– Ничего, если что, в шалаше пересидим, не сахарные, авось не размокнем, – ответил ему старший секрета Григорий Чередник. – Но ты сейчас будь повнимательней, – еще раз напомнил он казаку.
А вокруг бушевало лесное царство. Лесные груши и яблоки наклоняли ветви деревьев. Облепиха уже почти готова, но еще несъедобная – ждет первых заморозков. Калина своим ярким цветом зазывает подальше от дороги, вглубь леса. Здесь же поспевшие лесные орехи, выпавшие из гроздьев, лежат ковром на земле, и если сгрести в сторону опавшие листья, вкусные орешки можно собирать горстями. В лесу тихо и величаво. Солнечные лучи проникают в самую глубину и ласково греют землю. Казаки, радуясь разнообразию и богатству леса, любуясь величавостью белогривого Терека, привыкают ко всем звукам и голосам, раздающимся вокруг, но, пробыв несколько часов в секрете, они сразу же определяют посторонний звук, который сразу же настораживает.
– Что там за шорохи в камыше? – спрашивает Чередник у Кошика, показывая вверх по течению.
– Может, клыкатые пришли на водопой, – отвечает тот, – надо посмотреть.
– Да вроде еще не время им, а впрочем, пойдем посмотрим.
В камышах ничего подозрительного казаки не обнаружили. Но в это время послышался конский топот. Они спрятались за кусты.
– Несколько человек едут, и как будто свои, – сказал старший секрета.
– Как узнал? – спросил младший.
– Едут слишком беспечно.
В это время из-за поворота дороги показалось четверо всадников.
– Стой, кто такие? – в один голос спросили казаки.
– Свои, – опешив, ответили всадники. – Белобловский я, – назвался один из них. – Едем менять станичников.
– Наши, Алексей, – обратился старший секрета к напарнику, и они вышли на дорогу.
Среди здешней безмолвной тишины, под ярким солнцем, они чувствовали себя, как дома.
– А вы молодцы, удобную позицию заняли, мы и не подумали, что здесь кто-то может быть, место удобное, – заметил подъехавший урядник. – Я обязательно атаману доложу. А то в Котляревской на днях абреки переправились через Терек, и их только у станицы обнаружила охрана.
– Будьте побдительней, – пожелал сменщикам Чередник, – что-то на той стороне неспокойно. – Он показал за Терек.
В это время до их слуха донесся далекий голос табунщика, сзывающего лошадей. А поближе показалось стадо коров, пробирающихся в низину Терека, где зеленеет мягкая, бархатистая трава. Блестят волны в реке, привлекая к себе стаи гусей и уток. А водное пространство Терека, растянувшееся на версту, радует глаз. Плавный поток реки создает впечатление величия и широты.
– Ну, бывайте, – попрощавшись со сменщиками, сказал Чередник. – Провожать нас не надо. Мы прямо в станицу.
Над станицей висело безоблачное голубое небо. Кругом тишина. Лишь изредка доносятся команды дежурного урядника, проводящего занятия с молодыми казаками на берегу Терека, и ссора воробьев в листве деревьев. Станица словно спала. Но это только казалось. Несли службу казаки на постах и в секретах, дежурные наблюдатели проявляли бдительность у станичных ворот, готовые в любую минуту поднять тревогу в станице и оповестить об опасности работающих в поле.
В то лихое время казак не только в поле, но и в станице не чувствовал себя в полной безопасности. Иногда горцы нападали на станицы тучами. И эти случаи были до того обычны, что казаки привыкли уже понимать предупредительный голос родного Терека: запруженный в месте брода стеной конных всадников, он издавал своеобразный рев, и по этому рокоту догадывались часовые в станице, что враг близко и в больших массах переходит реку вброд. Быстро поднималась на ноги станица.
Способные носить оружие выбегали на станичный вал. Удальцы вылетали на конях в разведку и с вестью в соседние станицы просить «сикурсу» (помощь). Женщины выкатывали в прямые станичные улицы возы и делали баррикады. Ценные вещи, детей и стариков прятали в погреба, а входы заваливали дровами, хламом. Станица живо приспосабливалась к обороне и готова была дорого продать свою жизнь. И чаще всего горцы, видя, что отпор им будет хороший, уходили ни с чем, потеряв без всякой пользы несколько своих джигитов, слишком приблизившихся к грозным станичным валам.
В Кабарде такие набеги особо отмечались после посещения ее Шамилем. Самого его отогнали, но кабардинцы еще долго держали в страхе нападения соседей – станичников. Не раз уводили пленных и угоняли скот, хотя казаки втихомолку отплачивали им тем же.
Пришибская – небольшая станица в среднем течении Терека, построенная на восточной его дуге (повороте).
Чистые беленькие хатки, расположенные улицами с севера на юг. В центре церковь и перед ней площадь. Тут же недалеко станичное казачье правление, с рядом коновязей, приезжий дом и гауптвахта.
Станица возникла на месте казачьего поста и населена казаками моздокских станиц и переселенцами из Малороссии – потомками запорожских казаков. А было это так. В 1820-е годы Ермолов дал Военно-Грузинской дороге несколько иное направление – по левому берегу Терека, через Татартунское ущелье на станицу Екатериноградскую, минуя Моздок, потерявший прежнее значение. Для защиты ее от станицы Екатериноградской до Владикавказа были заложены укрепления: Заречное, Пришибское, Аргуданское, Урухское, Минаретское, Дурдурское, Ардонское и Архонское. Вспоминают, что в приезд государя императора Николая Павловича на Кавказ командирам Кавказского корпуса приказано было 2-му Малороссийскому казачьему полку, занимавшему в то время верховья реки Малки со штабом в городе Георгиевске, представиться государю в укреплениях: Пришибском, Урухском, Ардонском и Архонском поэскадронно. После блестящего представления в вышеуказанных укреплениях, которому, кстати сказать, завидовали их братья 1-го Малороссийского казачьего полка, занимавшие линию в верховьях реки Кубань, 2-й Малороссийский полк был оставлен на постоянное жительство в укреплениях, в которых они имели счастье представиться, без возврата на родину. Для поселения были выбраны из обоих полков женатые казаки, а холостые переведены в 1-й полк, который тогда же был переведен во Владикавказ.
Дома строились сообща, по 250 дворов в каждом поселении, причем каждому семейному казаку выдано было на обзаведение хозяйством по 42 рубля 85 копеек.
Таким образом по Тереку возникла 100-верстовая Передовая Терская казачья линия, занятая восемью станицами шестисотенного Владикавказского казачьего полка – Пришибской, Котляревской, Александровской, Урухской, Змейской, Николаевской, Ардонской и Архонской.
2-й Малороссийский полк в 1839 г. переименовали в 1-й Владикавказский полк, но до 1842 г. он продолжал комплектоваться уроженцами Черниговской и Полтавской губерний.
В 1839 году вытребованы были семейства казаков за счет казны, и казаки с нетерпением ждали приезда «жинок», с которыми не виделись много лет. Старики потом долго с любовью вспоминали день приезда семей. Это, – по их словам, – был день радости и веселья, среди годов беспрерывных трудов и тяжестей боевой жизни.
Трудно было начинать вести свое хозяйство из-за малочисленности семей и неимения взрослых работников. Мужчины часто находились на службе, и одна «жинка с малышами» управлялась с хозяйством. Сами казаки тоже еще не привыкли пахать с шашкой на боку и ружьем за плечами, а станица располагалась невдалеке от горских аулов и не раз подвергалась нападениям.
Женщина в доме не знает свободной минуты. Если она не в поле, то занята чем-нибудь по хозяйству. Она то мажет, то белит, то моет, то шьет или чистит утварь, то готовит обед, то бегает за телятами, то доит корову…
В поле женщина только не косит, а все остальные работы выполняет наравне с мужчиной.
Вообще жизнь в станице тревожная.
Глава V
Но вернемся на Балканы. Потеряв 19 дней после дела Эски-Загрой, когда он мог почти беспрепятственно овладеть Шипкой, Сулейман 7 августа с 40 тысячами при 54 орудиях подошел к Шипкинскому перевалу. Войска Радецкого, защищавшие Балканы, а кроме того, имевшие задачу прикрывать левый фланг Плевенской группы и правый – Рущукского отряда, были разбросаны на фронте 130 верст от Сельви до Кесарева. На самой Шипке находилось 4 тысячи человек при 28 орудиях. Потратив еще один день, Сулейман штурмовал 9 августа в лоб сильнейшую часть русских позиций на перевале. Так началось знаменитое шестидневное Шипкинское сражение.
Атаки следовали за атаками. Расстрелявшие свои патроны, томимые жестокой жаждой защитники «Орлиного гнезда» отбивались камнями и прикладами. 11 августа Сулейман уже хотел торжествовать победу, но тут в решительную минуту, как гром среди ясного неба, грянуло «Ура!» четвертой стрелковой бригады, молниеносным маршем прошедшей 60 верст в сорокаградусный зной. Шипка была спасена, и на этих раскаленных утесах 4-я стрелковая бригада заслужила свое бессмертное наименование «Железная бригада». Сюда прибыла 14-я дивизия генерала Драгомирова, сам Радецкий стал управлять боем, и 13 августа турки заиграли отбой.
В середине августа Действующая армия усиливается новыми дивизиями. Решено было поскорее покончить с Плевеном и этим развязать себе руки на всем театре войны. Операцию решили начать со взятия г. Ловеч, чтобы обеспечить тыл западному отряду. Выполнение возложено было на князя Имеретинского, в состав войск которого был включен Владикавказский полк и небольшой отряд Скобелева. Состав их насчитывал 22 тысячи человек при 98 орудиях.
Ловеч – небольшой городок, расположенный в 30 верстах от Плевена, взять который в то время русским не удавалось.
Через городок протекает своенравная речушка Осма, обычно всюду проходимая, и только после обильных дождей переправа через нее вброд бывает невозможной. Пройдя Ловеч, Осма меняет свое северное направление на северо-восточное к Омар-Киою и Иглову. Плевен и Ловеч соединяли шоссе, идущее в южном направлении к Трояну. К западу от Ловеча лежало селение Микре, а к востоку шло шоссе на Сельви и оттуда на Тырново и Габрово. По обе стороны Осмы тянулась гористая местность, пересеченная в разных направлениях оврагами и пропастями.
Сюда к северу от Ловеча между Осмой и Плевенским шоссе к 23 июля подошла Кавказская казачья бригада генерала Тутолмина, чтобы наблюдать за сильным турецким отрядом, занявшим Ловеч и окружающие его высоты, на которых турки возвели ряд укреплений, главный фронт которых направлен был к востоку, т. е. против отряда князя Имеретинского. Большая возвышенность, которую казаки нарекли «Курган», поднимавшаяся к западу от городка, была приведена в серьезное оборонительное сооружение, и вершину ее венчал огромный редут, у которого смыкались турецкие окопы, опоясавшие Ловеч.
Атака на Ловеч была назначена на 22 августа. Войска были распределены на три колонны: левая (генерала Скобелева) направлялась по Соловинскому шоссе, правая (генерала Добровольского) брала несколько в обхват, со стороны Осмы, турецкие позиции, третья (генерала Энгмана) составляла общий резерв и держалась за колонной Скобелева, так как главный удар предполагалось нанести туркам в их правый фланг.
Кавказской казачьей бригаде (Владикавказский полк, Кубанский полк, Осетинский дивизион и 8-я Донская батарея) дана была задача: наблюдать за дорогой в Плевен, содействовать наступлению наших войск и в случае отступления турок на Микре преследовать их насколько будет возможно. Наблюдение за левым флангом было возложено на две сотни 30-го Донского полка. Кроме того, в колонне Скобелева находился Терский эскадрон Собственного Его Величества Конвоя, полусотней которого командовал хорунжий Григорий Кульбака, и две сотни кавказских казаков (2-я сотня Владикавказского полка и 1-я сотня Кубанского полка).
Заняв Плевно-Ловечское шоссе, Тутол-мин выдвинул вперед Владикавказский полк и 4 орудия, оставив в резерве кубанцев с двумя орудиями.
Как только в 5 часов утра артиллерия большого «Кургана» открыла огонь по нашим наступающим колоннам, 8-я Донская батарея стала осыпать ее снарядами, учащая огонь по мере развития боя. Турки принуждены были отвечать на огонь казачьей батареи, но казакам причиняли мало вреда. Когда же пехотные цепи дошли уже до Осмы, батарея была продвинута, насколько было можно, ближе к турецкому расположению и частым огнем стала поддерживать наступление нашей пехоты. Вместе с батареей продвинут был вперед и Владикавказский полк, причем осетины и 1-я сотня спешились и стрелковой цепью заняли гребень холма правее батареи, а 3-я и 4-я рассыпались левее. Частый и меткий огонь казаков, вооруженных скорострельными ружьями Бердана (тогда как вся армия имела на вооружении в основном ружья системы Крнка), произвели такое впечатление на турок, что они приняли жидкую казачью цепь за два батальона.
В час дня штурмующие колонны заняли город. Оставалось выбить турок из редута на «Кургане», по которому казачья батарея усилила свой огонь с севера, в то время как с востока уже стала карабкаться на холм пехота, вскоре облепившая весь его склон.
– По коням! – разнеслась команда полковника Левиса, и казаки бригады вмиг оказались на конях.
– Двигаемся под «Курган», – отдал он команду казакам и движением шашки указал направление.
«Рысью тронулась бригада», – описывал бой Тутолмин. Укоротили поводья казаки, нагнулись черные папахи, и десять сотенных значков по ветру шелестели в призрачной синеве долины.
В это время наша пехота ворвалась в окопный венец кургана, и видно было, как турки опрокинулись и побежали вниз. В то же мгновение из-за соседней с курганом деревни, что была правее Владикавказского полка, появилась турецкая густая пехотная колонна. Завидя казаков, она как будто бы остановилась. Минутное ожидание и…
– С Богом, други, шашки вон! – прокатилось по рядам Владикавказского полка, и четыре его сотни галопом поскакали на врага.
Обрывистый, невидимый доселе ручей преградил им дорогу, и они на миг сбавили ход. Турки сделали ружейный залп. Но это уже не могло остановить терцев. Осетины перелетели через ручей и ударили в пол-оборота налево, кубанцы – в центр, но для хорошего начала не хватало еще одной сотни, чтобы ударить вправо.
– Где Астахов? – нетерпеливо выкрикнул Левис таким голосом, в котором скрывалась надежда именно на этого командира (командир 1-й сотни Владикавказского полка, «надежный и опытнейший офицер бригады»), А в ответ ему отозвался размашистый топот серого аргамака, который мчал Астахова из-за Кубанского полка. Занимая спешенными казаками холм, который находился на правом крыле Владикавказского полка, 1-я сотня должна была позднее других сесть на коней, пропустив Кубанский полк.
Как только позволили обстоятельства, Астахов выпустил свою сотню и подоспел в то время, когда в нем нуждался Левис.
– Я здесь, полковник! – ответил он, придерживая коня.
– Рубите вправо, за деревню! – отдал команду Левис.
– Слушаюсь, полковник! – И аргамак помчал его к своей сотне.
Астахов догнал сотню на переправе, и она, не останавливаясь, охватила турок с тыла. Замолотили шашки в разладе выстрелов турецкой пехоты, и она припала к копытам Владикавказского полка. Поредела пыль, взвитая атакой, поредела и турецкая пехота. Не менее двух таборов легли на этом месте под страшной сечей казаков, и тем выразился первый приступ Кавказской бригады к погрому турок 22 августа.
Но в этом славном его начале два сотенных командира оказались в числе немногих раненых. Есаул Скориков был пулей ранен в грудь, а Астахов остался без руки. В голове своей сотни он врубился в свалку, и в тесной рукопашной схватке схватился рукою за штык турецкого пехотинца. Ружье дало выстрел и раздробило ему кисть правой руки, но он левой рукой достал из кобуры, висевшей у седла, пистолет и убил стрелявшего в него турка. А самого его вывезли из сечи[18].
В то время, как терцы бросились в атаку, а кубанцы подошли к ручью, Кавказская бригада только и могла видеть, что в первое мгновение терского урагана вправо от нее были турки, а перед нею прямо на юг простиралось холмистое поле. Что делается за этими холмами и кто скрывается за ними, должен был выяснить Кубанский полк, выстроясь уступом за левым крылом Владикавказского полка. Но пока они пропускали вперед себя артиллерийскую батарею, на гребне пологого холма показались всадники Собственного Его Величества Конвоя, впереди которых скакал терский казак – хорунжий Григорий Кульбака. Ясно было, что они после боя выравниваются со своими братьями Владикавказского полка. Они подоспели в то самое время, когда Владикавказский полк разделил турецкие отряды. И их на помощь с левого фланга послал генерал Скобелев. Гвардейский эскадрон стал рядом с Владикавказским полком, и они вместе понеслись на турок. И еще пуще дрогнула земля перед врагом. Батарея и Кубанский полк, ожидая своей очереди, следовали рысью. Скоро должна была наступить она и для них, так как гонец за гонцом скакали от князя Имеретинского и от генерала Скобелева с приказанием: «Преследовать до – нельзя». Но вот выбились из сил и казаки, и терские кони, измученные трехверстовой сечей на полном ходу. Тогда-то и пригодилась батарея, которая была вызвана на позицию, а Кубанский полк сменил владикавказцев и Терский эскадрон Собственного Его Величества Конвоя. Этот последний через несколько времени был отозван в Ловеч, а владикавказцам дана передышка. Кубанцы заняли места их обоих, и наступила менее блесткая, но более трудная половина работы.
Через несколько дней князь Имеретинский доносил Главнокомандующему: «Взят Ловеч, который занимали четыре тысячи турок. Почти все они были перебиты, нами было похоронено 2200 турецких трупов, взято 2 знамени и 1 орудие. Наш урон составил 46 офицеров и 1637 нижних чинов. В преследовании неприятеля 22 августа отличились Кавказская бригада и эскадрон Собственного Его Величества Конвоя».
Глава VI
После взятия Довела все силы стали стягиваться под Плевей.
25 августа в Горном Студне состоялся Военный Совет. Проводил его сам Великий князь Николай Николаевич.
– Господа, хочу услышать от вас, что будем делать с крепостью Плевен? – поставил сразу же вопрос князь.
– Надо немедленно штурмовать крепость, – предложил князь Имеретинский.
– Обязательно штурмовать, и как можно скорее, так как осада может затянуться до зимы, – поддержал князя генерал Скобелев.
– Я бы подождал со штурмом, надо подготовиться, – возразил командир Западного отряда князь Карл. Его поддержал генерал Зотов.
Но Великий князь Николай Николаевич встал на сторону большинства и назначил днем штурма 30 августа – день тезоименитства государя. Этот штурм стал для России третьей Плевной!
Это было самое кровопролитное сражение за все войны, что когда-либо русские вели с турками. Не помогли героизм и самопожертвование войск, не помогла отчаянная энергия Скобелева, лично водившего их в атаку. «Ключи Плевны» – редуты Абдул-бея и Раджи-бея – были взяты, но генерал Зотов, командовавший всеми войсками, отказался поддержать Скобелева, предпочтя скорее отказаться от победы, чем ослабить «заслоны» и «резервы». Последним своим усилием Осман, решивший было бросить Плевен, вырвал победу у горстки героев Горталова, истекавших кровью на виду у зотовских «резервов», стоящих с ружьем у ноги. На штурм 30 августа генерал Зотов двинул 39 батальонов, оставив 68 в «резерве». Штурм почти удался. На правом фланге был взят Гривицкий редут, захвачено знамя и три орудия. В центре, где атаковало 12 батальонов, а 24 стояло «в резерве», штурм был отбит. На левом фланге генерал Скобелев, поведший войска верхом на белом коне, взял «Ключи Плевны» – 2 редута. Еще одно усилие – и Плевен был бы наш. Весь день 31 августа шел здесь неравный бой. 22 русских бастиона бились с турецкой армией на глазах 84 батальонов, стоявших в бездействии. Оставив на редуте Абдул-бея батальон Владимирского полка, Скобелев взял с его командира майора Горталова слово с редута не сходить. Геройский батальон храбро сражался против неприятельских сил. Получив от Зотова отказ в подкреплении, Скобелев с болью в сердце послал Горталову приказание отступить, сказав, что освобождает его от слова.
– Скажите генералу Скобелеву, что русского офицера освободить от данного слова может только смерть! – ответил майор Горталов.
Отпустив остатки своего батальона, он вернулся на редут и был поднят турками на штыки. Наши войска в этих боях потеряли двух генералов, 295 офицеров и 12471 нижних чинов, румыны – 3 тысячи человек. Турки по их показаниям потеряли 3 тысячи человек.
Скобелев возмущался:
– Наполеон радовался, если кто-либо из маршалов выигрывал ему полчаса времени. Я выиграл им целые сутки – и этим не воспользовались.
Имя белого генерала, как его прозвали и русские, и турки, прогремело на всю Россию. На удивление завистникам и рутинеров, Скобелев был назначен командиром 16-й пехотной дивизии. «На верхах» его стали считать если еще не равноценным корпусным командирам Зотову и Криденегеру, то, во всяком случае, мало чем уступающим, а то и вполне равноценным другим командирам дивизий.
Но поражение произвело ошеломляющее впечатление на армию и на всю страну. 1 сентября император Александр II созвал в Парадиме Военный Совет, мало чем походивший на Совет в Горном Студне, проходившем всего неделю назад.
Почти все старшие начальники во главе с Великим князем Николаем Николаевичем и Зотовым пали духом и высказывались за отступление от Плевена, иные за Дунай, и за прекращение кампании до будущего года. Но государь, и в этом заслуга царя-освободителя, согласился с меньшинством, считавшим, что после всех этих неудач отступление совершенно немыслимо как в политическом, так и в военном отношении. Такой бесславный конец кампании явился бы слишком жестоким ударом по престижу России и русской армии.
Было решено отказаться от каких-либо наступательных действий и по всему фронту перейти к обороне. Под сам Плевен стянуть как можно больше войск, укрепиться и отразить Осману сообщения.
В войсках закипела работа. Подходили подкрепления, вокруг города велись осадные работы. В соседних деревнях прямо в деревянных хатах расположился крупный временный военный госпиталь. Вечерело. В одну из хат зашел военный врач и начал устраиваться на ночлег. Тут в нее вошел невзрачный человек, старик, уже очевидно чувствующий тягость лет. Одет он был более чем просто и, несмотря на тепло, чуть ли не по-зимнему: меховая шапка, ватное пальто, боты с мехом.
– Как устроили батальоны? – приступил он к батальонному врачу.
– Этого я еще не знаю, – ответил тот с вызывающим спокойствием, расстегивая сюртук.
– Прежде всего надлежит позаботиться об удобствах доверенных вам людей, – продолжил незнакомец, не обращая, кажется, никакого внимания на недовольство собеседника, – а потом уже можно думать о личных удобствах.
– С кем, однако, имею честь? – не выдержал врач, научившийся в эти несколько своих военных месяцев осаживать штатских ревизоров.
– Пирогов, – сказал старик уже тихим голосом, словно наперед зная эффект этого имени, и заспешил на улицу.
За ним, на ходу застегиваясь, бросился и батальонный врач. Он прежде слыхал, что старик Пирогов прибыл на театр войны. Эту весть на все лады передавали солдаты, обнадеживая друг друга, что теперь, мол, и под пули не страшно угодить. Но он эти слухи воспринимал, как легенду. И вот встреча! Есть ли в России имя популярнее? Солдаты и матросы занесли это имя, куда ни казала носа ни одна наша знаменитость.
– Говорили, Боткин рассказывал, – вспоминает он, – несут на перевязочный пункт солдатика без головы, это еще в Крымскую кампанию, – доктор из дверей машет рукой: «Куда несете без головы!» – «Ничего, ваше благородие, голову несут за нами. Николай Иванович как-нибудь приставит, авось, еще пригодится наш брат-солдат!»
Обегав батальон, собрав подробную справку и, по возможности, приведя себя в порядок, врач направился назад и возле одной из хат, в свете факелов, которые держали две молодые болгарки, увидел Пирогова, который наблюдал за выгрузкой раненых. Заметив почтительно вставшего поодаль врача, он слегка кивнул, будто приглашая проследить с ним за этой процедурой.
– Пойдемте, коллега, – сказал Пирогов, дождавшись, когда опустела последняя телега. И они двинулись по хатам с ранеными, которых разместили в немыслимой тесноте. Кто мылся, кто вскрикивал, а кто уже и водочки принял или чаю напился. В одной хате раненый солдат после операции бредил боем: «То свой! – кричал он. – Свой! Сюда!» А потом запел во все горло и пел, пока не заснул.
– Вероятно, запевала, – заметил Пирогов, когда уже возле полуночи они вышли на улицу. Тут выяснилось, что, прибыв немного ранее врача, Пирогов еще не имел ночлега, и тот робко пригласил его к себе, и приглашение немедленно было принято.
Идя рядом, врач все не мог прийти в себя от того обстоятельства, что патриарх науки, гений, имя которого известно каждому культурному человеку, сейчас, ночью, идет с ним, недоучившимся студентом, чтобы вскоре заснуть на лавке в грязной хате. Этим врачом был Скляровский Сергей Львович, получивший на Шипке рану и Георгия, окончивший после войны Медико-хирургическую академию у самого Склифосовского и длительно проработавший в Виннице уездным врачом.
Была теплая, тихая ночь. Прежде чем идти спать, Пирогов угостил врача отличной сигарой. Курить сели возле хаты на лавочке. Глаза привыкли к темноте, и было заметно, что кругом безлесье, словно малороссийская степь.
– Как приятна эта тишина, – начал разговор врач, – надолго ли?
– Да, тишина обманчива. В любое время здесь могут развернуться бои, – отвечал ему Пирогов. – Слышали, 5 сентября Сулейман вторично штурмовал Шипку, но был отбит, потеряв 2 тысячи человек.
– А сколько же наших полегло? – задал вопрос врач.
– Говорят, что больше тысячи.
– Ничего, блокируем Плевен, разобьем Османа, тогда и Шипке поможем, и до Костантинополя дойдем, – сказал Пирогов.
И действительно, в середине ноября армия Османа, стиснутая в Плевене в четыре раза превосходящим ее железным кольцом русских войск, стала задыхаться в этих тисках. Припасов в городе не оставалось, и турки решили пробиться сквозь линию обложения.
28 ноября, в утреннем тумане, турецкая армия обрушилась на Гренадерский корпус, но после упорного боя была отражена по всей линии и отошла в Плевен, где и сложила оружие. Раненый Осман вручил свою саблю командиру гренадер – генералу Ганецкому. За доблестную защиту города Осману были оказаны фельдмаршальские почести.
Глава VII
А на азиатском театре боевых действий события развивались следующим образом.
В последних числах июля к Арпачаю для подкрепления русских войск подошли две дивизии. Основной удар предполагалось нанести по войскам Измаила, двигающимся на Тифлис с Эриванского направления. С ним было 20 тысяч человек при 56 орудиях. Однако в ночь на 13 августа неожиданно перешедший в наступление Мухтар нанес нашим войскам чувствительный упреждающий удар. Понеся сам большие потери, Мухтар значительно потеснил наш 8-тысячный отряд. В результате этого операция против Измаила была отложена, и все внимание Великий князь Михаил Николаевич сосредоточил на Аладже, где на высотах по фронту в 22 версты укрепились турки. Началось накопление войск. К половине сентября здесь против 40-тысячного отряда Мухтара Кавказский корпус сосредоточил 60 тысяч человек при 218 орудиях. При таком соотношении можно было и наступать. Лорис-Меликов, командующий корпусом, 20 сентября отдает приказ 2-му Горско-Моздокскому полку атаковать турецкие позиции.
– 3-я и 4-я сотня, к бою! – подал команду майор Алтадуков, и казаки вмиг выстроились на исходной.
– Берем вон ту высоту, – указав шашкой, отдал он приказ. – Я с 3-й сотней, вперед!
Моздокцы атаковали четыре роты турецкой пехоты и обратили их в бегство, изрубив 150 турок, в том числе трех офицеров. 3 октября казаки на этих же высотах захватили четыре турецких орудия. Но в целом наступление было неудачным и не получилось. Методы его напоминали Плевну. Бездействия Измаила и приближение зимы побуждали Мухтара отступить к Карсу. Заметив отход турок, Великий князь Михаил Николаевич стал готовить войска к нанесению им сокрушительного удара. 2 октября 2-я сотня 2-го Кизляро-Гребенского полка под командой майора Ржевусского вместе с 3-м эскадроном нижегородцев была направлена на разведку к селению Хаджи-Халиль. Возвращаясь на соединение к своим частям, казаки и драгуны наткнулись на шедшие в походном порядке шесть турецких батальонов пехоты, но, не падая духом, бросились в шашки, прорубились сквозь турецкую колонну, а затем, встретив на пути непроходимый овраг, вновь повернули к пехоте, еще раз врезались в нее и опять прорубили себе путь, понеся значительные потери в людях и конном составе. В этот день началось общее наступление.
В решительных сражениях 2-го и 3-го октября на Аладжинских высотах турецкая армия была разбита. Она потеряла 22 тысячи человек – 15 тысяч убитыми и 7 тысяч взято в плен, в том числе 7 пашей и 35 орудий. Разгром турок был полным. Остатки их бежали частью в Карс, а другая с самим Мухтаром – к Зивину. Эти остатки могли бы быть истреблены энергичным, безостановочным преследованием. Однако этого не произошло.
Распоряжения о преследовании вовремя не последовали, и наши войска, умея побеждать, не смогли воспользоваться плодами своих побед.
12 октября один из двух наших отрядов, отряд под командованием генерала Геймана, подошел к Зивинской позиции. Однако вместо того чтобы атаковать слабейший вчетверо отряд Мухтара, остановился в бездействии. Мало того, он не занял Хорасан и Кепри-Кея – пункты, где могло состояться соединение турецких отрядов Мухтара и Измаила. И они этим воспользовались.
14 октября Мухтар, оставив Зивинскую позицию и совершив опасный фланговый марш в 10 верст от бездействующего Геймана, двинулся как раз на Кепри-Кей, и 15 октября соединился с отрядом Измаила. Теперь турецкий главнокомандующий вновь стал располагать силами в 20 тысяч человек, при 40 орудиях, с которыми мог надежно прикрыть Эрзерум. Но не желая вступать в генеральное сражение, турки 17 октября отступили от Кепри-Кея на сильную позицию при Деве-Бойну.
21 октября у Гассан-Калы войска Геймана соединились с отрядом Тергукасова и составили теперь 25 тысяч человек при 90 орудиях. В командование объединенного отряда вступил Гейман. Он решает атаковать турок на Деве-Бойну, с тем чтобы разгромить турецкие силы и попытаться овладеть Эрзерумом. Это должно было обеспечить войскам удобные зимние квартиры, не говоря уже о громадном моральном значении взятия анатолийской столицы. 23 октября последовал штурм Деве-Бойну и полный разгром турок. Они потеряли 3 тысячи убитыми и ранеными, 3 тысячи пленных и все 43 бывших у них орудия.
И хотя все полки горели одинаковым желанием добыть «честь и славу командирам, честь и место казакам», более всех отличились 2-й Горско-Моздокский полк, 1-й и 2-й Волгские, 1-й Сунженский и 1-я батарея. Терцы показали беззаветную преданность своему долгу и Отечеству «не жалея живота своего». Они доказали, что слава о храбрости, сметливости, исполнительности кавказского казака не пустой звук, а действительность.
Гейман сам руководил войсками нашего левого фланга против правого фланга турок, куда Мухтар и стянул все резервы. В самые критические минуты он посылал туда казачьи полки, и они ломали оборону противника. Уже в сумерки генерал Тергукасов с частями 19-й и 39-й пехотных дивизий нанес решительный удар левому флангу турок на высоте Узун-Ахмет.
Толпы деморализованных, побросавших оружие турок устремились в Эрзерум, их командиры теряли голову. Никто не думал о сопротивлении. Объятое ужасом население Эрзерума собралось у Карских ворот просить аман[19] у русских… Но русские не появились.
Гейман не воспользовался и этой блестящей победой. Три дня он продержал войска в бездействии в 15 верстах от Эрзерума и лишь 27-го подступил к крепости. Турки тем временем успели прийти в себя, собрали разбежавшиеся войска, заняли форты и укрепления и организовали твердую оборону.
В ночь на 28 октября Гейман штурмовал Эрзерум, но был отбит. В результате этой неудачи, в которой был сам виноват, он должен был отступить от Эрзерума, ибо оставаться здесь на зиму значило погубить войска от лютых морозов на пустынном и диком плоскогорье. Русские войска расположились на зиму в редких деревушках Пассинской долины в отвратительных санитарных условиях.
Пока Гейман добивал Мухтара у Деве-Бойну, авангард Лорис-Меликова подступил к Карсу и начал осадные работы. В результате штурма в ночь на 6 ноября Карс был взят. Этим фактически завершилась война на Кавказе. Карс был взят ночным штурмом 1-й гренадерской, 40-й пехотной дивизиями и Кавказской стрелковой бригадой.
В крепости было взято 303 орудия. Из гарнизона в 25 тысяч человек 3 тысячи было убито при штурме, 5 тысяч больных и раненых, 17 тысяч с пятью пашами и 800 офицерами сдались в плен.
Наши потери – 2 генерала, 75 офицеров, 2196 нижних чинов.
После взятия Карса часть войск была двинута в Эрзерумский район на усиление войск Геймана. Но это имело печальные последствия. Усилив и без того большую скученность лишенных медикаментов, ютившихся в грязных хижинах и землянках войск, в ту зиму русские стоянки в Пассинской долине и за Саганлугом обратились в тифозные кладбища.
В числе жертв тифа был и генерал Гейман.
Эрзерум взят не был. Но согласно условиям перемирия 11 февраля 1878 г. был на полгода передан русским.
Глава VIII
Падение Плевны развязало руки русской стратегии. Освободившиеся под Плевной 130 тысяч русских позволяли нанести Турции решительный удар. Но наступала зима. Войска отдыхали. Солдаты, греясь у костров, были сумрачны и усталы. Расположившийся невдалеке казачий табор тоже был невесел. Всех волновал один и тот же вопрос – какие меры предпримет командование в ближайшее время.
– Верно ли, ваш бродь, сказывают, что скоро пойдем за Балканы? – спрашивают казаки у командира.
– Пока не знаю, но возможно, – ответил сотник. – Командование собирает силы.
– А что, так одни и будем вести войну? – снова задали вопрос сотнику.
– Как одни. Нам же помогают румыны, а сейчас, говорят, на помощь идет сербская армия.
– Ну, тогда турку конец! – сказал старый казак, отодвигаясь в сторону.
– Не хотите ли с нами пообедать? – пригласили сотника казаки, показывая на раскрываемые кашеварами термосы.
– А что ж, с удовольствием. Не помешаю, братцы? – спросил сотник казаков.
– Садитесь вот туточки, ваш бродь, – отодвигаясь, в один голос повторили приглашение казаки. Один из них подал ему деревянную ложку, и сотник стал с удовольствием есть густо наперченный и действительно вкусный бараний суп. Он медленно пережевывал мясо, куски затвердевшего хлеба и осмысливал то, о чем говорили сейчас казаки.
– Знатный суп сготовили ваши повара, – отдавая котелок, похвалил сотник.
Казаки после сытного обеда покуривали, с удовольствием глядя на обедавшего с ними офицера.
– Спасибо, братцы, за обед. Накормили, так накормили, – поблагодарил еще раз сотник и пошел к видневшемуся вдалеке командиру полка.
А в ставке Великого князя Николая Николаевича шло совещание. Об остановке кампании до весны не было и речи.
Главнокомандующий отдает приказ о безотлагательном переходе через Балканы:
«Западному отряду генерала Гурко перевалить через Этропольские Балканы, – писал он в приказе. – Разбить Софийскую турецкую армию и выйти в тыл туркам у Шипки, облегчив тем самым переход отряду Радецкого. Отряду генерала Карцева перейти Балканы у Трояна после перехода Гурко. Отряду Деллинсгаузена, – предписываю, – перейти Балканы у Твердицкого перевала. А Рущукскому пока оставаться на месте.»
Отряд генерала Гурко, доведенный до 60 тысяч человек при 318 орудиях, уже в начале декабря стал собираться на исходной. Среди местных жителей распространился слух, что русские, несмотря на суровую погоду, готовятся идти на помощь их братьям через Балканы.
13 декабря, в жестокую бурю и метель, полки отряда двинулись в поход за Балканы.
– Куда же вы в такой холод? – спрашивали болгары у солдат. Но те молчали. А Гурко, стоя под кручеными хлопьями снега, которые нес неистовый ветер, напутствовал их:
– Враг никак не ожидает нас, застанем же его врасплох. Дадим последний урок туркам, чтоб не смели впредь зариться на Россию.
В серой мгле еле различался русский отряд, в котором шли вперемежку солдаты, казаки, кони которых шли под вьюками. Люди несли на себе кроме оружия довольствие на шесть дней, кони несли боезапас и четырехорудийную батарею.
Местные жители с ужасом смотрели на выступление русских войск, а они шли и шли по заваленной сугробами дороге, переходящей невдалеке в обычную тропу. Особо опасным для этого каравана был снежный буран, заметавший еле обозначенный край пропасти, рядом с которой вилась дорога. Ветер словно перебрасывал снег с вершины на вершину, его порывы были гибельны. Уже на небольшой высоте в буране смешивались горы и небо. Люди не знали, куда ступить, и часто доверялись чутью лошадей, идущих узкой тропой, еле видимой и при ясной-то погоде. То и дело приходилось останавливаться. Лошади, навьюченные сверх меры, выбивались из сил. Их ноздри хватали разряженный воздух, а ввалившиеся от трудного пути бока ходили, словно кузнечные меха.
– Да, буран с нами словно в прятки играет, – шутили в колонне, когда останавливались, чтобы поесть и передохнуть.
– Точно. То залепит глаза, да так, что ничего не видно, то исчезнет, – слышалось в ответ.
– Дай Бог поскорее добраться до цели, – сказал кто-то обнадеживающе, и все перекрестились.
Отряд вместо двух предположенных дней совершал переход целых восемь дней. Люди устали. У многих лошадей были сбиты не только подковы, но и копыта. Выбившиеся из сил лошади катились вниз по камнепаду вместе с поклажей. Но по мере приближения к цели караван приобретал внушительный вид. Это было настоящее войско. Спустившись с перевала, большая часть Западного отряда расположилась в Комарцийской долине, по ту сторону Балкан. Воля генерала Гурко, энергия его офицеров и выносливость солдат победили природу. Но впереди предстояли бои.
В первую очередь надо было овладеть Софией, чтобы избежать повторения здесь Плевны и обеспечить свой тыл при дальнейшем наступлении на Филипполь.
21 декабря Гурко двинул свои войска на Софию, 22-го рекогносцировал ее и 23-го занял без боя. Готовясь к дальнейшему наступлению, он назначил войскам дневку в ожидании спуска с гор обозов. Но турки, заняв удобные позиции, решили во что бы то ни стало остановить наступление.
Бой при Такшисене велся по колено в снегу, в трудной горной местности и в сумерках короткого зимнего дня. Четыре тысячи турок, при восьми орудиях, были сбиты с очень сильной позиции, потеряв 800 человек (наши – 562). У Горного Бугарова четыре тысячи русских с шестью орудиями отразили девять тысяч турок с 8 орудиями. Наш урон составил 8 офицеров и 261 солдат.
В метель с 16 на 17 декабря в Западном отряде было обморожено 813 человек, их них 70 насмерть. При Петриче погибли генерал Каталей – начальник 3-й гвардейской дивизии и командир 1-й бригады генерал Философов. Переход Балкан отрядом Гурко послужил сигналом к общему наступлению. 20 декабря отряд генерала Карцова численностью пять тысяч человек при 30 орудиях сосредоточился у Княжевацких Колиб – подножия Троянова Балкана, самой дикой, суровой и неприступной части Балканских гор. Утром 23 декабря начался подъем гуськом по единственной имевшейся пастушьей тропе в 27-градусный мороз, причем пушки и лошадей втаскивали на кручи на своих руках. Трое суток длилось это восхождение. Преодолев все эти трудности, отряд сбил занимавший вершину турецкий отряд, и в рождественскую ночь на оледенелых вершинах победно зазвучал тропарь «Рождество Твое, Христе Боже наш…».
Переход русских через Троян навел на турок такую панику, что гарнизоны их бежали, а за ними устремилось и все мусульманское население южного склона Балкан.
Тем временем генерал Радецкий, получив подкрепление, решил нанести удар 40-тысячной армии Вессель-паши. Он принял смелое решение – двойной охват армии Весселя колоннами Скобелева и князя Святополк-Мирского. 24 декабря началось обходное движение – переход Балкан выше пояса в снегу. 27-го князь Мирский завязал бой с турецкой армией, а 28-го декабря сокрушительный удар Скобелева при Шейнове решил это генеральное сражение. А было это так. Турецкая армия Вессель-паши численностью 32 тысячи человек при 100 орудиях заняла крепкую позицию с 14 сильными редутами. Снег был выше человеческого роста, трудности движения невероятные. 25 декабря колонна Скобелева, идя форсированным маршем, за 17 часов прошла всего 6 верст. Связи между колоннами, да и с Радецким, почти не было. 27 декабря Мирский после тяжелого боя овладел 1-й линией редутов, но вторую взять не смог. 28-го Скобелев, не закончив еще сосредоточения, в помощь ему атакует турок. Эта атака была решительной. Было взято 30 тысяч пленных, 7 знамен и 93 орудия. Наши потери – 5679 убитых и раненых. Живой силе турок был нанесен непоправимый урон. Скобелев был награжден шпагой с бриллиантами, а Радецкому Великий князь – главнокомандующий – вручил свою Георгиевскую звезду.
Желая полностью использовать шейновскую победу, главнокомандующий в Директиве от 1 января 1878 г. ставит войскам задачу овладеть Адрианополем и наступать на Константинополь.
Переход русскими Балкан произвел на турок ошеломляющее впечатление. Зимний Константинополь представлял унылое зрелище. Не слышалось ни музыки духовых оркестров, ни говора беззаботных женщин, ни криков разносчиков сладостей. Разгром армии Весселя у Шипки, наступление русских войск на Адрианополь не на шутку всполошили турецкого султана.
– Сулейман и Мехмед-Али не дали отпора русским, пусть теперь искупают вину, удерживают от гяуров Филипполь и Адрианополь, – с гневом говорил султан в кругу своей свиты. – Я решил назначить главнокомандующим всеми войсками военного министра Реуфа. Он, думаю, остановит русских.
– Но курьеры докладывают, что войска разбегаются. А янычары бегут первыми, – вступил в разговор приближенный султана Кучук-Гусейн.
– Дезертиров вешать, – сказал как отрезал султан.
– Вот английский посол предлагает нам проект мира с Россией, – подал бумаги Кучук-Гусейн.
– Нет, я дал команду Реуфу отвести войска Сулеймана и Мехмед-Али к Адрианополю и там дать русским генеральное сражение.
Реуф выполнил распоряжение султана, но отступить к Адрианополю удалось только второму. Гурко даже при Татар-Базарджике стал окружать армию Сулеймана. Тот, не желая вступать в сражение, направил свои войска к реке Марице, чтобы сосредоточиться у Филипполя. Авангард Гурко настиг их на переправе. Артиллерия била с колес, не переставая двигаться.
Конница легко вошла в интервалы между колоннами и стала вколачивать клинья, чтобы развести эти клинья как можно шире, а потом разбить отступающих турок по частям.
Янычары на резвых конях, сидя в седлах, задрав колени к подбородку, налетали с флангов, орудуя саблями. Но это уже им не помогало. Залп орудий и ружейные залпы вставшей в каре пехоты отбросили этот наскок. Тысячи турок бросились к мосту через Марицу. А русская артиллерия рубила, рубила…
Сулейман, едва переехав через мост, приказал:
– Разрушьте его! Пусть русские потонут, перебираясь через реку.
А на берегу грудами валялись значки и знамена, перевернутые фуры и телеги, пушки растерявшегося противника.
Перейдя реку Марицу и уничтожив за собой мост, Сулейман стал сосредоточиваться у Филипполя. Узнав о том, что дорога на Адрианополь уже перехвачена русской конницей, он нацелился отступать по долине Марицы на побережье Эгейского моря. Однако нашим войскам удалось его зацепить и в трехдневных боях: 3, 4 и 5 января у Филипполя турецкая армия была разгромлена, потеряв 20 тысяч человек и 114 орудий – всю свою артиллерию. Таким образом генерал Гурко своими умелыми действиями вывел из строя последний оплот Оттоманской империи – армию Сулеймана. Разгром Сулеймана, занятие важнейшего железнодорожного узла Семенли делали защиту Адрианополя безнадежной. Уже 5 января турецкие парламентеры обратились к великодушию победителей. 7 января Сулейман сам был эвакуирован, а 8-го генерал Струков с тремя полками 1-й Кавалерийской дивизии вступил в Адрианополь.
– Адрианополь взят, – докладывал Струков Скобелеву.
– Молодцы! Передай мою благодарность своим богатырям, и двигайтесь на Константинополь. Христиан и безоружных отнюдь не лишать жизни, разумея то же о всех женщинах и детях, – предупреждал он. Все стало ясно.
Падение Адрианополя и кавалерийский рейд к Константинополю поверг Европу в изумление, а Турцию поставил перед вопросом: как поступать?
Турки запросили перемирия.
– Я подпишу свой мир на берегах Босфора, у подножия храма Софии, в Царьграде, – восторженно говорил Великий князь Николай Николаевич.
А в это время султан вел переговоры с английским послом Хаксли.
– Что слышно из Лондона? – спрашивал он посла.
– Что слышно из Лондона, то отзовется здесь, в Константинополе, – отвечал посол. – Скоро наша эскадра войдет в Босфор.
– И я увижу ее из своих окон?
– Непременно.
– Но до меня дошли слухи, что на английском флоте не все так хорошо, как пишут в газетах.
Хаксли ответил султану, что флот так долго оставался в Безикской бухте вследствие несогласованности правительства и командования флота.
– Но эта неуверенность и истеричность вашего правительства и особенно командования флота становится предметом всеобщего посмешища, – заметил султан. – Мне доложили, что на фасаде вашего посольства какие-то остряки наклеили объявление: «Между Безикой и Константинополем утерян флот. Нашедшему будет выдано вознаграждение».
– Англия – страна свободная и сильная, и пока она существует, в Стамбуле будет все спокойно, – успокоил он султана.
И действительно, чтобы помешать возможному вступлению русских в Константинополь, английский флот, следуя приказу, поспешно прошел Дарданеллы и 15 февраля 1878 г. демонстративно остановился у Принцевых островов, хотя потом отошел несколько дальше, в Мраморное море.
Во избежание конфликта с Англией русским войскам был отдан приказ не занимать Константинополь. Русская армия остановилась под его стенами, заняв местечко Сан-Стефано, расположенное в 12 верстах от турецкой столицы, на берегу Мраморного моря, где 19 февраля 1878 г. был заключен мир.
Глава IX
Наступила весна. Залежавшийся в балках и оврагах ноздреватый снег таял. Над жирными пятнами земли дрожал тонкий прозрачный пар. На буграх зазеленела трава. С голубого неба жаворонки рассыпали над степью серебряный звон. Редкие облака проходили над степью. Пригревало солнце, изредка со степи набегал теплый, еле ощутимый ветерок.
Внезапно степь ожила. Поднялась пыль, послышался гул и звон, ржание коней, крики. Черные фигуры всадников замелькали на дорогах, и через 15 минут темная масса терских казаков заполнила долину.
Это пришел в движение 1-й Владикавказский полк.
– Заключен мир! Скоро по домам, – разносилось вокруг.
Кому не знакомо это чувство? Оно похоже на ветер, который то и дело щемяще опахивает казаков с каких-то невидимых солнечных садов. В голове одно: «Домой, домой!». Понемногу забывались страшные зимние бои и рейды. Как странно было видеть опять эти места, где после суток боя, истекая кровью, казачьи сотни прорывались к своим полкам и дивизиям, теряя друзей. Как страшно было видеть опять эти места, которые пахли невозвратимой молодостью и смертью. «Ведь и я, и я мог тут лежать безымянно» – думал каждый про себя.
Через несколько дней состоялся смотр войск. С кургана открывался плац, в песках, под полуобгорелой ржавой крепостью, взятой недавно при наступлении на Адрианополь. Виднелись знамена и серые квадраты батальонов. Чуть в стороне – кавалерия. Из рядов летели приглушенные команды:
– Ра-вня-й-айсь!
И вдруг после паузы застывших движений – ревом барабанов и труб ударили два оркестра. Колоннами пошли поротно батальоны.
– Благодарю вас, богатыри русские, – приветствовал войска Великий князь Николай Николаевич.
– Ура! – непрерывно неслось над строем.
Пели трубы, тысячи ног били в песок. Вот пошла кавалерия. И первыми пошли терские казаки, закинув головы и глядя орлом вперед.
– Честно исполнив свой долг, вы стали выше всякой похвалы, и не мне благодарить вас, товарищи, – обратился к казакам Великий князь. – Вашу службу не забудет батюшка царь, сумеет оценить ее мать Россия. Ваш атаман может гордиться вами.
1-й Владикавказский полк сразу же пошел в Софию. Под пение гортанных торжественных фанфар возбужденные казаки вспоминали обращение И. В. Гурко в приказе от 25 декабря: «Не знаешь, – обращался он к солдатам, – чему удивляться больше: храбрости ли и мужеству вашему в боях с неприятелем или же стойкости и терпению в перенесении тяжких трудов в борьбе с горами, морозами и глубоким снегом».
Болгарская столица встретила казаков ласковой весенней погодой. Дружно галдели вороны. Птицы кружили стаями над великолепным храмом, который стоял в центре Софии. Егор Кульбака с товарищами во спасение свое скоро перекрестились. Объехав вокруг храма и осмотрев его снаружи, они решили зайти внутрь. Яркий золотистый свет заливал зал. Взгляд Егора скользнул вверх в поисках исходящего в зал света. Он исходил из-под купола, из окон, расположенных там. Купол, крашенный в голубой цвет, изображал небо. В его внутренней сфере был изображен Бог. Он восседал на золотом троне – как создатель мира. Вокруг парили ангелы в облике наивно-приветливых младенцев с крылышками. Егору понадобилось всего несколько минут, чтобы воспринять прекрасное искусство, вложенное в эту церковь древними мастерами. Стены храма разрисованы библейскими сюжетами. Тут и Голгофа с распятым Христом, и одинокий ковчег Ноя на грозном гребне волны Всемирного потопа. На двери в алтарь была изображена картина Страшного суда.
«Здесь все так, как и должно быть», – только и успел подумать Егор, а дальше рассуждения в голове прекратились. Просто рука Господа легла тяжело на его плечи. Ошибки восприятия, каких-то неверных чувств не могло и быть. «Иное невозможно, немыслимо», – засело в голове. Устыженный тем, что мог стать жертвой каких-либо профанских мыслей, он трижды перекрестился и склонил в поклоне голову. А когда поднял ее, взору опять предстали прекрасные росписи храма и вся его прекрасная обстановка. «Вот такую бы церковь построить в станице, красота!» – подумал он. А когда они вышли на улицу, он обратился к своим товарищам:
– Казаки, нравится вам этот храм?
– А то, – в один голос ответили станичники, – загляденье.
– Вот приедем в станицу, – предложил Егор, – и давайте в честь нашей победы построим у себя такой же, каменный!
– Любо! – дружно ответили казаки.
В апреле они были в Ростове. А оттуда по Ставропольскому шляху двинулись к себе домой, на Терек. Лошади бежали рысцой и словно спускали казаков на воспоминания.
И казаки пели:
Вспомним, братцы, про былое, Что как сладкий сон прошло, Жизнь – раздолье удалое, Наше время – золото!«Сколько там, на войне, казаков сложило головы», – вспоминали они.
Не раз генерал Гурко, награждая крестом или медалью, говорил казакам:
– Прежде чем получить этот крест, каждый из вас ждал себе другого креста – и не на родной стороне, а на далекой чужбине. Вот почему поднимается рука ломать шапку перед вами, и первее всего хочется вспомнить ваших товарищей, что оставили свои кости на чужой стороне.
Вспоминая хорошими делами этого блистательного генерала, казаки имели обиды на других военачальников, по чьей вине главная масса нашей конницы всю войну действовала бесцветно. Из общего количества 260 эскадронов и сотен конницы стратегическую роль суждено было сыграть лишь 14. Но рейд их на Адрианополь поставил Турцию на колени. Всякий раз, когда во главе этих эскадронов и сотен становились достойные их командиры, слава венчала их штандарты. Особо выделялись в войсках генералы Гурко, Радецкий и Скобелев. Все трое – люди железной воли. Каждый, однако, по-своему: Гурко – могуч и решителен, Радецкий – спокоен и непреклонен, Скобелев – блестящий, «сверкающий». В свои энергичные руки они приняли ведение войны, сообщив ему свой неизгладимый отпечаток. И последний седьмой месяц дает нам переход Балкан, Шейново, Филипполь и сокрушение двух турецких армий.
На первое место можно поставить Гурко. Это победитель войны, победитель Балкан, вдохнувший свою несокрушимую энергию как в войска, так и в Главную квартиру. Скобелев еще не успел вполне сформироваться как полководец. Но уже стал «белым генералом», героем легенд, при виде которого гремит «Ура!». Радецкий уступает им. Он не столь «монументален», как Гурко, не столь «картинен», как Скобелев. Но он из того же гранита. Этот на вид скромный, бесстрастный военачальник, шесть месяцев простоявший бессменным часовым на славнейшем и ответственном посту всей войны.
Всего в военных действиях с нашей стороны принимали участие: 31 пехотная дивизия, 4 стрелковые бригады, 15 кавалерийских дивизий, 3 отдельные кавалерийские бригады и отдельные казачьи части – круглым счетом 600 тысяч человек.
Но вернемся к казакам. Едут они из Ставрополя по Екатериноградскому тракту, как называют дорогу, по которой из России идут обозы на Екатериноград, Моздок, в Тифлис.
К югу от Ставрополя начинается Терская область. Раскинулась она вдоль и вширь на много верст. Вековая целина поросла высоким шелковым ковылем, душистым разнотравьем, лесами, и все это в окружении гор. И только вокруг станиц распаханные земли разбиты на наделы. Богата Терская область. Казаки, ехавшие по степной дороге, встрепенулись, увидев вдали вершину Машука.
– Пятигорск – не Казанлык, что за Шипкинским перевалом, это уже почти родина, – сказал кто-то из казаков. – Скоро будем дома.
Всадники торопились, но кони брели с трудом, всем своим видом показывая, какой утомительный путь они проделали. А казаки все-таки нетерпеливо понукали их. Они всем сердцем стремились домой.
Привольно расположившиеся поля, уже покрытые зеленью нового урожая и слегка увлажненные дождем, бередили приятным, привычным с детства запахом. Казалось, что даже небо над полем имеет свой особый аромат.
Подъехали к горе Кинжал. От нее начинался овраг, почему-то называемый Волчьим, и дорога зигзагами повела казаков по берегу Малки, текущей по оврагу.
– Здесь обычно прятались черкесские абреки, – сказал кто-то из казаков.
– Тогда нам надо быть побдительней, – послышалось в ответ.
– Да кто же на нас сейчас рискнет напасть, – ответил тот же казак. – Мы ведь сейчас сила. А абреков, поди, здесь уже и не бывает.
– Это раньше их ватаги собирались в таких местах, чтобы совершать нападения.
Казаки расшумелись, оживленные чем-то, видно, очень смешным.
На склон оврага легли косые лучи восходящего солнца. Занималось теплое, сухое утро. Верхушки леса горели красным, золотистым, медно-серебряным цветом. Трудно было оторвать глаза от этого зрелища. Лес молчал. Верхушки деревьев, на которых играло солнце, были неподвижны, и казалось, что они сами излучают свет. Сделав небольшой привал, казаки продолжили путь и только к вечеру добрались до дома. Закат опоясал самую макушку двухголового великана Эльбруса сверкающей золотой лентой, когда они подъехали к станице.
– Вот и наш дорогой Терек, – сказал один из казаков. – Как ты жил без нас?
И им почудилось, что в ответ река зашумела еще сильнее. Наслаждаясь сладким говором перекатов, всадники и не заметили, как подъехали к станичным воротам. А здесь их уже встречало почти все население станицы. Все без конца расспрашивали: что сеют в Болгарии? Какие там лошади, коровы и другой скот?
Сходен ли их язык с нашим? Вечер медленно опускался на станицу. И когда вопросы стали пореже, атаман сказал:
– Ну, пора и честь знать, пусть отдыхают.
Над горами дотлевал закат, темнели и грузно ворочались набухшие дождем тучи, наполняя предгорье сизым туманом. Где-то стороной пролетела падающая звезда, ярко мигая огоньками, словно открывая путь в небесное пространство.
Казаки расходились по домам. Шли и слышали стук своих сердец, останавливались, что-то вспоминали и шли дальше.
А за валом станицы ласково шумел белогривый Терек…
Примечания
1
Оказия – охраняемый караван.
(обратно)2
Депеша – сообщение.
(обратно)3
Раньше базары проводили среди недели. – Прим. авт.
(обратно)4
Каюк – лодка для переправы через Терек (мест.).
(обратно)5
Стоять на часах – быть в карауле. – Прим. авт.
(обратно)6
Крейсерство – плавание одного суда или эскадры в определенном районе с целью разведки, охраны побережья, нарушения морских перевозок противника.
(обратно)7
Абордаж – сцепление двух судов для рукопашного боя.
(обратно)8
Крюйт-камера – помещение позади орудий, где хранились заряды.
(обратно)9
Рангоут – все круглого сечения деревянные части для постановки парусов.
(обратно)10
Марс – деревянная площадка на мачте, предназначенная для наблюдения или для работ с парусами.
(обратно)11
Эта награда была выше медалей. Награжденные этим знаком освобождались от телесных наказаний и имели ряд льгот.
(обратно)12
Ложемент – стрелковый или орудийный окоп.
(обратно)13
Люнет – открытое с тыла полевое укрепление.
(обратно)14
Аман – пощади (тюркс.)
(обратно)15
Сардарь – наместник.
(обратно)16
При штурме войска лишись 7 офицеров и 171 нижнего чина.
(обратно)17
Аманаты (заложники), которых требовали царские военачальники из числа детей или самых приближенных или у владетелей – князей и узденей 1 – й степей с целью удержания их в покорности.
(обратно)18
Этот эпизод действительно имел место. Герой Ловечского боя, безрукий полковник Тимофей Варламович Астахов, позже до старости проживал в родной станице Луковской.
(обратно)19
Просить аман – просить пощады. – Прим. авт.)
(обратно)


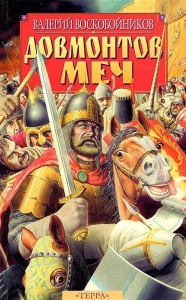






Комментарии к книге «Терское казачество. Вспомним, братцы, про былое», Владимир Георгиевич Коломиец
Всего 0 комментариев