Владимир Коломиец От Терека до Карпат
В оформлении обложки использован фрагмент картины Андрея Ляха «Гулевая вольница».
Вместо предисловия Политическая прелюдия 1912–1913 годы
Берлин – Роминтен
Жители Берлина впадали в оцепенение, когда по его улицам проезжал экипаж Вильгельма II.
– О, это наш кайзер следует во дворец из своей резиденции! – говорили друг другу каждое утро лавочники, приказчики, владельцы «гастштедтов», расположенных от Потсдама до Унтер-ден-Линден. Они принимали стойку «смирно», пока «мерседес» на высоких колесах с тонкими белыми шинами, в окружении охраны, не промчится мимо.
А дворец монарха располагался в самом центре этого закопченного города, на острове между Шпрее и ее протокой. Здесь, в мрачном здании прусских королей, вызрел и оперся на железные когти пангерманизм, требовавший мирового господства Германии, передела карты Европы и колоний европейских держав в пользу империи Гогенцоллернов, в пользу германских промышленников и банкиров.
Своим главным противником и злейшим конкурентом пангерманисты не без оснований считали Великобританию. Другой стратегической идеей, осенявшей все шовинистические построения и лозунги, был «Дранг нах Остен»[1]. Уже тогда демагогические призывы «оградить Европейский континент от русских стремлений к мировому господству», «обеспечить культуртрегерскую миссию немцев и австрийцев среди варварских славянских народов» сплачивали самые черные империалистические силы Центральной Европы.
Рабочий день кайзера по традиции начинался ровно в десять часов. А за пять минут до этого Вильгельм, позвякивая шпорами, вошел в кабинет и, подойдя к огромному дубовому письменному столу, посреди которого лежала закрытая сафьяновая папка с бумагами, решительно опустился в кресло и попробовал его на крепость.
Он раскрыл папку, просмотрел бумаги, начертав на некоторых листах свою подпись, и стал принимать доклады.
Начальник разведки Генерального штаба быстро зачитал ему две странички о ходе военных действий на Балканах, о попытках французского Генерального штаба спровоцировать вступление в Балканскую войну России, о частичных приготовлениях Австро-Венгрии, которая готова поддержать Турцию против балканских союзников.
Вильгельм обожал разведку. В отличие от многих других тогдашних европейских монархов, и в первую очередь от Николая II, который приближал к себе собутыльников по гвардейским пирушкам, то бишь людей, как правило, никчемных, но родовитых, благоволил прежде всего к разведчикам, ничуть не заботясь об их родовитости. Он почитал за необходимость ежедневно и ежечасно при решении государственных проблем прибегать к результатам разведывательной работы.
Более того, Вильгельм не избегал и сам принимал активное участие на ниве профессионального шпионажа.
Традиции Бисмарка и его «короля шпионов» – Штибера упали на хорошую почву в душе германского кайзера.
Настроение Вильгельма по ходу доклада несколько раз менялось, пока он не сказал:
– Довольно, довольно!
Он встал. Докладывающие бесшумно стали покидать кабинет. Только руководитель всех разведок Германской империи граф Филипп Эйленбург, повинуясь знаку императора, остался в кабинете.
Когда створки двери сошлись за последним посетителем, император принялся нервно ходить по комнате, выдавая свое крайнее возбуждение.
Наконец он заговорил.
– Нужно ускорить подготовку к войне. Потому что начинать ее в шестнадцатом, тем паче – в семнадцатом году будет поздно. Необходимо опередить Британию. Это главный – самый опасный конкурент. К тому же Россия успеет перевооружиться согласно своему плану и войдет в более тесные сношения с Францией.
– Готов ли Мольтке-младший представить окончательные планы ведения кампании против России и Франции: – спросил канцлер у графа, и сам же ответил: – Это следует обсудить в неофициальной обстановке, пока что с глазу на глаз.
– Вот что, – продолжил Вильгельм после некоторого раздумья, – в Берлине нас будут бесконечно отвлекать разными мелочами… Завтра я выезжаю на охоту в Роминтен. Мы поедем с принцем Генрихом. От моего имени пригласите графа Мольтке-младшего и графа Бюлова… впрочем, последнего, пожалуй, не надо, а то он вечно призывает нас пойти на уступки Англии. Разумеется, я хотел бы видеть вас, господин советник императора, и вашего двоюродного брата, министра двора.
План кампании вызревал трудно и медленно. Мысль немецкого императора возвращалась к нему неустанно. О неминуемой и скорой схватке с Россией он задумывался всюду – и в покоях дворца, и на пышных балах, и в блистательном автомобиле, и на смотрах марширующих под грохот барабанов новобранцев, собранных по очередному призыву. Его ум отбирал, оценивал, раскладывал по чашам весов все бесконечные «про» и «контра» предстоящей войны с Россией, все накопленные соображения, все наблюдения богатой событиями жизни.
«Да, столкновения с Россией не миновать: пока она не разгромлена, то несокрушима и Англия, – думал он. – И нет сомнения, что чем дальше, тем легче может рухнуть продуманный план его приближенных и не удастся осуществить до конца собственную потаенную честолюбивую цель – возвеличить Германию и себя».
Станция Роминтен находилась в Восточной Пруссии. Около нее располагалось одно из любимых имений Вильгельма Гогенцоллерна. Здесь, среди лесных пущ и прозрачных озер, на небольшой возвышенности подле деревушки, красовался замок Его Величества – двухэтажный деревянный дворец под высокой крышей, нависавшей над террасами. Прямо напротив главного располагался второй деревянный дом, только чуть поменьше и более простой конструкции. Оба корпуса на уровне второго этажа соединялись крытой галереей. Большую часть обоих зданий занимали покои императорской семьи. В меньшем доме на первом этаже были комнаты для немногочисленной свиты и для гостей, приглашаемых императором на охоту.
Как всегда, уезжая из Берлина, Вильгельм взял с собой в Роминтен императрицу и принцессу Цецилию.
С приездом Гогенцоллерны удалились для краткого отдыха в свои покои, а слуг и гостей разместили согласно чинам.
Когда за окнами рано, по-зимнему, стало смеркаться, а в теплых и уютных покоях резиденции зажглось электричество, гостей звуками гонга пригласили к столу. По правую руку от императрицы посадили генерала Мольтке-младшего, как особу, наивысшую после императора по званию. Принц Генрих, двоюродный брат императора, уселся рядом с Вилли. Возле принца заняли свои кресла оба графа Эйленбурги, своей схожестью как бы демонстрируя устойчивость голубой крови в соседних ветвях семейства.
Во время обеда компания вела традиционный и пустой светский разговор. Император, словно почтенный отец бюргерского семейства, громко хохотал, отпускал шуточки, от которых краснела принцесса Цецилия и в улыбках распускались губы царедворцев.
После обеда дамы удалились, а мужчины перешли в соседний зал. В непринужденной манере все расселись вокруг небольшого столика. Лакеи внесли кофе, пиво, сигары, маленькие рюмочки ликера и коньяка. Шуточный разговор продолжился, пока Вильгельм не перевел его к делам, ради которых он и удалился в деревенскую глушь. Следовало обсудить чрезвычайно актуальный вопрос: как лучше обеспечить операции доблестной германской армии в грядущей войне против бриттов, славян и галлов. Для подготовки оставалось год-полтора. Главная задача – развернуть политическую аранжировку столкновения, вывести из игры других потенциальных союзников триединого «Сердечного согласия»…
– На основании ваших донесений, господа, – Вильгельм посмотрел на Филиппа Эйленбурга, – я сделал вывод, что наш главный противник Англия так же серьезно, как и мы, готовится к европейской схватке. Наша военно-морская программа, против коей не осмелились голосовать даже господа социалисты в рейхстаге, близится к зениту, сухопутные армии начинают разворачиваться согласно плану Шлиффена.
По высокому мнению государя, необходимость спешить с войной вытекала также из того, что непомерно росли претензии германского рабочего сословия. Оно уже не держалось в тех рамках, которые необходимы для всего отечества, а выступало, подстрекаемое социалистами, с забастовками и демонстрациями. «Пока смутьяны окончательно не организовались, армия должна задушить их движение в зародыше, воспользовавшись той великой победой, которая будет завоевана за три – максимум четыре недели в результате разгрома Франции, – подчеркнул Вильгельм. – Россия после падения ее союзника на континенте вынуждена будет капитулировать, поскольку двуглавый орел останется один на один со Срединными державами».
– Ваше величество! – восторженно вмешался в разговор граф Мольтке. – Германская армия сознает, что наши политические задачи невыполнимы без удара меча. Мы готовы нанести этот удар!
– Благодарю вас, граф! Я знаю, что армия полна решимости разбить всех наших врагов и установить новую границу России по меридиану Нарва – Азовское море. Я поддерживаю ваши планы. Однако я хотел бы сегодня обсудить несколько политических мероприятий, которые могут ускорить достижение нами великой цели.
Как выяснилось вскорости, для достижения великой цели Его Величество предлагал активизировать в борьбе против России берлинские финансовые круги, весьма озлобленные тем, что их французские конкуренты изрядно наживаются на операциях с русскими займами. Вполне понятно, что германское государство не могло позволить своим подданным в столь широких пределах, как Франция, осуществлять финансовые сделки с вражеской державой. Следовало поэтому использовать возможности в России – родственные и деловые, – чтобы подрывать экономический порядок, дезорганизовать финансовую и промышленную деятельность.
– Второе, – Вильгельм обвел взглядом присутствующих, – я полагаю, надо раздуть фигуру этого сумасшедшего попа – Распутина, дабы внести беспокойство и сомнения в общественную жизнь Петербурга!
Высказав неожиданно свою идею, Вильгельм тут же, должно быть, спохватился: не слишком ли много свидетелей его некорпоративной выходки в отношении других, хотя и русских, монархов? Но остановить себя не смог.
– Неважно, если при этом немного поблекнет доброе имя моей сестрицы Алике, – благодушно разрешил он. Хотя присутствующие знали, что Вильгельм тщательно собирал через свою агентуру сплетни, имевшие хождение в Петербурге, и бывал как-то особенно счастлив, если Эйленбург приносил ему очередные пикантные новости об отношениях царицы фаворитами. В кружке императора давно уже говорили о вздорности и истеричности русской царицы, о предметах ее совместнго с Николае м мистического обожания – проходимцах и авантюристах – и особенно о «советнике» и «друге» семьи Романовых, «божьем человеке, старце» Распутине.
Вильгельм, который не скрывал восторга по поводу высказанных им идей, поднял рюмку коньяку и провозгласил традиционный тост:
– За грядущую победу Германии, хох! Боже, покарай Англию!
Гости дружно вскочили и осушили свои бокалы. Изволив выпить до дна, кайзер ласково улыбнулся приближенным и соблаговолил проститься: часы показывали ровно десять. Всегда в одно и то же время Вильгельм Гогенцоллерн начинал готовиться ко сну.
Вена
Самоубийство в Вене полковника императорского и королевского Генерального штаба Альфреда Редля вызвало переполох в высших кругах Австро-Венгрии. В парламент было внесено несколько срочных запросов. И хотя военное министерство пыталось представить его смерть как заурядный случай, журналисты, прознав об истинной причине самоубийства, сообщали, что Редль был агентом русской разведки.
Весь мир узнал о причинах самоубийства Редля, которые генштабисты пытались скрыть вначале даже от самого императора и его наследника – Франца-Фердинанда.
Страсти в Вене, Берлине кипели спустя даже год, в августе 1914 года, необычайно. Бывший депутат рейсхрата граф Адальберт Штенберг с упорством маньяка отстаивал, например, собственную теорию о том, что полковник Редль был, оказывается, виновником мировой войны. Глубокомысленный граф полагал, что только из-за Редля ни Германия, ни Австро-Венгрия не знали о том, что у России имелось под знаменами 75 боеспособных дивизий, превосходивших значительно австро-венгерскую армию. Срединные империи, агентуру которых на востоке якобы совсем парализовал злодей Редль, слепо стремились в бой и нарвались на эту мощь. Граф-депутат считал также, что вездесущий полковник подробно информировал русских о военных приготовлениях австро-германских союзников и вся мало-мальски секретная документация венского Генерального штаба благодаря ему имелась в копиях в Петербурге.
Депутаты оппозиции впервые за много лет сошлись во мнении с окружением эрцгерцога Франца-Фердинанда, критиковавшем престарелого императора и особенно подкапывавшимся под клан генштабистов.
– Как! Отказаться от ареста преступника, от полного расследования и выяснения всего ущерба, принесенного этим славянским изменником двуединой монархии! – говорили они. – Не разыскать его сообщников, не устроить громкого – политического процесса, который позволил бы заодно расправиться со всеми вождями славянских национальных меньшинств в империи, подрывавшими ее славный германистический дух!
Франц-Фердинанд, который платил военным презрением за их нелюбовь к нему, находил факт падения Редля типичным для армии и всеми способами пытался возбудить преследования против высокопоставленных особ. Один из самых оголтелых пангерманистов Австро-Венгрии, Франц-Фердинанд весьма болезненно воспринимал резкие упреки, которые посыпались на союзников из Берлина. А Вильгельм II не считал нужным щадить гордость наследника австро-венгерского престола. В каждом своем письме он то и дело возвращался к случаю с Редлем, чтобы уязвить двоюродного брата. Кайзер требовал навести порядок в армии. В конце концов эрцгерцог не стерпел упреков из Берлина и помчался специальным поездом в Вену из своего чешского имения, где проводил большую часть времени.
Едва поезд успел прибыть на центральный вокзал столицы, эрцгерцог без свиты, с одним адъютантом отправился в военное министерство, а затем во дворец.
Фыркающий экипаж подкатил его к парадному входу во дворец, лакеи согнулись в поясном поклоне, но он не удостоил их даже взглядом.
Франц-Иосиф уже закончил разбор всех государственных бумаг. Теперь государь просто так сидел за своим вычурных форм белым столом и не мигая смотрел в пространство.
Несмотря на взаимное озлобление, которое царило в душах эрцгерцога Франца-Фердинанда и престарелого монарха, прислуга никогда не должна была видеть малейших проявлений нелюбезности дяди к племяннику, тем паче наоборот. Правило соблюдалось свято.
Франц-Иосиф с трудом поднялся со своего кресла, сделал вид, что обнимает эрцгерцога за плечи. Его рот со втянутыми старческими губами под густыми седыми усами, переходящими в пышные бакенбарды, прошамкал какое-то подобие приветствия. Затем немощный император вновь опустился в теплое кресло.
Движением руки эрцгерцог удалил из кабинета секретаря его величества, для которого, собственно, и разыгрывалась эта комедия нежного приветствия и душевного объятия, и сразу же приступил к сути дела. Отношения между родственниками были весьма натянуты, поэтому наследник начал весьма официально.
– Ваше Величество! Случай с гнусным предателем Редлем показал, что вся система военной службы в империи должна быть почищена железной метлой! – Эрцгерцог говорил медленно и спокойно, но в его спокойствии клокотал скрытый гнев. – Особенно быстро следует реорганизовать военное училище – главный поставщик командиров в армию, – моя инспекция доносит, что в нем царят вопиющие беспорядки. А тут скандальное дело Редля. Это говорит, что система воспитания и мораль прогнили насквозь!
– Нет, – спокойно ответствовал монарх.
– Следует также сменить корпусных командиров, начальников дивизий и всех основных руководителей военного министерства, – наседал эрцгерцог. – Необходимо полное обновление состава Генерального штаба.
Старый император не мигая смотрел на племянника. «Эх, молод он еще и горяч. Как бы не погубил империю!» – думал старец. Слова едва доносились до его сознания, Франц-Иосиф не вникал в их смысл, поскольку все, что он решал, было заранее продумано и взвешено секретарями, министрами, чиновниками, а ему оставалось только своей подписью придать решению силу. Однако император твердо усвоил одну истину за все шестьдесят пять лет правления, которое начиналось в эпоху революций 1848 года и приблизилось к рубежу, когда вот-вот разразится небывалая европейская война, основная задача которой, по мнению всех венценосцев, – укрепить и сохранить незыблемыми порядки предыдущего, XIX века, усмирить чреватые революциями народные толпы. Эта истина определяла всю политику монархии: военная каста – надежнейшая опора трона. Нельзя колебать и раскачивать эту основу, подвергая ее общественной критике, тем паче репрессиям за упущение по службе. Особенно верил старый император в Генеральный штаб и его офицеров, которые составляли особый клан в армии Австро-Венгрии. Именно поэтому, спокойно выслушав наследника, Франц-Иосиф снова произнес свое сакраментальное: «Нет!»
Франц-Фердинанд вспылил, но, мгновенно овладев собой, резко поднялся со стула и, не прощаясь, поскольку свидетелей холодного расставания не было, удалился из зала.
Старцу, казалось, все это не причинило ни малейших неприятностей. Позвякивая орденами, он тоже поднялся с кресла и шаркающей походкой отправился в противоположный конец зала, к маленькой дверце, ведущей в личные покои.
Наследник престола Габсбургов так быстро покинул кабинет императора, что придворные и чиновники, незадолго до этого закончившие свои труды и еще не успевшие разойтись, стали невольными свидетелями его бешенства.
– Опять столкнулись Его Величество и Его Высочество! – со скрытым злорадством нашептывали они друг другу, когда мимо них быстрым шагом мчался эрцгерцог Франц-Фердинанд, громыхая палашом и звеня шпорами.
Его Высочество смог полностью отдаться гневу только в салоне автомобиля.
– Черт побери этот проклятый Генеральный штаб и всех его преторианцев! – бранился Франц-Фердинанд под грохот мотора. – Они все стоят друг за друга, все игнорируют мои приказы – приказы наследника престола! Эта паршивая каста повинуется только приказаниям своих «старшин». Подумать только! Старший офицер скомандовал этому предателю выстрелить в себя, и тот исполняет это богохульственное приказание спустя два часа, которые ему потребовались на предсмертные письма! Нет! Надо уволить всех причастных к этому делу. Ведь они покровительствуют славянам, подрывающим империю!
Специальный поезд в тот же день увез эрцгерцога назад в Прагу и Конопиште, где Франц-Фердинанд для успокоения предался своей страсти – охоте на коз и оленей…
А мировая война все приближалась. Ее тучи уже сгущались в небе Европы, и в свете зарниц то и дело представали высвеченные мертвенным светом трагические фигуры тех, кто станет ее первыми жертвами.
В обстановке, когда еще не грянула гроза войны, кто-то уже рассчитывал силу разряда и точку, в которую его нужно направить. Этой точкой и станет живой человек – наследник австрийского престола – эрцгерцог Франц-Фердинанд.
Почему удар был направлен именно против него? Ходячее мнение таково, будто он возглавлял военную и антиславянскую партию в Австрии. Именно эту мысль внушили 19-летнему сербскому крестьянскому парню Гавриле Принципу, который 15 июня 1914 года в боснийском городке Сараево убил наследника. Использовав это как повод, Австро-Венгрия, подстрекаемая Германией, напала на Сербию. Россия, будучи союзницей Сербии, объявила всеобщую мобилизацию. Германия поддержала Австро-Венгрию и 19 июня (10 августа) объявила войну России, а затем и ее союзнице Франции. Вскоре в войну против Германии вступила Англия, находившаяся в союзе с Францией и Россией. В короткий срок война стала мировой, охватив 38 государств.
Петербург
Большой прием государя закончился, и он со свитой удалился. Гости группами потянулись в гардеробную. В зале остались только те, кого государь попросил остаться. Они прошли во внутренние покои Александровского дворца, где должен был продолжиться прием, теперь уже малый, и стали ждать. Царь проводил этот прием, как правило, в библиотеке, превращенной во «второй кабинет Его Величества».
В приемной толпились парадные мундиры. Сразу трудно было понять, то ли они все ждут момента приема государем, то ли уже побывали на аудиенции и теперь договаривают свои разговоры с приятелями.
– Не правда ли, Его Величество был сегодня великолепен, – говорили между собой всезнающие генштабисты. – А как хорошо он знает армию и ее расквартирование?
– Точно, точно! Но зачем он еще раз вызвал к себе министров? – задал вопрос один из них.
– Его величество весьма озабочен возмутительным поведением Австро-Венгрии, которая в ответ на выход сербских войск к Адриатическому морю в Северной Албании начала мобилизацию, – ответил ему другой. – В Берлине, как нам доносят, непрерывно идут совещания австро-венгерских и германских государственных людей.
– Да, пахнет европейской войной, а Россия к ней не готова, – поддержал его собеседник. – Попугать Турцию или Австрию мы еще можем, а серьезно воевать – навряд ли выйдет.
– Тогда ясно. Его Величество, видимо, хочет еще раз посоветоваться с близкими людьми, что же делать в сложившейся обстановке.
Вскоре через приемную в императорскую библиотеку-кабинет проследовали председатель Совета министров граф Владимир Николаевич Коковцев, министр иностранных дел Сазонов, министр путей сообщения Рухлов, военный министр генерал-адъютант Сухомлинов и начальник Генерального штаба генерал Жилинский.
По виду министров было видно, что они обескуражены вызовом и не знали его причины.
– Господа, мы на пороге…э… кризиса, который… должен сказать, способен вызвать потрясение основ. Мы должны… в ближайшие дни, а может быть, и часы, точно решить насчет военных приготовлений и… самой мобилизации.
– Владимир Александрович сейчас все расскажет… – царю было, видимо, трудно говорить, и он теребил золотой аксельбант на своем красном чекмене. Николай сел в свое кресло и нажал незаметную кнопку звонка под столом. В кабинет скользнул дежурный генерал.
– Карту Балкан, – коротко бросил царь, и через несколько секунд огромная, многометровая карта Балканского полуострова появилась на стене кабинета. Карта была раскрашена карандашами и на ней четко выделялись не только текущие позиции союзников и турок за последнюю неделю, их предыдущие линии и стрелы наступлений, фланговых обходов, но и дислокация войск Киевского и Одесского округов русской армии, расположение дивизий румынской и австро-венгерской армий.
– Прошу вас, Владимир Александрович, – предоставил слово Николай своему военному министру.
– После аннексии Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины возникла вероятность столкновения нас с Габсбургской монархией. Но в случае этого столкновения Германия станет на сторону Габсбургов. Таким образом, ясно обрисовывается цель поддержания нашей боевой готовности, – начал тот.
Из доклада следовало, что масштаб для оборудования вооруженных сил России должен был отвечать не только боевой готовности одной лишь австро-венгерской армии, но и соединенных с ней сил германских армий и флота. Вместе с тем, учитывая союзнические обязательства, которые взяла на себя Франция согласно военной конвенции, российская императорская армия должна быть, по крайней мере, так же сильна, как армия германская.
– По разработанному проекту приложения к мобилизационному плану «О силах и вероятных планах наших западных противников», который на днях будет представлен на высочайшее утверждение, – докладывал министр, – предусматривается два случая.
Случай первый – главные силы Германии будут против Франции, а все силы Австро-Венгрии, кроме сил выделяемых на Южный фронт, – против России.
Случай второй – главные силы Германии с силами Австро-Венгрии – против России.
В случае первом против России действуют 12–13 корпусов австрийских и 3–6 корпусов германских, против Сербии – 3–4 корпуса австрийских.
Во втором случае против России действует 12–13 корпусов австрийских и 18 корпусов германских.
Сухомлинов продолжал размеренно излагать диспозицию, не поднимая глаз от заранее заготовленной записки, а Николай все так же безучастно глядел пустыми глазами куда-то мимо карты.
Наконец он решился прервать своего военного министра.
– Владимир Александрович! Я призвал вас всех сюда вовсе не для повторения мобилизационного плана, а для решения вопроса частичной мобилизации… – При этих словах Сазонов, Коковцев и Рухлов удивленно переглянулись, как будто впервые услышали повестку столь важного совещания. Царь продолжал: – Теперь, когда на Балканах разгорается война, нам необходимо усилить состав войсковых частей, стоящих близ границ. Ведь вы сами вчера на совещании с командующими войсками Киевского и Варшавского военных округов предлагали произвести мобилизацию Киевского и подготовить частичную мобилизацию Одесского округов?! Я особенно подчеркиваю, что вопрос идет только о нашем фронте против Австрии, и не имею решительно в виду предпринимать чего-либо против Германии. Наши отношения с ней не оставляют желать ничего лучшего, и я имею основания полагаться на поддержку моего брата императора Вильгельма… Объясните же не диспозицию вообще, а надобность в мобилизации господам министрам.
– Ваше Величество, – я не имею прибавить ничего к столь ясно выраженным вами мыслям. Тем более все телеграммы о мобилизации уже заготовлены и будут отправлены сегодня же, как только закончится наше совещание.
– Военный министр предполагал объявить мобилизацию еще вчера, – сказал Николай, обращаясь к графу Коковцеву, – но я предложил ему обождать еще один день, так как я предпочитаю переговорить с теми министрами, которых полезно предупредить заранее, прежде чем будет отдано распоряжение.
С величайшим изумлением три министра переглядывались между собою. Иногда они бросали выразительные взгляды на Сухомлинова, который уселся на свое место, как ни в чем не бывало. Видимо, только присутствие государя сдерживало бурное проявление ими чувства ярости в адрес того, кто подготовил за их спиной и согласовал с царем решение такого вопроса, который прямо влиял на судьбу европейской войны или мира.
– Начинайте хоть бы вы, Владимир Николаевич! – обратился царь к Коковцеву.
Тот возбужденно вскочил, но сразу же овладел собой.
– Государь, я прошу заранее извинения, что не смогу, вероятно, найти достаточно сдержанности, чтобы спокойно изложить все то, что так неожиданно встало передо мной. Очевидно, государь, ваши советники – военный министр и два командующих округами – не поняли, в какую беду ввергают они вас и Россию, высказываясь за мобилизацию двух военных округов. Они, очевидно, не разъяснили вам, Ваше Величество, что толкают страну прямо на войну с Германией и Австрией, не понимая того, что при нынешнем состоянии наших вооруженных сил, которое хорошо известно нам всем, – министр-председатель обвел рукой гражданских министров, – только тот, кто не отдает себе отчета в роковых последствиях, может с легким сердцем допускать возможность войны, даже не применив всех мер, способных предотвратить катастрофу…
– Я так же, как и вы, Владимир Николаевич, – перебил Коковцева Николай II, – не допускаю и мысли о войне сейчас. Мы к ней не готовы, и вы очень правильно называете легкомыслием самую мысль о войне. Но речь у нас идет о войне, а не о простой предосторожности для пополнения рядов нашей слабой армии. О том, чтобы приблизить несколько к границе войсковые части, слишком оттянутые назад.
– Государь, но, как бы мы ни смотрели на проектированные нами меры, – снова возбужденно вымолвил Коковцев, – мобилизация остается мобилизацией, о ней станет сразу же известно нашим противникам. Они ответят на нее тоже мобилизацией, а может быть, даже и войною, к которой Германия давно готовится и ждет повода начать.
– Вы преувеличиваете, Владимир Николаевич, – снова прервал графа Николай, – я и не думаю мобилизовать наши части против Германии, с которой мы поддерживаем самые добрососедские отношения. Немцы не вызывают у нас никакой тревоги. Между тем Австрия настроена определенно враждебно.
– Ваше величество, но позвольте высказать основополагающую мысль о том, что невозможно относиться раздельно к Австрии и Германии, – дрожащим от обиды голосом продолжал Коковцев, – поскольку обе связаны союзным договором и солидарны между собой. Мобилизуя части нашей армии, мы берем тяжелую ответственность не только перед своей страной, но и перед союзною с нами Францией… Ведь по нашему военному соглашению с Францией мы не имеем права предпринять что-либо, не войдя в предварительное сношение с нашим союзником.
– А что вы предлагаете для выхода из положения, Владимир Николаевич? – проявил вдруг интерес к предмету обсуждения Николай.
Коковцев размышлял с минуту, а потом его глаза загорелись идеей.
– Взамен такой роковой меры, как мобилизация, Ваше Величество, можно воспользоваться той статьей устава о воинской повинности, которая дает право Вашему Величеству простым указом Сенату задержать на шесть месяцев весь последний срок службы по всей России и этим путем увеличить сразу на четверть состав нашей армии. Таким образом, к весне, к самой опасной поре в смысле развязывания противником войны, во всех полках под знаменами у нас будет пять сроков службы, но никто не сможет упрекнуть нас в разжигании войны.
– Сергей Дмитриевич, а каково ваше мнение по вопросу о мобилизации, – обратился Николай II к министру иностранных дел Сазонову.
Сазонов проворно поднялся со своего места.
– Полагаю, Ваше Величество, что граф Коковцев вполне прав. Я сам был поражен здесь, когда узнал о готовящейся катастрофе. Удивительно, как Владимир Александрович, – он посмотрел в сторону Сухомлинова, – не учел, что мы и прав-то не имеем на такую меру без соглашения с нашими союзниками, даже если бы мы и были готовы к войне, а не только теперь, когда мы к ней совершенно не готовы.
Затем царь предоставил слово Рухлову. Министр путей сообщения горячо поддержал министра-председателя, но с оговоркой.
– Я не разделяю вообще мрачного взгляда на состояние нашей обороны, – заявил он, – ибо никогда и ни одна страна не бывает полностью готова к войне. Но браться за мобилизацию сейчас весьма опасно как с точки зрения провоцирования Австрии и Германии, так и с точки зрения перевозки больших масс новобранцев.
Николай поблагодарил кивком головы министра, а затем обратился к Сухомлинову.
– А как вы охарактеризуете боеготовность австро-венгерской армии.
Волновавшийся до той поры Сухомлинов, выслушав выступления министров, сразу успокоился и уверенно начал:
– Ваше Императорское величество! Австровенгерская Армия, как по величине, так и по обученности, являет собой весьма серьезного противника. Ее офицерский состав по специальной военной подготовке вряд ли уступает российскому, хотя острота германо-славянской проблемы, когда большинство населения империи состоит из славян, а большинство офицеров в армии – немцы, значительно ослабляет боеспособность частей. Во главе армии стоит популярный в среде офицерства начальник Генерального штаба Конрад фон Гетцендорф. Его авторитет признает даже германское офицерство, которое считает его выдающимся военачальником. У фон Гетцендорфа мы нащупали чрезвычайно важное для нас слабое место – со времен командования им дивизией в Тироле Конрад считает себя особым знатоком горной войны, и большее значение он придает итальянскому театру войны по сравнению с галицийским.
Царь вежливо демонстрировал свое внимание и Сухомлинову ничего на оставалось, как продолжать экспромтом свой доклад:
– По документальным данным, главным направлением, где уже сейчас, в мирное время, сосредотачиваются австрийские армии, является Восточная Галиция. Главная масса австрийских полков располагается вдоль линии железной дороги Краков – Львов, обращаясь фронтом на север, к стороне Варшавского военного округа.
Чтобы доклад сделался нагляднее, Сухомлинов подошел к карте и продолжил, водя подвернувшейся указкой по просторам огромного полотнища.
– Как мы полагаем, такой район сосредоточения австрийских армий выбран под давлением германского Генерального штаба, опасающегося за Восточную Пруссию и желающего всеми силами предохранить ее от развертывания русских армий. В силу подобной концентрации австровенгерских войск можно сделать вывод, что главное направление, которое избрали германцы для начала войны, – на Францию. Германская армия мнит французов своим главным и опаснейшим противником, против которого направляет полуторамиллионную армию, могущую сформироваться уже на десятый день мобилизации. Доктрина германского Большого генерального штаба, как нам известно, рассчитывает на быстрый разгром Франции и обращение затем всеми силами против России. При этом учитывается относительная длительность нашей мобилизации.
– Интересно, интересно, – вяло сказал царь, теребя аксельбант, – расскажите нам теперь о недостатках австрийской армии поподробнее…
Сухомлинов, готовившийся к такому докладу, изучил все донесения и справки, поступающие по этой теме в штаб, и сейчас был во всеоружии.
– Армия Австро-Венгрии хотя и сильный противник, но не является передовой по сравнению с нашей армией ни в отношении организации и обученности, ни по своей технике, – начал он. – Она состоит из трех главных частей: общей армии для обеих основных половин государства – содержится на общий бюджет монархии, – австрийского ландвера с его ландштурмом и венгерского ландвера, называемого гонвед, в состав которого входит также ландштурм. Эти особые формирования для Австрии и Венгрии содержатся на средства каждой из половин государства. По обученности ландвер слабее общей армии, а ландштурм – даже слабее ландвера. Служба во всех трех частях армии установлена в 12 лет: два года – под знаменами (для кавалерии и артиллерии – 3 года), восемь и соответственно семь лет – в резерве общей армии и 2 года в резерве обоих ландверов. При общей численности населения империи в 45 миллионов человек ежегодный призыв исчисляется в полмиллиона человек. К числу крупных недостатков австро-венгерской армии относится слабое оснащение воздушными силами по сравнению с другими европейскими армиями и нашей армией.
Артиллерия Австро-Венгерской империи находится теперь в переходном периоде, главный недостаток – бронзовые орудия сохраняются повсеместно. Артиллерия, кроме того, малочисленна, особенно тяжелая.
Затем Сухомлинов перешел к главному, принципиальному недостатку австро-венгерской армии, проистекавшему из так называемой «лоскутности» всей монархии, объединившей под короной Габсбургов земли многих балканских народов.
– Армия нашего вероятного противника на юго-западе – единственная в своем роде по национальному составу. Еще Наполеон утверждал, что это является слабой стороной воинских формирований. Так, процентный состав армии Австро-Венгрии по национальностям следующий: немцев, то есть австрийцев – 29 процентов, или меньше одной трети, славян – 47 процентов, или почти половина, мадьяр – 18 процентов, румын – 5 процентов и итальянцев – один процент. Сильнейшими частями являются мадьярские. Корпус офицеров, несмотря на многонациональный состав, хорошо обучен и превосходит в этом даже своих союзников – прусское офицерство. Командный язык всей армии – немецкий, но обучение ведется в национальных полках на родном языке…
– Спасибо, Владимир Александрович, – прервал доклад Сухомлинова царь и обратился к присутствующим:
– Так что будем делать?
За всех ответил Сухомлинов:
– Я согласен с мнением председателя Совета и прошу разрешения послать телеграммы генералам Иванову и Скалону, что мобилизации проводить не следует.
Часть первая С Богом, Терцы! Не робея
На Карпатах, на Карпатах, Под австрийский свист и вой, Потерял казак папаху Вместе с русой головой… Из казачьей песниГлава I
Лето было в разгаре. Солнце обливало землю горячим зноем. Травы давно выгорели, хлеба пожелтели, и когда налетал ветерок, тугие колосья, ударяясь друг о друга, тихо звенели, перекатываясь волнами.
На Тереке созрел урожай, поспевали огороды, стояла жара.
Накаленный дрожащий воздух, будто вырвавшись из горячей печи, дышал жаром, обжигая лицо. Кое-где хлеба начали осыпаться, поэтому станичники срочно приступили к уборке.
Никита Казей вместе с женой Мариной и трехлетним сынишкой тоже выехали в поле.
– На Черной речке пшеничка непременно под серп, – делится с женой Никита, – а на барабане[2] подкузьмила – за волосы придется драть.
– Жаль, ей бы еще дождичка, да Бог не дал, – отвечала Марина, внимательно осматривая хлебную ниву.
Выйдя в поле, они увидели, что недалеко от их загона начал жать свой клин Алексей Чумак. Рядом с ним – жена Наташа, раздобревшая в сером сарафане.
– Вон Зазуля жнет, а там Кужуховские, – заметила Марина.
– Здорово, Илья Максимович! – крикнул Никита, низко кланяясь пожилому казаку. На поле Кульбаки уже виднелись копны.
– Здорово, здорово! – ответил тот. – И ты, Никита Петрович решил жать? – уважительно спросил он Казея.
– Что ж от всех отставать. Сейчас та пора, что как говорят: День год кормит, – правда, дядя?
– И то верно, – отвечал Кульбака.
Никита вспомнил, как весной они вместе здесь сеяли. За работой он на время забылся, а когда очнулся, смотрит, Илья скинул самотканые серые портки, повесил их на телеге и без штанов, прикрывая рубашкой неудобное место, начал рассеивать пшеницу.
Ох и смеялся тогда Никита, а Илья Максимович уверял:
– Старики еще баили: без портков сей – уродится… Ты не гляди, чего согнулся? Посмотришь по осени.
Потом Никита часто заглядывал на этот участок. Пшеничка тут пыжилась зеленью, кудрявилась, и совсем недавно он видел – колос пшенички большой, от тяжести к земле клонится, а на соседних участках пшеничка низенькая, остроносенькая.
– Ну, что примета старинная, оправдывается? – с шуткой обратился Никита к Кульбаке.
Илья засмеялся и, свернув жгут, туго перепоясал сноп пшеницы, тряхнул им, твердо поставил на землю, гладя наливные колосья.
– Пшеничка что надо! Эх, сама рука с радостью жнет! – ответил он.
– А у тебя, Никита Петрович, тоже ничего?
– Слава Богу, неплохая.
– Да-а. Тебе тоже повезло. – Кульбака чуть-чуть улыбнулся.
Алексей повернулся к Марине и маленькому Лешке.
– Наша пшеничка – золото, правда? – обратился он к жене.
– Хороша, хороша, – поддакнула та.
– Хоть в штанах сеяли, – пошутил Илья. – А если бы без штанов? Что бы тут было? Топором рубить довелось бы… Хо-хо!
Они дружно приступили к работе. От пшеницы поднималась пыль. Она лезла в горло, ела глаза. Солнце пекло спины.
– Тьфу, – отплевывался Никита, как назло, ни одной тучки. Ну чего палит? – Хотя сам мысленно благодарил погоду.
Кульбаки кончили очередную делянку, брякнули серпами и быстро стали стаскивать снопы. Илья складывал копны. Снопы вертелись у него в руках проворно, легко, как игрушки, – и сам-то он был похож на колосистый, наливной сноп.
А по другую сторону от Казея работали Чумаки. Алексей, работая косой, утяжеленной грабельцами, с хрустом срезал отягощенные колосьями стебли. Скоро, утомившись, он остановился, вытер пот со лба и стал наблюдать, как проворно его Наташа собирала сноп и после рукопашной борьбы с ним бросала его на лопатки, давила коленом, вязала его и, гордая победой, весело кидалась в новую схватку.
– Скосить – дело не хитрое, – сам себе говорил Алексей. – Главное тут – чтобы скошенный рядок получался ровным, тогда бабе легче вязать. За иным косцом идти – одно удовольствие, за другим – мука смертная, так напутает он и накуралесит. – И, довольный собой, продолжил косьбу.
А у Наташи в это время сжималось все в утробе, точно кто-то большими клещами туго стиснул ей поясницу. Она украдкой охнула.
Алексей посмотрел на ее помрачневшее лицо и застыл.
– Ты что это заохала? – с жалостью спросил он.
Наташа промолчала.
– Ты не родить ли на меже задумала? – спросил он уже серьезней. – И не думай… Ишь нашла место.
– Да нет, – ответила Наташа, – просто устала.
– Давай обедать, – предложил Алексей, увидев, что и соседи располагаются в тени под бричкой.
После обеда Наташа еле поднялась: ноги затекли, они были, словно набитые песком мешки. Настроение совсем упало.
Но тут к ней подошла жена Казея – Марина.
– Наташ! А ты никак родить хочешь? – шутя повела она разговор.
– Угу… А то как же? Работнички нужны, – улыбнувшись через силу, ответила Наташа и посмотрела на Алексея.
– Ух ты, сатана, а молчала, – упрекнула ее Марина.
– Молчала? Чай, об этом не кричат всем? – проговорила Наташа.
– Какой месяц пошел?
– Третий, – солгала Наташа.
– Пойдемте на Терек, посидим немножко в теньке, – предложила Марина.
Она обняла Наташу и пошла рядом. У Наташи появилась синева под глазами, быстрый шаг пропал: она шла в ногу с Мариной, а ступала осторожно, ровно под ногами не пожелтевшая трава стелилась, а разбросанные горячие угли. И спина у Наташи чуть откинулась, но ядреностью, здоровьем наливалось, набухало тело, и в глазах горел яркий летний день.
А Никита с Алексеем шли чуть-чуть позади, и каждый думал о своем.
Казей, осматривая округу, вспоминал: ведь здесь же случилось то первое, когда-то, у них с Мариной. Молодая и сочная, как спелое анисовое яблоко, сидела под одинокой ольхой, аукала, смолкала, шевеля раскрасневшимися губами, прислушивалась к тому, как эхом перекатывается ее зов, и снова аукала протяжно, долго, будто кукушка.
«A-а… вот она, Марина», – мелькнуло у него, и он кинулся к ней, перепоясал руками ее тоскующее горячее тело, еле заметив, как у нее страхом блеснули глаза.
Вскоре он сидел около Марины, смотрел на ее растрепанную голову с ольховыми сережками на затылке, на измятое, вздернутое платье, оголяющее розовую чашечку колена, – думая о том, как все это просто, и, видя, что она склонилась, словно подшибленный стебель подсолнуха, говорил тихо:
– Ты, Марьян, не серчай на меня, поняла?
Марина поднялась, отряхнулась и, не откликаясь на ауканье подруг, тихо побрела мелколесьем, забыв около него лукошко.
– Марь! Ты это… – Никита поднял лукошко и, догнав Марину, повесил его на согнутую руку:
– Ты это… Вот сказать не знаю как… А сказал бы… Это тебе надо понять.
Марина остановилась. Лицо, такое спокойное, что казалось – с ней ничего не произошло, просияло.
– Не сержусь я, Никитушка… А то: не эдакая я. А вишь ты, что случилось.
– А глаза? Глаза серчают.
Глаза Марины затуманились лаской, тонкие ноздри дрогнули, губы раскрылись, и Никита вновь уволок ее под куст.
– Сладкий ты… Сильный. Ах ты-ы… Иди, – слышится Никите голос Марины.
Хорошо в этот час на берегу Терека, в тени ив и осин, что растут у воды. Течет мимо река, глядятся в нее плакучие ивы, листва которых даже в безветрие ласково шепчется над головой, навевая дремоту.
«Хорошо было тут с Наташей», – вспоминает Алексей. Посадишь ее рядом, уронишь голову ей на плечо и, закрывши глаза, – наслаждаться прохладой, вдыхать пряный запах леса и девичьего тела, слушать шепот листвы, стрекотанье кузнечиков, лепет возлюбленной и время от времени, дотянувшись до губ ее, пить ее сладостные поцелуи. Плеснет усач под берегом, брызнут врассыпную чернобрюшки, вздрогнет милая и тотчас засмеется сдобным рассыпчатым смехом. Хорошо в этот час опрокинуть ее на спину, целуя смеющийся рот и, незаметно для нее и себя, расстегивая кофту.
Игры с ней начались в прошлом году, когда вдруг обнаружилось, что эта живущая наискось через улицу девчонка, никогда ничем ему не интересная, умеет как-то пройти мимо и так посмотреть и так улыбнуться, что не сразу и забудешь. Как солнце в глазах, или удар по башке, или заноза в пальце. Смешно и непонятно: сколько помнит себя он – всегда маленькая перед глазами, то с подружками, то в общей компании, когда вместе бегали купаться на речку или играли на поляне.
Отца ее убили на войне, росла она с матерью. Тетя Даша – сухая, неприметная женщина, легкая на ногу и на всякие дела, ходила к Чумакам за молоком или помочь по хозяйству, или так. Иногда присылала Наташу – дело соседское. А тут вышло с Наташей… Прибежала она к ним. Алексей был один. Слазил в погреб, достал крынку с молоком, отдал ей. На пороге щипнул ее за одно место – чего особенного, кажется? Осердилась! Обозвала… Пень косолапый! И локотком этак вот. И крынкой.
Он засмеялся сперва, а потом догадался, что назвала она его очень обидно. Пень – то бы ладно, стерпел бы, но – косолапый! Ведь это намек на походку его. И это казаку? Обиделся он и долго знать не хотел, отворачивался. А она, будто назло ему, зачастила, замелькала перед глазами досадно.
Прошлой осенью отошло – словно что оттаяло, надломилось, и дело приняло другой оборот. Он стал замечать за собой, что досада исчезла, и больше не хотелось отворачиваться, когда встречал он пригожую девушку-соседку. Наоборот, увидит ее – и словно вздрогнет что-то внутри и замрет настороженно, как птица, готовая улететь. И дом ее стал предметом пристальных наблюдений. Сколько раз ловил он себя на том, как, раздвинув герани и отстраняя занавески, он с бьющимся сердцем глядит в боковое окно, ожидая в доме соседки каких-нибудь признаков жизни. Истомленный желанием, он надеялся увидеть ее – или хотя бы тень, или хотя бы кусок ее платья. И страдал, когда приходил в себя, потому что тогда ему становилось неловко и стыдно.
А потом в это дело вмешалась сестра Глаша. Позадумалась, пригляделась и тотчас определила характер Алексеевой хвори. А так как с Наташей они были подружки, то вскорости и лекарство было обнаружено. И вот на Николу, когда возвращались из церкви, Глаша отозвала его в сторонку из ватаги парней, коротко объяснила и рукой подтолкнула:
– Иди, ждет тебя.
За амбаром у Скориковых стояла Наташа, нарядная, пригожая, словно майский цветочек. В праздничной кофте, в сапожках шнурованных с монистом на шее, с желтым расшитым платком на голове. Голубые глаза ее, как два омута, манили и, похоже, смеялись, а пухлые губы и щеки были стыдливо прикрыты концом головного платка.
Постояли, успокаивая сердцебиение, и, не сказав ни слова, пошли.
По дороге разговорились помалу, и стало полегче. А когда нечаянно взялись за руки, стало и совсем хорошо. Очнулись на берегу Терека, оглянулись на станицу и вдруг засмеялись оба неизвестно чему.
Оттуда с колокольни храма Архистратига Михаила падали и катились по-над берегом торжественные звуки праздничного благовеста.
Алексей споткнулся и в недоумении замер. Точно такой же звон катился и сейчас со стороны станицы.
– А это что еще за представление? – задали друг другу работающие в поле и, не находя ответа, оставив работу, обгоняя друг друга, двинулись в станицу.
– Война… – разнеслось вскоре по станице. Черной тучей нависла над станицей эта весть.
Глава II
1
Срочно собрался казачий сход.
«От наместника на Кавказе к казакам Терского казачьего войска, – начал зачитывать обращение атаман. – Государь император высочайше повелел объявить Терскую область на военном положении». Нет сомнения, что казаки-терцы, услышав это объявление, задумались, что оно значит.
«Сим дается знать, что хотя война началась на западе, но скоро может разгореться и на юге, ибо враг наш не оставляет злого намерения, воюя с нами, натравить на нас, православных, турок.
Зная, что терцы – народ смышленый, бесстрашный и всегда отважный, я надеюсь, что вы с божьей помощью, не дадите врагу пользоваться нашими трудами».
Слушавшие углубились в себя, но каждый в это время думал о своем, о чем-то тайном, только ему понятном.
– Да, не случайно ворожейка ходила и говорила, что скоро быть войне, – вспомнил кто-то из казаков.
– И откуда она взялась, эта война? – вторил ему другой.
– Как не везет России! – слышалось в толпе. – Во сколько миллионов японская война обошлась, а эта во сколько? Когда же им придет конец, войнам этим!
– Побьем и этих супостатов, куда они денутся! – восторженно произнес молодой казак, на что старый казак Егор Дзюба ответил:
– Побьем-то побьем, а сколько еще казачьих жизней заберет эта война.
– Война ожидается серьезная, – в подтверждение словам Дзюбы сказал атаман. – Мне кажется, всех подберут, без разбору, окромя детей и стариков старых.
– Когда собираться? – спросили атамана, на что он ответил:
– Срок не указали. А приказали готовить две сотни.
Не знал тогда и атаман, что станице придется проводить на войну три присяги: две на турецкий фронт и одну – на германский.
И разговор продолжился.
– Да, много нашего брата понадобится, – проговорил кто-то. Атаман вспыхнул:
– Эх вы, станичники! А кто же царя будет защищать, кто честь России поддержит?
– Эвон куда замахнулся! – в один голос произнесли сразу несколько казаков.
– За нашего царя сам Бог хлопочет – разве мы отстранимся.
Атаману это понравилось, и он, улыбаясь, сказал:
– Полно хмуриться, казаки! Вспомним лучше о былом.
– Сколько ни живи, а два века не проживешь, – не к месту вставил кто-то, на что старый казак сказал:
– Умрем все, да не в одно время.
Сказал и прослезился. Наверное, просрочил он свой век на земле. Полой водой сошли с жизни все, кто служил с ним: кто был для него примером и для кого был он.
– Война, война, – тихо произнес он. – Жизнь прожил, а за ней и мирной жизни почти не видал. Куда только не закидывала судьба терского казака! Где его только не было?
И он стал вспоминать турецкую войну и войну недавнюю – японскую. Русско-японская война осталась в народе почти неизвестной. Неуспехам русского оружия сильно радовалась российская социал-демократия, и, стало быть, измена Стесселя и нерешительность Куропаткина стали главными моментами происшедшего.
Подвиг народа был забыт. А жаль. Те же японцы, празднуя победу под Цусимой и Мукденом, никогда не забывают упомянуть о доблести русского солдата, подчеркивая тем самым весомость своих успехов.
В апреле 1904 года император Николай II подписал указ о формировании Кавказской конной бригады. С этого времени война с Японией стала частью истории и для далекого Терека. Один из двух полков бригады (прозванной «Дикой» за колоритное обличив ее воинов) – Терско-Кубанский полк – был собран из добровольцев – казаков терских и кубанских станиц, осетин и небольшого числа кабардинцев и чеченцев.
О том, как они воевали, и вспомнил старый казак.
В полночь офицеров позвали в палатку командира. Орбелиани был краток:
– Японцы атаковали позиции Орловского полка на Анпинлинском перевале. Командир полка попросил помощи. Пойдут 1-я и 2-я сотни князя Бековича-Черкасского и подъесаула Мистулова. Старшим отряда назначен есаул Балк. С казаками пойдут полковник Хоранов из Штаба командующего и капитан Григорьев из Севского полка.
Сотни через полчаса прибыли на позиции орловцев. Японцы наступали бесшумно, были слышны только короткие команды их офицеров. Так же бесшумно они бросились на левофланговый батальон орловцев. Возглавлял атаку офицер с короткой саблей в руке. Едва он достиг большого валуна в пяти метрах от окопа, как из-за камней на него бросился казак с кинжалом. Одно движение – и офицер с воплем покатился по камням. Бежавшие за ним следом солдаты открыли огонь, но были сразу расстреляны в упор. Остальные цепи залегли, началась перестрелка. Противники, разделенные каким-то десятком метров, стреляли по ружейным вспышкам, не жалея патронов.
Японские капралы несколько раз пытались поднять своих солдат, но те не желали вставать, опасаясь плотного огня своих и чужих. Наконец несколько десятков пехотинцев поднялись и с примкнутыми штыками бросились вперед.
Рукопашная схватка в кромешной тьме продолжалась несколько минут. Здоровенные орловцы действовали кулаками и прикладами, казаки кололи кинжалами. Не выдержав яростного натиска, неприятель побежал и остановился только после встречи со своим резервом. На этот раз японцы отступили примерно на километр и затихли.
Лежащий рядом с Мистуловым казак со вздохом сказал:
– Ну, сейчас начнет из пушек лупить.
– Не бойся, в темноте трудно попасть, да и снизу стрелять тяжело, – успокоил его Мистулов, отирая кровь с разбитой брови.
Минут через двадцать, дав с полсотни залпов из орудий, японцы снова пошли в атаку. Бой продолжался почти два часа. Стойкость защитников злила неприятеля, но сделать ему ничего не удавалось. Даже раненные казаки и офицеры в тыл не шли, отстреливались до последнего. У сотника Кужуева была прострелена нога, капитан Григорьев был ранен в плечо, но оба они не покидали своего укрытия, прикрывая фланг первой сотни. Сильно посекло осколками командира орловцев подполковника Габаева. Когда молодой санитар, теребя его за рукав, в третий раз жалобно протянул: «Ваше высокоблагородие, в госпиталь вам надо», – тот, не выдержав, рявкнул:
– Мать твою! Я кто, командир полка или обозник, чтобы в тылу воевать? Пошел вон!
Потом, увидев растерянное лицо солдата, смягчился:
– Ты, братец, иди лучше к полковнику Хоранову, его, слышал, уже в 6-й раз ранило.
– В седьмой, – безнадежно махнул рукой санитар. – Да только и он в госпиталь не хочет. Ругается…
Позиции держали до шести часов утра. Когда стало светать, японцы подтянули еще три батареи и накрыли перевал таким сильным огнем, что стало ясно – надо отходить.
Казаки 1-й сотни, заняв ближайшие высоты, прикрывали огнем солдат-орловцев, выносивших с собой раненых и убитых. Самим отступать было труднее.
Есаул Балк в своем рапорте на имя командира полка писал: «Потеряв почти половину своего спешенного состава, отступая под сильным огнем неприятеля, остатки двух доблестных сотен не оставили на позициях своих раненных товарищей и офицеров, вынесли их с собой».
Японцы хотели было преследовать казаков, но генерал Орбелиани послал на подмогу отряду Балка чеченскую сотню. Чеченцы, размахивая саблями, с гиком кинулись на врага, и японцы сразу залегли.
Бой закончился.
Вечером того же дня у полуразрушенной китайской деревни были построены сотни Мистулова и Бековича-Черкасского. К ним подъехали Орбелиани и командир полка Блаутин. Здесь уже стоял и полковой священник. Раздался звук горна, затем команда:
– На молитву! Папахи долой!
В чистом воздухе далеко разнеслось пение десятков голосов. Пережившие бой терцы и кубанцы набожно крестились.
Молитва закончилась командой:
– На-кройсь!
Орбелиани подошел к фронту построенных сотен. Есаул Балк начал рапортовать, но командир бригады прервал его.
– Убитых?
– Одиннадцать. Раненых 30, в том числе сотник Кужуев и подъесаул Мистулов.
Орбелиани стал обходить сотни. Его внимание привлек стоявший сбоку урядник, с головы до ног покрытый грязью.
– Где это ты, братец, так вымазался?
– На перевале, ваше превосходительство. С япошкой сцепился в темноте.
– Ничего, почистишься. Какой станицы?
– Пришибской, ваше превосходительство!
– Отпиши домой, славно дрался!
Орбелиани обнял урядника.
Вопрос о поражении в войне с японцами слишком жгуч для национальной гордости великороссов. Нет спору, что она была чужда русскому народу, но русская дипломатия всячески уклонялась от войны, а японская военщина, вкупе с токийскими политиками, войну развязывала. Разгулявшемуся от легких побед над китайцами и корейцами самурайскому духу стало тесно на островах. Япония, вступая в рискованное единоборство с Россией, воевала, по сути дела, за право разграбления Китая, за подчинение Кореи, за ослабление русской конкуренции на берегах Тихого океана. Токио играл ва-банк: в случае японской победы Россия теряла большую долю своего международного престижа, а империя микадо вступала в ранг ведущих мировых держав.
Но все-таки, почему Россия не стала победительницей?
Представим себе громадное пространство от Читы до Владивостока и от Николаевска до Порт-Артура и мысленно рассредоточим на этой обширной территории 90 тысяч солдат, расставим по холмам 148 пушек и 8 пулеметов. Много это или мало? А именно с такими ничтожными силами Россия встретила вероломное и хорошо подготовленное нападение самураев.
Отличная кадровая армия России даже не была стронута с западных рубежей, сдерживая угрозу возможного нападения двух заклятых врагов – Германии и Австрии. На полях Маньчжурии воевали главным образом солдаты, наспех взятые из запаса, и малоопытные казаки сибирских соединений. Денно и нощно по стыкам рельсов Сибирской магистрали стучали колеса военных эшелонов: это наши деды и прадеды ехали погибать под Инкоу, Мукден и Ляоян.
И хотя Сибирская магистраль пропускала в то время за сутки всего три эшелона, за два года войны через пламя сражений в Маньчжурии прошло полтора миллиона русских войнов, включая убитых и выживших.
Героизм русских войнов того времени воспет в песнях. Щемящие вальсы – прощания до сих пор волнуют нас, будто мы снова на гулких вокзалах провожаем своих братьев и сестер на желтые сопки Маньчжурии, на зеленые берега Амура…
Небывалая стойкость русского воинства истощила Японию до крайности, она была уже близка к поражению, когда Портсмутский мир спас ее, наложив пятно на знамена боевой славы России.
Японской армии помогала близость метрополии, превосходство ее флота на морских коммуникациях. Но Японская армия уже основательно была измотана.
Позиционная война с весны 1905 г. замерла близ Мукдена, и порою казалось, что ни русские, ни японцы не стремятся более воевать. А в американском Портсмуте уже велись переговоры о мире. Куда не придешь, всюду пережевывают злободневную тему: что потребуют японцы от России и что уступит им Россия.
Летом 1905 года, который самураи считали 2569 годом (со времени восшествия на престол первого микадо), японская армия перенесла боевые действия непосредственно на русские территории. Сначала 3-я дивизия вторглась на Сахалин, где спешно было создано народное ополчение. После Сахалина удар обрушился на Камчатку.
Сахалинская эпопея написана кровью. Японцы пленных даже не расстреливали, а резали штыками, офицерам отрубали головы. Захватив тюрьму, где сидели «бессрочные» каторжники, прикованные к тачкам, солдаты божественного микадо изрубили всех в сечку… У офицеров, попавших в плен на Сахалине, были отрезаны пальцы. Их самураи отрезали вместе с обручальными кольцами.
А 23 августа был подписан Портсмутский мир, который вызвал в народе горькое уныние.
2
Война принесла на Терек новые хлопоты. Снаряжались лошади. Экипировались казаки. Провели несколько сборов по сколачиванию конников. Это все как-то отвлекало казаков от тяжких дум. А вот домашняя работа тяготила. Никакая работа на ум не шла.
Алексей Чумак чувствовал, как все начинает утрачивать смысл, отдаляясь куда-то и отходя своей ненужностью. Даже хата начинает теснить его своими стенами, когда он остается один.
Он вышел во двор, без внимания, как уже не хозяин, обвел глазами плетни и постройки и, томимый какой-то внутренней духотой, душевной спертостью, не находя себе места вышагнул за калитку, на уличный ветерок. Потом зашел на огород, постоял там среди капустных и огуречных гряд, даже прилег у канавы под вербой, но и тут ему не стоялось и не лежалось, и он наконец надумал себе занятие – сходить к Тимофею Переднику да хоть покурить вместе. И, сразу почувствовав облегчение, поспешно встал и зашагал к другу.
Передника дома не оказалось. Вышедшая на собачий лай мать Тимофея сказала, что тот пошел якобы к Зазуле.
Не сиделось в этот день казакам по домам, неможилось: торкнулся Алексей к Илье Зазуле, а того тоже нет дома. Заходил-де за ним Передник да вдвоем вот только утопали к Белобловскому.
Алексей – к Петру, но и того дома не оказалось. Никогда Алексей так резво не бегал по чужим дворам, как сегодня. Не чаял встретить кого-нибудь. Да так вот и забрел к подворью дедушки Дзюбы. Дом его стоял в общем порядке, но на отшибе, далее пустырь – один репей бушует.
Скосился Алексей на мутные оконца без занавесок и даже вздрогнул нежданно: в темной некрашеной раме, за серой мутью стекла, как из старой иконы, глядел на него желтенький лик Дзюбы, который делал ему знаки, дескать, зайди, зайди, мил человек.
В другой раз, может быть, и не зашел бы Алексей, отнекался, а тут, и не подумав даже, пнул калитку, проворнее, чем следовало гостю, шагнул в сени и дернул дверь в жилье. Глянул в горницу, а там – мать честная – его товарищи Тимофей Чередник, Илья Зазуля и Петро Белобловский.
Тимофей, как и он, пришел из дома в чем был, а Илья и Петро – в черкесках подтянутые узкими кавказскими ремешками.
Казаки, разглядев, кто пришел, оживились, тоже обрадовались.
– Глянь-ка, еще один залетный! Было б запечье, будут и тараканы, – засмеялся дедушка Дзюба. Он был без привычной папахи, и безволосая его головка маячила по комнате, как недозрелая тыковка, какие по осени не берут, оставляют в огородах.
Алексей с тем же радостным, облегчающим чувством крепко потискал всем руки.
– А мы тут… тово… балакаем, – пояснил старый казак. – А ты далече, казак, скакал-то? Гляжу вон, и штаны в репьях.
– Да возле твоего двора, дедушка, чистым не пройдешь.
– Ну, выгон не моя забота чистить, тут хотя-бы у ворот порядок был, – оправдывался тот.
Алексей охотно присел на поднесенную табуретку и обвел глазами холостяцкое жилье дедушки Егора.
Казаки перекидывались с одного на другое, все по пустякам, не касаясь главного, что сорвало их со двора и потянуло искать друг друга. Но и пустое Алексею слушать было приятно: в неухоженной Егоровой хате среди сотоварищей, помеченных одной меткой, сделалось ему хорошо и не тягостно, как было перед этим.
Хлопнула калитка, в сенях шумно затоптали, и в хату ввалился Матвей Колодей, да еще и с Никитой, своим шурином, высоким, статным казаком, которого за глаза с послевоенных лет в станице продолжали называть урядником.
Матвей озабоченно-распаленный хлопотами, тут же извлек из камышовой кошелки и выставил на голый стол одну за другой три засургученные поллитровки. Потом пригоршнями стал зачерпывать магазинские пряники и обкладывать ими бутылки. Вслед за ним шуряк, перегнувшись пополам, начал таскать из мешка съестное: кругляш горячего, еще парившего хлеба, хороший шмат сала, надрезанный крестом, несколько штук редьки, только что выкопанной из земли. Свежие огурцы и чуть ли не беремя луку, который уже созрел к этому времени.
– Ох, ловко-то как! – засуетился Дзюба. – Ну, ежели так-то, за хлеб, за сальцо спляшем, а за винцо дак и песенку споем. Сейчас, сейчас и я у себя покопаюсь.
Он распахнул темный шкафчик и, привставая на носки, принялся шебаршить на его полках – достал старинную рюмку на долгой граненой ножке, эмалированную кружицу и несколько разномастных чашек.
– Все разного калибру, – виноватился Дзюба, дуя в каждую посудину, выдувая оттуда застоялое время. – Дак ведь и так еще говорится: не надо нам хоромного стекла, лишь бы водочка текла. И он, озорно засмеявшись, снова обратился к своему ларю. – А вот вам, орелики, и ножик редьку ошкурить. Не знаю, востер ли? И соль нашлась. Соль всему голова, без соли и жито трава. Да-а… была бы жива старуха, была бы и яишанка. Ну да что теперь толковать…
Увидев все это на столе, Алексей с неловкостью сознался:
– У вас тут, гляжу, складчина. А мне и в долю войти не с чем…
– Да уж ладно, – загомонили друзья, – без твоей доли обойдемся. Нашел об чем. Не тот день, чтоб считаться. Давай подсаживайся.
Казаки подвинули лавки, расселись вокруг стола, источавшего огуречный дух с едкой примесью редьки и, пока Матвей разливал по посудам, уклончиво глядели себе под ноги.
– Ну, помолчали, а теперь и сказать не грех, – подтолкнул дело хозяин. – Есть охотники?
Казаки помялись и промолчали.
– Ну, тогда я, ежели дозволите.
– Скажи, дедушка, скажи.
– Ты хозяин, тебе и слово.
Егор привстал, прихорошил ладошкой сивую бородку, поднял рюмку, задержал ее перед собой, как свечу:
– Ну да, стало быть, подступил ваш час, ребятушки. Приспело времечко и вам собирать сумы. Думал я, когда та кончилась, что последняя. А нет, не последняя. Накопилась еще одна, взошла туча над полем…
Дзюба задержал взгляд на окне.
– Тут у нас все по-прежнему, – кивнул он в оконце. – Вон как ясно, тишина, благодать. Но идет на Россию туча. С громом и полымем.
Старик подвигал туда-сюда бровями, словно сметая в кучку остатные мысли, какие еще собирался вымолвить, но, смешавшись, махнул рукой.
– Ну да ладно… Хотел еще чево сказать, да что тут говорить… Ступайте с Богом, держитеся… Это и будет вам мое слово. На том и выпейте.
Будто пробудившись, казаки ожили, потянулись наперекрест, кто чем, нехоромной посудой, стукнулись и выпили молча и жадно. Ели тоже молча, замедленно ворочая челюстями, жевали пополам с думой.
– Да-а, – почесал за ухом Матвей. – Не ко времени война зачалась.
– А и когда война была нашему брату в пору? – посмеялся дед Егор. – Смерть да война не званы завсегда.
– А я уже было сарайчик начал плести, – сокрушался Матвей. – Знал бы – и не начинал.
– Нам, татарам, все равно на Русь идти, – засмеялся Дзюба. – Завсегда дела находятся. То б надо, это бы… Да вон и у Алешки баба на последних сносях пышкает, как квашня перед праздником. Тоже надо бы погодить с войной. Так ли, Алеш?
– Да уж скоро б должна родить, – потупился Алексей, почувствовав, как от этого напоминания какой-то тоскливый червь опять тошно соснул между ребер.
Матвей снова расплескал по чаркам, казаки, оборвав разговор, согласно выпили и дружно закусили.
– А я так думаю, – начал разговор Никита Казей. – На войну, что в холодную воду, – уж лучше сразу. А так маета с думой хуже вши заест. Еще и не воевал, а уже вроде упокойника. А сразу – как нырнул. Чтоб душа не казнилась. Да и баб не слушать.
– Э-э, ребятки! Не вешайте носов! – скзал Дзюба с бодрецой. – Не те слезы, что на рать, а те, что опосля. Еще бабы наплачутся… Ну да об этом не след. Налей-ка, Матвеюшка, товарищам для веселья.
И, остановившись позади Черед ника и Алексея, обхватил их за плечи, затянул свою любимую:
Скакал казак через долину, Через Кавказские края…Но тут же откачнулся от обоих, мотнул бородкой и лихо сказал:
– А по мне дак так: али голова в кустах, али грудь в крестах.
– Ага… Давай, дед, давай… – с усмешкой сказал Никита Казей. Дзюба, задетый этой усмешкой, полез в сундук.
– Глянь-кось, экий затейник! Али я этого не прошел? Было мое время, – обиженно проговорил старик, доставая черкеску с медалями.
– На-кось, Никита Петрович, ежели веры мне нету… На вот погляди.
Никита пьяно, осоловело смигивал.
– А что глядеть-то? – спросил он, поглядывая на звенящие награды деда.
– Дак вот посмотри.
– Орден, что ли? – виновато ответил тот.
– Егорий, сыночки, Егорий, – обрадованно закивал Дзюба, задрожав губами.
Казаки потянулись смотреть. Орден разглядывали и бережно передавали из рук в руки.
– А за что его тебе дали, дедушка? – спросили Егора.
– Вот и ответ тебе мой, Никитушка. Ты токмо народился, в люльке под себя сюкал, а я уже, милый ты мой, невесть где побывал. Шипка, может слышал?
– А где это?
– Далеко-о, браток, отседова – в Болгарии. Уж не слыхал про такое? Дед же твой Ипполит Никанорыч, Царство ему небесное, тоже там побывал. Разве не сказывал?
– Может, и говорил чево, – вяло отвечал Никита. – Уж и дед, не помню, когда помер.
– Вот видишь, как оно?.. Плохо, что не помнишь… Мне его сам генерал Гурко вручал, – Егор растерянно замигал безволосыми веками.
Старик остановился лицом, согнал с него все ненужное, обыденное, оставив лишь скорбную суровость, запел:
Вспомним, братцы, про былое, Что как сладкий сон прошло, Жизнь – раздолье удалое, Наше время – золото!Но сил хватило на одну лишь запевку, и глаза его вновь заволоклись и повлажнели.
– Такая вот, ребята, песня. Язви тя, голосу не хватает. Я как услышу где, сразу и являются передо мной те дальние места. И доси помнятся. Сколько там, на войне, казаков сложило головы.
Не раз генерал Гурко, награждая крестом или медалью, говорил казакам: «Прежде чем получить этот крест, каждый из вас ждал себе другого креста – и не на родной стороне, а на чужбине. Вот почему поднимается рука ломать шапку перед вами, и первее всего хочется вспомнить ваших товарищей, что оставили свои кости на чужой стороне».
Дзюба утерся тряпицей и опять просиял добродушно и умиротворенно, укладывая обратно в сундук свою парадную черкеску с наградами. А потом при всеобщем раздумье он, укоризненным бормотком, сказал:
– Приспел и ваш черед «ура» кричать. Теперича выкрикивайте свои ордена-медали.
Они дружно выпили, и из дома понеслась песня:
Последний нынешний денечек Гуляю с вами я друзья! Прощай, мой край, где я родился, Прощайте, вся моя родня…Глава III
Еще туманны образы сраженья Бумах владык, задумавших его, Не созваны полки, не взвешены сомненья — Но сколько юношей в тот час уже мертво! В. Ян. Древняя битва. Из вотосточной летописи1
Лето 1914 года…
«5 августа возьму Брюссель, 11-го обедаю в Париже, 19-го высаживаюсь близ Петербурга».
Так если верить печати, отмечал германский император Вильгельм в своем журнале походные планы после того, как объявил войну почти всей Европе.
Эта война готовилась в течение многих лет. Еще в конце XIX – начале XX века мир разделился на две враждебные коалиции – Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия и Италия) и Тройственное согласие, или Антанта (Англия, Франция и Россия). Главной причиной Первой мировой войны была борьба между двумя этими коалициями, а прежде всего – между Германией и Англией, за колонии и сферы влияния. Война носила захватнический характер как со стороны австро-германского блока, так и со стороны Антанты. Империалистам нужны были новые рынки сбыта, источники сырья, колонии. Особенно велики были аппетиты у германских империалистов, которые намеревались отнять колонии у своих соперников, расчленить Россию, отторгнуть от нее Украину, Белоруссию, Польшу, Прибалтику, подчинить Балканы. Россия хотела воспрепятствовать усиливающемуся влиянию Германии и Австро-Венгрии на Балканах и Ближнем Востоке, так как это угрожало экономическим и стратегическим интересам России. В то же время Россия рассчитывала, победив противника, приобрести новые рынки.
Военные заказы и поставки на армию сулили русским капиталистам огромные барыши. Царское правительство надеялось также, что война отвлечет народные массы от революционной борьбы.
Германия предполагала сначала молниеносным ударом разгромить Францию, а затем обрушиться на Россию. Разрабатывая план «молниеносной» войны, германский генеральный штаб хотел избавить страну от затяжной войны на два фронта.
Ход военных действий в первые дни войны как будто соответствовал этим планам. Немецкие войска через Бельгию вторглись в Северную Францию и быстро продвигались к Парижу. Англо-французские войска поспешно отступали.
Стремительное наступление германских войск на Париж заставило русское командование изменить свои планы и начать боевые действия с вторжения в Восточную Пруссию.
1-я и 2-я русские армии Северо-Западного фронта вторглись с востока и юга в Восточную Пруссию и 7 (20) августа в Гумбинен-Гольдапском сражении нанесли поражение 8-й германской армии, которая отступила к Висле. Германский штаб сменил командование 8-й армии и перебросил в Восточную Пруссию два корпуса и одну кавалерийскую дивизию с Западного фронта и одну ландверную дивизию из Северной Германии, то есть русские оказали существенную помощь накануне решительного Марнского сражения.
Командование 8-й германской армии, прикрывшись против бездействовавшей 1-й русской армии (генерала П. К. Ренненкамфа) слабым заслоном, перебросила основные силы против 2-й армии генерала А. В. Самсонова и нанесла ей тяжелое поражение. Затем германское командование направило 8-ю армию против 1-й русской армии и к 1 (14) сентября вытеснило ее из пределов Восточной Пруссии. Исключительно плохое управление войсками со стороны командования Северо-Западного фронта и 1-й армии явилось причиной неудач русских войск в Восточной Пруссии.
Одновременно с боями в Восточной Пруссии с 5 (18) августа началась Галицийская битва 1914 г., в которой армии Юго-Западного фронта (генерал Н. Н. Иванов, нач. штаба – генерал М. В. Алексеев) нанесли тяжелое поражение австровенгерской армии, заняв 21 августа (3 сентября) Львов.
30 августа (12 сентября) австро-венгерские войска начали общее отступление и к 4 (17) сентября отошли за реку Дунаец.
Под крики и ругань, щелканье кнутов и треск осей об оси, в грязи и дожде двигались сплошной лавиной обозы наступающей русской армии. Телеги, покрытые брезентами, возы с соломой и сеном, санитарные повозки, огромные корыта понтонов, покачиваясь и скрипя, двигались по широкому, залитому жидкой грязью шоссе.
Иногда в этот поток врывался военный автомобиль. Начинались крики, кряканье, лошади становились на дыбы, валилась под откос груженая телега, скатывались вслед за ней обозные.
Далее, где прерывался поток экипажей, шли, далеко растянувшись, скользили по грязи солдаты в накинутых на спины мешках и палатках. В не стройной их толпе двигались возы с поклажей, с ружьями, торчащими во все стороны, со скорченными наверху денщиками.
Этот грохочущий поток то сваливался в лощину, теснился, орал и дрался на мостах, то медленно вытягивался в гору и пропадал за перевалом. С боков в него вливались новые обозы с хлебом, сеном, снарядами. По полю, перегоняя, проходили небольшие казачьи части.
Иногда в обозы с треском и железным грохотом врезалась артиллерия. Огромные грудастые лошади и ездовые на них, хлеща по лошадям и людям, как плугом расчищали шоссе, волоча за собой подпрыгивающие тупорылые пушки. Отовсюду бежали люди, вставали на возах и махали руками. И опять смыкалась река, вливалась в лес, остро пахнущий грибами, прелыми листьями и весь мягко шумящий от дождя.
Верстах в двадцати пяти от этих мест глухо перекатывался по дымному горизонту гром орудий. Туда вливались эти войска и обозы день и ночь. Туда со всей России тянулись поезда, груженные хлебом, людьми, снарядами. Вся страна всколыхнулась от грохота пушек. Наконец настала воля всему, что в запрете и духоте копилось в ней жадного, неутоленного, злого. В грохоте пушек был возбуждающий голос мировой грозы.
Доходя до громыхающей на десятки верст полосы боя, обозы и воинские части разъезжались и таяли. Здесь кончалось все живое и человеческое. Каждому отводилось место в земле, окопе. Здесь он спал, ел, давил вшей и до одури стрелял из винтовки в полосу расположения противника. Здесь в любое время могли раздаваться сигналы, и офицеры с перекошенными губами с руганью, криком и побоями поднимали солдат. И, спотыкаясь, с матерной бранью и звериным воем бежали нестройные кучки людей по полю, ложились, вскакивали и, оглушенные, обезумевшие, потерявшие память от ужаса и злобы, врывались в окопы врага.
Был свежий солнечный день, когда сюда, на позиции, прибыла терская казачья бригада, в составе которой была и сотня 1-го Владикавказского полка. Сотня должна была присоединиться к полку, которым командовал полковник Вихров. Полк был на линии боя, но где протянулась эта линия, казаки не знали. Решено было выслать разъезд, старшим которого был назначен урядник Никита Казей. Вызвали охотников. Человек десять порасторопнее вышли сразу, остальные, потоптавшись, объявили, что они тоже хотят идти и только стыдятся напрашиваться.
Казей выбрал восемь человек, опять-таки побойчее. В их числе оказались его друзья – Колодей, Гевля и Лутай.
Этот день навсегда останется в священной памяти казаков. Они были дозорными и первый раз на войне почувствовали, как напрягается воля, прямо до физического ощущения какого-то окаменения, когда надо въезжать в незнакомый лес, где, может быть, залегла неприятельская цепь, скакать по полю, вспаханному и поэтому исключающему возможность быстрого отступления. Они понимали, что, разыскивая своих, они легко могли выехать на австрийцев.
Уже совсем близко, словно большие кузнечные молоты, гремели пушки противника, и наши залпами ревели им в ответ. Где-то убедительно быстро на своем ребячьем и странном языке лепетал непонятное пулемет.
Только перед вечером за редким перелеском они нашли нужный им полк. Армейский полк, куда были приписаны терцы, наступал с боями. Больше половины офицерского и солдатского состава было выбито, пополнений они не получали и все ждали только одного: когда их, полуживых от усталости и обносившихся, отведут в тыл.
Но высшее командование стремилось до наступления зимы во что бы то ни стало вторгнуться через Карпаты в Венгрию и опустошить ее. Людей не щадило – человеческих запасов было много. Казалось, что этим длительным напряжением третий месяц не прекращающегося боя будет сломлено сопротивление отступающих в беспорядке австрийских армий, падут Краков и Вена и левым крылом русские смогут выйти в незащищенный тыл Германии.
Следуя этому плану, русские войска безостановочно шли на запад, захватывая десятки тысяч пленных, огромные запасы продовольствия, снарядов, оружия и одежды. Но было что-то в этой войне выше человеческого понимания. Казалось, враг разгромлен, изошел кровью, еще усилие – и будет решительная победа. Ан нет! Усилие совершилось, но на месте растаявших армий врага вырастали новые, с унылым упрямством шли на смерть и гибли.
Каждое утро, еще затемно, казаки покидали свой ночлег, выбирались на позиции и весь день проводили за каким-нибудь бугром, то прикрывая артиллерию, то просто поддерживая связь между подразделениями и частями.
Наступила осень, дул пронзительный ветер, и казаки с синими лицами и покрасневшими веками, чтобы согреться, плясали вокруг лошадей и засовывали под седла окоченевшие пальцы. Иногда, чтобы согреться, кучами шли друг на друга и молча барахтались на земле. Порой казаков развлекали рвущиеся поблизости шрапнели. Кое-кто робел, другие смеялись над ним и спорили, по ним или не по ним стреляет противник. Настоящее томление наступало только тогда, когда уезжали квартирьеры на отведенный казакам бивак и они ожидали сумерек, чтобы последовать за ними.
Вечерело. Звезды кое-где уже прокололи легкую мглу, и казаки, выставив сторожевое охранение, отправились на ночлег. Под бивак им отвели обширную благоустроенную усадьбу, с сыроварней, пасекой, конюшнями, где стояло несколько лошадей. По двору ходили куры, гуси, где-то мычали коровы, а вот людей нигде не было. Сотник с хорунжим заняли одну из парадных комнат, Никита с друзьями – другую, остальным досталось все остальное. Накололи дров, растопили печь и сели за ужин. Эту ночь они блаженствовали в тепле и сытости.
А на следующий день казакам внезапно скомандовали седлать, и они так же внезапно переменным аллюром прошли верст пятьдесят. Выезжая временами на шоссе, они слышали глухой, как морской прибой, стук бесчисленных копыт и догадывались, что впереди и позади их идут другие кавалерийские части и что им предстоит большое дело.
Ночь далеко перевалила за полночь, когда они стали на ночлег. А утром им пополнили запас патронов, корма лошадям, и они двинулись дальше. Местность была пустынна: какие-то буераки, низкорослые деревья, холмы. Построились в боевую линию, назначили, кому спешиваться, кому быть коноводом, выслали вперед разъезды и стали ждать. Поднявшись на пригорок и спрятавшись за кустами, казаки стали наблюдать за открытою местностью, простиравшейся на версту. По ней были расставлены наши заставы. Они были так хорошо укрыты, что сразу их было и не рассмотреть. Но что это?
– Смотрите, смотрите! – раздалось среди казаков, которые указывали руками в направлении появившегося противника.
Три колонны мерным шагом наступают на наши позиции. Над головами врагов взвиваются облачка шрапнелей, передние ряды падают, но другие становятся на их место и продвигаются вперед.
– Вот и настала наша очередь вступить в бой, – сказал командир сотни и подал команду:
– Ложись… прицел восемьсот, сотня, пли! – и терцы уже больше ни о чем не думали, а только стреляли, заряжали. Лишь где-то в глубине сознания жила уверенность, что все будет как нужно, что в должный момент им скомандуют идти в атаку или садиться на коней и тем или другим они приблизят ослепительную радость победы.
Наступление было остановлено, и поздним вечером казаков отвели на ночлег. На следующий день надо было расследовать, какие пункты занял неприятель, где он окапывается, где попросту помещает заставы.
Разъезд был дальний, поэтому его возглавил хорунжий Востриков. Казакам было поручено наблюдать район версты в четыре и сообщать обо всем, что заметят. Местность была совершенно ровная, и на ней, как на ладони, виднелись три деревни. Одна была занята нашими, о двух других ничего не было известно.
Держа винтовки в руках, казаки осторожно въехали в ближайшую деревню, проехали ее до конца, и, не обнаружив неприятеля, с чувством полного удовлетворения напились парного молока, вынесенного им красивой, словоохотливой старухой. Потом хорунжий отозвал Казея в сторону и приказал:
– Бери двух дозорных и езжайте в следующую деревню, мы будем следовать за вами на расстоянии видимости, понял?
– Так точно!
– Увидите что подозрительное – сигнализируйте нам, – И он показал условные сигналы.
Поручение пустяшное, но все-таки серьезное, и главное – первое, в котором Никита мог проявить свою инициативу. Кто не знает, что во всяком деле начальные шаги приятнее всех остальных.
Никита решил идти не лавой, то есть в ряд, на некотором расстоянии друг от друга, а цепочкой, то есть один за другим. Таким образом, считал он, люди подвергнутся меньшей опасности, и они получат возможность скорее сообщить что-нибудь новое. Разъезд следовал за ними на расстоянии.
Они въехали в деревню и оттуда увидели, что к ней направляется колонна врага. Он подал сигнал хорунжему, но в это время возле них взвилось облачко пыли, и раздались винтовочные выстрелы. Никита оглянулся и понял, что над ними нависла серьезная опасность. Дорога к разъезду отрезана, а с другой стороны движется колонна. Оставалось скакать прямо на врага, промчаться перед его фронтом к дороге, по которой ушел наш разъезд. Это была трудная минута в его жизни. Лошадь спотыкалась, несясь по вспаханному полю, пули свистели мимо ушей, одна даже оцарапала луку его седла. Он смотрел на врагов и видел их растерянные лица. Невысокий пожилой офицер, странно вытянув руку, стрелял в него из револьвера. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Два всадника выскочили, чтобы преградить дорогу казакам, но они выхватили шашки, и те замялись. Может быть, они просто побоялись, что их подстрелят их же товарищи.
Все это в те минуты казаки запомнили лишь зрительной и слуховой памятью, осознали же много позже. Перескочив через канаву, которая обрамляла пахотное поле, они выскочили на гладкую дорогу, по которой полным карьером догнали свой разъезд.
А через неделю им пришлось выполнить не менее ответственную задачу.
Смеркалось. Казаки разбрелись по сеновалам и клетушкам большой усадьбы, где устроились на ночлег, но внезапно взводу, которым командовал теперь Никита Казей, было велено срочно собраться.
– Пойдете в ночную разведку, – сообщил есаул и, объясняя задачу подчеркнул, что разведка будет опасной.
– А кто пойдет? – спросили несколько человек у есаула.
– Командиру видней, – ответил им тот.
Решили, что взводный сам назначит охотников. Никита определил вместе с собой десять человек.
На конях доехали до пехотного сторожевого охранения. За деревьями спешились, оставили троих коноводами и пошли расспросить пехотинцев, как обстоят дела. Усатый старшина, спрятавшийся в воронке от тяжелого снаряда, рассказал, что из ближайшей деревни несколько раз выходили неприятельские разведчики, крались полем к нашим позициям и уже два раза стреляли. Никита решил пробраться в эту деревню, и, если возможно, забрать какого-нибудь разведчика живьем.
Светила полная луна, но, на счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, дозор, согнувшись, гуськом побежал к деревне. У околицы остановились. Никита решил сам пройти по деревне и посмотреть, что делается за нею. Оставив отряд на месте – они с Путаем пошли. Он – по одну сторону улицы, Путай – по другую. Деревня словно притаилась, и они с осторожностью перебегали от одного дома к другому. Никита старался идти впереди товарища, но слишком торопиться все-таки страшно, так как в любое время можешь встретить острый и холодный, направленный на тебя штык. Вот и конец деревни, Луна пробивается сквозь неплотный край тучи, становится чуть светлее. Никита видит перед собой темные бугорки окопов, чуть продолговатые блиндажи и, словно фотографируя их в памяти, определяет их длину и направление. Чуть дальше такая же линия и сооружение посолиднее «Может, это замаскироваванные, которые так часто осыпают наших шрапнелью», – подумал Казей и замер. Сбоку мелькает крадущаяся фигура. Это враг, столкновение неизбежно. В мозгу лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: «Или я его, или он меня». Тот вглядывается в Никиту и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно, условным свистом. Никита поднимает винтовку и, понимая, что стрелять нельзя, – кругом враг, бросается вперед с опущенным штыком. Мгновение – и перед ним никого нет. Начал всматриваться. Что-то чернеет. Попробовал штыком – труп. Только успел обернуться – прогремел выстрел и пуля просвистела перед самым лицом. «В распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в патроннике», – подумал Никита и побежал к своему отряду. Из окопов послышалась частая стрельба, но она особенного страха у Никиты не вызвала, так как он уже знал, что ночная стрельба малоэффективна. Но когда луна осветила поле, он бросился ничком на землю и быстро отполз в тень домов, там идти уже было почти безопасно. Лутай возвратился одновременно с Никитой. Они благополучно вернулись к коням. Обменялись впечатлениями, поужинали хлебом с салом. Казей написал и отправил донесение. Стали думать, нельзя ли что-нибудь еще устроить. Но, – увы! – ночной ветер в клочья изодрал тучи, круглая красноватая луна опустилась над неприятельскими позициями. Все было видно как на ладони. Но они назло судьбе вновь поползли в сторону неприятеля. Луна же могла опять скрыться, или мог им встретиться какой-нибудь шальной разведчик. Однако ничего этого не случилось, их обстреляли, и они уползли обратно, проклиная лунную ночь и осторожность противника. Добытые ими сведения пригодились, дозор весь поблагодарили, а Никита Казей за эту ночь получил Георгиевский крест.
2
Следующая неделя выдалась для казаков сравнительно тихая. Полк занимал новые позиции, и артиллерия била по вторым австрийским линиям, откуда отвечали вяло. Дождик перестал, туман развеялся. Никита, выехав на пригорок, глядел на поле, по которому они бежали накануне ночью. Поле как поле, бурое, мокрое, кое-где обрывки проволок. И речка – совсем близко. Через нее и переправлялся полк.
Австрийцы продолжали отходить, и русские части, не отдыхая, преследовали их. Казакам было приказано занять лесок, синевший на горке, и они после короткой перестрелки заняли его.
Днем казаки лежали на опушке соснового леса и слушали отдаленную пушечную стрельбу. Слегка пригревало бледное солнце, земля была густо устлана мягкими, странно пахнущими иглами. Как всегда зимой, Никита томился по жизни летней природы, и так сладко было, совсем близко вглядываясь в кору деревьев, замечать в ее грубых складках каких-то проворных червячков и микроскопических мушек. Они куда-то спешили, что-то делали, несмотря на то, что на дворе стоял декабрь. Жизнь теплилась в лесу, как внутри черной, почти холодной головешки теплится робкий тлеющий огонек. К вечеру им пришел приказ: оставаться в лесу на всю ночь. Выставили сторожевое охранение, поели, что было в мешках, и в тиши, в темноте и лесной прели многие заснули.
Никита, накинув бурку, сидел на пне, прислонившись к мягкому от мха стволу дерева. Он смотрел на ясные от морозца звезды и забавлялся, соединяя их в воображении золотыми нитями. Потом стал различать на небосводе различные эмблемы, мечи, кресты, чаши в непонятных для него сочетаниях. Наконец явственно вырисовались небесные звери… Он дремал… И ему привиделось, что он дома.
– Там, на загнетке, борщ, поешь, – слышится с печи голос матери.
– Не хочу, мать, – отказался он.
В запечье заскрипели пересохшие доски, донеся горестный вздох старого, натруженного человека, и во сне томившегося какой-то одной неусыпной думой:
– Ох ты господи, защити и помилуй.
Луна выстлала голубой холодный квадрат на полу, прихватила светом кусок ситцевой занавески, делившей горницу пополам. В той занавешенной ее части стояла его с Мариной самодельная деревянная кровать с резными спинками, а минуя ее, в глубине, за печным выступом, были сооружены просторные палати для сынишки.
Никита легонько отстранил занавеску. Лунный свет выбелил Маринино лицо, повернутое к нему, обездвиженное первым изморным забытьем, с безвольно разомкнутыми губами.
– Марин, а Марин… – покликал он сторожкой. – Слышь-ка.
– Это я, – прошептал он, следя за ее оживающими, но все еще притворенными глазами.
Никита кинул взгляд на детские палати, где, сражено пав, разметав руки, спал его сынишка, подсел на край Марининой кровати.
– Прости, припозднился я, – и, опять не получив ответа, осторожно, опасливо покосился на жену.
– Утром еще мне сообщили, что записан я идти на войну в первую очередь, – проговорил он. – Не хотел тебе говорить – на днях отправляться.
Взглянул – и прикусил разбухший, непослушный язык: Марина, закрывшись ладонью, тихо, беззвучно плакала, всколыхиваясь большим, размягченным телом.
– Али знала уже?
– Да что ж не знать, – давя всхлип, выговорила она, – вся станица знает.
– Ну, будет реветь. Не один я. Поди из каждого двора.
– Ты-то пойдешь не один, да ты-то у нас один.
– Ну да что толковать? Жил? Жил! Семью, дитя нажил? Нажил – стало быть, иди, обороняй. А кто же за меня станет?
Никита, тяжело ворочая мыслью, говорил это не только жене, но и самому себе, в чем и сам нуждался в эту минуту.
Чувство вины полоснуло его, и он потянул к себе Марину, ища ее губы. Та отстранилась, загородилась от него ладонью.
– Не надо, Никиш…
– Чего ты…
– Отпусти, не надо…
– Ну, Марина, – шептал он.
– Угомонись. Вон Лешка рядом.
– Ну, да и что? – бормотал он.
– Глянь, дурной. Да и мать не спит.
– Ну, пошли в сарайку.
– Нет, Никита, нет…
– Ухожу ведь, – обиделся Никита, – как же я помнить тебя буду? Там-то? На полгода, не меньше, а то и на весь год ухожу.
– Знаю, Никиша, знаю. Да разве одним этим дом помнится? Вон сынишка спит. Его и меня помни. Тебя не было, а он так намотался, на помотался. Даже дрова брался колоть, хекал-хекал, как старичок, а самого топор перевешивает. А ему сколь еще всего без отца достанется?
– Ну ладно, не каркай.
– А что не каркать? Тяжко мне, Никитушка.
– Табачку нигде близко нету? – почему-то спросил Никита.
– Что?
– Да ладно… На нет и суда нет.
Никита очнулся и увидел над собой небо. Он видел, как Большая Медведица, опустив морду, принюхивается к чьему-то следу, как Скорпион шевелит хвостом, ища, кого ему ужалить. На мгновение его охватил невыразимый страх. Он попросил у соседа махорки, свернул цыгарку и с наслаждением выкурил ее, зажав руками, – курить иначе значит выдать неприятелю свое расположение.
В результате общего наступления фронт был выровнен. Кое-где пехота отбивала противника, пытавшегося контратаковать, казачья сотня занималась усиленной разведкой.
Разъезду под командованием есаула было поручено наблюдать за одним из таких боев, сообщать об его развитии и при необходимости оказать помощь. Казаки нагнали пехоту в лесу. Маленькие серые солдатики со своими огромными сумками шли вразброд, теряясь на фоне кустарника и сосновых стволов. Одни на ходу закусывали, другие курили, молодой прапорщик помахивал тростью. Полк шел в бой как на обычную полевую работу, и чувствовалось, что в нужную минуту все окажутся на своих местах без путаницы, без суматохи, и каждый отлично знает, где он должен быть и что делать.
Командир на лохматой казачьей лошадке поздоровался с есаулом и попросил узнать, есть ли перед деревней, на которую он наступал, неприятельские окопы. Казаки были очень рады помочь пехоте, и сейчас же был выслан дозор, который повел Никита Казей. Местность была удивительно удобная для конников: холмы, из-за которых можно было неожиданно показываться, и овраги, по которым легко было уходить.
Едва они поднялись на пригорок, щелкнул выстрел. Это был неприятельский секрет. Они взяли вправо и поехали дальше. В бинокль было видно все поле до деревни, оно было пусто. Казей послал одного человека с донесением, а с остальными тремя соблазнился пугнуть обстрелявший их секрет. Для того, чтобы точнее узнать, где он залег, Никита высунулся из кустов, услышал снова выстрел и, наметив пригорок, откуда он мог вестись, помчался на него, стараясь оставаться невидимым со стороны деревни. Они доскакали до пригорка – никого.
– Неужели ошибся? – в горячах произнес Никита.
– Нет, нет, тут они. – Один из казаков, спешившись, поднял новенькую австрийскую винтовку, другой заметил свеженарубленные ветки, на которых только что лежал австрийский секрет. Они поднялись на холм и увидели троих бегущих во всю прыть людей. Видимо, их смертельно перепугала неожиданная конная атака, потому что они не стреляли и даже не оборачивались.
Преследовать их было невозможно, так как казаков обстреляли бы из деревни, кроме того, из леса уже вышла наша пехота.
Наступление нашей пехоты – красивое зрелище. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооруженных людей на обреченную деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, действующий по единому плану и приказу.
Как гул землетрясений грохотали залпы и несмолкаемый треск винтовок. Как болиды[3] летали гранаты, и рвалась шрапнель.
И все это было перед взором казаков.
Они въехали в деревню, когда на другом конце ее еще кипел бой. Пехота двигалась от дома к дому, все время стреляя, иногда идя в штыки. Стреляли и австрийцы, но от штыкового боя уклонялись, спасаясь под защиту пулеметов.
Казаки вошли в крайний дом, где собирались раненые. Их было человек десять. Они все были в работе. Раненые в руку притаскивали жерди, доски, веревки, раненые в ногу быстро устраивали из всего этого носилки для своего товарища с насквозь прострелянной грудью. Хмурый австриец, с горлом, проткнутым штыком, сидел в углу, кашлял и беспрерывно курил цыгарки, которые ему вертели наши солдаты. Когда носилки были готовы, он встал, уцепился за одну из ручек и знаками показал, что хочет их нести. С ним не стали спорить и только скрутили ему сразу две цигарки.
Казаки возвращались обратно немного разочарованные. Надежда в конном строю преследовать бегущего неприятеля не оправдалась.
Австрийцы засели в окопах за деревней, и бой на этом закончился.
В штаб казаки вернулись в полночь. Поели в сухомятку и легли спать. Ночью их подняли по тревоге, но потом дали Отбой. Утром один взвод отправили в штаб дивизии, чтобы служить связью между полками, а остальные остались на месте.
Местечко, где располагались казаки, было пустынно. Жители его бежали еще накануне, обоз ушел, пехота тоже. Казаки сидели больше суток, слушая медленно удаляющуюся стрельбу, представляя, как пехота ломает оборону противника, как кавалерия и вместе с нею их братья – казаки лавой врезаются во фланги и заходят в тыл противнику. Рослый и широкоплечий полковник каждую минуту подбегал к телефону в штабе и кричал в трубку: «Так… отлично… надавите еще немного… все идет хорошо». И от этих слов по пехотным цепям, перелескам, где сосредотачивались казаки, разливались уверенность и спокойствие, столь необходимые в бою. А молодой полковник по временам выходил на крыльцо послушать стрельбу и улыбался тому, что все идет так, как нужно.
Степенные, бородатые казаки, беседовали с уланами, которые проявляли при этом ту изысканную любезность, с которой относятся друг к другу кавалеристы разных частей.
Они сообщили казакам, что пять человек из их эскадрона попали в плен. К вечеру, правда, казаки уже видели одного, а остальные отсыпались на сеновале. Вот что с ними случилось. Их было восемь человек в сторожевом охранении. Двое стояли на часах, шестеро сидели в домишке. Ночь была темная, ветреная, враги подкрались к часовому и опрокинули его. Подчасок дал выстрел и бросился к коням, его тоже опрокинули. Сразу человек пятьдесят ворвались во двор и принялись палить в окна дома, где находился пикет. Один из них выскочил на порог, но споткнулся, а за ним все остальные. Неприятели, а это были австрийцы, обезоружили их и под конвоем тоже пяти человек отправили в штаб. Десять человек оказались одни, без карты, в полной темноте, среди путаницы дорог и тропинок.
По дороге австрийский унтер-офицер на ломаном русском языке все расспрашивал уланов, где «кози», то есть казаки. Уланы с досадой отмалчивались, и, наконец, объявили, что «кози» именно там, куда их ведут, в стороне неприятельских позиций. Это произвело чрезвычайный эффект. Австрийцы остановились и принялись о чем-то оживленно спорить. Ясно было, что они не знали дороги. Тогда наш унтер-офицер потянул за рукав австрийского и ободрительно сказал: «Ничего, пойдем, я знаю, куда идти». Пошли, медленно загибая в сторону русских позиций.
В белесых сумерках утра среди деревьев мелькнули серые кони – гусарский разъезд «Вот и кози!» – воскликнул наш унтер, выхватывая у австрийца винтовку. Его товарищи обезоружили остальных. Гусары немало смеялись, когда вооруженные австрийскими винтовками уланы подошли к ним, конвоируя своих только что захваченных пленников. Опять пошли в штаб, но теперь русский. По дороге встретился казак. «Ну-ка, дядя, покажи себя», – попросили уланы. Тот надвинул на глаза папаху, всклокочил пятерней бороду, взвизгнул и пустил коня вскачь. Долго после этого пришлось ободрять и успокаивать австрийцев.
3
А казаки-терцы, находясь при штабе дивизии, наступали. Казачья сотня шла в авангарде, и ее разъезды выполняли различные разведывательные задачи. Поднявшись на невысокий холм, они увидели ферму, в которой мог скрываться противник. Поснимав с плеч винтовки, они осторожно приблизились к ней.
– Где солдаты? – спросили они у старика, вышедшего с вилами в руках из сарая.
Тот быстро, словно повторяя заученный урок, ответил, что они прошли полчаса тому назад, и указал направление.
– Точно? – еще раз спросил его старший урядник Казей, удивившись, что тот показал направление в сторону от дороги.
Старик, давно перешедший возраст ландштурмиста, робко смотрел на казаков и молчал.
Переспрашивать не стали.
– Едем за ними, – скомандовал Казей, и они поехали дальше.
В километре от фермы начинался лес.
– Туда они добраться не успели, – сказал урядник и обратил внимание на кучи соломы.
– Вот где могут прятаться вражеские разведчики, – заметил он и с инстинктом охотника стал объезжать солому, чутко прислушиваясь и держа винтовку наготове. Лошадь фыркала, поводила ушами и слушалась неохотно. Остальные казаки тоже стали окружать стожки.
– Пальните в воздух, – приказал Казей, и когда несколько казаков дали залп, из соломы на четвереньках, с медвежьей ухваткой, стали вылезать солдаты в черных шинелях и в касках на головах. Они поднимали руки и сдавались в плен.
– Молодцы, ребята! – похвалил казаков подскакавший есаул. – Вовремя вы их открыли. Это разведка, а основные силы неприятеля в лесу. Через несколько минут наша артиллерия примется за дело. Продолжаем свое дело.
Казаки вернулись к ферме и поехали по дороге. Через час в небе появился неприятельский аэроплан. Он, как ястреб над спрятавшейся в траве перепелкой, постоял над казачьим разъездом и стал медленно спускаться к югу.
Казаки уже знали, что появляющиеся в этих окрестностях австрийские аэропланы проводят «охоту» на движущиеся русские колонны, обстреливая из пулеметов и сбрасывая бомбы. Не ограничиваясь этим, аэропланы, заметив работающих в поле крестьян, начинают обстреливать и мирных поселян из пулеметов.
И вот аэроплан, охотившийся, по видимому, за русскими колоннами, спустился в поле в окрестностях.
Работающие в поле люди, заметив, что аэроплан австрийский, бросились в рассыпную и встретили казаков.
– Берем летчиков, – скомандовал Казей. – Лутай, зайди правее! И они лавой двинулись к самолету.
Летчики, увидев возвращающихся крестьян с казаками, стали спешно готовиться к подъему. Пасущееся около места спуска стадо коров, испугавшись несущихся аллюром лошадей, бросилось в сторону аэроплана и рогами разбили пропеллер у аппарата. Не смогшие подняться летчики были окружены казаками и взяты в плен вместе со своей машиной.
– Пусть теперь знают во вражеской авиации, как воевать с казаками! – шутили терцы, наблюдая, как радуются вместе с ними местные жители.
А случай этот быстро разлетелся по войскам.
Казакам же пришел приказ вернуться в штаб.
Дозор выехал на бугор, и глазам открылась глубокая балка. Казаки потянулись по ней походной колонной. Одни уже выходили из балки, другие только входили. Усталые кони шли медленно, всадники покачивались в седлах. Глухо звякали стремена. Заходящее солнце поблескивало на ножнах шашек. В воздухе пахло конским потом.
– Давай, давай! Скоро привал, – подбадривал казаков Казей.
Казаки улыбались, отвечали шутками и спрашивали:
– А потом сколько еще добираться?
– Утро вечера мудренее, – отвечал им урядник. – Сегодняшние версты мы уже отмеряли.
Выбравшись из балки, отряд прибавил шаг. Не доезжая до указанного им хутора, притаившегося в вечерних сумерках, они свернули в сторону. Для ночевки им отвели хозяйственные постройки и дом, в котором уже успели похозяйничать отступавшие. Двери в доме были сорваны, оконные переплеты выбиты. В сараях пусто.
Стали размещаться. Кашевары стали готовить ужин, казаки устраивались на сеновале.
Никита с друзьями выбрал для себя комнатку, в которой, как видно, размещалась кладовка. Она уцелела. По крайней мере, есть дверь и окно заколочено досками.
Поужинали, выставили охранение и легли спать.
А утром их построили у штаба дивизии.
– Старший урядник Казей, – читал приказ комдив, – вы произведены в хорунжие. Поздравляю вас.
Он пожал руку Никите и трижды расцеловал.
Никиту обнимали и поздравляли офицеры, а потом и станичники, тоже получившие за этот рейд награды.
Полковник сам принес погоны и укрепил их Казею поверх унтер-офицерских. Казей сиял.
Подразделения дивизии тем временем занимали оборону. И вскоре приняли бой.
– Есть потери, и потери огромные, – делились между собой казаки.
– Кто бы мог подумать? После такого успешного наступления – такой удар!
Но война – школа быстрая.
После трех дней ожесточенных боев наступило затишье. Утром, когда все ждали возобновления вражеских атак, не раздалось ни одного выстрела. В наших окопах стали думать: не ушли ли немцы еще дальше. Четыре предыдущих отбитых атаки чего-нибудь им стоили, хотя и дивизия, и полк, к которому приданы казаки, понесли большие потери.
Немцы были не так уже и далеко. Но точное расположение и задачи противника были неизвестны.
Послали ночью казачий дозор. Возглавил его теперь уже хорунжий Никита Казей. Казаки добрались до гусарского секрета и спешились. Расспросили сторожевое охранение, что происходит впереди у врага, и стали думать, как действовать дальше.
Они знали, что сюда, на этот участок переброшены венгерские и австрийские части, но зачем и где они?
– Вон от того местечка их разведчики уже дважды пытались к нам пробраться, – показывая рукой, сообщил общительный гусар.
– Вот и хорошо. Спасибо, братцы! Попробуем сейчас перехватить кого-нибудь из них. В штабе ох как нужен язык! – поблагодарил гусар Кол од ей.
Никита поддержал его. Они оставили лошадей коноводам и стали пробираться к кустам, что росли по-над дорогой.
Луна то пряталась, то светила во всю мощь.
Только казаки заняли намеченную ими позицию, к кустам приблизились двое вражеских разведчиков. Чтобы не наделать шуму, из решили действовать холодным оружием. Взмах кинжалом и один разведчик убит, а второго, раненого, они приволокли к нашему секрету.
Долговязый рыжий пленник был ранен в шею. Кровь текла обильно, проливаясь за воротник, залила погоны.
– Перевяжите ему рану, – скомандовал Казей.
И Лутай стал перевязывать пленнику рану.
– О, да это офицер! – сообщил он хорунжему.
– Неужели? – удивился Казей.
– Точно! – подтвердил Колодей.
Они стали внимательно осматривать пленника.
– Будто знал, что нам до зарезу нужен «язык», – суетился возле Лутая Колодей, помогая тому перевязывать раненого.
– А за «языка» положена награда, – просто сказал Лутай.
– Неужели получим награду? – Радовался Семен. – А то, может, дадут один орден на всех.
– Заканчивайте перевязку, – прервал их разговор Казей. – Давайте выясним, что за птица.
А сам вытаскивал из офицерской сумки полевую карту, где синим крестиком были помечены занятые противником города и местечки.
Пленный не поднимал головы. Губы его были плотно сжаты, словно для того, чтобы ничего не сказать. Из под бинта продолжала сочиться кровь.
Немец был уверен, что его расстреляют. Попытаются допросить – и в расход. Он зашевелился.
– С какой целью вы здесь оказались? – спросил Лутай первое, что пришло ему на ум.
Немец стал быстро-быстро что-то говорить. Но, видя, что его не понимают, умолк. Воспаленными глазами он тревожно и загнанно следил за каждым движением казаков, за выражением их лиц, словно стараясь угадать, кто из них его расстреляет.
– Моя твоя не понимает, – стали шутить казаки, следя за его реакцией.
А тот опять стал лопотать на своем языке. Но единственное, что поняли казаки: Ковель, Луцк.
– Что он там кудахчет про Ковель и Луцк? – спрашивали друг у друга казаки, но понять так и не смогли.
– Давай в штаб, срочно! – распорядился Казей. – Он знает что-то важное.
У немца дрогнули углы рта. Он взглянул на Никиту, потом перевел взгляд на его товарищей.
– Казак… Казак! – воскликнул он, видя, что расстреливать его никто не собирается. И снова стал быстро говорить по-немецки.
– Опять он что-то толкует, – сказал Лутай, на что Никита ответил:
– Ничего он не толкует. Он что-то важное знает, а мы не понимаем. Срочно к командиру его.
И они цепочкой быстрым аллюром поскакали в штаб.
В конце недели казаков ждала приятная весть. Их вместе с пехотным полком отвели в резерв армии. Полковой священник отслужил молебен. Идти на него не принуждали, но во всем полку не было ни одного человека, который бы не пошел. На открытом поле тысячи человек выстроились стройным прямоугольником, в центре его священник в золотой ризе говорил вечные и сладкие слова, служа молебен. Казаки вместе со всеми благодарили Господа за ниспослание благодати божьей христолюбивому православному воинству.
Никиту направили на офицерские курсы.
Глава IV
1
В той обстановке уже в конце декабря 1914 г. Главнокомандование Юго-Западным фронтом самостоятельно приступило к подготовке операции прорыва через Карпаты для вторжения в Венгрию.
Главная задача возлагалась на 8-ю армию генерала Брусилова, четыре корпуса которой, сосредоточившись на участке Дуклинского перевала до Балиграда, должны были наступать на Гуменное в венгерскую долину. Одновременно через Турку на Унгвар должен был двигаться один корпус с кавалерийской дивизией для отвлечения на себя части австрийских сил, а западнее левый фланг соседней 3-й армии генерала Радко-Дмитриева должен был содействовать армии Брусилова.
Но подготовка этой операции не укрылась от внимания немцев, и их командование решило прийти на помощь австрийцам. Для этого была образованна Южная армия Лизингена на мункачском направлении с целью наступления на Стрый. Австрийцы также подтягивали к Карпатам все свободные войска. В конце января австрийцы и германцы перешли в Карпатах в наступление, желая предупредить маневр русских. Начавшееся одновременно наступление армии Брусилова привело к ряду трудных лобовых атак на горных перевалах в зимнюю стужу и продвигалось вперед крайне медленно.
Только в первых числах февраля правое крыло 8-й армии овладело участком Карпат на линии Конечна – Свидник – Мезо – Лоборч – Балиград. Юго-Восточнее русским, имевшим против себя 13–15 австро-германских дивизий, приходилось держаться оборонительно. Особенно настойчивы были германские атаки на мункачском направлении в районе горы Казювки. В Буковине русские вынуждены были отходить на Серет и далее к Днестру и Пруту.
Командующий фронтом Иванов обратился в Ставку с просьбой о подкреплении фронта свежими силами. Ему было отказано в связи с неустойчивым положением в этот момент на Северо-Западном фронте. Тогда пришлось прибегнуть к перегруппировке войск за счет частей Юго-Западного фронта с растянутого от р. Пилицы до Румынии участка этого фронта. С левого берега Вислы было переброшено на левый фланг Юго-Западного фронта несколько корпусов, образовавших 9-ю армию генерала Лечицкого, восемь пехотных и пять кавалерийских дивизий. Эта армия развернулась от Болехова до румынской границы, имея задачей атаку австро-германцев, наступающих от Мармарош-Сичета на Новодворную. Переброска 9-й армии закончилась к концу февраля.
Переезжать на новый фронт не всегда приятно. Потому что неверно представляют себе солдат бездомными – они привыкают и к сараю, где несколько раз переночевал и к ласковой хозяйке, и к могиле товарища. И вот казаки, снятые с насиженных мест, прибыли на новое место.
Белые облака, клубясь, тотчас же начали спускаться с неба, сгущаться, приобретая очертания каких-то чудовищ. Облака, сгущаясь, превращались в ужасную серую фигуру, контуры которой пока еще были расплывчаты. Она заполняла лежащую перед казаками местность. Это мгновенно вызвало у всех оторопь. Им казалось, что они видят какое-то чудовище, и даже представили его лицо, острые уши и два торчащих друг возле друга рога. Но это продолжалось недолго.
– Творец наш Иисус Христос, ласкою и милосердием своим снизойди к нам, пошли свое святое слово, дай нам разум, защити нас, – произнес кто-то вслух слова молитвы.
Для казаков разум был высочайшей святыней, может быть, потому, что брошены они были в такие дебри жизни, где не было никакой святости.
О своей прошлой жизни вспоминать не любили, потому что жили надеждами на будущее.
Бога поминали, когда было неизмеримо тяжело, и забывали, когда становилось легко, хотя это бывало и весьма нечасто. Когда клялись, сомневаясь, вспоминали Бога еще чаще и осмотрительно сходили с места, чтобы гром кары небесной не поразил их.
Один из полководцев, желая узнать больше о казаках, с осторожностью спрашивал: «Имеют ли казаки что-либо общего с немецкими наемниками, или похожи на турецких янычар?» На это ему ответили, что казаки отличаются от всех, так как нет у них ничего от немецкой упорной машины военной, ни от янычарской жестокости – это и войны, и хлеборобы, и рыбаки, любящие земные радости, веселые и певучие, хорошие ораторы и заводилы, впечатлительные, но и добродушные. Любят форму, но пренебрегают деньгами, идеалисты в отношении рода людского, но привередливые в отношении товарищества. Более же всего казаки не любят осторожничанья в жизни своей, в особенности же в военных поступках, каждый старается быть впереди всех, потому их с полным правом можно называть войском героев, и тут у них нет никакой разницы, все одинаковы – от атамана до рядового казака.
Казачьему полку была дана задача найти врага. Отступая, русские войска наносили немцам и австрийцам такие удары, что они местами отстали на целый переход, местами даже сами отступали. Теперь фронт был выровнен, отступление кончилось, надо было, говоря технически, войти в связь с противником.
Казачья полусотня под командованием Никиты Казея, как один из цепи разъездов, весело поскакала по размытой весенней дороге под блестящим, словно только что вымытым весенним солнцем.
Три недели они не слышали свиста пуль, музыки, к которой привыкаешь, как к вину, – кони отъелись, отдохнули, и так радостно было снова пытать судьбу между красных сосен и невысоких холмов.
Справа и слева уже слышались выстрелы: это наши соседние разъезды натыкались на немецкие заставы. Перед терцами пока все было спокойно: порхали птицы, в деревне лаяли собаки. Однако продвигаться вперед было опасно. У них оставались открытыми оба фланга. Разъезд остановился, и Никита со взводом казаков решил осмотреть чернеющий справа лесок. Они рассыпались лавой и шагом въехали в лес. Заряженные винтовки лежали поперек седел, шашки были на вершок выдвинуты из ножен, напряженный взгляд каждую минуту принимал за притаившихся людей большие коряги и пни, ветер в сучьях шумел совсем как человеческий разговор, и к тому же на немецком языке.
Они проехали один овраг, другой – никого. Вдруг на самой опушке, уже за пределами назначенного им района, они заметили домик, – не то очень бедный хутор, не то сторожку лесника.
– Если немцы где-то поблизости, они засели там, – показывая рукой, громко сказал Казей.
У него быстро появился план карьером обогнуть дом и в случае опасности уйти опять в лес.
Он расставил людей на опушке, велев поддержать его огнем. Его возбуждение передалось и лошади. Едва он тронул ее ногами, как она помчалась, расстилаясь по земле и в то же время чутко слушаясь каждого движения поводьев.
Первое, что заметил Казей, заскакав за домик, были три немца, сидевшие на земле в самых непринужденных позах; потом несколько оседланных лошадей, потом еще одного немца, застывшего верхом на заборе, который заметил его. Он выстрелил на удачу и поскакал дальше. Казаки, едва он к ним присоединился, тоже дали залп. Но в ответ по ним раздался другой, более внушительный, винтовок в двадцать-тридцать по крайней мере. Пули засвистели над головой, защелкали о стволы деревьев. Казаки дали ответный залп и поспешили уйти из леса. Когда они поднялись на холм уже за лесом, то увидели немцев, поодиночке скачущих в противоположную сторону. Выходило, они выбили казаков из леса, а казаки выбили их из засады. Они были квиты.
В два дня казачьи разъезды настолько разведали положение дел на фронте, что пехота могла начать наступление.
Казаки были у нее на фланге и поочередно занимали сторожевое охранение. Погода сильно испортилась. Дул сильный ветер и стояли морозы. Особенно было плохо в ту ночь, когда очередь дошла до терских казаков. Расставив посты, Никита, посиневший от холода, прибыл на главную заставу. В просторном доме с плотно завешенными окнами и растопленной печью было светло, тепло и уютно. Но едва он получил кружку чая и принялся сладостно греть об нее свои пальцы, есаул сказал:
– Казей, кажется, между вторым и третьим постом слишком большое расстояние. Поезжай, посмотри, так ли это, и, если понадобится, выстави промежуточный пост.
Он быстро допил чай и вышел. Взяв с собой проводника, уже бывавшего на постах, он выехал со двора. Казалось, что они окунулись в ледяные чернила, так было темно и холодно. Ехали ощупью. В поле было чуть-чуть светлее. По дороге проводник сообщил ему, что еще днем какой-то немецкий разъезд проскочил сквозь линию сторожевого охранения и теперь путается поблизости, стараясь прорваться назад. Только он кончил свой рассказ, как перед ними в темноте послышался стук копыт, и обрисовалась фигура всадника.
– Кто идет? – крикнул Никита и прибавил рыси. Незнакомец молча повернул коня и помчался от них. Они – за ним, предвкушая удовольствие привести пленного. Гнаться легче, чем убегать. Не задумываясь о дороге, скачешь по следам. Они уже почти настигли беглеца, когда он вдруг сдержал лошадь, и они увидели на нем вместо каски обыкновенную фуражку. Это был наш улан, проезжавший от поста к посту, и он, так же как и казаки его, принял их за немцев.
Посетив пост, где десяток полузамерзших казаков на вершине поросшего лесом холма несли службу, Казей выставил промежуточный пост в лощине и снова вернулся в дом. Там было так же тепло и уютно. Когда Никита опять принялся за чай, ему подумалось, что это – счастливейший миг в его жизни. Но, увы, он длился недолго. Три раза в эту проклятую ночь он должен был объезжать посты, вдобавок его обстреляли, – заблудившийся ли немецкий разъезд или так, пешие разведчики, он не знал. И каждый раз так не хотелось выходить из теплого дома от чая и разговоров на холод, в темноту под выстрелы.
Ночь была беспокойная. У казаков убили человека и двух лошадей. Поэтому все вздохнули свободнее, когда рассвело и можно было отвести посты назад.
Всей заставой во главе с есаулом казаки поехали навстречу возвращающимся постам. Никита уже почти съехался с последним из них, и ехавший навстречу Зазуля открыл рот, чтобы что-то сказать, когда из леса раздался залп, потом отдельные выстрелы, застучал пулемет, и все это по ним. Казаки бросились за бугор. Раздалась команда:
– Спешиться!
И казаки залегли по гребню, зорко наблюдая за опушкой леса. Вот за кустами мелькнула кучка людей в синевато-серых шинелях. Казаки дали залп. Несколько человек упало. Опять затрещал пулемет, загремели выстрелы, и германцы поползли на наших. Сторожевое охранение развертывалось в целый бой. То там, то сям из леса выдвигалась согнутая фигура в каске, быстро скользила между кочками до первого прикрытия и оттуда, поджидая товарищей, открывала огонь. Кажется, целая рота продвинулась к казакам шагов на триста. Казакам грозила атака, и они решили пойти в контратаку в конном строю. Но в это время галопом примчались из резерва еще две сотни и, спешившись, вступили в бой.
Немцы были отброшены обратно в лес. Во фланг им поставили пулемет, и он, наверное, наделал им много беды. Но они тоже усиливались. Их стрельба увеличивалась, как разгорающийся огонь. Казаки пошли было в наступление, но их вернули.
В бой вступила наша артиллерия. Торопливо рявкнули орудия, шрапнель с визгом и ревом неслась над головами казаков и разрывалась в лесу. Хорошо стреляют русские артиллеристы. Через полчаса, когда казаки снова пошли в наступление, они нашли десятки убитых и раненных, кучу брошенных винтовок и один совсем новый пулемет.
2
Весь март месяц прошел в непрерывных боях на левом фланге русской 3-й армии и на всем фронте 8-й армии. Здесь, на кратчайшем направлении из Венгрии к Перемышлю, с целью его деблокады настойчиво наступали австро-германцы, неся ежедневно крупные потери.
Но 22 марта после шестимесячной блокады Перемышль пал. За три дня до сдачи гарнизоном его была предпринята решительная вылазка, войска были снабжены довольствием на несколько дней, что свидетельствовало о намерении их пробиться к своим. Вылазка была отражена блокадными войсками русской 11-й армии. Всего сдалось 9 генералов, 2500 офицеров и 120 тысяч солдат, взято свыше 900 орудий.
Падение Перемышля освободило 11-ю армию для участия в походе через Карпаты. Но ее корпуса были поделены между 3-й и 8-й армиями. Иванов отдал директиву, согласно которой обе названные армии, прорвав центр австро-германцев на фронте Уйгель – Чап, должны были выйти на Сатмар – Немети – Хуст, т. е. во фланг и тыл войскам, действовавшим против 9-й русской армии.
Австрийцы, разгадав замысел русских, обратились за поддержкой к Германии, и в конце марта был сформирован германский Бескидский корпус генерала Марвица в составе трех дивизий. Он был направлен к Мезо – Лаборгу. После длительных боев на главном Бескидском хребте к середине апреля корпусам 8-й и 3-й русских армий удалось овладеть главным гребнем этого хребта, но до выхода в Венгерскую равнину было еще далеко.
Кое-где пехота отбивала противника, вообразившего, что он наступает по собственной инициативе, кавалерия занималась усиленной разведкой.
Казачьему разъезду было поручено наблюдать за одним из таких боев и об его развитии и случайностях докладывать в штаб.
В один из дней хорунжего Казея с сопровождающим послали с донесением в штаб дивизии. Дорога лежала через местечко Мезо, но к нему уже подходили германцы. Никита все-таки сунулся: вдруг удастся проскочить, но ехавшие навстречу ему офицеры предупредили:
– Куда? Не проедете, – сказали они, – вон уже где палят.
За стеной крайнего дома стояли десять спешенных казаков. Они тоже предупредили:
– Не проехать вам, братцы!
И только хорунжий двинулся, защелкали выстрелы, запрыгали пули. По главной улице навстречу им двигались толпы германцев, в переулках слышался шум других. Казей поворотил, а за ним, сделав несколько залпов, последовали и казаки.
На дороге артиллерийский полковник, уже останавливавший Казея, спросил:
– Ну что, не проехали?
– Никак нет, там уже неприятель, – ответил Никита.
– Вы его сами видели?
– Так точно, сам.
Полковник повернулся к своим ординарцам и приказал:
– Пальба из всех орудий по местечку. Огонь!
И тотчас заговорила наша батарея.
Однако хорунжему Казею все-таки надо было пробраться в штаб. Разглядывая старую карту этой местности, случайно оказавшуюся у него, советуясь с товарищем, расспрашивая местных жителей, он кружным путем через леса и топи приближался к назначенной ему деревне. Двигаться приходилось по фронту наступающего противника, так что не было ничего удивительного в том, что при выезде из какой-то деревушки, где они, не слезая с седел, напились молока, им под прямым углом перерезал путь неприятельский разъезд. Он, очевидно, принял их за дозорных, потому что вместо того, чтобы атаковать их в конном строю, начал спешиваться для стрельбы. Их было десять человек, и казаки, свернув за дома, стали уходить. А те, поняв, что казаков всего двое, стали их преследовать.
В это время сбоку послышались выстрелы, и на Никиту карьером вылетели три казака – двое молодых, скуластых парней и один бородач. «Да это же наши соседи, станичники – котляревцы» – промелькнуло в голове у Казея, который узнал бородача.
– Певнев, ты? – выкрикнул он.
– Я, Никита Петрович, я! Узнал, чертяка?
Они столкнулись и придержали коней.
– Что там у вас? – спросил Никита у бородача.
– Пешие разведчики, с полсотни. А у вас?
– Десять конных.
Бородач посмотрел на Никиту, он – на него, и они поняли друг друга.
Несколько секунд помолчали.
– Ну, поедем, что ли! – запальчиво произнес бородач, а у самого так и зажглись глаза.
Скуластые парни, глядевшие на него с тревогой, довольно тряхнули головой и стали заворачивать коней. Едва они поднялись на только что оставленный холм, как увидели немцев, спускавшихся с противоположного холма.
Слух Казея обжег не то визг, не то свист, одновременно напоминающий моторный гудок и шипение большой змеи. Перед ним мелькнули спины рванувшихся казаков, и он сам, бросив поводья, бешено заработал ногами, только высшим напряжением воли вспомнив, что надо обнажить шашку. Должно быть, у них был очень решительный вид, потому что немцы без всякого колебания пустились наутек.
Гнали они отчаянно, и расстояние между ними и казаками почти не изменялось. Тогда бородатый казак вложил в ножны шашку, поднял винтовку, выстрелил, промахнулся, выстрелил опять, и один из немцев поднял обе руки, закачался и, как подброшенный, вылетел из седла.
Через минуту казаки уже неслись мимо него. Немцы свернули круто влево, и навстречу казакам посыпались пули. Это они наскочили на неприятельскую цепь. Однако казаки повернули не раньше, чем поймали беспорядочно носившуюся лошадь убитого немца.
– Каськову пригодится, – говорили котляревцы, – у него вчера убили доброго коня.
Никита поддернул уздечку, придавил сапогами коня, и тот, прижав уши к голове, пошел наметом по раскисшей от дождей дороге. Никита, жалея коня, перевел его на шаг. Поднялся на стременах, еще раз осмотрел окрестность.
А потом он сидел в расположении котляревской сотни и вел беседу с земляками.
– Устал? – спросил его Певнев.
– И устал, и промок. Как выехал из штаба пошел дождь, и так всю дорогу за мной шел.
Выпили по рюмке, и он продолжил:
– Грязь везде. Вторые сутки бурку не снимаю.
– Надо же и в трудных делах побывать, не всегда же в тепле и сытости, – наверное, в шутку сказал котляревец, с интересом поглядывая на новые офицерские погоны Казея.
– Да уж, нам в дивизии расслабляться не дают, не знаю, как у вас?
– У нас тоже обстановка тяжелая. Не жалеют нашего брата, – отвечал уже серьезно Певнев.
– Да, немец огрызается серьезно, как бы не перешел в наступление, – заметил Казей.
– А у нас тут недалеко кабардинцы воюют, – вдруг вспомнил Певнев.
– Точно?
– Точно! В соседней дивизии. Их полк, оказывается, вместе с нами прибыл сюда.
– А я и не знал, – с удивлением ответил Никита.
– Кабардинцы – народ лихой. Настоящие джигиты. Отчаяные, черти, – как и мы, казаки.
На всем скаку одним выстрелом подкову с лошадиного копыта могут сбить, – восторженно рассказывал станичник Казею. – Нас они тоже уважают.
– Я их знаю, – просто ответил Казей.
– Ну, тогда давай еще выпьем, для сугрева, – предложил Певнев и продолжил рассказывать:
– На днях тут жаркие были бои. Ждем мы со станичниками, когда немцы в наступление пойдут. Перед этим они два раза в атаку ходили, но мы сдюжили и отогнали их. И тут слышим: «Алла! Алла!» – кричат кабардинцы и бегут, без всякого понятия и воинского порядка. Одно у них хорошо: ни раненных, ни убитых своих они на поле боя не оставляют. Мало что басурманы, а не видел я, чтобы хоть одного бросили. Однако – глупы. Если передних расстреляют, они все равно лезут. Под пулями так и валятся, как колосья под серпом, а лезут.
– Так вы эту атаку отбили? – переспросил Никита у Певнева.
– Да, да! Слушай. Наутро, стало быть, они снова с силами собрались и поперли. Никогда не забуду, – он облизнул сухие губы и подергал ус, – живого места на поле боя не было, повсюду немцы, куда ни глянь – трупы.
Пока они разговаривали, одежда Никиты немного просохла, и надо было прощаться.
Расстались они за бугром, дружески пожав друг другу руки.
– Дай нам Бог здоровья, и мы встретимся. Вспомним еще не раз наш Терек, станицы, – горячо сказал Казей.
– Ладно, Петрович, мы ведь с тобой друзья навсегда, как полагается у нас, кавказцев, – кунаки?
– Конечно, да!
– Какой же ты, однако, молодец, Петрович. Рассуждения твои, твое жизнелюбие просто возродили меня. Я очень рад, дорогой друг.
– Спасибо тебе, твоим казакам! – сказал напоследок Никита, и они разъехались.
Штаб дивизии Никита с сопровождающим нашел только через несколько часов, и не в деревне, как они предполагали, а посреди лесной поляны, на низких пнях и сваленных стволах деревьев. Штаб туда отошел, оказывается, уже под огнем противника.
Громадные потери и утомление русских войск, которым приходилось, кроме боев с искусным противником, преодолевать непривычные для них свойства горного Карпатского театра боевых действий в зимнее время, при туманах и морозах на вершинах и распутице в долинах, задерживали наступление. К этим невзгодам нужно добавить все более возраставший недостаток артиллерийских припасов. При войсках оставалось на орудие не свыше 200 выстрелов, и улучшения в снабжении можно было ожидать не раннее поздней осени 1915 года. С таким ничтожным количеством боеприпасов бесполезно было вести операцию для выхода в Венгерскую равнину. По признанию Брусилова, он стал ввиду такого положения добиваться дальнейших успехов, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на занятых местах с возможно меньшими потерями.
Однако теперь Ставка уже сама торопила Иванова с продолжением «незаконченной операции», чтобы скорее выйти в Венгрию, так как положение русских войск 3-й и 8-й армий, глубоко втянувшихся в Карпаты, становилось рискованным. 6 апреля Иванов отдал директиву армиям, в которой указывалось: «Идея нашей операции в настоящее время состоит в том, чтобы, удерживаясь на наших флангах, выйти остальными войсками на линию Зборо – Варанно – Чап – Хальми и этим заставить противника очистить Заднестровье, ибо с выходом к Хусту прерывается лучшее железнодорожное сообщение Заднестровья с внутренними областями Австро-Венгрии».
Через несколько дней, когда русское наступление в Карпатах наткнулось на упорное сопротивление и германцы даже стали сами теснить 22 корпус армии Брусилова на направлении Мункач – Стрый, Иванов приказал 3-й и 8-й армии перейти к обороне.
К середине апреля стало очевидным, что Карпатская операция захлебнулась и что задача вторжения в Венгрию должна быть признана неосуществившейся. Операция, по оценке военных, оказалась мертворожденной. Она ослабила весь русский фронт и не привела к какому-либо оперативному успеху Самый генезис операции был уродлив. Он возник в штабе фронта, был навязан верховному командованию, которое не находило нужным обеспечить всеми средствами выполнения задуманную Ивановым операцию. В процессе ее развития не раз менялось направление главного удара, уже после начала маневра производилась перегруппировка сил, австро-германцам представлялась возможность легко парировать удар.
Глава V
1
С самого начала войны обе коалиции развернули интенсивную дипломатическую борьбу за привлечение на свою сторону новых союзников.
Особое внимание уделялось странам имевшим важное стратегическое значение – Турции, Италии и балканским государствам (Болгарии, Румынии, Греции).
Особенно важно обеим коалициям было привлечь на свою сторону Турцию, за влияние на которую великие державы боролись еще задолго до 1-й мировой войны.
В борьбе за Турцию победу одержала германская дипломатия. 21 июля (3 августа) Турция объявила о своем нейтралитете, готовясь выступить на стороне Германии, чтобы осуществить свои давнишние захватнические планы на Кавказе. Турецкие вооруженные силы насчитывали в то время свыше 500 тысяч человек в составе 14 корпусов, сведенных в шесть армий.
1-я, 2-я, 5-я – в районе Константинополя.
3-я – в Турецкой Армении.
4-я – в Сирии и Палестине.
6-я – в Ираке.
Небольшие силы прикрывали побережье Красного моря.
Номинально верховным главнокомандующим считался Мухамед V, фактически же им был военный министр Энвер-паша. Начальником штаба турецкой армии был германский генерал Бронзарт фон Шелендорф.
Русская Кавказская армия насчитывала тогда свыше 170 тысяч человек при 350 орудиях.
В целом в начале войны наши силы были почти равны, но турки имели сильный резерв, которого у русских не было.
Правительство Турции с первых дней мировой войны не только заняло нейтральную позицию, но через русского посла Тирса предлагало даже союз с Россией. Однако Петербургу Турция нужна была вовсе не в роли союзницы, хотя бы самой смирной и послушной. Там вообще нужна была не Турция, а Константинополь, а лучшим предлогом его занять была бы война с Турцией. С другой стороны, русско-турецкий союз отдавал бы в английские руки Богдадскую железную дорогу, стратегический подступ к Египту и Индии, чего Германия не могла допустить ни в коем случае.
Для Германии Турция представляла собой страну экономических и стратегических возможностей, давая, с одной стороны, надежду в будущем, после разгрома Сербии, воспользоваться ее сырьем, с другой стороны – открывая возможность организовать удары на Суэц, Египет и далее в северную Африку, что поставило бы в одинаково затруднительное положение англичан и французов. Англичане в этом случае могли быть лишены кратчайших путей на восток, а французы – африканского контингента для укомплектования своих колониальных войск, не говоря уже о том, что обоим союзникам пришлось бы отвлечь сюда значительные силы с западно-европейского театра войны. Общность сухопутной русско-турецкой границы на Кавказе давала возможность приковать сюда часть сил России за счет ее австро-венгерского фронта, в чем были весьма заинтересованы центральные державы.
При таких условиях, когда выступление Турции на стороне центральных держав оказалось желательным и для русского правительства, и для германского командования, 10 августа в турецких водах появляются германские крейсеры «Гобен» и «Бреслау».
Столь своевременное появление в Константинополе этих германских военных кораблей, прорвавшихся в Дарданеллы благодаря нерадивости французского и английского командования на Средиземном море, объявивших блокаду проливов только после прихода туда крейсеров, казалось тем удобнейшим предлогом для войны с Турцией, за который ухватился русский министр иностранных дел Сазонов и который в то же время в борьбе партий в турецком правительстве за союз с Россией или за союз с Германией чашу весов перетянул в сторону Германии.
Уверенность в выступлениях Турции на стороне Германии становилась все очевиднее. Ясно было, что Турция воспользуется прибытием двух крейсеров для усиления своего – против русского устаревшего – черноморского флота.
Между тем интересы Англии и Франции были прямо противоположны интересам России, не говоря уже о том, чтобы отдать эти проливы безоговорочно. Россия совершенно не входила в их программу.
Все эти и другие соображения диктовали Турции линию внешней политики, состоящую в выжидательном образе действий, не упуская возможности усилиться в военном отношении.
Неудачный для французов исход пограничного сражения и победоносное наступление германцев вселяло в турецкое правительство веру в окончательный успех в войне Германии, и Турция почти открыто перешла на сторону Срединных держав и назначила немецких адмиралов командующими: одного – турецким флотом, а другого – комендантом дарданельских укреплений.
Англичане были вынуждены отозвать своего адмирала Люмпуса, который до этого времени вел инструктаж в турецком флоте.
В середине октября в выступлении Турции уже не было сомнения, так как стало известно, что турецкое правительство подписало протокол, коим обязывалось к немедленному вооруженному выступлению, как только оно получит в счет обещанного пособия от Германии два миллионов фунтов золотом. В ночь на 29 октября два турецких миноносца вошли в одесскую гавань и потопили русскую подлодку. «Гебен» бомбардировал Севастополь, а крейсер «Бреслау» с еще одним крейсером обстреляли Новороссийск, Феодосию, заминировали Керченский пролив и потопили несколько судов.
Не посоветовавшись со своими союзниками, Россия объявила войну Турции. Русский посол покинул Константинополь, а англичане и французы еще надеялись сохранить нейтралитет Турции, но вынуждены были посчитаться с уже свершившимся фактом. 1 ноября английский и французский послы также покинули Константинополь.
3 ноября последовала первая, как ее называют англичане, демонстративная бомбардировка фортов Дарданельских проливов, показавшая туркам всю слабую сторону их защиты.
С этого времени они решительно приступили к укреплению проливов под руководством германских инструкторов, используя всю наличную пригодную для этой цели материальную часть.
12 ноября Турция объявила войну Англии, Франции и России. Таким образом, через 3 месяца после начала войны Турция стала также одним из театров военных действий с ее многочисленными фронтами: Кавказским, Персидским, Палестинским, Сирийским и Галлополийским.
Антанта немедленно реагировала на выступление Турции переходом русскими войсками турецкой границы на Кавказе, бомбардированием Дарданельских фортов, занятием английскими войсками в Персидском заливе Басры и других мест, а позднее, 17 декабря, объявила Турции войну.
2
Первоначальной задачей русской Кавказской армии было поставлено следующее: Сарыкамышскому и Ольтинскому отрядам (главная группа) – наступать на Эрзерум. Эриванскому отряду, пройдя малодоступный с неразработанными перевалами пограничный хребет Агрыдаг, овладеть Баязетом, Алашкертом и Каракилисой. Остальным отрядам прикрывать границу.
В станицах Терского казачьего войска был объявлен очередной призыв казаков на Турецкий фронт.
В станице Пришибской по обычаю казаки собрались на площадь перед церковью. Старые – в полной форме, с шашками на боку, держат себя степенно, беседуют тихо, обдумывая каждое слово. Среди молодых – шум, перебранка, толкотня.
Но вот все стихло, и все чинно встали в круг: вынесли казачьи регалии. Атаман со священником – посередине круга. Читается молитва: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; Да придет царствие Твое; Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли; Хлеб наш насущный даждь нам днесь; И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого!» После чего командовавший помощник кланяется атаману и священнику, а затем всем присутствующим. Атаман объявляет:
– Братцы казаки! Царь-батюшка призывает оказать ему услугу, помочь расправиться с турками, которые на наших границах промышляют и творят там великие бедствия. – После чего, выждав немного, атаман спросил:
– Любо ли нам это, братья – казаки?
На что в ответ прогремело: «Любо, любо!» Казаки вокруг были в своей обычной одежде, в черкесках при холодном оружии. Везде в рядах виднелись их оживленные загорелые лица. И глядя на них, трудно было себе представить, что эти люди скоро пойдут в бой, откуда многим из них не суждено вернуться, скорее можно было предположить, что они собираются на веселую прогулку.
Ровно в шесть утра, когда только заалела на востоке заря, все были наготове.
Сотник, проехав перед строем, снял папаху, перекрестился и махнув рукой, негромко сказал: – С Богом!
И тотчас четкая дробь десятков лошадей разорвал, а эту утреннюю тишину.
Дорога за станицей пошла по открытому полю, и вдали показалась станица Котляревская, где уже ожидала очередная присяга этой станицы. Потом будут станицы Александровская, Архонская, и к вечеру казаки должны быть во Владикавказе.
Сунженско-Владикавказский полк отправлялся на Турецкий фронт.
Военные операции на Кавказском фронте начались тотчас же по объявлении турками войны. Войска Сарыкамыш-отряда перешли в энергичное наступление и уже к 6 ноября овладели Кара-Дербентским горным переходом, служащим для связи между эрзерумским и алашкертским направлениями и кеприкейской позицией, находившейся почти на одинаковом расстоянии между русско-турецкой границей и Эрзерумом и лежащей в узле путей перед последним.
Ольтинский отряд, обеспечивающий правый фланг сарыкамышского и прикрывающий путь к Карсу в обход Сарыкамыша, продвинулся до Ида, отбросив наступавшую здесь турецкую дивизию.
Ежеминутно сотня казаков-терцев, шедшая в авангарде, рисковала быть открытой, и гибель ее тогда была неизбежна. Но осторожность сыграла свое дело. Алексей Чумак, с виду спокойный, ехал в голове колонны, чутко прислушиваясь ко всякому шуму и держа постоянно связь с высланными вперед дозорами.
Но вот, только отряд обогнул одну из гор, навстречу странные заунывные звуки песни. Старые казаки догадались, что это поют предсмертную песню турки, поклявшиеся на Коране или победить, или лечь всем в бою. Мороз пробирал по коже от этой зловещей музыки. Между тем солнце брызнуло из-за туманных гор и своими лучами осветило местность, где предстояло вести этот беспощадный бой.
Командир подал знак. Сотня остановилась. Вот уже видны вдали гарцующие всадники, которые размахивали кривыми шашками, что-то выкрикивали в их сторону.
Казаки, затаив дыхание, жадно всматривались в своих врагов, как всматривается страстный охотник в беспечно приближающегося опасного зверя, с которым через несколько минут он вступит в смертный бой.
Турки приближались все ближе и ближе. Их кони, чуя бой, горячились и ржали. Но вот кто-то на белом коне что-то пронзительно крикнул, сделав в воздухе крутой полукруг шашкой, пустил свою лошадь.
И разом громадная лавина с диким гиком ринулась на казаков.
Сотник махнул рукой, и разом грянула сотня ружейных выстрелов. Далекое, многократное эхо раздалось в ближайших горах. Строй неприятеля поредел. Алексей Чумак со своими товарищами ворвался в их толпу.
Кровавым потоком и трупами обозначился их прорыв. Они произвели ощутимое опустошение в толпе наседавших турок, но противник не собирался сдаваться.
Начался бой. Смешанный гул носился вокруг от яростных человеческих голосов, конского топота и лязга холодного оружия, и редко уже слышались выстрелы.
В это же время батальон пехоты в стройном порядке с барабанным боем вступил в битву.
Заблестели штыки, мгновенно обагрившиеся кровью противника. Солдаты и казаки, забрызганные кровью, упорно продвигались вперед. Фронт турок расстроился, и бой происходил в тесных кучках.
Алексей все время был впереди. Он прекрасно сознавал опасность положения, но хладнокровие и сознательная решимость ни на одну минуту не покидали его. Он всегда вовремя являлся на выручку тем из товарищей, которые попадали в особенно критическое положение, и тем многих спас от преждевременной смерти.
С обеих сторон валились трупы убитых, легко же раненные казаки или оставшиеся без лошадей не выходили из строя, а дрались наравне с прочими и добывали себе лошадей из-под убитого противника.
Только в полдень окончился бой. Передовые отряды турок полегли, а другие, смятые, бросились убегать.
Началась кровавая погоня. Казаки поодиночке и группами преследовали турок.
На эриванском направлении русские войска двумя колоннами форсировали хребет Агрыдаг и постепенно овладели Баязетом, Диадином, Алашкертом и Карикалисой, причем конница выдвинулась до Дутака, важного узла путей в долине р. Ефрата (Мурад-Чая). Таким образом, Эриванский отряд прикрыл левый фланг и тыл Сарыкамышского отряда, а также приграничный район от вторжения курдов. В то же время небольшие русские отряды, двинутые из персидского Азербайджана, сбили турок в районе турецкоперсидской границы.
Выдвинутое положение главных русских сил угрожало не готовому еще к обороне Эрзеруму, почему и вызвало со стороны турок принятие самых энергичных мер по сбору резервов, чтобы отбросить русских назад. В результате жестоких боев Сарыкамышский отряд, выдвинувшийся так далеко вперед без достаточной подготовки и к тому же начавший уже страдать от недостатка снабжения, отступил 13 ноября на линию Алакилиса– Ардос – Хоросан, обнаружив против себя сосредоточение превосходящих сил турок, что вызвало и с русской стороны усиление войск на сарыкамышском направлении и преждевременное израсходование последнего армейского резерва.
В это же время операции турок на приморском направлении, носившие вначале характер приграничных стычек, вскоре приняли угрожающее положение. Турки, подтянув к Хопе достаточные силы, 16 ноября вторглись в пределы Закавказья и, получив поддержку со стороны восставших аджарцев, напавших с тыла и флангов на немногочисленные русские войска, заняли Артзин, Борчху и почти вплотную подошли к р. Чороху, овладев, таким образом, всем прибрежным районом составлявшим плацдарм крепости Батум.
Такая непосредственная угроза Батуму вынудила русское командование принять энергичные меры, и до конца ноября усилившийся и реорганизованный Приморский отряд начал, при содействии миноносцев, вытеснять постепенно турок с указанного плацдарма.
3
К декабрю наступило затишье в военных действиях на главном направлении, и русская Кавказская армия заняла широкий фронт от Черного моря до Урмийского озера, протяженностью свыше 350 км по прямой линии, причем только крайний правый фланг находился на русской территории, далее же линия фронта проходила по турецкой. Кроме того, небольшие отряды находились в персидском Азербайджане, а также прикрывали русско-персидскую границу.
Главные силы армии (сарыкамышский отряд) в составе 1-го Кавказского и 2-го Туркестанского корпусов с приданными частями, всего около 57 батальонов, 132 орудия и 37 сотен, занимал, линию Маслагат – Хоросан – Делибаба, имея у Иды, для обеспечения своего правового фланга, Ольтинский отряд в составе бригады пехоты с артиллерией и 6 сотен.
В это время в Эрзерум прибыл Энвер-паша, воспитанник германской военной академии, и решил устроить у Сарыкамыша Шлиффенские Канны, повторив на Кавказе Танненбергский разгром. Этому решению очень содействовало выдвинутое вперед положение почти 2/3 русских сил между Сарыкамышем и Кеприкеем, наличие путей в обход правого фланга этой группы, выводящих к железной дороге Сарыкамыш – Карс, отсутствие у русских армейского резерва, занятие южной Аджарии с г. Артвином турками и переход на их сторону некоторой части мусульман-аджарцев.
Энвер-паша решил:
1) 11-м корпусом повести демонстративное наступление на сарыкамышскую группу русских на фронте с тем, чтобы при атаке его русскими уклониться на юг и увлечь за собой их главные силы.
2) Выдвинутыми из резерва 9-м и 10-м корпусами, сбив ольтинский отряд, глубоко обойти правый фланг русских, 9-м корпусом занять Сарыкамыш, а 10-м корпусом – перехватить к северу от него железную дорогу на Карс.
3) Переброшенными в Аджерию частями 1-го Константинопольского корпуса обеспечить всю операцию слева, для чего необходимо было занять Ардаган.
При выполнении этого плана единственная дорога главных русских сил отрезывалась вышедшими в тыл двумя корпусами, что вынуждало их спешно пробиваться в бездорожном районе на Кагызман, и подвергалась участи 2-й русской армии Самсонова. Разгром сарыкамышской группы вынуждал и эриванскую группу спешно уходить через снежные и еще недостаточно разработанные перевалы Агрыдага, и на всем Кавказе от русской армии остались бы только слабые отряды и немногочисленные гарнизоны Карса и других пунктов. Весь маневр турок был основан на быстроте и скрытности обхода и энергичных демонстративных действиях 11-го корпуса. 9-й и 10-й корпуса были двинуты без продовольственных обозов, в расчете на мусульманское население края, которое должно было доставлять им продовольствие.
Операция началась 21 декабря стремительным ударом по Ольтинскому отряду, 23 декабря Ольты были заняты передовыми частями обходящей колонны. В этот же день была легко отбита атака 11-го турецкого корпуса.
23 декабря в штаб Сарыкамышского отряда из Тифлиса прибыли помощник Главнокомандующего, а фактически Главнокомандующий Кавказским фронтом генерал Мышлаевский и начальник штаба фронта генерал Юденич. Генерал Мышлаевский должен был организовать оборону Сарыкамыша, но в момент наивысшего кризиса операции, не веря в успех ее, он вернулся в Тифлис для формирования новой армии. Генерал Юденич вступил во временное командование 2-м Туркестанским корпусом, и так как руководство действиями Сарыкамышского отряда взял в свои руки штаб фронта, то бывший начальник штаба отряда генерал Берхман остался командиром 1-го Кавказского корпуса.
Между тем положение действительно становилось грозным: обходящие колонны турок быстро продвигались вперед. 25 декабря 9-й корпус подошел к Бардусскому перевалу, X корпус занял Пеняк, а бригада 1-го константинопольского корпуса повела наступление из Аджарии и заняла Ардаган. При таких условиях начать отступление было уже поздно, оно подвергло бы большую и лучшую, состоящую из кадровых войск, часть Кавказской армии полному разгрому среди снежных хребтов Саганлуга. Надо было во что бы то ни стало удержать в своих руках Сарыкамыш. Тотчас были сняты с фронта и двинуты ближайшие к нему части. Но в тот же день, 25 декабря, вечером спустившиеся с Бардусского перевала передовые части 28-й турецкой дивизии атаковали Сарыкамыш. Сформированный в несколько часов из ополченцев, прапорщиков и пограничников сводный отряд, под командованием случайно находившегося на станции подполковника и при случайно оказавшихся в Сарыкамыше 16 пулеметах, отбил атаку турок. Срочно требовалось подкрепление.
Сунженско-Владикавказский полк спешно двигался к Сарыкамышу, не зная еще о сложившемся там положении. Взвод Алексея Чумака, следующий в головном дозоре, бдительно вел разведку, казакам не терпелось поскорее вступить в бой с противником.
Но вот передовой дозор доложил о появлении турецких войск.
Собрали небольшое совещание.
Кульбака и Чередник доложили сотнику, что турки направляются к Сарыкамышу и, похоже, двигаются в ущелье. Командир быстро проработал в голове план дальнейших действий и объявил его всей сотне.
– Туркам не миновать узкой горловины дороги, стиснутой отвесными скалами на входе, – сказал он. – А обоз будет двигаться только по дороге. Тут мы их и встретим.
– Что, готовиться? – спросил урядник.
– Да, приготовить оружие, а кроме того, запаситесь валунами мы их сбросим, чтобы перегородить дорогу противнику.
– Точно, тогда им от нас не уйти, – раздалось в строю.
И казаки, спешившись, поднялись на скалу, залегли в валунах, нависших над узким проездом. Тепло покидало их тела, и они закутались в бурки.
В безжизненном небе, ледяной бестелесный свет. На кусте шиповника сиротливо краснеет одинокая ягода, сморщенная от мороза. На руках и лицах казаков – ссадины, синяки, царапины: следы карабканья по скалам.
– Ох и достанется басурманам, – раздавалось среди залегших казаков.
Сами невидимые, они уже отчетливо слышали далекий, особенный приступ военных фур.
Чумак вставил в гранату запал, остальные приготовили винтовки, пулемет. Они любуются суровой красотой гор, скалами, где находились пернатые хищники, огненным комом лисы, пробежавшей по снегу из расщелины.
Раздалась команда: – «Приготовиться к бою!»
«Посадили» на мушку всадников, Чумак повертел в руках «лимонку». Позеленевшие в лишаях валуны уже сдвинуты с места, осталось чуть толкнуть.
Все напряжены.
Вот турецкий отряд достиг намеченной черты. Командир молчит.
– Пора! – напомнил Чумак.
– Сейчас, успеем, – шепотом сказал сотник и, набрав воздуха, во весь голос подал команду:
– Огонь!
Ударил залп, полетели вниз камни. Казаки, оцепившие скалу, резво сбежали вниз и, ведя огонь, побежали к фурам.
В одну из них нацелился Чередник, но Кульбака прокричал:
– Не трожь, там, видно, важная птица.
И точно, из крытой повозки показался турок в золоченом мундире. Он поднял руки и прокричал: «Аман! – пощади!».
Кульбака и Чередник, взяв на изготовку винтовки, повели его к сотнику.
– Молодцы! – похвалил их сотник и, допросив через переводчика пленного, сообщил: – Это Кули-паша движется на Сарыкамыш.
Пленный же и сообщил, что передовые отряды турок, спустившиеся с Бардусского перевала, уже атаковали Сарыкамыш.
Выставив охранение и отослав двух казаков с донесением в полк, командир отдал команду:
– Привал!
Вмиг кашевары принялись за приготовление пищи. Соорудили коновязи, и через полчаса бивак готов. Казаки сидят вокруг костров, жуют и толкуют.
У одного из костров раздается песня:
Славный, пышный, быстрый Терек, Мой товарищ, друг лесов, Скоро выйду на твой берег, Обращу печальный зов. Я служил царю душою, Родной Терек защищал, Был всегда готовым к бою, Умереть в бою желал…Небо безмерно. Морозец, ветер и эта безмерность – как страшны они одинокому сердцу. В желтых волчьих кустах, в пугающем сером небе, в молчанье гор столько равнодушной силы!
А человек мал, стучит его малое сердце, оплетенное паутиной тоски, и выручает песня. Вот у другого костра раздается:
Любим шумное веселье Вокруг чаши круговой! Чаша – верный друг последний В жизни тягостной земной.И казаки, забыв пройденный сегодня путь, только что закончившийся бой, подхватывают:
Пей, друзья, покамест пьется, Горе жизни забывай! На Кавказе так ведется: Пей – ума не пропивай!А запевала продолжает:
Может, скоро в поле чистом Кто-нибудь, друзья, из нас Среди мертвых, полумертвых Будет ждать свой смертный час. Может, нынче, может, завтра Нас на бурках понесут, А уж водки из бутылок И понюхать не дадут…Солнце давно село. Звезды зажглись кое-где по небу. Зарево встающего полного месяца разливалось по краю неба, и огромный желтый шар удивительно колебался в сероватой мгле.
Вечер кончился, начиналась ночь. И каждый, глядя на небо, про себя думал: «Что день грядущий нам готовит?»
А назавтра, 26 декабря, казачий полк с четырьмя орудиями на рысях подошел к Сарыкамышу, и хотя уже часть города была в руках турок, казакам удалось остановить их дальнейшее продвижение.
В ночь на 27-е и стой, и с другой стороны начали прибывать части, которые по мере их прибытия втягивались в бой. А на фронте оставшиеся части отбивали атаки 11-го турецкого корпуса. Атаки эти были недостаточно энергичны, и это позволяло снимать с фронта и направлять к Сарыкамышу все новые части. 29 декабря Сарыкамышский отряд спокойно отошел на линию Зивин – Башкей и вслед за этим перешел на своем правом фланге в наступление. Все эти дни под Сарыкамышем шли тяжелейшие бои со штыковыми атаками. Объединенные здесь генералом Пржевальским русские войска стремились продвинуться к Бардусскому перевалу.
Таким образом, наступая с четырех сторон, русские стремились окружить турок в районе Сарыкамыша: с фронта Сарыкамышский отряд Юденича продвигался своим правым флангом к селению Бардус, в тылу, у Сарыкамыша, отряд Пржевальского вел атаки на Бардусский перевал с целью также, выйдя к Бардусу, обойти правый фланг 9-го турецкого корпуса. Правее его наступали казаки Баратова, стремясь окружить левый фланг 10-го корпуса, еще далее на Ардаган – Ольты двигался в обход Карский гарнизон и Ольтинский отряд. 31 декабря отряд Пржевальского занял Бардусский перевал, и таким образом путь отступления 9-му и 10-му турецким корпусам был отрезан. В этот день Кавказской армией была одержана победа, которая спасла ее и предопределила дальнейшее течение войны на азиатском театре.
Сарыкамышская операция имела весьма важное значение не только для России, но и для всей Антанты:
1. Положение России на азиатском театре упрочилось, усилилось также влияние Антанты в Персии.
2. Произошло усиление турецких войск, направленных против Кавказской армии, чем облегчились действия англичан в Месопотамии и Сирии.
3. Образовался новый сильный фронт, который при удачном развитии на нем действий мог повлечь не только завоевание обширных малоазиатских владений Турции, но и полное экономическое окружение Центральных держав.
4. Успех русских на Кавказе встревожил англичан. Им теперь уже мерещился захват русскими Константинополя: чтобы предупредить русских, английский Военный совет решает приступить уже 19 февраля к дарданельской операции.
5. В частности для Кавказской армии сары-камышская операция повлекла за собой реорганизацию высшего управления армией и дала оперативные выводы для дальнейшего ведения войны.
С точки зрения военного искусства обращает на себя внимание беспорядочное начало русскими кампании, что поставило их под Саракамышем в критическое положение, и блестящее окончание операции.
Со стороны турок надо отметить ведение основного боя всей операции, в день 25 декабря, только головными частями, то есть нащупывание противника вместо сильного удара, «предвзятость» плана и вялые действия 11-го корпуса, благодаря чему русская армия правильно использовала условия горной войны: обороняясь на фронте слабыми частями, она успела перебросить в тыл значительные силы и наголову разбить защемивших уже ее турок. «Канны» потерпели полное крушение.
Русская Кавказская армия получает задачу прикрывать свою территорию от турецкого вторжения.
В мае было решено перейти в наступление в районе озер Ван и Урмия, чтобы обеспечить усилия русской дипломатии, направленной на сохранение влияния в Иране и Афганистане, поскольку Германия усиленно пыталась побудить эти страны к прямому выступлению против России и Англии.
В ходе Алашкертской операции (1915 год) этот район был очищен от турецких войск. В ноябре 1915 г. в иранском порту Энзели (Пехлеви), на Каспийском море высадился русский экспедиционный корпус генерала Н. Н. Баратова (около 8 тысяч человек при 20 орудиях), направленный в Северо-Западный Иран для ликвидации вооруженных отрядов, созданных германской и турецкой агентурой. 3 (16) декабря корпус занял Хамадан, сорвал попытки немцев и турок закрепить свое влияние в Иране и создал условия для оказания помощи английским войскам в Месопотамии. Здесь еще 22 ноября 1914 г. англичане заняли оставленную турками Басру, 9 декабря захватили Эль-Курну, и к концу 1915 года английские войска под командованием Таунсенда медленно продвигались вверх по рекам Тигр и Ефрат и оказались в 35 км от Багдада, но 22 ноября были разбиты турками, а затем осаждены в Кут-эль-Амаре. Наступавшие из Палестины турецкие войска тщетно пытались овладеть Суэцким каналом.
Глава VI
1
В общем, несмотря на все огрехи, ситуация на фронтах к концу 1914 – началу 1915 года складывалась благоприятно для русской армии. Хотя уже поступали тревожные сигналы, предрекавшие большие беды в будущем. Начался острый кризис с винтовками, а затем возник снарядный голод. Потеря Перемышля и Львова высветила слабую помощь союзников, в чем каялся потом Ллойд-Джордж[4].
Последней операцией в 1915 году и первой, с которой пришлось столкнуться новому командованию, стал так называемый Свенцянский прорыв немецких войск, целью которого было окружение 10-й русской армии в районе Вольны. Но успеха немцам достичь не удалось – русские оставили город и вышли из-под удара, сохранив силы. В обстановке создавшегося положения немецкое командование бросает на Восточный фронт не только сухопутные резервы, но и уже испытанное во Франции оперативное средство – авиацию.
Воздушная война… Сейчас может показаться простым и не очень хитрым делом полет на тихоходном, не очень маневренном аэроплане 1-й мировой войны, особенно в самом ее начале. Да, смешным выглядит сегодня, в век реактивных скоростей, скажем, неуклюжий «Ваузен» со скоростью не более ста километров в час, «фарманы» с шестидесятисильным мотором, «Гномы», «Моран-парасоли», но именно на них выступали в войну авиаторы России и Франции.
Тот же путь проходили и их противники – немецкие авиаторы на своих неповоротливых монопланах «Фоккер Е-1», «Таубе». Затем авиация совершенствовалась. В соревнование вступили немцы, построив самолет-истребитель «Альбатрос» и другие.
Первыми появились на фронте «фоккеры» которые для нанесения «ошеломляющего» удара в воздухе сразу же применяют патрульную тактику, хотя в ней не было необходимости: наша авиация располагала здесь слабыми силами и действовала только одиночными аэропланами.
Одно из первых столкновений с немецкой истребительной авиацией выпало на долю летчиков истребительного отряда Юго-Западного фронта. Один из летчиков, вылетев на очередное задание, вступил в бой сразу с пятью немецкими самолетами. Один против пяти. Два самолета обратились в бегство, а остальные втянулись в бой с нашим самолетом, который после множества атак на врага резко упал на левое крыло и закрутился. На высоте 300 метров он выпрямился и каким-то чудом приземлился.
Бой проходил на глазах у нашей пехоты и приданных ей казаков-терцев. Первыми самолету подбежали казаки. Пилот был ранен в левую руку и в область поясницы.
– Пить, – простонал он.
И когда казаки поднесли к его губам баклажку, он с вымученной улыбкой произнес:
– Спасибо, братцы! Спасибо, казаки! Я тоже… ка…, – и сознание стало покидать героя-летчика.
– Кто он? Что он хотел сказать? – спрашивали друг у друга казаки. – Неужели он из наших?..
А у теряющего сознание пилота промелькнула в это время вся его жизнь…
Ранее детство Петра Палеева прошло в Верном, областном городе Семиречья, на реке Алмаатинке. Прямо из города разбегались по обширной долине бесконечные яблоневые сады, рощи урюка, переходившие в горах в пихтовые леса.
Жителей было немногим более двадцати тысяч человек, семь церквей и две гимназии, в одной из которых и преподавал русскую словесность надворный советник Георгий Петрович Палеев – его отец.
Жили Палеевы скромно. Работал один Георгий Петрович. Заботы о многочисленной семье на Анне Федоровне, сибирской казачке. Женился на ней молодой учитель гимназии по любви, хотя многие из окружающих не могли понять, как это дворянский сын взял в жены простую, совершенно неграмотную девушку. Георгий Петрович научил жену читать, привил любовь к книгам.
Справедливая, волевая женщина с удивительно доброй душой, она была признанной главой дома. Дети воспитывались просто, обязательно помогали по хозяйству, любовно опекали младших.
Дом Палеевых славился гостеприимством, особенно много в нем бывало молодежи. Петр окончил Кадетский корпус и должен был попасть в казачьи части, но его определили в пехотный полк. Полк – горькое воспоминание. Поручик Палеев не выполнил приказание командира полка – отказался наказать солдата, считая кару несправедливой. Был передан военному суду и приговорен к месяцу гауптвахты.
После отбытия наказания уволился из армии. Потом произошла стычка с родственником – жандармом, которому дал пощечину. Взыграла казачья душа. Что-то, значит, сильно возмутило порядочного и честного человека.
После этих событий Петр покинул Россию и уехал во Францию, где и застала его война.
…Париж. Узкая улица Рю-де-Гренем с утра заполнена толпами русских. Они рвутся к российскому военному атташе.
«Что делать, как быть?» – думает атташе, полковник, граф Игнатьев.
Посол и генеральный консул отказывали добровольцам, а он послал в Главное управление Генерального штаба в Петербурге следующую телеграмму:
«Признал необходимым разрешить всем русским гражданам, и в том числе полит, эмигрантам, вступать по моей рекомендации на службу во французскую армию. Прошу утвердить».
Разрешение пришло через две недели. По закону иностранцев в регулярные части не принимали – для них был открыт путь в недоброй памяти иностранный легион. Часть русских-добровольцев туда и попала, но все же было сделано исключение – организованна русская пехотная часть.
В первый день войны на Западном фронте германские войска вступили в Бельгию и Люксембург, захватив крепость Льеж и чуть позже Намюр, открыв своим армиям переход через реку Маас. Французы и англичане попытались ударить по немцам с юга, но в это время другая германская армия прорвалась через поросший лесом, горный массив Арденны. Союзная армия оказалась зажатой между немецкими войсками и начала отступление. К 20 августа немцы заняли почти всю Бельгию, после чего дорога на север Франции была открыта. Французы и англичане вынуждены были оставить важный город Мец и отходить к Парижу. Одновременно французская армия вторглась в Лотарингию, но спустя несколько дней была выбита оттуда подоспевшими немецкими войсками, уже 21 августа она была остановлена силами 6-й и 7-й немецких армий. После этого 6-я и 5-я армии, находившиеся под командованием немецких кронпринцев, по собственной инициативе перешли в контр наступление, не позволив французам оттянуть силы на север.
Главное командование союзных войск спешно готовит ответное наступление.
Утро 6 сентября. Командир 131-го пехотного полка лейтенант-колонель Пуаньон зачитывает перед строем приказ Жоффре:
– Каждый должен помнить, что теперь не время оглядываться назад: все усилия должны быть направленны к тому, чтобы атаковать и отбросить противника.
Высокий, красивый лейтенант, судя по отличной выправке, кадровый офицер, взволнованно слушает приказ. Он впервые поведет в бой свою роту, которую принял вчера. Как покажут себя люди?
Еще неделю назад поручик запаса русской армии Петр Палеев был в штатском и добивался зачисления во французские войска. Как все стремительно. Как далека Россия! Родные? Мысли бегут, теснятся воспоминания, мешаются с тревогой. И все же главное – что он как подобает офицеру, в строю. Он знает, что положение отчаяное, сражение предстоит кровавое, решающее. Они сейчас на берегу Марны, на линии фронта Париж-Верден, бои уже начались.
– Уверен, что ваш батальон выполнит свой долг перед Францией, – доходят до Палеева слова командира полка.
– И перед Россией, – говорит про себя лейтенант.
В этот же день рота Палеева участвовала в прорыве. Солдаты сразу увидели в своем командире умелого и храброго офицера. Сражение разворачивалось с успехом для французов, в бой вводились все новые и новые части, и произошло то, никто не ожидал, – немецкая армия отступила.
Битва на Марне вошла в историю как поворотный момент войны на Западном фронте. В ней с обеих сторон приняли участие более двух миллионов человек.
За восемь дней тяжелейших боев франко-английские войска продвинулись вперед на 60 километров, полностью похоронив надежды Германии на быструю победу на западе. Немцы не смогли взять Реймс, который превратился в прифронтовой город. За последующие четыре года бойни в этой области в окопах по обе стороны погибло более миллиона солдат.
Что значит одна рота в таком грандиозном столкновении, что она в масштабе армии? Многое, если ведет ее настоящий командир. Когда таких большинство, приходит победа.
Тяжело раненный в этих боях, Петр Палеев не покинул строя, пока не выполнил боевую задачу. В приказе по армии говорилось, что Палеев «в атаке в Вокуа неопровержимо доказал, как влияет настроение солдат на сражение. Он вел роту в бой с железной отвагой и несмотря на полученную рану, находился во главе своей роты, пока их не сменило другое подразделение».
После окончания битвы на Марне между немецкими и франко-английскими войсками началась череда сражений, получивших название «Бег к морю». В течение месяца французы и англичане безрезультатно пытались обойти немцев с запада, пока линия фронта не протянулась до Ла-Манша. Обе стороны не смирились с подобными результатами.
Газеты сообщали, что русский доброволец лейтенант Палеева, во время отступления полка, грозившего перейти в бегство, сумел остановить батальон, лично повел его в атаку и своим мужественным поведением восстановил положение. За этот подвиг он награжден Командующим званием кавалера Почетного легиона.
Во второй половине октября вокруг города Ипр, где в апреле следующего, 1915 года немцы применят газовые атаки, началась битва во Фландрии. Безрезультатная кровавая бойня продолжалась до конца ноября. Новый командир полка Ардуэн так оценивает русского офицера: «Палеев необычайно быстро достиг доверия своих подчиненных, из которых создал прекрасное воинское подразделение, подав пример храбрости. Он также утвердил свои командные качества».
Так в атаках и отступлениях, сменявшихся неделями ленивых перестрелок и артиллерийских дуэлей, тянулись месяцы войны.
В один из дней за их траншеей разорвался немецкий снаряд, за ним другой. Прошелестели ответные снаряды французов и ухнули где-то в немецких линиях.
Палеев спокойно считал выстрелы. Их было поровну с одной и другой стороны, что-то вроде утреннего «приветствия». Но в середине дня немцы открыли ураганный огонь. Это предвещало атаку. Зазвучали команды, свистки сержантов. По размокшим, скользким траншеям, ходам сообщения солдаты кинулись на свои боевые посты.
Потоком огня ответила французская артиллерия, взрывы сотрясали землю, серое небо окрасилось заревом пожаров.
Палеев со своими солдатами приготовился к отражению атаки.
Разрывы немецких снарядов ложились все ближе. Дикий грохот рвал барабанные перепонки, солдаты зажимали уши руками.
– Санитары! Носилки! – донеслось в паузе между взрывами. – Командир ранен. Санитара!
Потерявшего сознание Палеева уложили на носилки. Окровавленное кепи прилипло к волосам, побурела от крови штанина. Осколки поразили его сразу в нескольких местах.
– Бегом! – торопили санитаров солдаты, помогая опустить в ход сообщения носилки.
Палеев даже не успел испугаться. Только в голове сидела мысль: «Неужели инвалид? Что с ногой, вдруг отнимут?»
– Вам повезло, – успокоил его хирург уже в госпитале, – не задето ничего важного, еще повоюете.
Петр сразу поверил этому симпатичному доктору с седеющей бородкой клинышком – эспаньолкой, только спросил:
– Долго тут буду?
– Через два-три месяца будете в части.
Пока болел, пришло решение – стать летчиком, вернуться в Россию и там воевать с врагом. Он уже навел справки, где и как хлопотать, теперь только одна забота, чтобы ранения не подвели.
Нетерпение Петра подогревала его необыкновенная вера в безграничные возможности авиации. И он страстно доказывал это товарищам по палате.
– Тебе бы в летчики, Пьер, ты бы показал бошам, – беззлобно подтрунивали раненые.
Палеев отмалчивался, он никого не хотел раньше срока посвящать в свою мечту. «А вдруг сорвется?» – размышлял он.
Закончив курс лечения, Палеев получает в госпитале документы и отправляется в Управление военных резервов. На сей раз он не собирается возвращаться в полк, хотя там ждут его испытанные друзья, его родная рота. Он заготовил прошение о переводе в авиацию.
Четыре месяца обучения в Дижоне промелькнули почти незаметно. После окопной жизни и надоевших госпитальных будней он попал в романтический мир молодой авиации. Ему было интересно все: занятия в классах, практическая работа у самолета в ангаре, а самое главное – полеты. Даже запах бензина и горелого касторового масла на аэродроме казался необыкновенно приятным.
После школы – полеты и бои во Франции. А потом обращение снова к военному атташе полковнику Игнатьеву – ходатайствовать о переводе его в русскую армию – в авиацию. Учитывая его заслуги, он такое разрешение получил. Французское командование выделило ему самолет «Ньюпор XVII» новейшего типа, с мотором 110 л/с, запасной мотор, части для замены и пулемет системы «Виккерс» с 500 патронами.
Так он оказался в России.
2
А во Франции события развивались следующим образом.
Поскольку прорвать оборону противника было почти невозможно, в начале 1916 года германское командование решило перемолоть людские резервы французов и англичан в длительном сражении. Местом для подобной бойни был избран выступ фронта у города Вердена, окруженного системой фортов и других оборонительных сооружений. Предполагалось, что главную роль в операции будет играть мощная немецкая артиллерия, которая уничтожит живую силу противника, а пехоте отводилась второстепенная роль.
Битва, получившая название «Верденская мясорубка», началась 21 февраля 1916 года и длилась в течение 8 месяцев. Положение французов было очень тяжелым, и чтобы как-то исправить ситуацию 1 июля союзники атаковали немецкие позиции на реке Сомме, где также началось затяжное, кровопролитное сражение. Здесь впервые были применены танки. Громадные стальные чудовища, которые, изрыгая огонь, медленно ползли на окопы германских солдат.
Немцы в ужасе покидали свои траншеи, не зная, как бороться с новым чудо-оружием. Однако спустя несколько дней, когда первый шок прошел, солдаты начали расстреливать бронированных монстров из пушек, забрасывать их гранатами и бомбами.
С наступлением глубокой осени бои на Сомме затихли. Франко-английские войска потеряли 615 тысяч человек и не смогли выбить немцев с холмов над рекой. Германской армии это сражение обошлось в 650 тысяч убитых.
Поскольку в 1916 году на Западном фронте боевые действия союзников не оправдали ожиданий, главнокомандующий французской армией Жоффр оставил свой пост, уступив его генералу Невилю, отличившемуся при Вердене. Невиль разработал оперативный план, согласно которому французские войска должны были прорвать оборону немцев в двух наиболее укрепленных местах – у Реймса и Ардаса. Однако германское командование разгадало замыслы противника, и на направлениях удара была возведена сильно укрепленная оборонительная «линия Зигфрида». Тем не менее Германия была обречена. За три дня до начала «операции Невиля» в Первую мировую войну вступили США (5 мая 1917 года). Планам немецкого командования, основанным на истощении людских ресурсов противника, пришел конец. Весной и летом 1917 года немцы потеряли 800 тысяч человек, и восполнить эти потери было нечем. В то же время США ежемесячно перебрасывала и во Францию по 300 тысяч солдат и офицеров. Рухнул и второй план Берлина – парализовать Великобританию блокадой с моря.
После захвата власти большевиками Россия вышла из войны. Благодаря этому германское командование перебросило на запад с востока более полумиллиона солдат. К тому же по подписанному 3 марта 1918 года большевиками в Бресте сепаратному миру Германия получила всю Прибалтику, Польшу и большую часть Белоруссии, что на время спасло ее умирающую, под непосильным бременем войны экономику. Украина и Финляндия получили независимость и стали союзниками Берлина.
Все это позволило немцам спланировать и провести весной 1918 года целый ряд наступательных операций на западе.
Двадцать первого марта началась операция «Михель», в ходе которой германские войска вышли на берег Соммы и форсировали реку. Всего до 4 апреля немцы продвинулись на 64–65 километров. Создав у Амьена выступ фронта длинной 150 и глубиной 60 километров, 9 апреля германские войска ввели в действие оперативный план «Святой Георг I», а 10 апреля – «Святой Георг II». Они прорвали оборону союзников во Фландрии, выйдя к Ипру. 27 мая началась операция «Блюхер», в ходе которой до 4 июля на фронте образовался Марнский выступ. Они хотели в ходе наступления 9-13 июня его срезать. Однако прибывшие на фронт свежие американские части не позволили немцам сделать это.
18 июля 1918 года англо-франко-американские войска перешли в контрнаступление при поддержке 213 танков. Спустя 3 дня германские войска начали отступление, которое длилось до 4 сентября. Немцы потеряли 120 тысяч человек, союзники – 60 тысяч. 8 августа, в «черный день германской армии, 511 танков прорвали самое слабое место в обороне немцев, обеспечив прорыв на 10–18 километров, и вскоре Амьенский выступ был ликвидирован.
А 26 сентября 1918 года союзники начали общее наступление, которое положило конец Первой мировой войне.
В ноябре в Германии началась революция. Охваченная внутренними беспорядками, Германия не могла оказать сопротивление, и ее войска отступали.
Одиннадцатого ноября 1918 года в условиях начавшейся революции германское командование подписало перемирие в Компьенте. Первая мировая война закончилась.
Но вернемся на два года назад и на Восточный фронт.
Глава VII
1
Военная страда в ту пору складывалась отчаянно. Русские войска с тяжелыми боями откатывались, пылили по всем дорогам на восток, теряя обозы, оставляя по обочинам разбитые пушки. Случалось, в скоротечных отходных схватках трупы не успевали убрать, и они разлагались, смердели.
Смутно представляя, как такое получилось, что немец теснит, прет по всему фронту, казаки-терцы в конном строю медленно отступали вместе со всеми войсками. Мрачные и раздражительные, они испытывали неосознанное, но давящее ощущение нависшей беды. Никита Казей, командовавший казачьим взводом, почему-то – до странной осязаемости, что беде быть не вообще, а с ним, хорунжим Казеем.
В мае немецкие войска нанесли контрудар, отбили Перемышль и Львов, занятые русскими войсками два месяца назад, и свели на нет все прежние успехи русского оружия.
После этого поражения по стратегическим соображениям пришлось оставить Польшу. В сентябре 1915 г. царь принял на себя звание Верховного главнокомандующего, отстранив великого князя Николая Николаевича.
Фактическим командующим русской армией стал М.В. Алексеев, уроженец Тверской губернии, родившийся в небогатой трудовой семье бывшего солдата в 1857 году. По характеристике бывшего военного министра А. И. Верховсксго «это был скромный, незаметный в мирное время труженик, всю жизнь работающий над теорией и практикой военного дела». Внешне Алексеев напоминал корявенького, маленького мужичонку из средней полосы России. Держался он необыкновенно просто, не так, как большинство командования русской армии…
Южная Польша – одно из красивейших мест России. И казаки, следуя со станции к месту соприкосновения с противником, успели вдоволь налюбоваться ею. Гор, утех туристов, которые напоминали бы им Кавказ нет, но на что они равнинному жителю? Есть леса, есть воды – и этого достаточно вполне.
Леса сосновые, саженные, и, проезжая по ним, вдруг видишь узкие, прямые как стрелы аллеи, полные зеленым сумраком с сияющим просветом в дали, – словно храмы ласковых и задумчивых богов древней, еще языческой Польши. Там водятся олени и косули, с куриной повадкой пробегают золотистые фазаны, в тихие ночи слышно, как чавкает и ломает кусты кабан.
Среди широких отмелей размытых берегов лениво извиваются реки, с широкими и узенькими между ними перешейками. Озера блестят и отражают небо, как зеркала из полированного металла. У старых мшистых мельниц тихие запруды с нежно журчащими струйками воды и каким-то розово-красным кустарником, странно напоминающим человеку его детство.
В таких местах что бы ты ни делал – любил или воевал – все представляется значительным и чудесным.
Но не любованием было отмечено это время для казаков. Это были дни больших сражений. С утра до поздней ночи казаки слышали грохотание пушек, развалины еще дымились, и то там, то сям кучки жителей зарывали трупы людей и лошадей.
В один из дней казакам было приказано разведывательное наступление. Они перешли на другой берег реки и двинулись по равнине к далекому лесу. Их цель была – заставить заговорить артиллерию, и та действительно заговорила.
Глухой выстрел, протяжное завывание, и шагах в ста от них белеющим облачком лопнула шрапнель. Вторая разорвалась уже в пятидесяти шагах. Новый снаряд разорвался прямо над ними, ранив двух лошадей и одного казака.
«Следующий – мой» – только успел подумать Казей. Где рвались следующие, он уже не видел. Его рвануло вниз, закрутило, он обо что-то бился. И все для него исчезло, смолкло в кромешной темноте.
Очнувшись, он поначалу не понял, что с ним, где он. Вязкая тишина обволакивала, давила, он дышал не глубоко и, не размыкая еще век, слышал тонкий, словно от натянутой струны, звон в голове, сверлящую боль в правой ключице и какой-то голос:
– Че, очнулся? Ну, знать, живой!
Никита с трудом приподнялся. Правую руку прострелило от ключицы до локтя острыми иглами. Сам весь измазан. День зачинался в ненастье, все заволокло реденькой мглой, водяная пыль плавала в воздухе, невесомо оседала на лицо, руки, одежду.
Он огляделся. Кроме Колодея, который был рядом, он разглядел лежащего неподвижно казака-моздокца Мережку – навзничь, в мокрой траве. Видя, что Казей пришел в себя, Колодей стал осматривать Мережку.
Рана не смертельная, жить будет, – радостно сообщил он не то Казею, не то самому раненному. – Осколок прошел на вылет.
А когда тот встал, он шутя заметил:
– Живуч ты, однако, казак!
Никита расходился с трудом: болела нога, простреливало ключицу, слабость точно стекла в низ, к ногам, он их ставил неуверенно, нетвердо. Поддерживая его, стараясь попасть в такт не шибким шагам Никиты, Колодей уверял, что разгуляешься, разойдешья, к полудню лезгинку будешь плясать. Рассказывал, как он сам «чисто из святой купели вынырнул». Потом прервал свой рассказ, чтобы подставить плечо Никите, обхватил его половчей, и уже потом закончил:
– И то правда, забил голень, кажись, бедово! А в левой ноге рана серьезная.
Кругом была степь. Даже в размыто-серой пелене, скрадывавшей горизонт, чудилась ее пугающая безбрежность, под ногами – тронутая осенней гнилью трава, колючая, проволочно-смутная. Мерещился как бы парящий, стойко сохраненный землей противный запах гари, смолисто-едкий, вызывающий легкое головокружение.
Пасмурный день, не дав проклюнуться вечеру, сомкнулся впрямую с ночью.
За весь день они не набрели на жилье, не обнаружили даже признаков какого-либо обиталища. Пробовали собирать траву, палые будылья, но разжечь не удавалось.
– Хватит! Хватит… – кричал Колодей, – без огня останемся! Цигарку запалить будет нечем, слышите?
И прятал трут в кисет, который хранил под мокрой одеждой, прямо на голом теле.
По уму сказано! Знать, считай, так: идти, и все тут, – распорядился теперь Казей. – А не то – погибель.
Брели до утра. Уже не представляя направления, так как потеряли ориентировку.
– Не могу… Не могу. Больше сил нет, – жаловался Мережко.
– Ты, на-ка, курни! Дымком обдаст, согреет, дух поднимет… Курни… Курни! – подбадривал его Колодей.
Он помог ему подняться. Потом подставил плечо Никите. Так, держась друг за друга, они мучительно продвигались вперед.
Пожалуй, они понимали, что судьба вершила над ними свой последний трагический акт, однако не знали – каждый в отдельности и все вместе, – что станет через очередные десять-пятнадцать шагов, которые они осилят.
В какой-то из таких моментов Мережко вскрикнул. Рванул вперед, но упал, сплевывая с губ грязь, забормотал:
– Вон, вон жилье! Жиль-еее… Смотрите! Мы спасены, спасены!..
Действительно, впереди виднелось какое-то строение. Они добрались до сарая поодиночке и повалились безумно, обшарив глазами стены пустого сарая.
– Пусто! Развалины… Пусто! Какая жестокость судьбы!
Собравшись здесь, выложив последние остатки сил, они вдруг ощутили: все, конец, идти некуда.
Никита прилег, подмяв под себя будылья, ничего не видя, не слыша, что делалось вокруг, гудело, терпко звенело в теле от слабости, размытой боли. Мережко, закрыв лицо руками, сидел, выставив стертые колени. И только Колодей, приткнувшись на обломке стены, всматривался в даль.
Где-то раздался выстрел. Этот звук выделялся каким-то дискантом среди остальных. Потом выскочили два всадника с шашками наголо, за ними еще.
– Конники! – прокричал Колодей.
– Где? Где? – в один голос спросили Казей и Мережко. А Колодей, давясь словами и одышкой, встал на четвереньки, после с трудом приподнялся и, перебирая руками по щербатошершавой стене, подвинулся к пролому.
Никита, собравшись с духом, крикнул:
– Назад, парень, может, это враг?
– Нет, нет… нет, – скороговоркой повторял тот и, шагнув в проем, закричал:
– Сюда! Сюда-ааа!
В онемелости они ожидали свою судьбу. У них не было выбора, у них не было оружия, и они ждали: их сейчас постреляют.
Случилось чудо: подскакавшие конники, остановив коней неподалеку, сбросили из-за плеч карабины, взяли на изготовку, и один, видно, командир, спешившись, держа буланую лошадь под уздцы, бойко крикнул:
– Ну, кто там? Выходи!
А они не могли выйти: от обессиленности, от обрушившейся радости. Конники – это казачий разъезд.
Мережко, осев в проеме, тянул на нутряной ноте:
– Какой враг? Какие враги?… Свои… свои.
И в это время – они не заметили – там, на горизонте, позади всадников, дождевое набухлое небо, чуть дрогнув, лопнуло, разошлось, в глуби рыхлой толщи, светясь, открылась белесая, неяркая полоска… Вставало солнце…
2
В Москве, в госпитале, Казея долго не держали: слишком много валялось там тяжело раненных, места не хватало, да и содержать раненного дорого. Ходячих отсылали на излечение по домам. Кому жить суждено, выживет, а кому помереть, тому и госпиталь – не спасение.
Минул не один месяц, пока до сознания Никиты стало доходить, что такое война. Он начал прислушиваться к разговорам, которые вели между собой офицеры, солдаты. А они ругали войну, царя, затеявшего ее.
Паровозик усиленно гудел, не сбавляя ход. Дым ложился на сырую землю, временами врываясь в тамбур, едко лез в нос. Казей, держась за ручку открытой двери, стоял у входа.
В дверном проеме свежо, но Никита холода не замечал. Блеснули на солнце зеркальные блюдца воды, темнел, прошлогодний, вымахавший в рост человека бурьян, чернела вспаханная кое-где земля.
Весна в этот год была ранняя. С первых мартовских дней дружно стал таять снег, запарила земля.
От Ростова потянулись безлесые, не распаханные степи, сторожевые и могильные курганы, тихие, спокойные речки, местами поросшие камышом и кугой. Из окна вагона Казей видел на плесах стан уток и гусей. Маленький, пузатый, как самовар, паровоз, пыхтя, подминал шпалы, тащил короткий состав.
Оставались позади города, села, станицы и хутора, степные балаганы, земля, ощетинившаяся озимой зеленью.
Сколько таких мест повидал Никита за время войны. И вот везет его поезд на родной Терек.
А будто вчера и в то же время давно – полтора года минуло, как их состав, теплушки, платформы, загруженные до предела, что составляло казачий полк, вез их тем же путем, каким он возвращается домой. Ехали они, казаки, на австрийский фронт.
Ехали с задорными песнями, с присвистом и пляской. Раскачивались и содрогались вагоны.
– Берегись, немец, казачьей шашки, – неслось из вагонов.
«Шутки остались, а вот лихость казаки подрастеряли на полях войны, – думал Никита. – Уж очень много осталось в тех полях лежать наших товарищей».
Никита никогда не забудет последней конной атаки. Шли лавой на немецкие окопы. Распластались в беге казачьи кони, сотрясалась под копытами земля. Подавшись вперед и вытянув над головой сабли, осатанело визжали казаки. Никитой овладело непонятное чувство – хотелось драки, той, какой его обучали и в станице, и на армейских курсах. Он задал конного противника, схватки на саблях, однако окопы молчали, и неизвестность холодной тревогой заползала в душу. Когда до молчавших немецких линий оставалось полторы сотни метров, и казачья лава своими крыльями выдалась вперед, разом ударили пулеметы. Все смешалось, сбилось. Оставляя убитых и раненных, полк повернул назад. В том бою под Никитой убило коня.
И вот он дома. Хата Казеев располагалась на Куяне, так называли казаки северную сторону станицы. Рядом Терек, на берегу его – курган, где исстари располагался пост, охранявший станицу от нападения горцев. От кургана начиналась центральная улица, которая тянулась прямо к церкви, гордости станичников. В летнюю пору широкая улица покрывалась толстым слоем пыли. И хотя атаман еженедельно требовал подметать улицу у своих дворов, она щедро припудривала хаты и листья деревьев, и только проливной дождь смывал пыль, очищал воздух.
Маленькая, приземистая хата Казеев под камышом. Когда смотришь на нее с дороги, кажется, что хата по окна вросла в землю. Два ее окна подслеповато смотрели на улицу, одно выходило во двор. Из темных сеней – дверь в комнату. Здесь по левую руку русская печь, прямо у стены – деревянная кровать, направо – сбитый из досок стол и лавка. Над ними в углу божница. В хате выбелено и слышится запах известки.
По случаю приезда Никиты мать и жена собрали праздничный ужин. Накрыли на большом столе у печки. Марина особенно старалась, чтобы угодить мужу, она не сидела на месте. То приносила еду, то расставляла посуду, то снова убегала на двор. Огромный стол ломился от яств. Тут и птица, и копченое мясо и сало, и рыбы, соленья. На самом видном месте – графин, рубинового цвета. В нем вино.
– Сядь, посиди, чего там бегаешь, – сказала невестке мать, любуясь сыном.
– Сейчас, подложу еще, а уж тогда, – скромничала Марина, а сама не могла насмотреться на мужа.
– Спасибо тебе, Марьюшка, ласточка моя, – протянул руку Никита и поймал жену за передник.
– Да отстань, – игриво дернулась она, но не отошла и придвинулась животом к его плечу.
– Расскажи, как там, на войне? – спросила она.
– Расскажу, расскажу, – как вы тут?
– Ночью, – согласно толкалась жена животом
А по другую сторону, держа за руку отца, восседал его сын – Лешка. Жуя привезенные гостинцы, он внимательно рассматривал отца, восхищенно любуясь. Он заметно подрос, вытянулся и даже возмужал.
«Гарный будет казак!» – подумал Никита. А сын внимательно рассматривал его офицерские погоны и награды.
Стали подходить гости.
– Ну, Ивановна, с прибытием сына, – едва открыв дверь, весело поприветствовал их атаман станицы – Щербина. – Здравствуй, Никита Петрович! Здравствуй!
Он расцеловался, пригладил усы и сел на лавку.
– Вона как вознесся, офицер! Царю-батюшке, видно, верой-правдой служил? Ну-ну! Рассказывай, георгиевский кавалер, за что крест повесили?
Никита налил в стаканы.
– За встречу, Федор Алексеевич! Почти полтора года не виделись. А о кресте не будем, потом расскажу. Одно скажу: лиха повидал вдосталь.
– Да-а! – атаман посерьезнел. – Истину говоришь. Спасибо, живой воротился… По единой, за твой приезд.
Выпили. Стали подходить еще люди, пошли разговоры.
– Расскажи, Никитушка, как там война идет, – попросил опять атаман. – Бьет, говорят, нас немец и плакать не дает?
– Как не бить, братцы, у него и пушек больше, и снарядов, а о пулеметах не спрашивай. Да и генералов наших не поймешь. Случается, бой к концу, вроде победа за нами, а они команду к отступлению подают.
И уже тихо:
За что кровь проливаем, спроси – не знаю.
– Ну, ты это брось! – насупившись, сказал атаман. – Казак всегда за царя-батюшку был, а ты – не знаю? Испокон веку отцы наши и деды говорили: «Страха не страшусь, смерти не боюсь, лягу за царя, за Русь!»
– Верно, атаман, и я так думал. Но посмотри, какую я листовку привез. В госпитале один офицер дал.
Никита вытащил из кармана листовку и подал атаману. Тот поднес ее к лицу и стал медленно читать. Но потом остановился.
– Бред! Это работа предателей? – и он разорвал листок. – Раньше у казаков сердце за батьковщину болело, а теперь оно как телячий хвост мотается.
– Время другое наступает, – вступил Никита.
– Оно, может, и так, – ответил атаман, – но не дело нам кацапов[5] слушать, их записочки читать. Не пропало бы казачество?
– Вот это добре, – подхватил кто-то. – Вот это по-нашему. Пошли нам, Господи, что было в старину.
– Дай Бог, дай Бог, – благодарил атаман присутствующих, – чтоб не позабыли терцы славных наших традиций. Это нам не простится.
– Не горюй, атаман! Казачество еще не упало. Или ты уже не веришь?
– Народ портится, вот что меня беспокоит, – отвечал атаман. – И у нас слишком много любопытных и недоброжелателей. Слышу я и тут нелепые шепотки. Некоторых охватывает странное равнодушие: эта катавасия, мол, долгая, теперь уже любой конец был бы хорош! О, люди, люди.
– Слава героям-терцам! – провозгласил кто-то тост.
– Ваше здоровье, казаки! – поддержал его атаман. – Господи – проговорил он, – не оставь казачество, прикрой нас своей десницей.
И стал вспоминать, куда только его самого не гонял с родного Терека воинский долг. Сколько потер конских седел, пожил в казенных домах, покозырял начальству.
Затем атаман рассказал Никите, что казаки-старики, участники русско-турецкой и японской войн, на свои пожертвования приобрели для церкви икону Св. великомученика Георгия Победоносца и отслужили молебен и панихиду по убиенным на поле брани. А на сходе казаков отдела все, позабыв горе и невзгоды войны, выразили желание идти и теперь по царскому зову на поле битвы.
Горячая кровь ударила в голову Никите. Заколотило в висках от полубезумной мысли, как бывало в конной атаке, в рубке, когда человеком владеет смесь отваги и помрачения.
– Но за что такие потери, – с горечью произнес Никита и стал рассказывать о положении на фронте.
3
Отчего и почему пошла война, народ, конечно, не знал, но слухов было много.
– Князья дерутся, а у нукеров головы летят, – говорили между собой горцы. – Цари, кайзеры и герцоги ссорятся, а народ за это кровью расплачивается.
Старики в аулах так рассказывали о причинах разгоревшейся войны. Война между Россией и Германией началась из-за русской царицы. Германский император будто бы пригласил в гости своего кунака – русского царя с женой. По этому случаю, как это заведено у государей, закатили пир с музыкой и танцами. Вино лилось рекой, а сотни слуг едва успевали подавать к столу разные яства. Когда все были во хмелю, пьяный сластолюбивый германский царь, разгоряченный вином и близким соседством русской царицы, ущипнул ее за недозволенное место. Русский генерал, заметив эту непристойную выходку германского императора, встал на защиту чести своего государя. Он не побоялся, что находится на чужой земле, смело подошел к германскому царю и на виду у всех влепил ему оплеуху. Германский генерал в свою очередь тоже не стерпел такого оскорбления и стукнул русского генерала. Вслед за генералами вступили в драку русские и германские солдаты, охранявшие своих царей во время пира. Драка эта выросла в большую войну. Война – это, конечно, не пьяная свалка на пиру.
Тут вместо кулаков пошли в ход сабли, винтовки, пулеметы и пушки.
– Вот так и началась эта заваруха, – сокрушенно качая головой, заканчивал какой-либо горец разговор на базаре.
Хотя эта история, выдуманная кем-то от начала до конца, ничего общего не имела с причинами возникновения войны и напоминала собой наивную сказку, слушавшие верили в нее, как, впрочем, и во многие другие небылицы.
– Проклятые правители, – в сердцах говорили слушавшие, – едят, пьют и худа не знают. Их бы заставить работать до семи потов за кусок хлеба, тогда не стали бы с жиру беситься.
Среди казаков шли разговоры посерьезней.
– Это немчура захотела наших территорий, – говорили старики.
– Они и турок снова подняли на нас. И как России не везет?
– Побьем… И немцев, и турок, били не раз супостатов, – раздалось сразу несколько голосов.
– Побьем-то побьем, а сколько наших хлопцев заберет эта война, – сказал старый казак Дзюба.
В это время в хату зашел Семен Широкоступ, пришедший тоже на днях с фронта, по ранению, Поздоровался.
Небритое лицо Семена с малиновым шрамом расплылось в улыбке, а потом как окаменело.
– Там каждый день гибнут тысячи здоровых людей, а туда гонят все новых и новых, – грустно сказал он.
Из его глаз брызнула слеза. Она на мгновение задержалась на бороде светлой дождевой капелькой, упав на георгиевский крест, расплылась на нем.
– Мы думали, что ты в Петрограде служишь. А ты, дай Бог тебе многие лета, оказывается, уже и повоевать успел, – хитро прищурившись, с теплыми нотками в голосе произнес кто-то из гостей Никиты.
– Пришлось, пришлось, – с горькой усмешкой сказал Семен.
С первой же встречи с Семеном казаки не переставали удивляться: за что на груди у их земляка-станичника висит этот крест? Но считали неприличным спрашивать его об этом. Не распространялся об этом и сам Семен.
Но сейчас, замечая неторопливые и недоуменные взгляды собравшихся казаков, которые они то и дело бросали на его крест, понимающе улыбнулся:
– Это боевая награда, называется она – георгиевский крест, старики знают, – объяснил он Никитину сыну и, оглядев всех, с гордыми нотками в голосе добавил: – Получил я его из рук самого царя.
Присутствующие от удивления так и застыли, а у стариков-казаков – Дзюбы и Первакова – от этого известия точно что-то застряло в горле и они не могли проглотить. Поднеся сухой, морщинистый кулак ко рту, Дзюба даже несколько раз с усилием кашлянул, чтобы освободить горло, но, кажется, безуспешно.
Видя удивление и замешательство станичников, Семен дружески улыбнулся им.
– Ничего в этом особенного нет, наградил и все, – пытаясь придать своему голосу спокойное, почти безразличное выражение, произнес Семен. – Ну ладно, давайте сначала покурим мою фронтовую махорку, а потом я расскажу вам, как это было.
Широкоступ достал из кармана круглую жестяную коробочку с махоркой. Угостив всех, он не спеша свернул цигарку и себе. Когда закурили, Семен, выпуская изо рта и ноздрей горьковатый дым, спросил:
– Ну, как табачок? Получше, чем самосад!
– Хорош, в горле не дерет и даже не першит. Одно удовольствие курить такой табак, – похвалил один из казаков, желая сказать Семену приятное.
– Да, на то он и казенный… – одобрительно отозвался Перваков, держа между дрожащими скрюченными пальцами длинную дымящуюся цигарку.
Но казакам не терпелось скорее услышать, как это всесильный и грозный царь, каким они его представляли, сам вдруг явился к их земляку и лично вручил ему награду. Это обстоятельство высоко поднимало Семена в глазах казаков, делало его неустрашимым героем.
– Теперь послушайте, как это было, – произнес Семен, держа в зубах цигарку, от которой поднималась легкая тоненькая струйка синего дыма. – Есть в России такой город, называется он Гомель. Вот в этом самом Гомеле после ранения я лежал в лазарете, в палате для выздоравливающих. Однажды, глядим, наших врачей, фельдшеров и сестер милосердия точно оса укусила: они страшно засуетились, забегали взад, вперед, и у всех лица такие беспокойные, строгие. Пуще всех волновался и бегал в тот день сам начальник лазарета. Давая на ходу распоряжения врачам, сестрам и нянькам и тыкая пальцем в разные стороны, он опять исчезал. Не прошло и часу, как в лазарете все было прибрано, полы до блеска вымыты, старательно вытерты стекла на окнах, а нам сменили белье, аккуратно заправили койки. Раненые, удивленно глядя друг на друга, тихо перешептывались, высказывая разные догадки.
Вскоре в палату вбежал, на ходу вытирая платком лицо, начальник лазарета. Он еще раз оглядел помещение и, видно, оставшись довольным, обратился со словами: «Братцы! Сейчас к нам прибудет Его Императорское Величество Верховный главнокомандующий государь-император Николай Александрович!.. Это высокая честь и большое счастье для нас с вами, братцы!»
Я уже не помню, как другие восприняли это известие, но я, не скрою от вас, очень испугался, хотя и не из робкого десятка.
Семен затушил цигарку.
– И вот стою я, опираясь на костыль, возле своей койки, очень волнуюсь. Вдруг в дверях палаты вижу невысокого, сутуловатого человека в голубом мундире с золотыми погонами. Бородка у него будто хной выкрашенная, глаза маленькие и даже кажется, добрые. Клянусь Богом, никогда бы не подумал, что это – царь. Я представлял его себе совсем другим: грозным, свирепым, которому не дай Бог попасться на глаза. Вслед за царем вошли генералы. Все такие важные, дородные. У многих усы закручены, как рога у старого барана. Вперед вышел начальник лазарета, возбужденный, запыхавшийся, как лошадь после скачек. Мы все замерли у своих коек.
– Его Императорское Величество! – громко, будто на параде, крикнул он.
Солдаты в ответ закричали «ура». Царь едва заметно кивнул нам головой и чуть улыбнулся. Потом он вместе со своим адъютантом, очень красивым, высоким молодым генералом, отделился от свиты. Они вдвоем стали подходить к каждому солдату и тихо о чем-то спрашивать. После этого генерал прикалывал солдату на грудь вот этот крест, – скосил Семен глаза на награду, которая, вздрагивая, качалась на ленте. – Дошла очередь до меня. Страха у меня такого уже не было. Но все равно, чего греха таить, немного побаивался.
– Откуда ты, солдат? – Чуть слышно спросил меня царь.
Я взял себя в руки и, по примеру других, доложил, какого я звания, где служил, в каком бою получил ранение.
Смотрю, царь заинтересовался.
– Откуда, говоришь? – тихо повторил он свой вопрос.
– С Терека я, Вашего Величество! Сунженско-Владикавказского полка, – расхрабрившись, добавил я для точности. А у самого душа ушла в пятки. Страх овладел мной, ноги подкосились. Пока я собирался пасть к ногам царя и выложить ему все как на духу, начальник лазарета, спасибо ему, пришел мне на выручку. Из его объяснений я понял, что будто я от счастья, что вижу царя, лишился дара речи и что я родом с Кавказа.
Царя, видно, это развеселило.
– Знаю я вас, терцев, справно несли службу и отцы ваши, и вы, спасибо!
Он улыбнулся и кивнул молодому генералу. Тот подошел ко мне и сказал то же самое, что говорил другим солдатам:
– За верную службу царю и Отечеству Его Величество награждает тебя георгиевским крестом. И тут же приколол этот крест к моей груди.
Семен на минуту умолк, полез опять в карман, достал жестяную банку с махоркой. Угостив табаком присутствующих, закурил и сам, затем продолжил свой рассказ:
– Царь и молодой генерал, раздав награды, отошли на середину палаты. Генерал начал говорить, что мы, получив награду из рук самого царя, удостоились великой чести, что он день и ночь печется о благе своих подданных.
Потом генерал сказал, что немцы напали на Россию, и мы должны воевать, пока их не одолеем, призвал нас не слушаться большевистских агитаторов, которые подстрекают народ против царя, сеют смуту в стране и будто тем самым помогают нашим врагам.
Семен пытался скрыть свое волнение. Он курил одну цигарку за другой, беспокойно ерзал на месте, часто оглядываясь вокруг, а пальцы руки, в которой держал цигарку, заметно дрожали.
– И одолеем немчуру. Не долго им осталось, – вступил в разговор урядник Челапкин.
Пробыв на фронте около двух недель, Челапкин был легко ранен в левую руку. О более удачном ранении он и мечтать не мог. В лазарете он быстро вылечился, но получил почему-то бессрочный отпуск. Надел черную повязку и с тех пор ее не снимал, хотя в ней не было никакой надобности. Урядник любил рассказывать о своих боевых подвигах и, повторяя рассказы много раз, сам в конце концов поверил в них. На самом деле он был порядочным трусом и весьма радовался тому, что отделался, наконец, от фронта. Он беспрерывно ходил по начальству, врачам и выпрашивал всякого рода справки, чтобы продлить лечение своей давно зажившей раны.
Семен посмотрел с раздражением на урядника.
– Говоришь, скоро немца побьем, а я что-то не видел. А где наши станичники? Воюют…
– Наше счастье с вами, что мы целы. А они повоюют и вернутся. Боже, спаси Россию, сохрани ее крепость духа, – сказал тот.
– Бог над всеми, но я боюсь, что нам придется пережить еще много страданий. Вокруг нас столько вранья.
– Везде же сообщают о наших победах, – с горячностью отвечал урядник.
– Это газеты брешут про победу? Пропадет Россия со своими кацапами.
– Россия тысячу лет строилась, и разбиться так – ей не с руки, – сказал кто-то из гостей.
– И не увидите, как развалится, – сказал как-то обреченно Семен, – А военного лиха ты точно не испытал, – посмотрел он на Челапкина.
А Никита, внимательно слушавший Семена, стал вспоминать, как там, на фронте, скачут по полю лошади с порванными постромками, из разоренных деревень бегут спасаться в лес женщины с младенцами на руках, на перевязочный пункт приходит старушка с обуглившимися руками. Там в лесу стоят замаскированные австрийские пулеметы. Атака! Придется ли вернуться?
То звонко топает конница, тянутся в несколько рядов обозы с провиантом, фуражом, то бегут лазаретные линейки, скрипит щебень под колесами орудий, то медленно, влекомая четверкой полудохлых от старости лошадей, тащится щегольская карета, с подвязанными к задку чемоданами и корзинами, и в запотевшие окошки глядят лица женщин, то вдруг покажется из-за поворота огромная, как Ноев ковчег, фура с пожитками, и еврей тихим шагом идет рядом, держа в одной руке вожжи, в другой лампу, за ним семенят дети мал мала меньше. И тоже видна везде жизнь. Но какая? Спешат занять фланги отряды, мечут искры походные кухни на привалах, и толкутся бабы у сеней уцелевших хат. Вокруг валяется по межам и канавам черт-те что. Какая-то бляха. Лоскут конверта с иностранным штемпелем. Продырявленный чайник и разбитое зеркальце. Из корявых веток крест над свежей могилой, венчик из ельника. Стонет, кажется, сама тишина на полях.
Ты лежишь в дальней дали бесконечного поля, тебя бросили, ты один… И счастье – на тебя наткнулся казачий разъезд…
– Погуторили, и хватит, – сказал станичный атаман Щербина и достал какую-то бумагу.
– Будем жить, казаки, как жили. А менять – на то царская воля.
Тут Щербина, как станичный наместник, решил показать свое я.
– Никогда казаки не поднимались против своей матери – России, не поднимутся и теперь, – сказал он.
– Вне России казаку не быть. Казаки – лучшая жемчужина царской короны, и ею они и должны оставаться. Вынуть их нельзя – они исчезнут, затеряются, будут стерты с лица земли.
Глава VIII
1
С 1915 года Германия перешла к обороне на Западном фронте. Главные военные действия она перенесла на Восточный фронт, стремясь быстрее вывести Россию из войны, чтобы затем беспрепятственно разбить Англию и Францию. Против России было направлено до половины всех вооруженных сил Германии и Австро-Венгрии.
Весной и летом 1915 года русская армия вела кровопролитные бои на Юго-Западном фронте. И хотя у русских недоставало снарядов, артиллерии и пулеметов, войска упорно сопротивлялись.
Царское правительство не смогло обеспечить снабжение фронта всем необходимым. К тому же в интенданстве окопались всякого рода аферисты, спекулянты, наживавшие огромные барыши на поставках армии негодной обуви, снаряжения, обмундирования. Неудовлетворительно работали штабы. Не хватало обученных резервов.
Только храбрость и выносливость солдат спасали русскую армию от поражений.
Подводя итоги 1915 года, следует сказать, что русский театр был в этом году главным театром мировой войны и обеспечил Франции и Англии передышку, которая была широко использована для достижения конечной победы над Германией.
О зимнем периоде 1915/16 годов А. А. Брусилов вспоминал: «В течение этой зимы мы усердно обучали войска. Постепенно техническая часть исправлялась в том смысле, что стали к нам прибывать винтовки, правда, различных систем, но с достаточным количеством патронов; артиллерийские снаряды, по преимуществу легкой артиллерии, стали также отпускаться в большом количестве, прибавилось число пулеметов… Войска повеселели и стали говорить, что при таких условиях воевать можно, и есть полная надежда победить врага».
Первый успех 1916 года был достигнут на Кавказском фронте. Русские войска начали неожиданное наступление в самое неудобное время года. В результате этой операции Кавказская армия под командованием Н. Н. Юденича овладела турецкими городами Эрзерум, Трапезунд и Эрзинджан.
В марте 1916 года, в весеннюю распутицу, русские войска повели наступление в районе Двинска и озера Нарочь. Потери были очень велики, но зато во Франции немцы прекратили атаки на Верден.
В июне 1916 года начался знаменитый прорыв Юго-Западного фронта, названный Брусиловским.
Алексей Алексеевич Брусилов родился в 1853 г. на Кавказе, в городе Тифлисе, где проходил военную службу его отец – генерал-лейтенант русской армии. Рано лишившись родителей, он воспитывался у родственников, а когда ему исполнилось 14 лет, его отправили в Петербург и определили в Пажский корпус.
В стенах этого самого привилегированного военно-учебного заведения Алексей Брусилов находился 5 лет. Программа обучения была обширной, она включала изучение наряду с общеобразовательными предметами и военных дисциплин – тактики, артиллерии, фортификации, топографии, военной администрации, военного законоведения.
Брусилов получил прекрасное по тому времени образование, проявив большую склонность к военным наукам.
В 1872 г. он был выпущен из корпуса в чине прапорщика и назначен в Тверской драгунский полк, расквартированный в Тифлисе. Там молодой офицер прослужил более 9 лет. В составе полка он участвовал в русско-турецкой войне 1877-78 г. г., проявил мужество и доблесть, за что имел ряд наград.
В 1881 г. он переводится в Петербург и поступает учиться в офицерскую кавалерийскую школу. По окончании двухгодичного курса он оставляется в ней преподавателем, а в 1902 г. – начальником школы. В стенах школы он провел почти 25 лет своей жизни. Он вступил в нее штабс-капитаном, а завершил службу генерал-майором.
Все эти годы, обучая других, Брусилов настойчиво учился и сам.
Весной 1906 г. генерал А. Брусилов был назначен начальником 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. Потом он командовал 14-м и 12-м армейскими корпусами. В 1906 г. ему присвоено звание генерал-лейтенант, а в 1912 г. – генерал от кавалерии.
Грянула мировая война. Брусилов командующий 8-й армии. А весной 1916 г. назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта.
В середине марта 1916 г. Брусилов, тогда командующий 8-й армией, получил шифрованную телеграмму из Ставки от генерала Алексеева, в которой сообщалось, что он избран Верховным главнокомандующим на должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом взамен Иванова, который назначается состоять при особе царя.
– Принять должность немедленно, – указывалось в телеграмме.
– Почему такая спешка?
– 25 марта царь прибудет в Каменец-Подольск для осмотра 9-й армии. Желательно, чтобы вы его встретили.
– А кого на мое место? Я бы рекомендовал начальника штаба фронта Клембовского.
– Государь его не знает, хотя я вас не стесняю в выборе командующего армии, но со своей стороны рекомендую вам – Каледина.
Брусилов протелеграфировал Иванову, когда прибыть, чтобы принять дела. Но тот ответил:
– Не торопись.
Брусилов снова связался с Алексеевым.
– Ну, раз не можешь пока принять фронт, знакомься с положением дел.
А главнокомандующему фронтом помимо четырех армий непосредственно и во всех отношениях подчинялись еще округа Киевский и Одесский, всего же 12 губерний, не исключая их гражданской части.
Пока он знакомился с положением, нач. штаба сообщил ему, что на фронте, кроме обыденной перестрелки, ничего не происходит. 23 марта он встретился с Ивановым. Тот рыдал, спрашивая, за что его сместили. Про дела на фронте он говорил мало, сказав, между прочим, что, по его мнению, никаких наступательных операций мы делать сейчас не в состоянии и что единственная цель, которую мы можем себе поставить, – это предохранить Юго-Западный край от дальнейшего нашествия противника.
В этом Брусилов с ним в корне расходился, что и высказал ему, но критиковать посчитал излишним, так как сам теперь имел власть решать образ действий Юго-Западного фронта, а потому решил не огорчать и без того расстроенного человека.
На следующий день Брусилов встретился с царем, который инспектировал части, а затем выехал в Могилев, где должен был состояться 1 апреля военный совет.
На военном совете под председательством самого императора присутствовали: главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-адъютант Куропаткин со своим начальником штаба Сиверсом, главнокомандующий Западным фронтом Эверт, также со своим начальником штаба, Брусилов с генералом Клембовским, Иванов, военный министр Шуваев, полевой генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович и начальник штаба Верховного Главнокомандующего Алексеев.
Главный вопрос, который нужно было решить на этом совещании, состоял в выработке программы боевых действий на 1916 год. Генерал Алексеев доложил совещанию, что предрешено передать всю резервную тяжелую артиллерию и весь общий резерв Западному фронту, который должен нанести свой главный удар в направлении Вильно. Некоторую часть тяжелой артиллерии и войск общего резерва предполагается передать Северо-Западному фронту, который своей ударной группой также должен наступать с северо-востока на Вильно, помогая этим выполнению задачи Западного фронта. Что касается Юго-Западного фронта, раз он к наступлению не способен, он должен держаться строго оборонительно и перейти в наступление лишь тогда, когда оба его северных соседа твердо обозначат свой успех и достаточно выдвинутся к западу
Затем слово взял Куропаткин. Он заявил, что на успех его фронта трудно рассчитывать.
– Скорее, нужно полагать, мы понесем громадные безрезультатные потери.
Алексеев не согласился.
– У нас не хватает в достаточном количестве тяжелых снарядов, – заявил Куропаткин.
На это военный министр заявил, что в данное время они могут получить огромное количество легких снарядов, а с тяжелыми надо подождать, так как отечественная промышленность их дать сейчас не может, а из-за границы их получить тоже трудно.
Затем слово было предоставлено Эверту. Он сказал, что всецело присоединяется к мнению Куропаткина, в успех не верит и лучше было бы продолжать держаться оборонительного образа действий до тех пор, пока мы не будем обладать тяжелой артиллерией по крайней мере в том размере, как наш противник, и не будем получать снарядов в изобилии.
После этого слово было предоставлено Брусилову. Он заявил, что, несомненно, желательно иметь большое количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов.
– Но и при настоящем положении дел в нашей армии, – заявил он, – я твердо убежден, мы можем наступать.
Царь и свита переглянулись.
– Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю, но Юго-Западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать. Я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться, – он огляделся вокруг.
– Я считаю недостатком, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы лишить противника возможности пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям, и поэтому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию.
Царь и участники совета внимательно слушали. А он продолжал:
– Я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями. – Он вытер вспотевший лоб.
– Если бы, паче чаяния, и даже и не буду иметь успеха, то по меньшей мере не только задержу войска противника, но и привлеку часть его резервов на себя и этим существенным образом облегчу задачу Эверту и Куропаткину.
Генерал Алексеев, спросив разрешения царя, ответил Брусилову:
– У меня в принципе нет возражений. Но считаю своим долгом предупредить, что вдобавок к имеющимся у вас войскам – ни артиллерии, ни большего количества снарядов, чем по сделанной мной разверстке, вам не причитается.
– Я ничего и не прошу, никаких особых побед не обещаю. Буду довольствоваться тем, что у меня есть, но войска Юго-Западного фронта будут знать вместе со мной, что мы работаем на общую пользу и облегчаем работу наших боевых товарищей, давая им возможность сломить врага.
На это никаких возражений не последовало, но Куропаткин и Эверт после речи Брусилова несколько видоизменили свои заявления и сказали, что они наступать могут, но с оговоркой, что ручаться за успех нельзя.
Вскоре Брусилов собрал свое совещание. На нем присутствовали: командующий 8-й армией Каледин, командующий 11-й армией Сахаров, командующий 7-й армией Щербачев и временный командующий 9-й армией Крымов, так как Лечицкий был еще болен.
Брусилов изложил им положение дела и решение – непременно в мае перейти в наступление.
Генерал Щербачев, которого Брусилов хорошо знал и ценил, высказался, что наступательные действия очень рискованны и не желательны. На что Брусилов ответил:
– Я собрал командующих армиями не для того, чтобы решать вопрос об активном или пассивном образе действий армий фронта, а для того, чтобы лично отдать приказание о подготовке к атаке противника, которая мною бесповоротно решена.
…Чтобы дать понятие о том, какая кропотливая работа требовалась для подготовки атаки неприятельских укреплений того времени, изложу вкратце, что армии Юго-Западного фронта должны были выполнить в течение восьми недель для того, чтобы успешно атаковать врага.
Уже заранее с помощью войсковой агентуры и воздушной разведки командование (Брусилов) ознакомилось с расположением противника и сооруженными им укрепленными позициями. Войсковая разведка и непрерывный захват пленных по всему фронту дали возможность точно установить, какие неприятельские части находились перед русскими в боевой линии.
Выяснилось, что немцы сняли с нашего фронта несколько дивизий для переброски их на французский. В свою очередь, австрийцы, надеясь на свои значительные укрепленные позиции, также перебросили несколько дивизий на итальянский фронт в расчете, что русские больше не способны к наступлению, они же в течение этого лета раздавят итальянскую армию.
Действительно, в начале мая на итальянском фронте они перешли в решительное наступление.
По совокупности собранных сведений стало известно, что перед Юго-Западным фронтом находятся австро-германцы, силою в 450 тыс. винтовок и 30 тыс. сабель.
Агентурная разведка, кроме того, сообщила, что в тылу у неприятеля резервов почти нет и что подкреплений к нему не подвозится.
Воздушная разведка с самолетов сфотографировала все неприятельские позиции, и все офицеры и нижние чины снабжались этими планами на своих участках.
Укрепления противника состояли из трех полос в расстоянии от 3 до 5 верст. Каждая полоса состояла из нескольких линий окопов – не менее трех и в расстоянии одна от другой от 150 до 300 шагов. Все окопы были полного профиля, выше роста человека, и везде в изобилии были построены тяжелые блиндажи, убежища, лисьи норы, гнезда для пулеметов, бойницы, козырьки и целая система ходов сообщения для связи с тылом.
Окопы были сооружены с таким расчетом, чтобы подступы к позициям обстреливались перекрестным ружейным и пулеметным огнем.
Убежища были устроены основательно: глубоко врыты в землю и укрывали людей не только от легких, но и от тяжелых артиллерийских снарядов. Блиндажи имели сверху два ряда бревен, их присыпали на 2,5 аршина землей, а кое-где перекрытия были железобетонные. Для начальствующих лиц были оборудованы целые «квартиры» из 4-х комнат, каждая 12x6 шагов, с застекленными окнами и оклеенными стенами.
Укрепленные линии были опутаны колючей проволокой, стальной, чтобы ее нельзя было резать ножницами. Местами таких полос было несколько в расстоянии 20–50 шагов одна от другой. На некоторых боевых участках пропускался сильный переменный электрический ток высокого напряжения.
Во многих местах впереди первой полосы были заложены самовзрывающиеся фугасы.
Эту работу противник вел в течение 9 месяцев.
И эти укрепления надо было прорвать. Как?
Брусилов на совещании командующих армий:
– Главное условие успеха, – говорил он, – это внезапность. А для этого подготовить плацдармы для атаки не на одном каком-либо участке, а по всему фронту, дабы противник никак не мог догадаться, где будет атакован, и не мог собрать «кулак» для противодействия.
– Время атаки. А оно было кстати. Противник только что отвел некоторую часть на другие фронта.
Началась работа.
Каждая армия выбрала такие участки для прорыва фронта неприятельской позиции. И Брусилов их лично утвердил. Солдаты начали сближение с противником окопными работами. По ночам они выдвигались на 100–200 шагов вперед и устраивали окопы, обнося их рогатками с колючей проволокой. Строились несколько рядов. Но основные силы были в тылу, и противник о них не знал. Лишь за несколько дней до начала наступления ночью они были введены в боевую линию войск, предназначенных для начала атаки. Артиллерия была тоже тщательно замаскирована на избранных позициях и только ждала сигнала.
2
На втором совещании в Ставке 14 апреля был установлен план, согласно которому наступление производится всеми фронтами. Главный удар наносит Западный фронт. Первым же атаку начинает Юго-Западный, на две недели раньше остальных, чтобы привлечь на себя силы противника и этим облегчить нанесение удара к северу от Полесья.
Но окончательная идея наступательной операции в мае еще раз была изменена. Недостаток снарядов не давал возможности наносить удары всеми тремя фронтами. Поэтому роль Северного фронта была ограничена только демонстрациями, преимущественно на рижском направлении, и обеспечение правого фланга Западного фронта, чтобы освободить резерв Ставки – два гвардейских корпуса – для переброски в район главного удара. Главный удар по-прежнему наносился Западным фронтом, но, ввиду положения на итальянском фронте, удар Юго-Западного фронта также должен был быть сильным и быстрым. Последнему, усиленному еще одним корпусом, приказывалось начать наступление 4 июня, а Западному фронту – 10–11 июня. Наступление Юго-Западного фронта должно было сопровождаться прорывом шести кавалерийских дивизий с сарненского направления в обход Ковеля с севера и для работы по неприятельским тылам.
Центральные державы не предполагали начинать этим летом наступательных операций на русском фронте. Выявившаяся боеспособность русских, недостаточно поколебленная в 1915 году, все увеличивающаяся дезорганизация австрийской армии, в которой начались уже беспорядки, невыясненное поведение Румынии и наконец страх перед безграничным русским пространством и бездорожьем были тому причиной.
В общем, австро-германцы решили обороняться, а русские – наступать.
Генерал Брусилов, заменивший Иванова на посту главнокомандующего Юго-Западным фронтом, решил произвести по одному прорыву в каждой армии. Главный удар в общем направлении на Луцк должна, наносить 8-я армия с четырьмя с половиной корпусов, как ближайшая к Западному фронту. Остальные армии (11-я, 7-я и 9-я) должны были также вести наступление на участках, избранных командующими армиями, рассчитывая только на свои силы и средства. Ввиду ограниченности транспортных средств эти удары намечалось вести накоротке, имея ближайшей целью действий «разбить живую силу противника и овладеть его укрепленными позициями».
В общем, 8-я армия должна была прорывать фронт на 16-км участке в районе Олыка, на владимиро-волынском направлении, четырьмя корпусами, имея резерв в одну пехотную и одну кавалерийскую дивизии. Соседняя 11-я армия прорывала фронт на 11-км участке одним корпусом по шоссе Езерно – Тарнополь, 7-я армия полутора корпусами на 7-км участке у Язловца между Буначем и Днестром и 9-я армия двумя корпусами на 11-км участке Онут – Доброноуц, к югу от Днестра. Конница прорывалась на Ковель со стороны Сарны.
В резерве главнокомандующего оставалось три пехотных дивизии, разбросанных за правым и левым флангами фронта, и пятый Сибирский корпус, перекидываемый еще по железной дороге.
Таким образом, на главном операционном направлении Юго-Западного фронта на Львов группировка сил была слабая, более сильный кулак сосредоточен на владимиро-волынском направлении для облегчения намеченного главного удара Западного фронта.
Русская армия к лету 1916 года была пополнена укомплектованиями, на обучение которых в самих войсках было обращено особое внимание, для чего в каждом полку были созданы запасные батальоны, кроме того, в каждой дивизии, по две саперные роты и специальные команды для ведения позиционной войны. Однако армия к этому времени являлась уже по типу милиционной с очень слабым по подготовке младшим командным составом. Имелись случаи нарушений воинской дисциплины, появились первые случаи братания с австрийцами.
Моральное состояние австро-венгерских войск в связи с отправкой на итальянский фронт лучших частей и пополнений резко ухудшилось. В солдатских массах усталость от войны и нежелание воевать стали обычными явлениями.
Всю операцию можно разделить на три отдельных периода: прорыв австрийского фронта, развитие этого прорыва и бои на Стоходе.
Начало наступления русских войск намечалось на 15 июня. К этому времени командование Юго-Западного фронта рассчитывало закончить все основные работы по подготовке и прорыву укрепленной оборонительной полосы противника.
Но в это время австро-венгерские войска прорвали оборону итальянцев в Трентино и начали продвигаться вперед, оттесняя итальянские войска к югу. Настойчивые просьбы итальянского правительства о помощи, энергично поддержанные Жоффром, заставили русское командование ускорить выступление Юго-Западного фронта.
31 мая последовала директива Ставки № 2703, согласно которой начало операции переносилось на 4 июня и начать ее поручалось войскам Юго-Западного фронта.
4 июня с утра во всех армиях фронта (8-й, 11-й, 7-й и 9-й) началась мощная артиллерийская подготовка, продолжавшаяся весь день, а в 8-й армии – до девяти часов утра 5 июня.
По окончании артиллерийского обстрела, сильно разрушившего оборонительные сооружения врага, армии Юго-Западного фронта перешли в наступление, каждая на своем участке фронта. Главный удар наносила 8-я армия в направлении на Луцк.
…Корпус, к которому были приданы казаки-терцы, наступал. Их полк отправили посмотреть, не хотят ли австрийцы перерезать дорогу, и если да, то помешать им в этом. Работа чисто кавалерийская.
Казаки на рысях пришли в деревушку, расположенную на единственной проходимой в этой местности дороге, и остановились потому, что головной обнаружил в лесу австрийцев. Сотня, которой стал командовать подъесаул Казей, прибывший совсем недавно с армейских курсов, спешилась и залегла в канавах по обе стороны дороги.
Вот из черневшего вдали леса выехала группа всадников. Казаки подпустили их совсем близко и первыми открыли по ним пальбу. Несколько человек свалились с коней, другие ускакали.
Опять стало тихо и спокойно, как бывает в теплые летние дни.
Казаки долго стояли в резерве, и не удивительно, что у них играли косточки, хотелось скорее боя. Несколько урядников попросили у командира разрешение зайти болотом, а потом опушкой леса во фланг противнику и, если удастся, немного пугнуть его.
– Смотрите, поосторожней там, – предупредил их Казей, – не утоните в болоте – и они отправились.
С кочки на кочку, от куста к кусту, из канавы в канаву они, наконец, незамеченные, добрались до перелеска, шагах в пятидесяти от опушки. Дальше, как широкий светлый коридор, тянулась выкошенная поляна. В перелеске могли стоять вражеские посты, но казаки, положась на воинское счастье, полные азарта, по одному быстро перебежали поляну.
Забравшись в самую чащу, передохнули и прислушались. Лес был полон неясных шорохов, шумели листья, щебетали птицы, где-то лилась вода. Понемногу стали выделяться и другие звуки: стук копыт, звон шашек, человеческие голоса.
– Поблизости неприятельское расположение, тут надо быть по осторожней, – сказал казакам Матвей Колодей, назначенный в этой вылазке старшим.
И только начав освобождать из ветвей свои винтовки, они увидели группу австрийцев. Они о чем-то беседовали, держа у плеча винтовки с примкнутыми штыками.
Только на охоте испытываешь те же чувства, когда тревога за себя вдруг сменяется боязнью упустить великолепную добычу.
– Целься, – подал команду Колодей и отвел предохранитель. – Огонь!
Залп оглушительно пронесся по лесу. Несколько человек опрокинулись на спину, не крикнув, не взмахнув руками, а остальные стали разбегаться по лесу.
– А теперь айда! – шепнул Колодей с веселым и взволнованным лицом, и казаки побежали. Лес вокруг ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышались какие-то команды. Несколько минут трудно было что-нибудь понять. Стучали пулеметы, казаки тоже стреляли, и звук их выстрелов сливался со страшно участившимся жужжанием вражеских пуль. Но мало-помалу все стало стихать.
– Не стрелять, – отдал команду урядник, и все поняли, что они отбились. После первой минуты торжества казаки призадумались: а что же будет дальше? По силе огня противник определил, сколько их, и вторая атака будет решительней.
А тут урядник приказал:
– Отхода нет, нам приказано держаться, пока не подойдет сотня.
Поглощенные этими мыслями, казаки не заметили, что сзади них в лесу стали появляться маленькие фигуры в серых шинелях. Несколько человек подбежали к ним.
– Пехота? – выкрикнул кто-то из казаков.
– Пехота. Вам на помощь, – ответило сразу десяток голосов.
– А сколько вас?
– Дивизия.
Казаки не выдержали и начали хохотать по настоящему, от души. Так вот что ожидает неприятеля, когда он сейчас пойдет в атаку, чтобы раздавить одну-единственную казачью сотню.
Ох, как хотелось казакам посмотреть на все, что произойдет. Но надо было уходить. Такой поступил приказ.
Они уже садились на коней, когда услышали частую пальбу со стороны противника, возвещавшую атаку. С нашей стороны было зловещее молчание, и они только многозначительно переглянулись.
Отходили мелкой рысью. Тыльный дозорный ухитрился даже привезти пленного. Он ехал, оборачиваясь, как ему полагалось, и, заметив между стволов австрийца с винтовкой наперевес, бросился на него с обнаженной шашкой. Австриец уронил оружие и поднял руки. Казак заставил его подобрать винтовку – не пропадать же, денег стоит – и, схватив за шиворот и пониже спины, перекинул поперек седла, как овцу. Встречным он с гордостью объявлял: «Вот георгиевского кавалера в плен взял, везу в штаб». Действительно, австриец был украшен каким-то крестом.
Вскоре они выпутались из леска и соединились со своим полком.
А на следующий день они опять были в деле. Рано утром, когда еще было совсем темно, в окно халупы, где спал Казей, постучали: седлать по тревоге.
Первым движением он натянул сапоги, вторым пристегнул шашку и надел папаху. Выйдя на двор, прислушался. Ни ружейной перестрелки, ни непременного спутника ночных тревог, стука пулемета, – ничего не было слышно. Озабоченный вахмистр, пробегая, крикнул, что из ближайшего местечка только что выбили немцев, и они поспешно отступают по шоссе и казакам приказано их преследовать.
Известие вызвало радость у седлавших своих коней, а казаков и как-то даже согрело.
Но, увы, преследование вышло не совсем таким, как они думали. Едва они вышли на шоссе, их остановили и заставили ждать час – еще не собрались полки, действовавшие совместно с ними. Затем продвинулись верст на пять и снова остановились. Начала действовать наша артиллерия. Казаки сердились, что она загораживает дорогу. И только позже они узнали, что начальник дивизии придумал хитроумный план – вместо обычного преследования и захвата нескольких отсталых повозок врезаться клином в линию отходящего неприятеля и тем вынуждать его к более поспешному отступлению. Пленные потом говорили, что мы наделали немцам много вреда и заставили их откатиться верст на тридцать дальше, чем предполагалось, потому что в отступающей армии легко сбить с толку не только солдат, но даже и высокое начальство.
Но тогда казаки этого не знали и продвигались медленно, негодуя на самих себя за эту медлительность.
От передовых разъездов к ним приводили пленных. Были они хмурые, видимо, потрясенные своим отступлением. Однако честь отдавали отчетливо не только офицерам, но и унтер-офицерам и, отвечая, вытягивались в струну.
Уже первые дни наступления принесли русским войскам крупные успехи. Прорыв был произведен одновременно на всех участках фронта каждой армии. А австрийские войска начали отходить, оставляя большое количество военного имущества, орудий и боеприпасов. Наибольшего успеха достигла 8-я армия, наступавшая на луцком направлении. Уже к исходу 7-го июня войска армии овладели Луцком, продвинувшись в глубину обороны противника на 25–30 км на фронте 70–80 км. Была разгромлена противостоявшая ей 4-я австрийская армия в составе 12-и пехотных и 4-х кавалерийских дивизий. В 11-й армии наибольший успех в первые дни выпал на долю 17-го армейского корпуса. Войска корпуса прорвали три линии окопов, захватив свыше трех тысяч пленных, большое количество пулеметов и винтовок.
Удачна была атака войск левофлангового, 2-го армейского корпуса 7-й армии. К вечеру 7 июня была прорвана укрепленная позиция противника на фронте в 7 км. Австрийцы оказались вынуждены отойти на реку Стрыну, потеряв только пленными свыше 9 тысяч солдат и офицеров, много орудий, пулеметов.
В 9-й армии уже в первый день наступления 4 июня к 15 часам войска 41-го и 11-го армейских корпусов сбили австро-венгерские части с передовых укрепленных позиций на фронте 6,5 км. В этот день 9-я армия захватила пленных 11,5 тысяч солдат и офицеров, большое количество орудий, пулеметов и других трофеев, но и сама понесла большие потери.
Огромны были потери австро-венгерских войск. За первые три дня наступления русские армии только пленными взяли свыше 100 тысяч человек. Было захвачено большое количество военной техники.
Прорыв австрийских укрепленных позиций открывал перед русскими войсками широкую возможность наступления в глубину обороны противника. Наступал решительный перелом в войне. Германскому командованию было ясно, что без существенной поддержки немецкими войсками Австро-Венгрии она будет выведена из строя и русским войскам откроется путь в Силезию, занятие которой русскими приведет к быстрому истощению центральных держав.
Военные руководители блока центральных государств в своих воспоминаниях отмечали серьезность создавшегося положения, вызванного действиями русских войск.
Германское командование вынуждено было снова оказывать срочную помощь австро-венграм и перебрасывать свои войска на восток. С французского фронта в период ожесточенных боев за Верден германское командование сняло 11 пехотных дивизий и направило их на восточный фронт. Австрийцы вынуждены были прекратить наступление на итальянском фронте и спешно перебросить шесть дивизий против русских.
Кроме того, германское командование сосредоточило к югу от Полесья большое количество самолетов, главным образом истребителей, причем новые авиационные части противника прибыли с западного фронта, в частности из-под Вердена.
Однако после прорыва позиционной обороны противника русские войска Юго-Западного фронта тоже оказались в тяжелом положении. Понесенные ими большие потери в живой силе, отсутствие подвижных групп и достаточного количества резервов не позволяли командованию фронта без промедления развивать результаты, достигнутые удавшимся прорывом.
Необходимо отметить, что наступательные действия Юго-Западного фронта не были поддержаны другими фронтами. Юго-Западный фронт, фактически игравший в этом наступлении главную роль, остался одинок. Главнокомандующий Западного фронта генерал Эверт, на которого по плану Ставки возлагалось нанесение главного удара, всячески, под различными предлогами, оттягивал решительное наступление войск фронта, ссылаясь на неготовность.
15 июня атака силами одного гренадерского корпуса в направлении Барановичей успеха не имела и дала Эверту повод вновь требовать отсрочки наступления и времени для его подготовки.
3 июля Западный фронт силами трех дивизий предпринял еще одно наступление на Барановичи с целью прорыва германских позиций на участке шириной 8 км., но и оно окончилось неудачно. Недостаточно подготовленное, оно привело лишь к большим потерям в пехоте и никакого влияния на наступательные действия Юго-Западного фронта оказать не могло.
Отсутствие помощи со стороны Западного фронта усложняло наступательные действия войск Юго-Западного фронта и дало возможность противнику сосредоточить свежие силы у Ковеля и атаковать здесь русские войска 8-й армии, задержав на время их наступление.
Действия Юго-Западного фронта не поддержали также западноевропейские союзники, чтобы оттянуть германские силы с русского фронта, не получил он помощи в вооружении и боеприпасах, в которых нуждалась русская армия и которые к этому времени Англия и Франция накопила в огромных размерах.
Начальник штаба русской Ставки генерал Алексеев еще в апреле, накануне наступления Юго-Западного фронта, написал военному министру о срочной необходимости увеличения притока снарядов, приводя сравнение с другими воюющими странами: «Для сравнения сообщаю, что французы считают возможным начать наступление только тогда, когда количество выстрелов будет ими доведено: для полевой пушки – по 4200 на орудие, для 90 мм. пушки – 1700 на орудие, для 95 мм. и 105 мм. пушек – по 2000 на орудие, для 120 мм. и 150 мм. – по 1700 на орудие, для 220 мм. – по 1100 на орудие и для крупных калибров – по 600 на орудие. В этот расчет не входят снаряды, которые усиленно будут изготавливаться в период самой операции (примерно 20 дней).
Если мы сопоставим эти расчеты, выведенные из опыта, с жалкою нормой изготовления у нас тяжелых снарядов и с наличием 400–500 снарядов на бывшие крепостные орудия без надежды пополнить израсходованные, то должны будем откровенно сказать себе, что наша артиллерийская подготовка для прорыва явится покушением с негодными средствами».
Действия войск Западного фронта, как уже отмечалось, были безрезультатными. За девять дней под Барановичами русская 4-я армия потеряла 80 тысяч солдат и офицеров убитыми, раненными и пленными. Потери противника составили 25 тысяч человек.
В начале июля русская ставка приняла решение перенести направление главного удара на Юго-Западный фронт. Стратегический резерв Ставки в составе трех корпусов был переведен с Западного фронта на правое крыло Юго-Западного фронта в район Луцка.
По сосредоточению этих войск, образовавших новую армию генерала Безобразова, и для выравнивания флангов главнокомандующий Юго-Западного фронта А. А. Брусилов приостановил наступление 8-й армии. Этим воспользовались немцы и подвели к Ковелю крупные силы с других участков русско-германского фронта. Наступление 8-й армии Юго-Западного фронта на ковельском направлении привело к затяжным боям на реке Стоход, и дальнейшее продвижение русских войск было задержано контратаками свежих сил противника.
На левом крыле фронта войска 9-й армии продвинулись на 120 км. 17 июня был взят город Черновицы, а вскоре русские войска заняли почти всю Буковину. Наступая на Галич и Станислав, 9-я армия способствовала тем самым продвижению 7-й армии.
…Всегда приятно переезжать на новый фронт. Сосредоточение войск, подготовка к предстоящим боям приводят к одной мысли, что здесь произойдет прорыв и начнется победоносное наступление. А в те летние дни как раз наступление было приостановлено. Было приказано выровнять фронт. Войска отступали уже не от невозможности держаться, а по приказам, получаемым из штабов. Иногда случалось, что после ожесточенного боя отступали обе стороны, и кавалерии потом приходилось восстанавливать связь с неприятелем.
Так случилось и в тот великолепный, немного пасмурный, но теплый благоухающий вечер, когда казаки поседлали по тревоге коней и крупной рысью, порой галопом, помчались неизвестно куда, мимо полей, засеянных клевером, мимо хмелевых беседок и затихающих ульев, сквозь редкий сосновый лес, сквозь дикое, кочковатое болото. Бог знает как разнесся слух, что они должны идти в атаку. Впереди слышался шум боя. Они спрашивали встречных пехотинцев, кто наступает, немцы или наши, но их ответы заглушались стуком копыт, бряцаньем оружия.
Они спешились в перелеске, где уже рвались немецкие снаряды. Здесь им стало известно, что их прислали прикрывать отход нашей пехоты. Целые роты в полном порядке выходили из леса, чтобы построиться на поляне позади казаков. Офицеры старательно выкликали: «В ногу, в ногу!» Ждали командира дивизии. В это время казачий дозор привез известие, что мимо них, верстах в трех, дефилирует немецкая пехота в значительных силах. Подъесаул Казей подъехал к начальнику дивизии и попросил, чтобы пехота поддержала их в случае особенного натиска немцев.
Однако из этих переговоров ничего не вышло. У начальника дивизии был категоричный приказ отходить, и он не мог казаков поддержать.
Пехота ушла, немцев не было. Темнело. Казаки шагом поехали искать ночлег. В одной халупе, около которой они остановились, хозяин с наслаждением, хотя, очевидно, в очередной раз, рассказывал, как немецкий фельдфебель останавливался у него и при наступлении, и при отступлении. «Первый раз он все время бахвалился победой, – рассказывал хозяин, – и повторял: “Русс капут, русс капут!” Второй раз он явился в одном сапоге, стащил недостающий прямо с ноги хозяина и на его вопрос: “Ну, что же русс капут?” Ответил с чисто немецкой добросовестностью: “Не, не, не! Не капут!”»
Уже поздно вечером казаки свернули с шоссе, чтобы ехать в бивак в назначенный им район. Вперед, как всегда, отправились квартирьеры. Как они мечтали об отдыхе! Еще днем они узнали, что жители успели попрятать масло и сало и на радостях охотно продавали русским солдатам. Вдруг послышалась стрельба. «Что такое?» – послышалось в строю. Но никто ничего не знал. Когда казаки осторожно въехали в назначенную им деревню и спешились, из темноты к ним бросилась какая-то фигура в грязных лохмотьях. Это оказался один из квартирьеров. Ему налили вина, и он, успокоившись, рассказал: с версту от деревни расположена большая барская усадьба. Квартирьеры спокойно въехали в нее и уже завели разговоры с управляющим об овсе и сараях, когда грянул залп. Немцы, стреляя, выскакивали из дома, высовывались в окна, подбегали к лошадям. Наши бросились к воротам, но те были уже захлопнуты. Тогда оставшиеся в живых стали разбегаться. Рассказчик оказался в самом центре. Его спасла темнота и обычное во время отступления замешательство.
Выслушав этот рассказ, казаки призадумались. О сне не могло быть и речи – рядом немцы. Положение осложнялось еще тем, что в деревню вслед за ними тоже на бивак въехала артиллерия. Гнать ее назад, в поле, они не могли, да и не имели права. Ни один рыцарь так не беспокоится о своей даме, как кавалерист – о безопасности артиллерии, находящейся под его прикрытием.
Оставалась слабая надежда, что в именье находится небольшой немецкий разъезд. Казаки спешились и пошли на него цепью. Но их встретил такой сильный ружейный и пулеметный огонь, какой могли развить по крайней мере несколько рот пехоты. Тогда они залегли перед деревней, чтобы не пропустить хоть разведчиков, могущих обнаружить нашу артиллерию. Лежать было скучно, холодно и страшно. Немцы, обозленные своим отступлением, поминутно стреляли в сторону казаков. Перед рассветом все стихло, а когда казачий разъезд утром вошел в усадьбу, там не было никого. За ночь почти все квартирьеры вернулись. Не хватало трех: двое, очевидно, попали в плен, а труп третьего был найден во дворе усадьбы.
В тот день сотня Казея была головной в колонне дивизии. Путь их лежал через именье, где накануне обстреляли квартирьеров. Там офицер, начальник другого разъезда, допрашивал о вчерашнем управляющего, рыжего, с бегающими глазами, неизвестной национальности. Управляющий складывал руки ладошками и клялся, что не знает, как и когда у него очутились немцы. Офицер горячился и напирал на него своим конем.
Казей разрешил вопрос, сказав допрашивающему: «Ну его к черту, – в штабе разберутся. Поедем дальше!»
Дальше казаки осмотрели лес, – в нем никого не оказалось, – поднялись на бугор, и дозорные донесли, что в фольварке[6] напротив неприятель. Фольварков в конном строю атаковать не принято. Казаки спешились и только хотели начать перебежку, как услышали частую пальбу. Фольварк уже был атакован раньше их подоспевшим гусарским разъездом. Их вмешательство было бы нетактичным, и им оставалось только лишь наблюдать за боем, сожалея, что опоздали.
Бой длился не долго. Часть немцев сдалась, часть сбежала, и их ловили в кустах. Гусар, детина огромного роста, конвоировавший человек десять робко жавшихся пленных, увидел казаков и взмолился к подъесаулу:
– Ваше благородие, примите пленных, а я назад побегу, там еще немцы есть.
Казей согласился.
– И винтовки сохраните, ваше благородие, чтобы никто не растащил, – просил гусар.
Ему обещали и это, потому что в мелких кавалерийских стычках сохранялся средневековый обычай, что оружие побежденного принадлежит победителю.
Вскоре привели еще пленных, потом еще и еще. Всего в этом фольварке забрали шестьдесят семь человек настоящих прусаков, действительной службы, кстати, а забирающих было не больше двадцати.
Когда путь был расчищен, казаки двинулись дальше. Спросили у местных жителей, давно ли были немцы. Оказалось, что всего час назад ушел последний немецкий обоз и его можно догнать. Но едва казаки решили сделать это, как к ним подскакал посланный от нашей колонны с приказанием остановиться.
Казаки стали упрашивать Казея притвориться, что он не слышал этого приказания, но в это время примчался второй посланник, чтобы подтвердить категоричное приказание ни в коем случае не двигаться дальше.
Пришлось покориться. Казаки нарубили шашками еловых ветвей и, улегшись на них, принялись ждать, когда закипит чай в котелках. Вскоре к ним подтянулась и вся колонна, а с нею пленные, которых было уже около тысячи человек.
И вдруг над этим скопищем всей дивизии, когда все обменивались впечатлениями и делились хлебом и табаком, раздался характерный вой шрапнели, и неразорвавшийся снаряд грохнулся прямо среди казаков. Послышалась команда: «По коням!» И как осенью стая птиц срывается с густых ветвей рябины и летит, шумя и щебеча, так помчались казаки. А шрапнель все неслась и неслась.
– Все ли тут? – спросил Казей, когда они отскакали на приличное расстояние.
– Я тут, я тут… – послышались голоса.
Он сделал перекличку – оказались все.
Казаки проехали еще верст пять, как им было приказано и, вернувшись, доложили, что дорога свободна. Их поставили на бивак, но какой это бивак! Лошадей не расседлывали, отпустили только подпруги, люди спали одетыми. А на утро разъезды донесли, что германцы отступили и у нас на флангах наша пехота.
Наступление началось смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно всем было увидеть выходящую из леса пехоту. Оказалось, что они, идя с севера, соединились с войсками, наступающими с юга. Бесчисленные новые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков и бугров. И их присутствие доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой…
Для австро-венгерского блока создавалась реальная угроза вторжения русских войск в Венгрию. Однако огромные тактические успехи войск Юго-Западного фронта не привели к решающим оперативным результатам. Наступление русских войск стало постепенно выдыхаться. После дождей дороги становились труднопроходимыми, пехота утомлена, артиллерия отстала, боеприпасы отсутствовали. Резервов, которые могли бы решительно изменить сложившуюся обстановку, уже не было.
Ставка не смогла обеспечить необходимыми силами и средствами наступление войск фронта и развить достигнутый ими успех. Дальнейшие действия русских войск привели к затяжным сражениям на реке Стоход. Встречая сопротивление свежих германских дивизий и не имея резервов, Юго-Западный фронт в первых числах сентября стал закрепляться на линии река Стоход, Киселин – Злочев – Бережаны – Галич, Станислав – Ворохта.
Но несмотря на незавершенность прорыва, наступление русских войск Юго-Западного фронта под командованием А. А. Брусилова имело решающее значение в ходе Первой мировой войны. Оно послужило началом перелома в ходе войны. Французское командование получило возможность восстановить положение под Верденом.
Италия была спасена от разгрома, так как австровенгерское командование, в связи с переброской шести пехотных дивизий с итальянского фронта в Галицию, должно было прекратить начатое наступление в Трентино.
Германское командование теряло инициативу в действиях и вынуждено было переходить к стратегической обороне как на западном, так и на восточном фронтах. Теперь инициатива прочно переходила в руки держав Антанты.
Глава IX
1
…На Терек стали приходить все более и более тревожные слухи о ходе войны. Говорили, что царь взял командование всей армией на себя, потому что армия в опасности.
Из Тифлиса было получено предписание о формировании новой очереди казаков.
В воскресенье, по обыкновению, станичники собрались к обедне в храме Михаила Архистратига. Храм был гордостью станичников. Построенный чуть более пяти лет назад на месте старой деревянной церкви, он украшал станицу, придавал ей особое степенство.
Внутри церкви изгибы купола, крашеные в голубой цвет, изображали небо, отороченное кое-где пушистыми белыми облаками. На одном из них был изображен золоченый трон, на котором восседал Бог – создатель мира. А вокруг парили ангелы в облике наивно-приветливых младенцев с крылышками. Стены церкви были разрисованы библейскими сюжетами. Тут и Голгофа с распятым Христом, и одинокий ковчег Ноя на грозном гребне волны всемирного потопа. На двери в алтарь была изображена картина страшного суда.
Благообразный, тихий священник служил с той кроткой торжественностью, которая так величаво, успокоительно действует на души молящихся.
Царские ворота затворились, медленно задернулась завеса. Но оттуда таинственный, тихий голос читал слова молитвы:
– «Миром Господу помолимся».
– «О свышнем мире и о спасении душ наших».
Когда молились за воинство, вспомнили о казаках, воюющих сейчас на различных фронтах, кланялись и крестились, говоря себе: «Спаси их Господи!»
Окончив ектенью, дьякон перекрестился и произнес:
– Сами себя и живот наш Христу-Богу предадим.
«Сами себя Богу предадим, – повторил в своей душе атаман станицы Щербина. – Боже мой, предаю себя твоей воле, – думал он. – ничего не хочу, не желаю; научи меня, что мне делать, куда употребить свою волю!» – Он перекрестился и стал думать, кого он направит в очередную присягу, на фронт.
Тут вышел священник. Он оправил волосы и с усилием встал на колени. Все сделали то же, с недоумением смотря друг на друга. Это была молитва, только что полученная из синода, молитва о спасении России.
«Господи Боже сил, Боже спасения нашего, – начал священник тем ясным, ненапыщенным и кротким голосом, которым читают только одни духовные славянские чтецы и который так неотразимо действует на русское сердце. – Господи Боже сил, Боже спасения нашего! Призри ныне и милости и щедроты на смиренные люди твоя, и человеколюбно услыши и пощади и помилуй нас. Се врази смущаяй землю твою и хотят положите вселенную всю пусту, восста на ны; се людие беззаконии собрашася, ежи погубить достояние твое, разорить честный Иерусалим твой, возлюбленную тебе Россию…
Владыко Господи! Услыши нас, молящихся Тебе: укрепи силою твоею благочестивейшего, самодержавнейшего великого государя нашего Наколая Александровича; помяни правду его и кротость, воздаждь ему по благости его, ею же хранит ны твой возлюбленный Израиль. Благослови его советы, начинания и дела; и подаждь ему победу на врага, яко Моисею на Амалика, Гедеону на Мадиама, Давиду на Голиафа. Сохрани воинство его…
Господи Боже наш, в него же веруем и на него же уповаем, не посрами нас чаяния милости твоея и сотвори знамение на благо, яко да видят ненавидящие нас и православную веру нашу, и посрамятся и погибнут; и да уведят все страны, яко имя тебе Господь, и мы люди твоя. Яви нам, Господи, ныне милость твою и спасение твое даждь нам; возвесели сердце рабов твоих о милости твоей; порази врагов наших, и сокруши их под ноги верных твоих вскоре. Ты бо еси заступление, помощь и победа уповающих на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно и во веки веков. Аминь».
В том состоянии раскрытости душевной, в котором находились станичники, эта молитва сильно подействовала на них. Они слушали каждое слово о победе Моисея на Амалика, Гедеона на Мадиама и Давида на Голиафа и о разорении Иерусалима и просили Бога с той нежностью и размягченностью, которою были переполнены их сердца. Они всей душой участвовали в прошении о духе правом, об укреплении сердца верою, надеждою и о воодушевлении их любовью. И им казалось, что Бог слышит их молитву.
Из церкви атаман Щербина пошел не домой, а прошел по станице. За валом станицы ласково шумел Терек.
– Вот ты, наш батюшка-Терек, – вслух сказал Щербина, и ему почудилось, что в ответ река зашумела еще сильнее.
Солнце опоясало самую макушку двухголового великана Эльбруса, и он искрился лиловым отсветом.
Щербине почему-то вспомнилось детство, рассказ деда, как они с бабушкой попали сюда, как строилась и росла станица.
«Неужели пройдет и его время? – думал он. – Одногодков никого нет. А говорили, когда он еще в Петербурге в конвое царя охранял, так: мало кто их не знал, знают и знать будут – Чепигу,
Верзилина, Котляревского – войсковых бывших атаманов. Время не убило?»
«Их, войсковых атаманов? – подумал Щербина, – А кто я?»
И какая-то тайна вдруг уколола его.
«Мой дед, бежавший когда-то от черниговского помещика, был пленен вместе с бабушкой абреками и увезен в Малую Кабарду. И вот здесь темной ночью они переправились через Терек, чтобы попасть в станицу».
К Щербине подошел старый казак Кульбака.
– Что, Алексеевич, задумался? – спросил он.
Щербина вяло махнул рукой, и они, свернув с улицы, вышли на самый край Терека.
Река дугой подпирала пришибские кручи и где-то на дне в самом деле покоила тайны. Впрочем, сколько других тайн хранит эта терская, казачья земля.
Щербина и Кульбака долго еще говорили обо всем, но вернулись к политике.
– Что и говорить, жизнь в Терской области с началом войны заметно изменилась, – сказал Кульбака.
– Еще с японской казаки очень изменились, – отметил Щербина.
– Казаки еще ничего, – ответил Кульбака, – а посмотри, что в городе делается. Всюду прокламации. В почтовые ящики суют записки с требованием немыслимой суммы на революционную борьбу и, как часто выясняется, записки выдумывают обыкновенные жулики, пожелавшие обогатиться в пылу ситуации.
– Знаю, знаю, – продолжал разговор Щербина. – Полиция наскакивает ночами в квартиры с обыском; извозчики тайно перевозят подпольщиков в явочные места. В окружном суде день за днем приговаривают арестованных к ссылке в Сибирь; поплатились холодной ссылкой и некоторые казаки.
– Ты погляди, что делается, – уже удивленно отвечал старый казак. – А что же думают в столице?
– Темна вода во облацех, – отвечал Щербина. – Быть может, сплотились где-то патриоты, готовые умереть за честь православия и царского трона, – странно, если бы их не было. Во Владикавказе революционеры мешают самому генералу Флейшеру умиротворять область. Они звонят, пишут, требуют отменить запрет на патриотические манифестации.
– Виновники наших бедствий унизили православную веру, на далеких маньчжурских полях зарыли воинскую славу, богатство разбросали по шпалам Великого Сибирского пути, забрали в свои руки торговлю, науку, печать – заявляют они.
Из Москвы, Петербурга газеты несли свои крики. Писали: «Людей, которые занимались спасением страны, никто не понимал, и они страдали в одиночестве. Предупреждали: никакие ужасы прежних восстаний не сравнятся с тем, что произойдет, когда рабочие и крестьяне объединятся в борьбе против правительства. Все потеряют меру дозволенного, кровь превратится в красную воду. Царь призывал хранить заветы русские: верить в Бога и великое будущее России, государство крепкое, благоустроенное и просвещенное.
Церковники не отставали от светских прорицателей. Проповедовали: смысл спасения указан в Евангелии. Что делать? Что делать – слышится в обществе.
Вот что делать: умирайте, если нечего делать, или живите в деле. Настанет время, когда все сильные и здоровые почувствуют, что им пора отделиться от слабых и больных и спасать свое бытие от общего разложения. Лопатой, отвевающей сор от зерна, явится это чувство самосохранения. Беспощадно нужно гнать от себя всякое тление, отовсюду гнать бездарность, бессовестность, тунеядство и прочее. Снова, как во времена Иоанна Крестителя, который обещал спасение только праведным, люди нуждаются в восстановлении не самого общества, а самих себя.
Внешнее строится по внутреннему, и если обеспечен идеал жизни в сознании и воле, то и внешняя жизнь сложится совершенной. Если зерно таит внутри себя жизнь, то оно непременно разовьется в корни, в стебли, в красоту благоухания цветка. И тогда, и теперь – всегда были люди, покорные Богу в своей душе, и такие люди живут, почти не нуждаясь в услугах внешней власти.
Так писали и говорили.
– Атаману не к лицу путаться с газетными писаками, – повторил Щербина свою простенькую мысль. – Завтра поговорим обо всем с казаками.
Только сказал об этом атаман Кульбаке, как к ним на сером жеребце, в походной бурке, с шашкой и револьвером у седла подъехал офицер из Владикавказа.
– Здорово ночевали, казаки! – поприветствовал он беседовавших.
– Слава Богу, ничего, – ответили они ему.
Офицер спешился. Он поздоровался отдельно с атаманом. Они обнялись, а потом прошли в правление.
А вскоре туда, чтобы узнать о происходящем, потянулись казаки.
Семидесятилетний дедушка Дзюба, с трудом отрывая задеревеневшие ноги от земли, мелкими шашками бежал, поспешая узнать новость. Лицо младенчески чистое, плечики от ветхости сузились, но грудь выпячена истово, упрямо, медалью вперед. Шашка в ножнах при нем.
Вышедший из правления вместе с атаманом офицер подмигнул старику.
– Немчуру пощипать пора, казаки!
– Пора, пора, – отвечал вместе со всеми Дзюба. Но теперь властный холодок пробежал по казачьим спинам. Запахло дальними странами, походами, палатками и боевыми трофеями. Запахло дикой волей, полынной горечью расставания, пьянящей душу казака, как солдатский спирт. Казакам не привыкать сражаться в дальних странах – деды и прадеды выплясывали с парижанками, крестили язычников в русской Калифорнии, в Китае чай пивали и в Стамбуле бывали.
Сверкая персидской серьгой, Егор Кашуба с дымным взором прорицал:
– Кто прольет кровь человеческую – того кровь прольется рукой человека!
– Всякая плоть извратила свой путь на земле, – вторил ему кто-то.
– Как орел налетит на тебя народ, языка которого ты не разумеешь! – в сердцах восклицал Кашуба, напоминая о гремевшей уже войне.
Потревоженным ульем гудела станица. Стало известно, что будет формироваться очередная присяга для отправки на фронт.
2
А во дворе казака Скорика суета. Приехал в отпуск с фронта сын. Пантелей важно вышел из хаты и встречает Тимофея у ворот.
– Ну, подойди до меня, бисова душа, ты ли это?
– Я, батько, я!
Они обнялись. Мать с сестренкой стояли в стороне, не зная, как поступить дальше.
– Ой, братик! А я видела тебя сегодня во сне, – подскочила к Тимофею сестра, но мать ее приостановила.
– О снах потом. Не дело об этом при встрече. У тебя ничего не болит сынок? – спросила мать Тимофея и обняла его.
– Ты мой касатик, кровинка наша. – Она вытерла передником глаза.
– Отец уж как тебя ждал. Каждый день заставлял печь пироги. Каждое утро приказывал: «Смотри мне, бисова душа, чтоб тесто было готово».
– Мой братик, страшно там? – спрашивала сестра.
– Не знаю. А ты тут еще не вышла замуж? – спросил ей в ответ брат.
– Нет! Хорошие-то воюют, вроде тебя.
– А тебе, видно, нужен казак, который бы на полном скаку с земли платочек подобрал?
– Мне нужно, чтобы я его любила.
Отец, из-за всякого пустяка повышавший голос, спокойным тоном пригласил всех пройти в хату.
– Ну, идите, идите! – толкала их мать. Обед приготовлен.
– А ты чего как лисица хвостом машешь, – обратился Пантелей к жене, – чего-нибудь с погреба нам дай. Хоть языком лизнуть цю заразу. Я уже забыл, когда последний раз выпивал.
Тимофей был гордостью и опорой старой фамилии. И от этой радости отцу казались все милыми и хорошими, даже те, с кем он вчера поспорил и рассорился, были приглашены на встречу.
– Я же, сынок, всем рассказываю, как ты славно служишь и за что тебя наградили, – говорил отец со слезами, чокаясь с сыном. – В нашу породу.
– Ото… – сказала мать и сама заплакала. – Ото и радости, что живой.
А Тимофею посыпались вопросы, на которые он, не торопясь, обстоятельно отвечал.
– Ну, а ярмо, чи хомут не нашел себе? – то ли шутя, то ли серьезно спросил отец.
– Что ты, батя? – ответил Тимофей, поняв намек отца. – Я женюсь на казачке, есть тут одна на примете, – смело ответил Тимофей.
И Пантелей стал вспоминать довоенные наблюдения деда Ильи, рассказанные ему после убытия на фронт Тимофея.
…Скорики ломали кукурузу. Золотились горки желтозубых початков. Сухой ветер устало звенел в лабузе. Семья работала вся. Дед Илья кашеварил, пристроив на рогульках казан, и размышлял. Он коренной станичник и потомственный казак. Его дедушку привезли сюда десятилетним, и от него пошел род Скориков. Сыновья его женаты на своих же станичных казачках, и дети их казаки. «Младшему Тимофею, скоро на действительную идти. Но парень уже заглядывает на девчат. Одна особенно ему нравится. Она работает со своей семьей по соседству». Дед уже заметил, как она загорается при взгляде на Тимофея – как цветок, просвеченный солнцем. Косы девичьи связаны узлом, как хвосты коней в Распутину.
«Все бы хорошо, да уж больно высока, верба чертова, – думает дед, – хотя и Тимофей не мал, под носом уже чернеет пух».
Тимофей рассказывал, как в один снежный вечерок он шел по станице. Вдруг из-за ворот посыпались сапожки и башмачки. Он поднял один. С визгом выбежали из калитки раскрасневшиеся девки и разочарованно узнали башмачок: Аньки Сидневой жених, а ей-то года не вышли!
Аня стояла тогда ни живая ни мертвая, заливаясь синими снежинками счастья. Тимофей зачерпнул башмачком снегу, отдал девочке и зашагал дальше. Анна стала мечтать о нем и даже подсылала братишку с запиской. А встречаться избегала – стыдно. Нравится она и Тимофею.
С гор, как парным молоком, хлынул плотный столб тумана. Солнце летело сквозь него, как брошенный над горами диск. В станице зазвонили к заутрене. Казаки в поле крестились, поворачиваясь в сторону звона.
Тут поспела каша деда Ильи. И он пригласил всех на трапезу.
Тут-то подошедший Тимофей и столкнулся лоб в лоб с Аннушкой, которая только что разговаривала с дедом.
Пыхнула Анна. В снежно-синих глазах – отсверки дальних ледников, сахарных гор. Не смотри же, уходи! А тут – будь ты не ладна! – коса развязалась, упала на спину, а такое и жениху видеть не дозволялось, только мужу. Кинулась она в кукурузник – только ее и видели.
Пантелей вспоминает, а за окном синеет седой Эльбрус в белом башлыке тучи. Пахнет вялым листом, поздней ежевикой, вишневой корой. Мягкий солнечный свет. Быстро бегущие по земле тени облаков.
Сладко думается и Тимофею. Он думает о будущем. Он мечтает о земле, о семье. Ухажерок у него не было, и поэтому в думах он представляет на своем дворе Анну Сидневу. Думать все позволено: вот она провожает его спозаранку в степь, вечером встречает, моет, кормит, ласкает.
«Скорей бы войне этой конец!» – думает Тимофей. И словно подслушав его мысли, в разговор вступает мать:
– Дай Бог кончится эта война, – сказала она, – возьмешь себе друженьку. Нехай она будет небогата, но мягкосердечна, а не такая крикунья, как наша Анна.
– Аннушка, сестричка? Она же добрая, – возразил Тимофей.
– Была добрая, пока мать на руках носила. А сейчас хвост закрутит – и бегом со двора.
– Мама, ну что ты? Я же работаю, фронту помогаю, – оправдывалась дочь. Она ухаживала за ранеными в лазарете.
В хате набилось народу и стояла неимоверная духота. Чтобы разрядить обстановку, Пантелей пошутил:
– Ну что, Тимофей, отогрелся с Турции, али как?
– Да-а, – вздохнул Тимофей. – Намерзлись мы там – в мороз. Снегу в горах было много. Сапоги мои разбились.
– Я тебе новые сапоги справил, – вставил отец.
– Спасибо, батя, – продолжал Тимофей. – Снял я тогда сподники, обмотал ноги и ремешками от седла завязал. Сутки промерзли в снегу, а утром взяли турецкую деревню. И там я достал себе турецкие чувяки – так немножко теплее стало.
– Коли батьки ваши так воевали, то вы что? Не такие люди? Мы под Ляояном в китайских фанзах ночевали – бумага вместо стекла. Ложились рядами, прижмемся друг к другу, а крайним все равно холодно. А ставить палатки – колышки не влезают в землю. Всяко бывало. Иногда везло. Коня подо мной ранило, дважды бурку пробило и головка кинжала отлетела, а меня ничего, – в сердцах говорил сыну Пантелей.
– Ешьте уже, – подгоняла мать. – И отдохнуть же надо. Пороху нанюхался, тай ще придется понюхать. Ой, Боже…
– Отдыхай, казак! Завтра сходим к атаману, потом съездим к кунаку в Азапшей, спрашивал о тебе, хороший человек, – говорил отец.
Но хотелось поговорить со своими. Тимофей разомлел, вытянул ноги и с доселе не известной ему лаской смотрел на старых родителей, жалел сестру. Его тоже жалели. Мать, пока сидели, несколько раз потужила, что сынок ее все еще без семьи.
На следующий день он с отцом посетил атамана.
Щербина принял их в правлении. Когда они вошли, он просматривал газеты. В чем только не обвиняли в те месяцы интеллигенцию, руководство! В отщепенстве, в слепоте, в том, что они не хотят видеть нашествия изнутри, в умственном косоглазии, в преклонении перед прогрессивными фетишами. Щербина чувствовал, что и он попадает в этот разряд: критикуешь вышестоящих лиц, жалеешь инородцев?
«Грань, между дозволенным и не дозволенным, в человеческой душе, – писали газеты, – разрушена, порок приобретает черты гражданства, и вы, господа, не понимаете этого? Какие же вы-де русские, если благословляете темные силы? Все изменится: власть лучших (по крови и уму) сметется господством худших, и воссияют лозунги: “Чем тяжелее теперь, тем скорее наступят светлые времена!”. Идеалы животного довольствия станут на первое место, все будут одинаковыми. Печать уже забрызгана грязью улицы, скверным сорочьим стрекотаньем, угождением обывателю».
«Очнитесь! – неслось со страниц. – Сорок сороков в белокаменной Москве волнами носят звуки церковного благовеста. Придите в умиление, как молится в храмах святая Русь, поймите, что не иссякла вера ее, и не трогайте, не сворачивайте Русь на другую дорогу. Скажите себе: “Здесь, перед святым крестом, клянусь…”
«Ваше правительство отстало от времени, вы под властью старой исторической инерции, вы и родились-то в крепостные времена, впитали с молоком матери психологию “старого величавого порядка”, когда народ почти отрицался», – это он вычитал в левой газете. А правые шпарили ответы: «Русские по вере и крови не отдадут своего первородства за чечевичную похлебку; еще древний Рим ставил вечный завет: щадить покорных и смирять заносчивых!»
За этим чтением и застали отец с сыном атамана. Он вежливо поздоровался с Тимофеем, расспросил о житье-бытье на фронте. Остался доволен. О геройских делах Тимофей особо распространяться не стал, только заметил: «Как только казаки перешли турецкую границу, сняли папахи, перекрестились и поздравили друг друга с боем, так и вылетело из головы, что есть мирная жизнь».
– Там все подчинено войне, – просто и буднично сказал Тимофей.
Тимофей покрасовался в правлении перед пришедшими туда казаками, послушал атамана о том, что происходит во Владикавказе, других станицах полка. Рассказали ему и об очередной отправке со станицы казачьей сотни на фронт.
Тимофей вышел на улицу и поднялся на курган, расположенный неподалеку. Отсюда видна станица. Далеко внизу кружат ястреба. Перед взором игрушечные хатки, порядки улиц, церковь с крестами.
От станицы ползет чугунка[7], зеленая гусеница с черной дымящей головкой паровоза. Приглушенный, невнятный гул. Слабое пение кочетов. Синеватый дымок печали. В станицу с другой стороны Терека упирается головой продолговатая гора – Джулат, сверху похожая на ящерицу. А рядом Терек. Под обрывом реки плоско течет вода, а в дали, за Джулатом, маленькими точками темнеют кабардинские аулы: Азапшей, Пшичо, Хатуэй, объединенные теперь в одно поселение – Хамидию.
В лицо дул ветерок, и млела душа чувством к родной вольной округе.
На другом конце станицы послышалась песня: Скакал казак через долину, Через Кавказские края. Скакал он садиком зеленым, Кольцо блестело на руке. Кольцо казачка подарила, Когда казак ушел в поход. Она дарила, говорила, Что через год буду твоя. Вот год прошел, казак стрелою В село родное прискакал, Завидел домик под горою Забилось сердце казака…Песня звучала задумчиво и раздольно, то набирая силу, то так же тихо угасая. Она буйствовала, вызывая ликование.
Старая казачья песня мешается в крови парня с близкой синевой неба, ковыльным ветром, ароматом луговых цветов. Странное волнение слабит плечи Тимофея – теснит, пугает и томит красота горного пейзажа. Рядом с этой красотой станица мизерна с ее плачем и смехом, мгновенным счастьем и долгим дымом забот. Однако волнение пролетает скоро, как ветер, как облако, и к вечеру мысли у Тимофея другие.
На другой день отец созвал родню, было человек тридцать. Так они сидели вместе последний раз. Все тосты были за скориковскую породу, за героя Тимофея, ее прославлявшего ныне.
Аннушка весь вечер тревожно глядела на брата. У нее было лицо молодой монашки, готовой на подвиг смирения и сочувствия. Хотелось вернуться с фронта живым и опекать ее до конца.
Через десять дней Тимофей уехал на Кавказский фронт.
А вскоре на фронт отправилась и очередная казачья сотня.
Часть вторая Роковой час монархии
Цари! Я мнил, вы боги властны, Никто над вами не судья, Но вы, как я подобно, страстны, И также смертны, как и я. (Г. Державин.)Глава X
1
Два с половиной года войны принесли неисчислимые бедствия и страдания народам всех воюющих стран. Однако в 1914–1916 г. г. на Россию пала главная тяжесть войны.
Русскую армию неоднократно бросали на выручку союзникам, которые берегли свои войска для будущих сражений. В армию было мобилизовано около 15 млн человек. Но по сравнению с армиями своих союзников и противников русская армия была хуже оснащена, и это приводило к огромным людским потерям. Но хотя к 1917 г. Россия потеряла убитыми 2 млн человек и раненными не менее 5 млн, говорить о поражении не приходится, ибо инициатива почти на всех фронтах переходит в руки русских.
И только волнения в Петрограде, стране и армии спасли противника.
Центральные державы ожидали спасения только с выходом России из строя, но этого выхода нельзя было уже добиться на полях сражений.
По словам У. Черчилля, «ни к одной нации рок не был так беспощаден, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду; она уже претерпела бурю, когда наступила гибель. Все жертвы были уже принесены; работа была закончена». «Долгие отступления были кончены; голодовка была преодолена; вооружение протекало широкими потоками, более сильные, многочисленные, хорошо снабженные армии сторожили огромный фронт».
Но жребий брошен. Политическая осада, в которую все больше попадали Романовы и их ближайшее окружение, не могла пройти бесследно. Все то, что и раннее создавало в стране социальную напряженность, вызванную процессом модернизации, война умножила многократно. Николай не считал возможным проводить какие-либо реформы до конца войны. Он утверждал, что «русский народ по своему патриотизму понимает это и терпеливо подождет» и что «только отдельные группы населения обеих столиц желают волнений», чтобы осуществить чуждые народу собственные вожделения. Поэтому, если эти группы не прекратят своих подстрекательств, их «заставят успокоиться, хотя бы пришлось прибегнуть к репрессиям».
Выиграть время до конца войны – это было, пожалуй, главным. Победа, считал Николай, поднимет патриотический дух, изменит ситуацию, тогда и придет час нужных решений.
И совершенно очевидно, что уход от решения проблем, в конечном счете, был способен лишь обострить их. Недовольство и раздражение росло и слева, и справа. Лидер Земского союза, близкий к кадетам князь Львов с отчаянием взывал: «Ваше императорское величество! Обновите власть. Возложите тяжкое бремя ее на лиц, сильных доверием страны. Восстановите работу представителей народных… Откройте стране этот единственный путь к победе, загроможденный ложью старого порядка управления». Один из сторонников ушедшего в отставку министра внутренних дел Н. Маклакова, с которым правые связывали большие надежды, тоже в отчаянии писал: «Правые… страшно волнуются, стараются указать на опасность, но никто их не поддерживает, и крик их пропадает при полном невнимании к нему тех, кто наиболее заинтересован в сохранении исторических основ русской государственной жизни».
Буржуазная оппозиция тянула царя в свою сторону, правые – к себе, а он старался маневрировать. Результатом было стремительное падение престижа власти.
Царь действительно соответствовал эпохе сумерек и заката своего царствования. Его характер рассмотреть было нелегко: это был скрытный человек, по-видимому, владевший искусством не выдавать своих чувств и мыслей. Многим это казалось «странным, трагическим безразличием». Другие видели в нем безволие, слабость характера, которые он старался тщательно замаскировать. Этот царь, кажется, никогда не проявлял своей «царской воли» в традиционном российском представлении: не повышал голоса, не стучал кулаком по столу, не третировал министров и генералов. Он был хорошо воспитан и умел очаровывать. Если, писал лично знавший его генерал В. Гурко, он «и не умел повелевать другими, то собой он, наоборот, владел в полной степени». Версии, согласно которым Николай будто бы находился под безраздельным диктатом Распутина и еще более жены – Александры Федоровны, по меньшей мере весьма сомнительны. Имеются данные, свидетельствующие о скептическом отношении царя к Распутину. Было бы, вероятно, правильнее сказать, что он терпел его, считаясь в основном с болезненным состоянием своей супруги, твердо веровавшей в «нашего друга». Умел Николай осторожно освобождаться и от слишком назойливого давления царицы, если оно расходилось с его замыслами и намерениями.
Что-то верно подмеченное есть в политическом и личностном портрете последнего царя, нарисованном одним журналистом того времени: «Так, переступая с ноги на ногу, переваливаясь с боку на бок, то цепляясь за призрак самодержавия, то бросая корону к ногам Гучкова, то опасаясь истерики жены, то глядя в лицо смерти… брел он как сомнамбула навстречу своему року».
2
…В понедельник 20 февраля Николай II сообщил дворцовому коменданту, генералу В. Воейкову, что на среду назначает отъезд в Ставку, в Могилев.
Не жалуя Зимнего и Александровского дворцов, он любил Могилев, в общем-то, скромный губернаторский дом на берегу Днепра, где находилась Ставка Верховного главнокомандующего. Там было тихо и по-военному строго и четко. Точно назначенные доклады начальников штаба Ставки, генералов А. Алексеева или В. Гурко – он заменял Алексеева, когда тот был в отпуске и лечился в Крыму. Скромные обеды, прогулки, поездки в собор на молитву, вечернее чтение.
Нет, не дворцовая, а именно ставочная, походная жизнь была по нему, и он, как ни любил семью и детей, все же тайно ждал момента, когда надо будет отправляться в Могилев: там душа отдыхала, успокаивалась.
Воейков в осторожной форме заметил:
– Ваше Величество, на фронте сейчас затишье, а в Петрограде сейчас не спокойно.
– Что там?
– Из департамента полиции продолжают поступать данные о возможных забастовках и демонстрациях рабочих, о новых противоправительственных выступлениях в Думе. Не лучше ли еще задержаться в Царском Селе, как советует и министр внутренних дел А. Протопопов и императрица?
Все, о чем говорил Воейков, царь хорошо знал. Но у него были и другие сведения. Приверженцы монархических организаций заверили его, что «простой народ» – с ним, с царем, что протестует, бунтует и подстрекает главным образом «гнилой» Петербург со своей пресыщенной аристократией и интеллигенцией и что стране необходима не конституция, а крепкая самодержавная власть.
– Ехать необходимо, – сказал царь. – На этом настаивает генерал Алексеев, только что вернувшийся в Ставку после трехмесячного лечения и отдыха в Крыму. Его тревожит ход подготовки весеннего наступления, решенного на недавно закончившейся Петроградской конференции союзников. К тому же, по моему мнению, ничего серьезного здесь, в столице, не произойдет: революционными выступлениями запугивают уже давно.
В среду, 22 февраля, два царских литерных поезда медленно отошли от железнодорожной станции Царское Село. Шли обычным порядком. Всюду было спокойно. На станциях их приветствовало местное начальство, перроны были пустынны.
Стоя у окна вагона, Николай размышлял. Как он устал за эти два месяца. Ей-богу, все вокруг прямо сошли с ума. Все терзают его. И родственники, и великие князья, и Родзянко – председатель Думы. Князья все трусят, а этот пугает. Пугает революцией, а какая сейчас может быть революция? Тем более во время войны. Вот сама Дума подраспустилась – это верно. Он ее на два месяца прикрывал, но 14 февраля открыл – что-то нужно и разрешать. Иначе нельзя. Хотя Маклаков все пишет и пишет записки: «Распустите, Ваше Величество, Думу до конца войны». Каким хорошим министром внутренних дел был Маклаков! Жаль, что пришлось его уволить. Но нельзя перегибать палку, хоть и из лучших побуждений. И ведь какие правильные слова снова пишет: «Лишите Думу законодательных прав. Спасение Руси – в полном и неограниченном самодержавии. Вот завет наших предков!» Это было бы хорошо, да нельзя! Никак сейчас нельзя.
Царь внезапно встал, вытянулся, развел руками и вновь задумался.
За окном солнце клонилось к закату и нежным малиновым светом заливало снег. Лес то скрывал солнце, и тени от кустов и деревьев проносились по стеклу, то вновь выпускал низко над далеким черным силуэтом. Всюду были разлиты покой и тишина. И никто не знал и даже предположить не мог, что всего через 10–12 часов в Петрограде начнутся события, которые потом назовут революцией.
Да, именно тогда, 23 февраля 1917 г., многолетний кризис, охвативший всю страну, достиг своей высшей точки. Кризисом этим российское общество было охвачено уже в канун Первой мировой войны. Непримиримые противоречия отдаляли трудящихся, рабочих и крестьян от господствующих классов. В самих этих последних не было единства, шла острая борьба между дворянством и буржуазией. Революция 1905–1907 г. г. оставила глубокий шрам в жизни всей страны. Но коренные вопросы не были решены. Проведенные под натиском народного движения реформы были робкими и половинчатыми. Они не устраивали и тех, кто хотел сохранить в неприкосновенности основы самодержавного строя, и тех, кто в той или иной форме боролся за превращение России в демократическое государство.
Передовые люди из образованных слоев общества осознавали эти глубокие недостатки и пороки романовской монархии. Особенно они были заметны по сравнению с западноевропейскими государствами, в которых эти «представители» живали годами. Не только республиканская Франция и демократическая Англия, но даже кайзеровская Германия с ее легальной политической жизнью для буржуа и даже рабочих умиляли их и давали стимул к борьбе за введение более демократических и либеральных порядков в России. Во главе этого движения шла партия конституционалистов-демократов, или «кадетов». Она возникла в октябре 1905 г. и объединяла в своих рядах многих выдающихся представителей высокообразованной буржуазной интеллигенции.
С 1912 г. активную роль в буржуазном лагере стала играть небольшая, но влиятельная партия «прогрессистов» (от Прогрессивной группы в IV Государственной думе). Секрет успеха заключался в деньгах. Именно в партии прогрессистов было довольно много настоящих капиталистов, банкиров, считавших себя либералами и радикалами.
Правее кадетов стоял «Союз 17 Октября», буржуазно-помещичья партия «октябристов», которая не только проповедовала на словах необходимость сделки с царизмом, но и осуществляла «эксперимент» сотрудничества с правительством П. А. Столыпина в III Государственной думе 1907–1911 г. г. Затем по вине Столыпина этот союз распался, а лидер октябристов А. И. Гучков вышел в отставку с поста председателя Думы. Его заменил М. В. Родзянко, сохранивший затем этот пост и в IV Государственной думе.
В 1913 г. сам «Союз 17 октября» распался на несколько фракций. Гучков, как и большинство октябристов в Думе, перешел в оппозицию к царскому правительству, примкнув в этом к кадетам и прогрессистам.
Из буржуазных партий только октябристы были официально признаны царским правительством легальной политической партией, даже кадеты официально считались незарегистрированной законным порядком организацией. И все же эти партии пользовались относительной свободой организации, отстаивания и пропаганды своих взглядов. Социалистическая же демократия находилась в тисках жесточайших полицейских и цензурных преследований. В лагере революционной демократии авангардное место занимали большевики, оформившиеся как политическое течение еще в 1903 г., а с 1912 г. разорвавшие все организационные связи с оппортунистической частью РСДРП – меньшевиками. Полная риска и героического служения рабочему классу работа большевиков подняла популярность партии в годы нового революционного подъема. Большевистская «Правда», как раньше «Искра», восстановила организации внутри страны, воспитала целый слой сознательных рабочих, «правдистов», на которых затем опиралась партия и в годы Первой мировой войны, и в момент февральской революции. Но с началом войны «Правда» была закрыта, связи с заграничной частью ЦК во главе с Лениным значительно усложнились и затруднились.
Меньшевики в годы войны оказались в лучшем положении. Уступая большевикам в массовости, они имели больше литературных и интеллигентных сил. Не противодействуя мировой войне, они сумели сохранить свой легальный штаб – фракцию в IV Государственной думе, ряд газет и журналов. Небольшая, но крикливая часть меньшевиков стала «оборонцами», т. е. выступила за поддержку войны, ведшейся царским правительством.
Самостоятельно работала в России и партия социал-революционеров, или «эсеров». Их теоритические воззрения представляли собой смесь из отдельных положений марксизма, остатков народнических воззрений, модных буржуазных социологических теорий. Главную роль в революции они отводили не пролетариату, а крестьянству, отрицая, по существу, имущественное расслоение крестьян и объявляя все российское крестьянство трудовым, «социалистическим» по своим общинным традициям. Именно эсеры дали в годы, предшествующие революции 1905 г. и во время ее, целый отряд террористов, убивших одного великого князя, трех царских министров, с десяток губернаторов и вице-губернаторов. Напуганные террористами, царские власти повели особенно жестокую борьбу с эсерами. К моменту февральских событий партия социалистов-революционеров влачила жалкое существование. Ее лидеры и теоретики находились в ссылках и эмиграции вели бесконечную фракционную борьбу. В самой России организации почти отсутствовали. Была лишь небольшая группа эсеров-интернационалистов, противников войны в Петрограде, да Трудовая группа IV Государственной думы, формально не связанная с эсеровской партией.
Итак, колесо истории подвело Россию в ночь на 23 февраля к критическому рубежу, когда страна в лице своих организованных сил и масс должна была сделать исторический выбор. Либералы старались добиться преобразования страны путем реформ сверху, революционеры хотели насильственного слома старого строя. Исторический и классовый смысл многоплановой и многосторонней борьбы всех против всех в России мог быть сведен к простой формуле: удастся ли романовской монархии удержаться еще на десятилетия в двадцатом веке, отстаивая принципы почти не поколебленного самодержавия, или начнется эра перемен? Каковы будут эти перемены: станет ли Россия чинной конституционной монархией, буржуазно-демократической республикой с чередованием буржуазных партий у власти или проложит путь к созданию пролетарско-крестьянской республики и начнет движение к социализму?
3
Николай подошел к окну и раздвинул занавеску. В сумерках он заметил фигуру казака, стоящего в конвое на слабо освещенном перроне. Глаза его были освещены светом, падавшим из окна купе. Съежившаяся фигура, папаха, надвинутая на лоб, усы в мелких сосульках инея. Казак, несомненно, заметил и узнал императора. Но Николай с изумлением не увидел на его лице обычного выражения восторга. Только смертельная усталость, только холод, сковавший все члены этого несчастного человека, желание, чтобы поезд скорей прошел и можно было вернуться с поста в теплую казарму.
Все это неприятно поразило царя, и он быстро задернул бархатную занавеску и сел на диван.
Поезд набирал скорость и казак с его усталостью отступил в небытие, но какой-то неприятный осадок у царя остался.
Он вдруг отчетливо понял на долю секунды, как там, в окопах, миллионы солдат так же съежились от холода и усталости. И мечтали о том же. О том, чтобы скорее все кончилось и можно было бы вернуться в тепло.
Царь попытался отогнать от себя эту мысль, но она не уходила. «Если бы можно было прямо сейчас кончить эту войну!» – думал он.
«Он не хотел ее, видит Бог, и так боялся в четырнадцатом году. Какую энергию он развил тогда, в июле четырнадцатого… Писал Вильгельму, писал в самые критические моменты! Просил воздействовать на престарелого Франца-Иосифа, смягчить чуть-чуть этот ужасный ультиматум Сербии, отменить мобилизацию. Он сам отменил уже отданный приказ о мобилизации».
Николай понуро кивнул головой сам себе. Но ничто уже нельзя было изменить. И министр иностранных дел Сазонов, и военный министр Сухомлинов, – все подталкивали его к войне, клялись, что страна и армия уже готовы, что славянство ждет, что нельзя отдать Сербию ее трагическому жребию. Он вспомнил, как доносили ему верные люди: когда он вторично наконец отдал приказ о мобилизации, то в Военном министерстве все телефоны отключили, идиоты. Боялись, что он снова отменит приказ о мобилизации и тогда война не состоится.
«Вот и получили, – подумал он со злорадством. – Такую войну, какой никогда не бывало! Уже почти три года воюем. И никак ни мы, ни немцы, ни союзники не можем добиться какого-то решающего перевеса. Недаром Вильгельм, между прочим, достойный монарх, многое в нем заслуживает уважения, хоть он, Господи прости, и наш противник сегодня, недаром он столько раз и тайно и открыто нам мир предлагал. Совсем недавно рейхстаг там у них в Германии принял “мирную резолюцию”. И папа римский, который держит сторону австрияков и с немцами заодно, тоже выступает за “почетный мир”.
Если бы только можно было заключить его сейчас, если бы…
Но никак нельзя, не дадут. Россия еще 5 сентября 1914 г. подписала обязательство: не заключать сепаратного мира.
А как его заключить? Польша потеряна, Курляндию забрали. И сколько всего наболтали: трехцветное знамя победы водрузим над рейхстагом, Восточную Пруссию заберем, Турцию разделим! Долгов-то сколько понаделали. Мурманск, Архангельск и Владивосток забиты снаряжением и оружием, вывозить ничего не успеваем. Чего только нет – воюйте на здоровье? Куда от союзников отвертишься. В пятнадцатом году все больше просили да умоляли, а теперь все чаще требуют! Вот и пришлось опять перед Новым годом присоединиться к коллективному отказу союзников от предложения Германии начать переговоры о мире. Так что придется воевать, господа солдаты». Царь выпрямился и заложил правую ногу за левую.
4
… Оторвавшись от раздумий, Николай вынул часы и долго смотрел на них, определяя время. Сообразив, что пора уже спать, он расстегнул китель и потрогал приготовленную для него постель. Адъютанты ушли к себе, с тамбура доносились запах махорки, сдержанный смех и говор охраны. Царь стал раздеваться, наблюдая за иконой Николая-чудотворца, которая висела над его кроватью. Ему казалось, что тот читает его сокровенные мысли.
«…Или это – искушения Судьбы, или предопределение? – думал он. Тогда зачем так мучать меня, если это можно осуществить и легче, и проще».
Лик чудотворца колеблется и мигает и хорошо видно, что угоднику эти мысли не нравятся. Николай подходит к иконе и долго глядит на нее умоляющим, страдальческим взглядом. На глазах появляются слезы, губы шепчут молитву:
– Господь… Ты слышишь, Ты понимаешь меня. Ниспошли мне успокоение вечное, сохрани от насмешки потомков и мучительного позора на скрижалях Истории…
Он выключает свет и ложится в постель. В темноте слышнее становится шум непогоды, свист и возня ветра, бросающего на крышу и в окна охапки снега.
Он вспомнил своего деда – Александра II, погибшего от рук террористов в далеком 1881 году.
В один из таких же февральских дней тому доложили об аресте анархиста Желябова. Министр внутренних дел Лорис-Меликов, несмотря на свою болезнь, сам приехал доложить о первых допросах Желябова. Анархист оказался разговорчивым и дал показания, из которых обнаружилось, что готовится новое покушение на государя и что, несмотря на этот арест, оно все равно состоится.
Новость насторожила, стали уговаривать Александра поберечься и не ездить на развод, намеченный на воскресенье, и посидеть дома.
– Но, я полагаю, опасность не так велика? – спросил тогда царь и, получив заверения министра, что все меры будут приняты, решил не откладывать выезд.
А злоумышленники уже давно следили за выездами царя, а к концу февраля уже знали его главные маршруты, количество охраны и цели поездок.
В воскресенье около часа пополудни государь выехал из Зимнего дворца в Михайловский манеж на развод с церемонией, назначенный в этот день от лейб-гвардии саперного батальона. Конвой, сопровождающий экипаж, состоял из унтер-офицера Козьмы Мачнева, который сел рядом с кучером, и шести конных казаков. Разводом государь остался доволен и возвращался с него «в самом милостивом расположении духа». Следом в санях на паре ехал полицмейстер Дворжицкий, а за ним тоже в санях – телохранители: капитан Кох и ротмистр Кулебякин.
Крупной рысью шли от Михайловского дворца к Екатерининскому каналу. Не доезжая ста шагов до угла, обогнули караул 8-го флотского экипажа. Повернули на канал, миновали двух-трех полицейских, дворника, подметавшего тротуар, парнишку с корзиной. Обогнали двух преображенцев, навстречу которым шел фельдшер Василий Горохов, а следом за ним – невысокий молодой человек с длинными светло-русыми волосами, одетый в драповое пальто. В руках он держал белый узелок. Это и был студент Николай Рысаков.
Когда карета поровнялась с ним, он бросил свой узелок под колеса. Раздался страшный взрыв, два казака упали с лошадей, застонал раненный парнишка. В карете лопнули стекла, кузов получил повреждения. Но путь можно было продолжать. К месту взрыва бегом устремились моряки и прохожие, а Рысаков побежал к Невскому, но поскользнулся, упал и был пойман городовым и сторожем конки Назаровым. Подбежал Кох.
– Это ты взорвал?
– Я, ваше благородие, я! – ответил с вызовом Рысаков.
– Арестовать, – приказал Кох.
Сделали обыск, отобрали револьвер и кинжал.
Государь приказал остановить лошадей, отворил левую дверцу кареты и вышел. Прервал жестом Дворжицкого, подоспевшего сказать, что преступник пойман, и направился к Рысакову. Подбежал Кулебякин с просьбой быть осторожнее и вернуться к карете. Государь промолчал и не вернулся.
На вопрос Коха об имени и звании Рысаков назвался мещанином Глазовым.
Подбежавший поручик Рудыковский спросил:
– Что с государем?
– Слава Богу, я цел, – ответил государь.
– Еще слава ли Богу, – заметил Рысаков, когда царь подошел к нему.
В это время неизвестный лет тридцати человек, стоявший боком, прислонясь к решетке канала, выждал приближения государя, поднял руки и бросил что-то ему под ноги. Опять грянул взрыв, царь и те, кто был поблизости, упали. Когда рассеялся дым, человек двадцать лежали на мостовой среди снега, мусора и крови, среди лохмотьев одежды, эполет и окровавленных обрывков человеческой плоти. Царь сидел на земле, откинувшись назад и стараясь опереться сзади руками. Изорванная фуражка лежала рядом, шинель упала с плеч, из раздробленных ног лилась кровь, на лице зияли кровоточащие раны. Он кого-то искал глазами в толпе, губы едва заметно шевелились. «Жив ли наследник? – шептали они. – Холодно, холодно». И наконец, когда предложили внести его в ближайший дом для оказания помощи, он сказал:
– Несите во дворец… там… умереть.
Преступник имени своего не назвал и умер в тот же день в госпитале от полученных ранений. Следствие установило, что это был мещанин Николай Степанович Ельников, проживаювший на Выборгской стороне.
Мысли царя останавливаются, уходят в сторону С некоторых пор ему стало трудно удерживать внимание на одном предмете, особенно если он волнует, выводит из привычной колеи. Голова устает, в висках появляется и пульсирует боль…
Нельзя сказать, что он испуган или как-то обескуражен – нет. Но что-то гложет душу Поэтому с необыкновенной рельефностью предстало убийство деда, а оно готовилось вот в это же время. Подготовка покушения на отца в день его рождения 26 февраля, тоже приходится на это время. Господь тогда сохранил его, но где гарантия, что сейчас где-то не кроется рука опытного и серьезного врага, для которого убийство русского императора составляет задачу и цель существования?
По делу отца тогда выявились 15 злоумышленников. Для восьми человек смертную казнь (тогда) заменили каторгой и ссылкой на различные сроки. А пятерых казнили.
Грузно поднявшись, Николай оперся обеими руками об кровать. Словно застигнутый врасплох, он вспомнил, что среди казненных был студент Ульянов.
– Этот оказался опаснее, чем предполагалось, – рассказывали Николаю позже. – Он оказался идейным вдохновителем, так сказать, этого дела. Его признания, сделанные на предварительном следствии, в которых он всю вину брал на себя, подтвердились. А речь, произнесенная на суде, показала, как далеко ушел он в своих заблуждениях. Его речь сравнивали с речью Желябова.
– Вот как?
Всплывшая фамилия обожгла государя, он резко выпрямился у стула.
– Ульянов. – Царь произнес фамилию вслух, и что-то знакомое послышалось в этом. – Ленин.
Он стал вспоминать: да, это брат того самого злоумышленника, покушавшегося на моего отца. И казненного за это!
Конечно, этого следовало ожидать. Кто следил за событиями, знали и про покушения террористов, и про казни их, и про суды над ними, и про диктатуру Лорис-Меликова, и про карканье журналистов. Стали обычными фразы вроде «Куда мы идем?», «Чем это кончится?», «Живем как на вулкане», или «Крадут как перед концом». Газеты заполнены недомолвками, рассказами о взятках чиновников, о растратах в министерстве финансов, о расхищении Башкирских земель, о высоком покровительстве ворам, о промахах Горчакова, о страшном падении курса после победоносной войны. А тут еще слухи о нечистоплотности в семейной жизни государя, о браке его с Долгорукой всего через три месяца после кончины императрицы.
Но ничего этого Александр тогда всерьез не воспринимал, как и сейчас Николай II. Согревшись в постели и успокоившись, с божьей помощью, он, крепко обняв влажную от слез подушку, засыпает.
В Могилеве царя встретил начальник штаба Ставки генерал Алексеев. Автомобили быстро доставили их в губернаторский дом. У подъезда в дубленых «романовских» полушубках стояли часовые Георгиевского батальона, а в садике перед домом дежурили полицейские. На крыше дома генерал-квартирмейстера ясно виднелись зачехленные пулеметы, установленные на случай налета неприятельских аэропланов, а возле них – фигуры часовых в папахах и постовых в шинелях.
Тихий снег спускался с неба – начиналась оттепель.
Никто еще не знал и не мог знать, что в Петрограде начались события, которые всего лишь через несколько дней приведут к полному, тотальному крушению многовековой монархии.
Непосредственные истоки этих событий лежали в озлоблении хлебных очередей, вызванных снежными заносами, не позволившими своевременно подвезти в Петроград вагоны с мукой. Ничего иного, никаких политических замыслов или планов тут еще не было. Но почти сразу же возникли забастовки, перерастающие в митинги и демонстрации: начало свою работу быстро пробудившееся партийное подполье. Появились плакаты от рабочих с девизом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». И жутковато повеяло от них. Это крайние меры. Никаких компромиссов, но резкостей нет. Ни одного выкрика вроде «Долой самодержавие!» и прочее. Правда, уже 23 февраля для разгона рабочих демонстраций в Петрограде применялись конная и пешая полиция, жандармерия и кавалерийские части. Но огнестрельное оружие в ход не пускалось.
Как городские власти, так и находившаяся в Царском Селе императрица были вполне уверены, что ситуация под контролем. Александра Федоровна писала царю в Ставку, что беспорядки не имеют серьезного значения и положение в руках командующего Петроградским военным округом генерала С. Хабалова.
На следующий день, 24 февраля, войска начали оцеплять мосты, занимать главные перекрестки улиц, чтобы изолировать демонстрантов и блокировать подступы к центру. С утра 25-го, казалось, положение стало восстанавливаться. Открылись магазины, уличное движение нормальное. Однако днем столкновения с силами порядка участились, появились первые раненные и даже убитые.
Но и теперь никто не думал, что это – революция.
Государственная Дума решала продовольственный вопрос, критикуя при этом правительство. Но даже самая резкая отповедь звучала в основном предостерегающе: необходимо удовлетворить требование общественности раньше, чем оно, по словам кадета Ф. Родичева, «раздастся из истерзанной груди всего русского народа».
В качестве первой меры примирительного характера правительство согласилось передать снабжение населения продовольствием органам городского управления. В «Прогрессивном блоке» придавали этому большое значение, видя в этом дальнейшее усиление позиций общественности в ее затянувшейся конфронтации с властью.
Со своей стороны Совет министров склонился к поиску путей соглашения с думским «Прогрессивным блоком».
Но 26 февраля генерал Хабалов, получивший из Ставки повеление «завтра же прекратить в столице беспорядки», дал инструкцию: «Если толпа наступает, открыть по ней огонь после трехкратного сигнала, в остальных случаях действовать кавалерией». И огонь был открыт… Когда на другой день представитель «Прогрессивного блока» кадет В. Маклаков снесся с министрами, чтобы выяснить их решение о возможном компромиссе, у него спросили:
– Вы знаете, что теперь происходит?
– Что же?
– Войска взбунтовались.
Это произошло 27 февраля – в день перелома событий.
Собравшиеся в градоначальстве представители гражданских и военных властей были сильно растеряны и расстроены. У генерала Хабалова во время разговора дрожала челюсть.
А он был ключевой фигурой в системе петроградских властей в дни Февраля. В молодости он служил в артиллерии Терского казачьего войска, позднее окончил Академию Генштаба, некоторое время находился во Франции. Затем – штаб гвардейского корпуса в Петрограде, а потом служба по «военно-учебному ведомству»: он командир Николаевского, затем Московского (Алексеевскою) и, наконец, петроградского Павловского офицерских училищ. Перед самой войной был отправлен на Урал, где назначен наказным атаманом Уральского казачьего войска. Могла ли не задрожать челюсть такого человека, столкнувшегося с солдатским бунтом? Он сформировал отряд под командованием полковника лейб-гвардии Преображенского полка А. Кутепова, отряд запасного батальона Измайловского полка под командованием полковников П. Данильченко и Б. Фомина, некоторые другие части. Готовились защищать с ними Адмиралтейство, пока подойдут войска с фронта. Затем, однако, решили перейти в Зимний и держаться там.
Ранним утром 28 февраля во дворец прибыл великий князь Михаил Александрович, брат царя. Его вызвал из Гатчины председатель Государственной Думы М. Радзянко в надежде, что тот свяжется со Ставкой по прямому проводу и попытается склонить царя на уступки думской оппозиции, уговорив его согласиться на формирование нового кабинета министров, пользующегося «доверием страны». Николай II решительно отклонил эти рекомендации.
С прибытием великого князя в штабе хабаловского отряда сумятица и неразбериха, пожалуй, еще больше усилились. Все теперь охотно готовы были передать ему бразды правления, чтобы сложить ответственность с себя. Неизвестно было, кто же тут командует. Все страшно боялись захвата восставшими Петропавловской крепости: в этом случае дворец оказался бы под угрозой удара с двух сторон…
Созвали военный совет. Обсуждался один вопрос: способен ли отряд пробиться через Троицкий мост и взять крепость? Не решились. Большинство сошлись на том, что надо возвратиться в Адмиралтейство. Двинулись…
Возвращение плохо подействовало на моральное состояние солдат. Разложение усиливалось по мере того, как к зданию подходили все новые массы людей.
Первой «заколебалась» 2-я рота: ее солдаты заявили, что в Адмиралтействе больше не останутся, уйдут в свои казармы. Удержать роту удалось с большим трудом. Хабалов передал в Ставку на имя генерала Алексеева фактически сигнал SOS.
«Число оставшихся верными долгу уменьшилось до 600 человек пехоты и до 500 всадников при 15 пулеметах и 12 орудиях… Положение до чрезвычайности трудное».
Глава XI
Перед февральскими событиями семнадцатого года обстановка на Тереке складывалась такой, как бывает в природе перед бурей.
Если раньше старые казаки после церкви обычно приходили в правление и, уткнув бороды в стол, уверяли друг друга в одном и том же: «Мы немчуру шапками закидаем», тут вдруг приумолкли, приуныли. Что происходило в то время в Петрограде – казаки не знали. Но что во Владикавказе, Нальчике, Грозном рыскала полиция и тайные агенты вынюхивали крамолу – слышали.
Большую тревогу у начальника области вызывала революционная работа на Тереке.
– Хотя в настоящее время революционное движение в области подавлено, – сообщал он, – но нет никакого сомнения, что подпольная работа антиправительственных деятелей продолжается, с той, однако разницей, что они действуют с осторожностью, выжидая удобного случая, чтобы начать более активные выступления.
Добиваясь продления действия усиленной охраны, начальник области рассчитывал предупредить этим новые революционные выступления. Но из этого ничего не выходило. Наоборот, ее сохранение, расширение карательных экспедиций приводили к еще большему усилению антиправительственных настроений среди населения.
Предпринимателям все труднее становилось сдерживать взрывы гнева и возмущения рабочих и противостоять им.
Вслед за рабочими поднялось на борьбу и многонациональное крестьянство Терека, в том числе и иногородние русские крестьяне, проживающие в казачьих станицах и оказывающие влияние на казачью бедноту.
Увеличение удельного веса иногородних в станицах и рост их влияния на остальное население, стали вызывать сильное беспокойство у начальства, особенно после революции 1905–1907 г. г. Так, атаман Пятигорского отдела Попов в рапорте начальнику Терской области и наказному атаману Терского казачьего войска с тревогой отмечал, что «в настоящее время нет ни одной станицы, где не было бы иногородних, а есть станицы, как например Горячеводская, Ессентукская и Незлобная, где иногородних насчитывается почти половину населения».
А что заставило атамана отдела заняться выяснением соотношения населения войскового и невойскового сословий в станицах, видно из того же рапорта, где он в заключение еще раз вернулся к вопросу об иногородних, считая его «в высшей степени важным в жизни казачества». Он писал, что «если присмотреться внимательно к влиянию иногороднего населения на казачество, то смело можно сказать, что это ржавчина на булате».
Подобные рапорты поступали и из других отделов.
Атаман Сунженского отдела писал в войсковой штаб о том, что он находит «настоятельно необходимым очистить станицы от иногороднего элемента», благодаря которому «казачьи станицы в близком будущем потеряют колорит казачества, забудут старину и весь патриархальный и бытовой старинный уклад». В данное время, писал он, казаки теряют облик казаков, «омужичиваются, а с обстоятельством этим надо считаться». В качестве радикальной меры против влияния на казачество иногородних атаман предлагал совершенно выселить последних из Терской области.
Что же из себя представляла Терская область?
Терская область была образована 3 мая 1860 г. С 1905 года она была разделена на 4 отдела (Пятигорский, Кизлярский, Моздокский и Сунженский) и 6 округов (Владикавказский, Грозненский, Хасавюртовский, Нальчикский, Назрановский, Веденский). В отделах преимущественно жили казаки. В Кизлярском же отделе северо-восточную часть, кроме казаков, населяли русские крестьяне, а северную – кочующие ногайцы. В округах жили в основном горцы, а именно: во Владикавказском – осетины, Нальчикском – кабардинцы и балкарцы, Грозненском и Веденском – чеченцы, Хасавюртовском – кумыки, Назрановском – ингуши.
Во главе Терской области стоял начальник области, одновременно являющийся и наказным атаманом Терского казачьего войска. В военном отношении он пользовался правами начальника дивизии, и в его подчинении находился войсковой штаб, а по гражданскому управлению – правами губернатора.
Во главе отделов стояли атаманы отделов, а во главе округов – начальники округов.
В отношении отбывания воинской повинности территория, заселенная (по преимуществу) войсковым, казачьим сословием делилась на четыре полковых округа: Волчский (в Пятигорском отд.), Сунженско-Владикавказский (в Сунженском отд.), и Кизляро-Гребенской (в Кизлярском отд.). Из этих полковых округов набирались одноименные им строевые и льготные полки Терского казачьего войска.
Территория области составляла 6 630 805 десятин земли (72 337 км2), население всего же на 1 января 1913 г. проживало 1 235 223 человека, из которых горцев было 614 194 человека, в том числе чеченцев – 245 538, осетин – 139 784, кабардинцев – 101 189, ингушей – 56 367, кумыков – 34 234, остальных горцев – 37 084 человек. В целом в Терской области проживало до двух десятков народностей с разным уровнем экономического, политического и культурного развития. Эти многочисленные народы имели различные вероисповедания. Православное население составляло 56,46 %, а мусульманское и другое – 43,54 %. Поэтому религиозный вопрос, как и национальный, играл здесь немаловажную роль.
Крестьянская реформа 1861 г. на Северном Кавказе подорвала основы феодальной системы хозяйства, создала необходимые условия для ликвидации остатков старинной патриархальной замкнутости в хозяйстве и в быту горских народов Терека, способствовала втягиванию Терской области в систему всероссийского рынка, шире открыла дорогу русскому капитализму для экономического освоения этого района, создала предпосылки для развития буржуазных отношений.
В Терской области начинает постепенно развиваться местная промышленность, получившая особенно заметный толчок с окончанием строительства Владикавказской железной дороги. Последняя способствовала в значительной мере возникновению здесь очагов капиталистической промышленности. Центрами фабрично-заводской промышленности в области становятся города Грозный, Владикавказ, Георгиевск.
Решающую роль в превращении Грозного в основной район Терской области сыграли его нефтяные промыслы. Начало промышленной добыче и разработке грозненской нефти положено в 1893 году, когда на Ермоловском участке фирмой «Ахвердов и К» была заложена первая буровая скважина. Из года в год стала быстро расти добыча нефти.
Если в 1900 г. в Грозном добывалось 4,9 % всей нефти страны, то в 1905 г. эта добыча составляла 10 %, а в 1914 г. – 17,7 %. В 1901 г. грозненский бензин уже покрывал внутреннюю потребность России, освобождая страну от необходимости его импорта.
Быстро происходит монополизация этой промышленности. Так, если в 1900 г. в нефтяной отрасли Грозного насчитывалось 40 акционерных обществ, то в 1911 г. их осталось только 10, из которых 6 составляли две объединенные группы.
Грозненская нефтяная промышленность оказалась в руках таких могущественных монополистических объединений, как «Шелл», «Ойль» и «Нобель».
В начале июля 1914 г. был подписан договор между Нобелем и крупнейшей грозненской фирмой Ахвердова, согласно которому Ахвердов сдавал Нобелю «все свое имущество по транспортированию, хранению и продаже нефтяных продуктов».
А в феврале 1913 правление общества Владикавказской железной дороги писало в департамент железнодорожных дел: «Весь нефтяной рынок в данный момент захвачен в крепких руках немногих, но весьма сплоченных фирм, преимущественно иностранных, объединившихся посредством негласных соглашений и синдикатов в такую организацию, которая, устранив всякую конкуренцию, диктует цены и держит страну в состоянии хронического нефтяного голода. При себестоимости грозненской нефти в 12 копеек за пуд, включая амортизацию, цена приподнята до 37–71 коп.».
С особой жадностью протягивал в это время свои щупальца к богатейшим источникам сырья Терека американский капитал. И русские капиталисты, с санкции царского правительства, готовы были отдать их американцам для хищнической эксплуатации. В 1916 г. во время переговоров, происходивших по инициативе Русско-американской торговой палаты, они предлагали дельцам Уолл-стрита заняться разработкой лесных богатств Севера и Кавказа, добычей нефти на Тереке. Американский консул в Тифлисе Смит откровенно заявил, что богатый Кавказ представляет «особый интерес для американцев».
Основную массу рабочих грозненской промышленности составляли русские, среди которых было немало прибывших из Баку и центральных губерний России и имевших богатый опыт борьбы с предпринимателями. Происходил постепенный процесс формирования и национальных кадров в промышленности.
Рабочие в Терской области, как и всюду в царской России, подвергались жестокой эксплуатации. Рабочий день доходил до 15–16 часов, заработная плата на промышленных предприятиях Терской области была значительно ниже, чем у рабочих Центральной России. Так, при среднегодовом заработке рабочего в центральной части страны 202 руб. заработок на нефтепромыслах Терека не превышал 100–120 рублей в год.
Рабочих часто лишали выходных дней, заставляли работать в праздничные дни, не платили за сверхурочную работу. Рабочие маслобойного завода купца В. Лыжина в г. Георгиевске в своей жалобе на имя старшего фабричного инспектора писали, что «хозяин за сверхурочную работу никогда и никому не платил, а если кто и осмелится просить, то его всегда рука показывает на ворота, с присовокуплением потом «вон».
С каждым годом количество жалоб росло. Рабочие, как и прежде, жаловались на их плохое материальное положение, на грубый произвол предпринимателей.
Крайне неудовлетворительно было поставлено медицинское обслуживание рабочих. Плохие жилищно-бытовые и антисанитарные условия приводили к частым эпидемическим заболеваниям.
Страшным бичом для рабочих была безработица. На почве постоянной безработицы на Тереке широко развилось нищенство. В Пятигорске был учрежден комитет для оказания помощи безработным.
В общем, вовлечение Терской области в общую экономическую систему России привело к возникновению здесь промышленного капитализма и вместе с тем обострило классовые противоречия.
В целом горские районы Терека, в силу неизменной политики царизма, направленной на увековечивание экономической отсталости окраин, оставались аграрно-сырьевыми придатками русского капитализма.
Основными занятиями населения оставались земледелие и животноводство.
С развитием капитализма происходила постепенная интенсификация горского земледелия. Усиливалась распашка земли под посев в степных и предгорных районах Терской области. Особенно стали расти посевы таких культур как кукуруза и пшеница, на которые существовал повышенный спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке.
Под влиянием и воздействием всероссийского рынка на торгово-капиталистический лад перестраивалась и другая важная отрасль – скотоводство. В 1910 г. по сравнению с 1900 г. общее поголовье скота в Терской области возросло более чем на 20 % и составило 3 388 394 головы. На рынок поступал не только скот. В значительных размерах продавались шерсть, мясо, овчина и т. д. Развитие торгового скотоводства привело к появлению в населенных пунктах перекупщиков скота, даже к возникновению организации крупного капитала – съезда овцеводов Терской области.
Характерно, что в это время развиваются не только земледелие и скотоводство, но и другие отрасли сельского хозяйства: пчеловодство, садоводство и огородничество, виноградарство. Общая площадь, занятая под виноградниками, в 1911 г. в Терской области составила 11 566 десятин, с которых было собрано 1 315 644 пуда винограда и выделано 1 310 845 ведер вина. Виноградарство особенно было развито в Кизлярском отделе, где оно издавна являлось одним из важнейших занятий жителей станиц, сел и Кизляра. В довоенное время отдел этот давал ежегодно свыше трех миллионов ведер вина, часть которого потреблялась на месте, а около половины сбывалось в Астрахани, на Нижегородской ярмарке и в Москве.
Развитие товарно-денежных отношений привело к увеличению количества базаров и ярмарок в области, расширению магазинной и лавочной торговли, к росту торговых оборотов, к зарождению местной торговой буржуазии. Купцы беззастенчиво обирали население, наживались на его трудовых копейках. Тружеников села грабили и скупщики, перекупщики, ростовщики. И грабеж этот с каждым годом принимал все большие размеры.
О крайне тяжелом положении жителей нагорной части Терской области говорил в своей речи на заседании II Государственной думы в 1907 г. чеченец Т. Эльдарханов: «Здесь не рациональное хозяйство, а каторжный труд, отчаянная борьба человека с природой, а в итоге полуголодное существование на кукурузе и ячменном хлебе». Даже начальник Терской области в своем отчете за 1912 г. вынужден был отметить, что «значительная часть туземного населения страдает от малоземелья».
Но землю арендовали не только горская беднота и иногородние крестьяне, но также и бедняцкая часть казаков. Согласно переписи 1917 г. казаки Терека арендовали 214 488 десятин земли. Только в шести станицах: Бургустанской, Прохладной, Гражданской, Зольской, Александровской и Екатеринаградской из общего количества 5292 казачьих хозяйств земли арендовало более двух тысяч казаков-бедняков.
Казачество уже не представляло собой единого целого. «Между романтическим представлением о казачестве» – писали современники, – «как о вольнице и действительным положением вещей существует громадная разница».
«Тяжелая борьба за существование, – констатируется в “Статистической монографии”, – уже, видимо, наложила на казаков какой-то чернорабочий, фабричный отпечаток: все они точно подавлены и угнетены, все озлоблены и с безнадежностью смотрят в будущее».
Гигантским ускорителем классовых противоречий в стране, в том числе и на Тереке, явилась Первая мировая война. В результате неоднократных мобилизаций значительно сократилась работоспособная мужская часть населения области. Война пожирала и скудные материальные ресурсы.
Поражение царских войск на фронте, новые мобилизации, голод, дороговизна, полный упадок промышленности и сельского хозяйства, общехозяйственная разруха вызывали недовольство в широких слоях народа. О тяжелом, все ухудшающемся положении, о революционных событиях в тылу вовремя узнавали солдаты и казаки на фронте. И наоборот, истинное положение на полях сражений, ужасы фронтовой солдатской жизни не оставались секретом для гражданского населения.
Настроение своих односельчан отразил известный впоследствии кабардинский ученый и поэт Тута Борукаев, служивший всадником в кабардинском полку «дикой дивизии» и награжденный Георгиевским крестом. Написав плач «Джигиты Кабарды», глубоко скорбя о погибших соотечественниках, он сурово осудил войну, сказав, что зря «племена и народы коней оседлали для защиты царя».
Волна недовольства охватила Терек и к началу 1916 г. достигла особой остроты.
Бастовали рабочие Грозного и Владикавказа. В январе не вышли на работу мастеровые «Северокавказского общества», в апреле забастовали рабочие глубокого бурения товарищества «Молот».
Начальник Терской области Флейшер в секретном предписании от 23 мая 1916 г. обращал внимание начальника Грозненского округа и окружного инженера на то, «что одновременность начала забастовки указывает на наличие организации, ею руководящей». И предлагал принять меры. Но забастовка, начавшись 21 мая, продолжалась до 9 июня.
В мае же забастовку с экономическими и политическими требованиями провели и рабочие завода «Разлив» в Ессентуках.
О настроениях населения в области в июне 1916 г. временный генерал-губернатор, наказной атаман Терского казачьего войска Флейшер секретно доносил в департамент полиции, говоря, что «нельзя не отметить того тревожного и нервного, переходящего в открытое недовольство настроения, которое замечается среди населения и которое вызывается все возрастающей дороговизной жизненных продуктов и отсутствием некоторых из них».
Здесь же сообщалось о продовольственном «бунте» в Кисловодске, происходившем 21 июня. Во Владикавказе произошла демонстрация женщин. Возбужденные до крайности, женщины шли к городским властям с детьми на руках, с плакатами, на которых было написано: «Мы хотим хлеба. Отпустите наших мужей с фронта. Дети требуют отцов домой».
Всего за 1916 г. в Терской области произошло 29 забастовок, что составляло почти половину всех рабочих выступлений на Северном Кавказе за этот год.
Но революционные события 1905–1907 г. и дальнейшее больше затронули неказачье население, а станицы жили своим распорядком, установленным правительством и безоговорочно признанным всеми общинниками.
Отсутствие массового выступления терских казаков в первой русской революции не исключало, конечно, участия в ней отдельных лиц войскового сословия, отказов казаков от выполнения полицейских функций в последующие годы. Но это не влияло и не могло повлиять на ход революционных событий, тем более – поднять станичные общества на борьбу с царизмом. Казачество оставалось замкнутой и обособленной структурой государства. И на него влияли многие факторы, служившие связующими звеньями в этом замкнутом сословном круге.
Во-первых, высокое идейное единство, которое насаждалось веками: казак сызмальства впитывал убеждение в своем нравственном и социальном превосходстве над другими сословиями и классами. Воспитанный в духе идейного превосходства, далеко не каждый казак, даже самый бедный, легко пойдет на сближение с «мужиками» – рабочими и крестьянами.
Во-вторых, внутреннее единство и сплоченность держались исключительно на высокой дисциплине и соблюдении армейских субординаций на всех уровнях казачьей иерархии, фанатичной верности своему долгу и присяге. Причем для казака жить в условиях постоянного соблюдения воинской дисциплины и контроля со стороны местных властей не было чем-то обременительным, так как он к этому приучен с детства.
Нельзя сбрасывать со счета и религиозную убежденность терских казаков. Как правило, казаки были люди глубоко верующие и безусловно находились под большим влиянием своих пастырей. И если учесть, что церковь была не на стороне революции, то нетрудно будет понять, что мировоззрение у паствы (православной, старообрядческой) формировалось не в поддержку революционного движения.
Глава XII
1
А в правительственных сферах в это время царил переполох. Узнав об отъезде царя, Родзянко – председатель Государственной думы, обзвонил руководителей всех фракций Думы и сообщил об этом. Всех встревожил внезапный отъезд царя. А для самого председателя Думы он означал крушение совсем, казалось, близкой к исполнению надежды получить из рук царя пост главы «ответственного министерства» или правительства доверия.
А дело было так. После ноябрьской сессии Думы 1916 г. Николай II вынужден был сменить председателя Совета министров Б. В. Штюрмера, подвергшегося гонениям и обвинениям в «измене» со стороны буржуазных либералов за свое немецкое происхождение. Новым премьером был назначен А. Ф. Трепов, бывший министр путей сообщения. Родзянко быстро сошелся с Треповым и начал вести разговоры об «ответственном министерстве» из членов Думы. Трепов очень сочувственно относился к этой идее. Родзянко был уверен, что на этот раз, действуя с двух сторон, он добьется успеха. Обещал Трепов сменить сразу же министра внутренних дел А. Д. Протопопова. Но этого-то он и не смог добиться. Снять того мог только царь. А он Родзянко не принимал. Только в середине ноября Родзянко добился, наконец, приема у царя с докладом. Он состоялся в Могилеве в Ставке. Председатель Думы завел разговор про «измену» Штюрмера, но царь оборвал его. Николай сказал Родзянко, что не может быть и речи об отставке Протопопова. Разговор был очень резким с обеих сторон. И все протесты Родзянко против вмешательства императрицы в государственные дела, против назначения министров по ходатайству Распутина были жестко отклонены.
19 ноября 1916 г. Дума после десятидневного перерыва, который был объявлен, чтобы новый премьер успел осмотреться, начала работу. Главной сенсацией дня стало выступление В. М. Пуришкевича. Он был известен всей стране как отъявленный черносотенец и монархист. Любитель скандалов, шумных выпадов в Думе, даже драк. Его бритая голова, пенсне и бородка не сходили с листов карикатуристов, с удовольствием отзывавшихся на все выходки Пуришкевича. И вдруг Пуришкевич выступил так, будто и он перешел в оппозицию! Он метал громы против произвола полиции, против гонений на печать, которые проводит новый министр внутренних дел Протопопов, затмевая собой недобрую память о Н. А. Маклакове.
– Откуда все это зло? – спрашивал Пуришкевич и отвечал: – Я позволю себе здесь с трибуны Государственной думы, сказать, что все зло идет от тех темных сил, от тех влияний, которые двигают на места тех или других лиц и заставляют взлетать на высокие посты людей, которые не могут их занимать, от тех влияний, которые возглавляются Гришкой Распутиным!
Он призывал министров собраться с силой и просить царя: «Да не будет Гришка Распутин руководителем русской внутренней и внешней жизни!»
Страстная речь Пуришкевича увлекла юного офицера Феликса Юсупова, женатого, кстати, на племяннице самого Николая II. 20 ноября он позвонил Пуришкевичу и встретился с ним. Вдвоем они составили заговор с целью убийства Распутина. Они наивно думали, что устранение Распутина развяжет руки Николаю II и облегчит ему переход к либерализации внутренней политики. В заговор они вовлекли также врача Лазоверта и великого князя Дмитрия Павловича, тоже офицера. Они заманили Распутина в Юсуповский дворец под предлогом знакомства с женой Феликса. Заговорщики решили отравить Гришку, но по неопытности положили цианистый калий в пирожные. Сахар нейтрализовал действие яда. Со страхом наблюдали заговорщики, как «святого старца» и яд не берет! Тогда пришлось брать пистолет в руки и стрелять… Тело Распутина выбросили из санитарного фургона в полынью на Малой Невке.
Послужила ли смерть Григория Распутина предостережением Николаю II, неясно. Правда, все были поражены мягкостью кар убийцам. Сменены были несколько министров и заменены именно распутинскими ставленниками. Надежды Родзянко на назначение главой ответственного министерства на сей раз рухнули.
Среди главарей октябристской и кадетской буржуазной оппозиции Родзянко занимал особое место. Вроде бы он и поддерживал согласованную линию Прогрессивного блока и его главы Милюкова. Но в то же время всегда вел свою личную политику.
Родзянко в первую очередь помещик: он владел 1625 десятинами земли в Екатеринославской губернии. Имел он чин действительного статского советника. Уже будучи председателем Думы, получил придворное звание камергера.
Для своего времени он получил хорошее образование. Пять лет прослужил в лейб-гвардии кавалергардском полку, где завязались его многочисленные знакомства среди высшей дворянской знати и придворной аристократии. По своим политическим убеждениям Родзянко принадлежал к правым октябристам, был искренним сторонником монархии и вполне правоверным подданным императора Николая II. В то же время своеобразное положение, которое он занял в обществе и государстве, заставляло его принимать участие в той борьбе за власть, которую развернули русские либералы. Обладая правом испрашивать личную аудиенцию у царя для представления всеподданейших докладов, Родзянко использовал его для изложения требований Прогрессивного блока IV Государственной Думы. Он не упускал при этом ни одной возможности и для удовлетворения собственных амбиций.
После убийства Распутина царь не принимал Родзянко и только 7 января 1917 г. принял.
Председатель Думы привез с собой, как обычно, письменный доклад. Но царь разрешил ему не читать, а изложить устно – такое бывало почти каждый раз, – Родзянко попытался изобразить картину неправильных действий правительства, сомнительных назначений недостойных лиц на высшие государственные посты, пренебрежение народом и оскорблением его, произвол и безнаказанность «темных сил». Родзянко стал развивать эту тему и заявил, что через императрицу «темные силы» склоняют Россию к позорному сепаратному миру. Но тут царь не выдержал и перебил:
– Помилуйте, да ведь теперь их нет больше! – имея в виду убийство Распутина.
На слова об императрице он ничего не отвечал, только бледнел. Молча слушал и жалобы на Протопопова. И развеселился, когда Родзянко рассказал о своей недавней ссоре с Протопоповым. Он оскорбил того, а тот «секундантов не прислал».
– Теперь я могу бить его палкой!
– Ну, это вы здорово. Молодец!
Ободренный Родзянко опять стал говорить о том, что общество находится в состоянии брожения, что чудовищные и волнующие слухи передаются повсюду.
– Не заставляйте, Ваше Величество, – возвысил голос Родзянко, – чтобы народ выбирал между вами и благом Родины. До сих пор понятия эти были неразделимы, а в последнее время их начинают разъединять.
– Ну, это вы уж слишком, – возмутился Николай. Он сжал обеими руками голову и сказал: – Неужели я 22 года старался, чтобы все было лучше, и все 22 года ошибался?
– Да, Ваше Величество, – набрался духу и ответил Родзянко.
Все же царь отпустил Родзянко не только вежливо, но вроде и сердечно. Опять обещал обо всем подумать и, в частности, – насчет введения ответственного министерства. Вся эта сцена тронула Родзянко. Снова вспыхнула у него надежда, что он убедил царя или сможет убедить пойти все же на сделку с думскими заправилами и тем предотвратить революцию.
Все одобряли поведение Родзянко на последней встрече с императором и в один голос утверждали, что настало время «говорить правду, как бы она ни была не приятна».
В начале февраля Родзянко снова направляет Николаю II прошение о приеме для доклада. Против ожидания ответ пришел сразу. Все эти дни до встречи, а она состоялась 10 февраля, царь провел в обществе Александры Федоровны и Протопопова. Они начисто смыли ту взволнованность и озабоченность, которые заметил Родзянко в Николае II во время предыдущего доклада вскоре после убийства Распутина. Теперь царь вел себя вызывающе и зло. Вид у него был решительный, бодрый. Ведь именно в эти дни царь метнулся в объятия крайне правых и поручил Маклакову подготовить записку о роспуске Думы до конца войны.
На этот раз Николай не разрешил Родзянко сделать устный доклад, а попросил читать, чтобы быстрее все закончить. В докладе высоко оценивалась работа Государственной думы в организации обороны страны, содержались обвинения в адрес правительства, которое вело репрессивную политику даже против либералов и меныиевиков-оборонцев. Особо подчеркивалось требование удалить министра внутренних дел Протопопова.
– Кончайте скорей, времени нет, – оборвал царь Родзянко, а второй доклад и слушать отказался.
С большим трудом удалось председателю Думы уговорить царя дослушать первый доклад. Затем он спросил:
– Верны ли, государь, слухи о предстоящем роспуске Думы?
– Нет. Думаю, проработает до Пасхи (т. е. до 2–3 апреля). Впрочем, все от вас зависит. Если не будет резких и неприличных выражений, то Дума не распустится.
– Простите, Ваше Величество, но не поручусь за все 400 человек. Особенно если у власти останется Протопопов и все другие распутинские министры.
– Его уже давно нет. Не забывайтесь, Михаил Владимирович!
– А как же другой доклад? Тут сведения об экономическом положении страны. А оно ужасно, ужасно!
– Не знаю, не согласен с вами. Мне известно, что надо знать, а ваши сведения всегда противоречат моим.
Родзянко тяжело вздохнул и покачал головой. Потом сказал в раздумье:
– Я вас предупреждаю, государь, что этот мой доклад у вас – последний… Это мое личное предчувствие и убеждение. Да-с…
– Почему?
– Потому, что Думу вы распустите, а направление правительства не предвещает ничего доброго… Еще есть время! Возможность все повернуть и дать, наконец, ответственное перед палатами правительство. Но этого, по-видимому, не будет. Вы, Ваше Величество, со мною не согласны. И все останется по-старому. И будет такая революция, которую ничто не удержит!
– Да бросьте вы, какая революция?!
– Ей-Богу, государь. Ох, не пройдет и трех недель – уж вы простите великодушно, – как вы царствовать больше не будете. Предупреждаю вас!
– И откуда вы все это берете? – задумчиво спросил царь.
– Да из всех обстоятельств, которые складываются. Нельзя так шутить народным самолюбием и народной волей, как шутят те лица, которых вы ставите. Нельзя ставить во главу угла всяких Распутиных! Вы пожнете, государь, то, что посеяли…
– Ну, Бог даст, Бог даст. Все, прощайте, – сказал напоследок Николай.
С этими словами Родзянко и уехал. После этого визита и он стал склоняться к мысли о необходимости отречения царя от престола.
Но вот в конце второй декады февраля в правительственных сферах пронеслось какое-то дуновение в сторону компромисса с Думой. Родзянко донесли, что царь созвал некоторых министров во главе с главой правительства Голицыным. На созванном им совещании царь решил обсудить последствия возможного решения о даровании ответственного министерства. Князь Голицын был очень доволен таким поворотом дела, который снял бы с него непосильную ношу. Но вечером 21 февраля его снова вызвали в Царскосельский дворец.
– Я завтра срочно уезжаю в Ставку, – сказал Николай.
– Как же, Ваше Величество? Ведь вы же хотели завтра в Думу ехать и говорить о даровании ответственного министерства?
– Да. Но я изменил свое решение и уезжаю.
Вот почему Родзянко и Милюков, которому он позвонил, сидели теперь у себя по домам в полном разочаровании. Они предвидели подвох, предвидели близкий роспуск Думы. Но то, что ждало их завтра, не предвидел никто.
До отречения Николая II от российского престола оставались считанные дни.
2
А события приобретали крутой оборот.
Около часу дня пришло известие, что взбунтовавшиеся солдаты овладели Петропавловкой. Прошел панический слух, что крепость готовится открыть огонь по Адмиралтейству, и как бы в подтверждение по окнам здания действительно было сделано несколько шальных выстрелов.
Перед вторичным уходом из Адмиралтейства отряд разоружился, и восставшие не проявили к ним никакой враждебности. Напротив, минутное оцепенение толпы прорвалось и вылилось в форму шумных приветствий: винтовки опустились, толпа кричала «ура» и кидала в воздух свои шапки. Фомин подал команду, и роты, четко печатая шаг, грянули песню: «Взвейтесь, соколы, орлами…»
Так закончилась эпопея защитников последнего бастиона монархии.
Между тем события развивались невероятно стремительно. Поздно вечером 1 марта, когда царь уже находился в Пскове, Алексеев телеграфировал ему, что нужно даровать не «министерство доверия», а министерство, прямо ответственное перед Думой.
– Поступающие сведения, – сообщил генерал, – дают основания надеяться на то, что думские деятели, руководимые Родзянко, еще могут остановить всеобщий развал и что работа с ним может пойти.
Торопясь не упустить момент, Алексеев тут же передал от имени царя текст составленного в Ставке манифеста:
– Объявляем всем верным нашим подданным: грозный и жестокий враг напрягает последние силы для борьбы с нашей Родиной. Близок решительный час. Судьба России, честь геройской нашей армии, благополучие народа, все будущее дорогого нам отечества требуют доведение войны во что бы то ни стало до победного конца. Стремясь сильнее сплотить все силы народные для скорейшего достижения победы, я признал необходимым призвать ответственное перед представителями народа министерство, возложив образование его на председателя Государственной думы Родзянко, из лиц, пользующихся доверием всей России… Во имя нашей возлюбленной Родины призываю всех русских людей к исполнению своего святого долга перед ней, дабы вновь явить, что Россия столь же несокрушима, как и всегда, и что никакие козни врагов не одолеют ее. Да поможет нам Господь Бог.
Но, увы, этот манифест безнадежно опоздал. В Петрограде думские лидеры сделали новый шаг: пришли к мысли о необходимости отречения Николая II в пользу наследника – тринадцатилетнего Алексея при регентстве его дяди – младшего брата царя, великого князя Михаила Александровича.
В оппозиционных кругах считали, что малолетство нового царя и отсутствие государственного опыта у «слабовольного» Михаила позволит новому либеральному правительству беспрепятственно проводить свою программу. Как триста лет тому назад один из московских бояр обосновывал избрание на престол Михаила Федоровича Романова: «Миша Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден…»
Антимонархические настроения стали усиливаться. Родзянко звонит генералу Рузскому и сообщает ему о новой «комбинации».
– Династический вопрос поставлен ребром, а это означает отречение царя в пользу сына при регентстве Михаила Александровича, – говорит он. И напрасно ошеломленный генерал в просительном тоне пытался убедить Родзянко повременить.
– К вам уже выехали Гучков и Шульгин, – ответил тот.
Уже через час-полтора после окончания этого разговора А. Лукомский вызвал к аппарату начальника штаба Северного фронта генерала Ю. Данилова. От имени Алексеева он решительно потребовал, чтобы Рузский немедленно разбудил царя и сообщил ему все, что говорил Родзянко.
– Генерал Алексеев, – говорил Лукомский, – убедительно просит безотлагательно это сделать, так как теперь важна каждая минута, и всякие этикеты должны быть отброшены. От себя Лукомский добавил, что «выбора нет, и отречение должно состояться».
В 10 часов утра Рузский направился к царю. Стиснув зубы, он положил перед Николаем длинную ленту своего ночного разговора с Родзянко. Царь стоя читал ее. Затем взволнованно стал говорить, что лично он готов отойти в сторону для блага России, но у него имеются опасения, что «народ этого не поймет».
– Мне, – говорил царь, – не простят старообрядцы, что я изменил своей клятве в день своего коронования; меня обвинят казаки, что я бросил фронт.
Николай не решался на новую уступку. И Рузский, не желая брать на себя всю ответственность, предложил отложить разговор. Но уже через несколько часов царь в присутствии трех генералов заявил: «Я решился. Я отказываюсь от престола» и перекрестился. Перекрестились и генералы.
Приняв решение об отречении, Николай, по-видимому, еще с некоторой надеждой ждал Гучкова и Шульгина. Знал о цели их поездки, и ему было интересно, а что скажут они? Этим ожиданием, возможно, и объясняется то, что он никому не сообщил о своем новом решении.
И вот встреча Николая II с Гучковым и Шульгиным.
В салон-вагоне Николая находились генерал Рузский, министр двора граф В. Фредерикс, начальник военно-походной канцелярии Нарышкин, Гучков и Шульгин. Всего 6 человек.
Начал Гучков. Он волновался, говорил глухо, глядя на царя, руки его лежали на столе, как бы ища опору:
– Положение в высшей степени угрожающее: сначала рабочие, потом войска примкнули к движению… Москва тоже неспокойна. Это не есть результат какого-нибудь заговора или заранее обдуманного переворота, а это движение вырвалось из самой почвы… Так как было страшно, что мятеж примет анархический характер, мы образовали так называемый Временный комитет Государственной думы… Кроме нас заседает еще комитет рабочей партии, и мы находимся под его властью и цензурой. Опасность в том, что, если Петроград попадет в руки анархии, нас, умеренных, сметут. Их лозунги: провозглашение социальной республики. Это движение захватывает низы и даже солдат… Пожар может перекинуться по всему фронту, так как нет ни одной воинской части, которая, попав в атмосферу движения, не заражалась бы…
В народе глубокое сознание, что положение создалось ошибками власти, а потому нужен какой-нибудь акт, который подействовал бы на сознание народное… Если вы, Ваше Величество, объявите, что передаете свою власть вашему маленькому сыну, если вы передаете регентство великому князю Михаилу Александровичу… тогда, может быть, будет спасена Россия… Вот, Ваше Величество, только при этих условиях можно сделать попытку водворить порядок. Вот что нам, мне и Шульгину, было поручено вам передать. Прежде чем на это решиться, вам, конечно, следует хорошенько подумать, помолиться, но решиться все-таки не позже завтрашнего дня.
В тот момент, когда Гучков сказал об отречении в пользу наследника Алексея, Рузский нагнулся к нему и прошептал:
– Это уже дело решенное.
Он, как и все другие, не знал, что Николай изменил свое дневное решение и сейчас объявит новое:
– Раннее вашего приезда, – заговорил царь, – я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от престола, в пользу своего сына, но теперь, еще раз обдумав свое положение, я пришел к заключению, что ввиду его болезненности мне следует отречься одновременно и за себя, и за него, так как разлучаться с ним не могу.
Все были так огорошены совершенно неожиданным решением государя, что наступила пауза. Гучков и Шульгин переглянулись между собой.
– Я такого решения не ожидал, – проговорил Гучков и обвел взглядом присутствующих.
– Я тоже не могу дать на это категорического ответа, – продолжил его Шульгин, – так как мы ехали сюда, чтобы предложить то, что мы предлагали.
Конечно, царь не мог не заметить некоторую растерянность и колебания думских делегатов, да и других присутствующих. Но это его не остановило.
Последовал его вопрос, переводивший разговор в ту плоскость, с которой он начал:
– Давая свое согласие на отречение, – говорил он, – я должен быть уверенным, что вы подумали о том впечатлении, какое оно произведет на всю остальную Россию. Не отзовется ли это некоторою опасностью?
– К междоусобице может привести не отречение царя в пользу наследника, а возможное провозглашение республики, – заверил царя Гучков.
Вмешался Шульгин:
– В Думе ад, сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами, а для этого нужна какая-нибудь почва.
– Это точно, – поддержал его Гучков.
– Мы согласны на ваше новое отречение, – он посмотрел на Шульгина, – если ваш брат, великий князь Михаил Александрович, как полноправный монарх, присягнет конституции одновременно с вступлением на престол, это будет обстоятельством, содействующим успокоению.
Между тем проект манифеста об отречении был уже готов. Его переписали набело, царь подписал его и, войдя в салон-вагон, передал Гучкову. Часы показывали 23 часа 40 минут.
Выйдя из царского вагона, Гучков и Шульгин тут же телеграфировали в Петроград начальнику Главного штаба о состоявшемся отречении Николая в пользу великого князя Михаила Александровича.
Временное правительство к этому времени было уже сформировано и заседало.
Неожиданный шаг царя произвел на членов правительства и присутствовавших членов Временного комитета Государственной думы шокирующее впечатление.
«Наступила мгновенная тишина, а затем Родзянко заявил, что вступление на престол великого князя Михаила невозможно, – вспоминал позже Керенский, ставший в то время министром юстиции. – Собравшиеся не возражали, мнение казалось единодушным».
Через некоторое время только Милюков стал доказывать, что «царь на Руси необходим». Его плохо слушали.
Манифест отречения в пользу Михаила повис в воздухе, хотя текст его уже кое-где начал «спускаться» по нижестоящим армейским инстанциям для принятия присяги.
Что же произошло с Михаилом?
Напомним, что утром 28 февраля через дворы Эрмитажа и дома великого князя Николая Михайловича его тайно привели из Зимнего на Миллионную, 12, в квартиру княгини О. Путятиной.
Рано утром 3 марта здесь раздался телефонный звонок. Звонил Керенский. Он просил великого князя срочно принять членов Временного комитета Думы и Временного правительства. Михаил, все эти дни поддерживавший связь с Родзянко, решил, что они едут предлагать ему регентство при воцарении Алексея, на что он готов был согласиться. Но когда на «благоусмотрение» великого князя было предложено две точки зрения: большинства, считавшего невозможным вступление Михаила на престол, и меньшинства, видевшего в его воцарении единственный шанс на спасение, он заколебался.
После того как все представители сторон высказались, Михаил выразил желание побеседовать наедине с Родзянко и Львовым. Трое удалились в соседнюю комнату. Через полчаса Михаил вышел к ожидавшим его решения. Со слезами на глазах он заявил, что его «окончательный выбор склонился в сторону мнения, защищавшегося Председателем Государственной думы». Согласие с Родзянко и другими, учитывая приемлемую для всех формулу Учредительного собрания, давало, пусть даже теоретическую, возможность выиграть время, надежду на изменение обстановки, на спад революционной волны, когда вопрос о монархии можно будет решать не по «законам» революции, а по законам обычного, мирного времени.
С помощью юристов-государствоведов был выработан манифест, который гласил:
«Тяжелое бремя возложено на Меня волею Брата Моего, передавшего Мне Императорский Всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народных.
Одушевленный одной со всем народом мыслью, что выше всего благо Родины нашей, принял Я твердое решение в том случае восприять Верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому надлежит всенародным голосованием, через представителей своих в Учредительном собрании, установить образ правления и новые основные законы Государства Российского.
Посему, призывая благословение Божие, прошу всех граждан Державы Российской подчиниться Временному правительству, по почину Государственной думы возникшему и облеченному всею полнотою власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок, на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное собрание своим решением об образе правления выразит волю народа. Михаил. 3/III-1917, Петроград».
Не отречение Николая II, а именно этот отказ Михаила от престола до решения Учредительного собрания формально, да и фактически упразднили монархический строй в России. Ибо, отказавшись от власти лишь условно, Михаил как бы прервал законную «цепь» порядка в престолонаследовании. Никто из Романовых теперь не мог претендовать на престол «в обход» Михаила, и тем самым даже юридическая возможность монархической реставрации оказалась парализованной. На протяжении марта многие из великих князей заявили о своей полной поддержке Временного правительства.
В ночь на четвертое марта в Таврическом дворце были окончательно оформлены для публикации два документа – «Акт об отречении императора Николая II в пользу великого князя Михаила Александровича» и «Акт об отказе великого князя Михаила Александровича от восприятия верховной власти и о признании им всей полноты власти за Временным правительством, возникшим по почину Государственной думы». Когда на другой день их опубликовали, в Думе началось ликование. Никто еще не знал, что ожидает Россию…
9 марта Англия и Франция признали Временное правительство.
Глава XIII
1
По Невскому идет бравый терский казак – офицер с боевыми орденами, оглядывается по сторонам, рассматривает серые монументальные здания, скользит взглядом по зеркальным стеклам витрин. Не без удовольствия он замечает почтительное внимание встречных.
Извозчик, высадивший только что пассажира, знаками предлагает ему услуги.
– Не трудись, любезный, я пешком пройдусь, – бросает в ответ тому казак, продолжая свой путь.
– Садись, прокачу! – настаивает удивленный извозчик.
А Никита Казей продолжает с прежним удовольствием разглядывать Невский проспект. Здесь он впервые, и город ему нравится.
– Вот это столица! – восторгается он. – Расскажу в станице – не поверят?
Он на минуту остановился около Елисеевского магазина, чтобы полюбоваться памятником Екатерине на противоположной стороне, и тут же с брезгливостью вспомнил рассказанную в поезде историю возвышения Гришки Распутина, о чем раньше не знал. Поручик-фронтовик показал ему перефотографированную картинку, изображавшую Распутина, царя и царицу под общей короной.
То немногое, что он уже услышал о дворе, Распутине, Вырубовой, ворюгах-подрядчиках, наживающихся на военных поставках, оскорбило его и озадачило.
– Скорее бы разделаться с делом и скорее бы домой, – говорил он сам себе.
Прогулка по Невскому продолжалась, вернее, продолжался путь к Главному штабу, куда он шел со своими бумагами.
Через Морскую он вышел на Дворцовую площадь, и лицо его осветилось неподдельным восхищением. Он вновь был потрясен совершенством и парадной строгостью архитектуры, красотой вознесенного в центре площади Александрийского столпа, классическими пропорциями Зимнего дворца и отстоящего слева Адмиралтейства.
Принял Казея в штабе генерал для поручений. Получив документы, генерал расспросил Никиту о положении на фронте, хотя сам был отлично информирован. А потом стал расспрашивать, какие задачи выполняют казаки. Выслушав рассказ Казея, за что тот получил Георгия, генерал выразил восхищение умелыми и дерзкими действиями казаков в разведке. Да так, что неробкий Никита засмущался.
– Для меня это тоже неожиданно, ваше превосходительство, – скромно ответил Казей, не считавший возможным хвастаться своими заслугами. – Спасибо товарищам!
Генерал улыбнулся.
– А дальше куда путь держишь, казак?
– Домой. На Терек. Отпущен до особого.
– Счастливого пути, – пожелал генерал и остановился. – А не посетить ли тебе «Казачий союз», – посоветовал он Никите и стал рассказывать о новой казачьей организации, о которой Никита ни там, на фронте, ни здесь еще не слышал.
Союз казачьих войск был создан после февральской революции представителями казачества Дона, Кубани, Терека, Оренбурга и др. для защиты своих интересов. Председателем его был избран казачий офицер Оренбургского войска Дутов, впоследствии выбранный атаманом этого войска.
После визита в штаб Казей снова проделал путь по Невскому, где на углу Фонтанки находился Совет «Союза».
…Когда он представился полковнику Дутову, тот его обнял и представил сидевшему в глубине комнаты человеку.
– Михаил Александрович, ваш земляк, с фронта.
– Караулов, – сказал гость Дутова. И, не выпуская руки Казея, с интересом осмотрел его с головы до ног, как бы оценивая силу и сообразительность.
Караулов родился в станице Тарской Терской области. Окончил Петербургский университет. Во время русско-японской войны служил в Сунженско-Владикавказском полку. В 1905 г. вышел в запас в чине подъесаула и вскоре после этого получил должность секретаря Терского областного статистического комитета. Он основал свою газету под названием «Казачья неделя», принимал участие в учреждении Общества любителей казачьей старины, публиковался в изданиях этого Общества, а в 1912 г. была издана его книга «Терское казачество в прошлом и настоящем». А сейчас он думский депутат. В 1907 и 1912 г.г. жители Терской области избирали его своим депутатом в Государственную думу 3 и 4 созывов. Будучи председателем надпартийной казачьей фракции, Караулов защищал интересы казаков и кавказских горцев.
В обиходе же Караулов был простецким человеком, казаком до мозга костей и любил не только «приличное общество» и себя в нем, но и пуще того – станичный круг и карают, старые казачьи песни. Все это пело и звенело в нем, переполняло душу, поэтому он способен был даже в столичной компании разом сбросить с себя постоянную интеллигентную сдержанность и заходить, что называется, колесом, забросать собеседников байками-анекдотами, станичным говорком. Он и сейчас, поглаживая усы и острую бородку, стал с жаром говорить:
– Да, да! Господин полковник, – обратился он к Дутову, – вот перед вами, совсем новый так сказать, тип казачьего офицера-терца.
– Вижу, вижу, – отвечал с улыбкой Дутов.
А Караулов, смахнув напускное шаловливое ухарство, продолжил:
– Расскажи, дорогой товарищ, за что Георгия получил, – и потрогал крест.
Никита стал рассказывать о положении на фронте, о меняющемся настроении солдат.
– Война становится все ожесточеннее. Применяются удушливые газы, огнеметные батареи, аэропланы, а что же мы этому всему противопоставим?
«Да, всего этого мы в пятнадцатом году не знали», – подумал Караулов, и, не прерывая, продолжал слушать.
– Не хватает даже патронов, – в запальчивости продолжал Никита, – с продовольствием стало совсем туго.
– Может, прав новоиспеченный министр земледелия Шингарев, что говорит: «Нужно или сокращать едоков и лошадей, или уменьшать норму продуктов».
– А что говорят о мире? – закинул вопрос Караулов.
– Фронтовики поговаривали о мире давно, но никогда это не делалось столь открыто, – ответил Никита и рассказал о случаях братания. – Только и держат марку казаки!
– Народ портится, – в сердцах произнес Караулов. – А тут еще большевики подливают масла в огонь.
Он стал растолковывать суть социал-демократической программы со своей точки зрения:
– Оголтелость, знаете… В один мах разрешить все мировые вопросы и скорбь тысячелетий. А отсюда – максимум во всем, вплоть до вооруженных экспроприаций.
– Я, дорогой Михаил Александрович, этого тоже не могу понять, хоть убей, – этот социализм.
– А что же нам делать? – удивился Казей. – Кругом агитаторы, кого слушать?
– Вот я и решил прийти поспрашивать. А то все кругом временное: Временный комитет, Правительство временное, министры временные – кого слушать?
– Кому казак присягает: Вере, царю и Отечеству.
– Царь отрекся. Будем же служить Вере нашей и Отечеству, – ответил Караулов.
Никита заметил, каким заинтересованным становится прищур депутата и серьезней – его лицо.
– Временно придется жить без царя, а затем его придется избрать. Так и объясняй станичникам.
– А вообще я за умеренный подход к решению жизненных проблем, реформы, использование старых демократических традиций.
– Каких еще демократических традиций? – спросил Дутов.
– Хотя бы – наших, староказачьих традиций! История казачества – разве это не ценнейший опыт устроения жизни на началах свободы и равенства? Это, правда, не книжный, зато практический путь, и с каких времен! – ответил Караулов.
– Увлечен ты этим, увлечен! – сказал Дутов. – Но время катит в другую сторону! Не замечаешь?
– Замечаю братец, замечаю, но – с горечью. И беспокоит особо судьба народа моего, рядового темного казака!
– Обо всей России надо думать, – трезво сказал Дутов. – Вся Россия в петле задыхается.
– А кто спорит? – согласился Караулов, когда они расположились в креслах. – Но нет более трагичной страницы в русской истории, чем эта наша, окровавленная, железом паленная казачья страница! Да что там – из глубины веков!.. Легко ли было рязанцам подняться и уйти на далекий Терек, волжанам к ним прибиться. Что их ждало на «приволье», если каждому чуть ли не всю жизнь приходилось винтовкой и шашкой защищаться? Иван Третий отписывал сестре своей, княгине Рязанской Агриппине, чтобы казнила тех, кто ослушается и «пойдет самодурью в молодечество». Борис Годунов тоже с казаками не ладил и не преуспел в жестокостях лишь по причине краткого своего владычества.
– И что же ими руководило? – усмехнулся Дутов, предчувствуя занятный рассказ из прошлого терской вольницы, на которые Караулов был мастер.
– Они исстари говорили: нам не пир дорог, дорога честь молодецкая, – ответил тот.
– Так и наши казаки говорили, – вступил опять Дутов, посматривая на Казея, который с интересом слушал этот разговор.
– Приток беглого люда на Терек особенно усилился после 1576 г., когда стольник Мурашкин разгромил на Дону многие поселения вольных казаков, часть из которых казнил, а часть отправил на каторгу. Напуганные такими решительными мерами правительства, волжские казаки решили, не дожидаясь участи донских казаков, покинуть Волгу. Одна часть с атаманом Ермаком ушла служить к именитым купцам Строгановым и покорила затем Сибирское ханство; другая с атаманом Нечаем перебралась на реку Яик и положила начало яицкому казачеству, а третья часть – с атаманом Андреем Шадрой ушла на Терек и заняла там пустующий городок, названный по имени атамана – Андреевским.
По своему общественному устройству казачьи общины, независимо от их местоположения – будь то на Дону, Яике или Тереке, – имели чисто русские свойства: они строились по образу существовавших в Древней Руси народных собраний – вече и имели в основе много общих черт. Это сходство видно, в первую очередь, в демократическом и организационном устройствах: подчинении меньшинства большинству, обязательном выполнении постановлений центрального собрания – Войскового круга, для всех остальных общин – в свободном изложении своих мыслей при обсуждении важнейших вопросов.
Ведению Войскового круга подлежат те же вопросы, что и у древнерусского вече – избрание должностных лиц, составление отписок в другие государства, допрос пленных, отправка посольств и т. п.
– Ну, теперь понятно, это же альфа и омега казачества! – согласились с ним присутствующие.
Михаил Александрович был, что называется, в родной стихии.
– Отношение казачества к выполнению своего долга всегда строилось на глубоких чувствах любви к родной земле и преданности Отечеству. Во имя этой любви казачество шло на любые жертвы и трудности, и, неся свой тяжкий крест, верило, что их деяния приближают светлый день победы, – закончил он. И было видно, что тут каждое слово пережито и выстрадано.
– А сейчас, чтобы снять с казаков традиционный ореол свободы, славы, – вступил в разговор Никита, – нас втравливают целыми полками в позорную полицейскую работу, делают из нас карателей. Всего один-два года такой «службы» – и насмарку трехсотлетняя репутация, прощай гордость и слава!
– Ты, сотник, с такой горячностью говоришь, будто оправдываешься, – прервал Дутов. – Я тут запрашивал военное ведомство. Оказалось, что полицейской работой царь занимал сотни тысяч пехотинцев и кавалеристов, так что наши «сотни» составляют небольшую толику этого воинства.
– А нам что от этого? Разве нашей так называемой общественности впервой валить с больной головы на здоровую? Казак – нагаечник, и все тут, – обиженно произнес Никита.
– Обязательно завтра скажу на заседании Думы, – пообещал Караулов, который уже знал, что будет назначен Комиссаром Временного правительства в Терской области и скоро покинет Петроград.
2
А Никита Казей уже на следующий день выехал в Москву, что бы оттуда отправиться домой.
Москва… Перрон вокзала. Никита с заросшими щеками ждет поезда, который умчит его на юг – в Терскую область. Кругом суета.
– Во сколько отправляется поезд? – несется с одной стороны.
– С этого вокзала идет поезд во Владикавказ? – раздается с другой.
Казей оборачивается.
– Ба! Ефим Гордеевич, ты ли это? – обращается он к спросившему.
– О, земляк! – ответил тот ему после того, как внимательно рассмотрел.
Ефим Попов был хозяином лавки у них в станице и сюда, наверное приезжал за товаром.
– Никак с фронта едешь, Никита Петрович? – спросил он Казея.
– С фронта, брат, с фронта! – толкнул его Никита, и они обнялись.
– Поди, и в Петрограде побывал? – Спросил он Никиту.
– Пришлось. Потом расскажу, – ответил Никита. И они стали пробираться к вагону.
Ефим был в гражданской одежде, военных сторонился и старался выглядеть сугубо гражданским. Никита же, рослый и подтянутый, в своей казачьей форме вызывал восхищение, и ему даже уступали дорогу.
– Что там дома? – спросил Никита, когда они подошли к вагону.
– Что дома… Уже того, что было, нету. В Петрограде разве не видел? Такое же и у нас, ничего не поймешь. Вашему брату, офицеру, – плохо, – посмотрел он на погоны Казея.
– Чего это?
– Сомневаются казаки, воевать не очень охота.
– Еще что?
– Атамана хотели переизбрать. Правда, пока он речь держал, круг опустел и его закрыли, перенесли. Не знаю, что будет. Хочу свою кандидатуру предложить.
В вагоне, по тем временам, публика была приличная: какие-то мужчины опрятного вида, две-три дамы, несколько актеров, офицеры, среди которых были переодетые, начиная с элегантного сумского гусара, кавалергарда с холеными ногтями, и кончая молодыми людьми в защитном и в сапогах. Еще недавно, до войны, они с удовольствием подъезжали к вокзалу на извозчике, за ними носильщик волок багаж. А сейчас поезд тронулся, и что они ехали, не было никакого события – обычная жизнь. Теперь они должны молить господа Бога, чтобы поезд довез их до нужной станции.
В купе говорили отвлеченно. Но потом познакомились и поняли втихомолку, кто есть кто.
Когда поезд застучал, разгоняясь, оставляя за окном предместья Москвы, Казей вздохнул и перекрестился.
Ефим уже болтал о ценах, возмущался их стремительным ростом.
– Хорошо хоть поезда еще ходят, – сказал кто-то из попутчиков.
Мест в купе не четыре, а шесть – по два на нижних диванах и по одному наверху. Казей и Ефим улеглись бок о бок, отвернулись, чтобы не дышать друг на друга.
Ночью на одной из подмосковных станций проверили документы, а утром в Туле они выпили не очень вкусного черного кофе и только в Орле истратили по 14 рублей на брата за обед из двух блюд, посердились на цены и вернулись в вагон.
– Старики вздыхают: пропала Россия! – проговорил в сердцах Ефим.
– За Россию не знаю, а армия уже не та, – отвечал ему Никита. – А как начинали! Бывало, как пойдет наша сотня широким наметом за австрияками… Те наутек. А мы лавой. По восемьдесят душ пленными брали, а сколько лошадей. Да что там говорить, что только один Брусиловский прорыв стоил. И вот на тебе – отступаем.
– Без царя еще хуже будет, – заметил кто-то из попутчиков.
– А генерал Алексеев сказал: переворот совершился волей божьей. У царя якобы на счету больше миллиона. Да у царицы, да у дочерей не меньше, им до России дела нет.
– А кто подсчитывал? Алексеев?
– Ну, наше дело маленькое.
– Наше дело такое, чтоб домой быстрее добраться, – сказал Казей, давая понять, что разговор этот надо прекратить.
Вскоре они были в Новочеркасске. Здесь поезд стоял долго, и можно было сходить в город.
В соборе, куда они зашли с Ефимом, угрожающе гудели проповеди святых отцов:
– Бога бойтесь, с мятежниками не сообщайтесь; они снуют везде, чтобы обольщать народ несбыточными обещаниями. Они обещают водворение порядка, а водворят разруху. Не слышно будет звука молотилок; остановится колесо, заржавеет соха и борона. Невозможно будет ни пройти, ни проехать безопасно: в городах – денной и ночной грабеж, и некому будет спасать от этого. Да сохранит нас Бог от печали…
При проверке документов чисто одетыми донскими казаками от сердца отлегло что-то тяжелое и вновь нахлынули фронтовые воспоминания. Зашибленное старорежимное чувство патриотизма вздохом выходило из груди. Рукой подать и до Терека.
Ефим раздобыл себе черкеску, шашку и кинжал, почему-то поспешил обзавестись кокардой и погонами.
Тут была еще прежняя жизнь.
Офицеры отдавали друг другу честь. Казаки козыряли офицерам. На Платовском проспекте часовой так лихо брал на караул своей шашкой, что Казей, не смея приписывать себе такую честь, вздрагивал от неловкости.
В местном саду играл духовой оркестр. На террасе им подали во льду николаевскую водку, к жаркому – бордоское вино и отличное рейнское к персикам. От полноты чувств Никита даже дал официанту на чай.
А вскоре новочеркасская гора с домишками и азиатски величавым собором оседала на глазах, и до темноты, до тумана вечерних сумерек все поблескивал золотой купол, все маячил и наконец растаял белой точкой, как звезда в небе.
Под серпом месяца, разрезая встречную темень, поезд нес Никиту на Терек, в родную станицу.
Спать не хотелось, и Никита с Ефимом пустились в воспоминания о своей станице, природе края и казачьей истории.
– Казаки с детства прикипают к родной станице, – говорит Ефим.
– Это точно, – отвечает ему Никита.
– Стоит только закрыть глаза, забыться – и видится луна над лесом, то снежная крупа шуршит по серым стволам бука и не опадающим до весны листьям дуба, то молнии уходят змеиными хвостами в самую чащу, туманную от полосы дождя, то кружатся в солнечной лени бабочки над высокими травами поляны. Коренастые круглые кусты дубняка в разнобой бегут со взгорий вниз, где стоят плотно, как толпа в ненастье, но уже размастно-смешанные с кизилом, дикими грушами, бучиной. Там, где течет родник, царствуют могучие ивы, гигантские лопухи и кувшинки. Колючий шиповник с ягодами, точно розовые желуди, топорщится отдельно от всех – то ли в силу своей витаминной исключительности, то ли колючести.
– Это как казак отличается от других, – заметил Никита.
– А чем казак отличается от других? – спросил их сидящий рядом попутчик. – Службой, укладом?
– И военно-трудовым укладом, и одеждой, – ответил ему Ефим.
– А как получилось с одеждой? – спросил тот же попутчик.
– Долго думать нашим предкам не пришлось. Покрой одежды заимствовали у горцев, а цвета рядом – синие да белые горы, серые скалы, темные дубравы, серебро рек, а ведь и зверь, и птица окрашены местностью, где обитают.
– Ты посмотри, и местность имеет влияние? – с удивлением вступил в разговор второй попутчик.
– А как же! Потому форма терских казаков и стала такой: черного каракуля папаха с синим верхом и белым галуном, черная как ночь бурка, серые черкески, синие и темные бешметы, синие и белые башлыки, тонкие бесшумные сапоги, на оружии, поясах и газырях – серебро с чернью.
– А за что казакам определили такие льготы?
– За то, что казак являлся на службу на собственном коне, при своем оружии, получая от казны лишь винтовку и порох, сам обмундировывался, а зачастую и харчился сам, он освобождался от всех российских налогов и поборов – даже станичных и войсковых атаманов содержала казна.
Это и была, помимо вольной земли, царская привилегия казакам.
Вернувшись со службы, казак не имел права продать строевого коня и оружие. Был он обязан всегда держать торока снабженными: в одной седельной суме – овес и патроны, в другой – смена одежды, котелок, подковы, гвозди-ухнали, три фунта сухарей, цыбик чая и тридцать три золотника сахара.
Годами висели торока на сухих чердаках, как знак готовности выступить в любую минуту за веру, царя и отечество, посягни на них враг внешний или внутренний.
Была еще одна привилегия любимцам царя – запрещалось селиться в казачьих станицах иноверцам и иноземцам. Однако с течением лет «расовая» чистота казачества утратилась.
Царь не только любил казаков, но и боялся, чтобы не получилось государства в государстве, республики в монархии, ибо случались атаманы, которые Терек и Кубань ставили превыше Москвы и Петербурга.
Замкнутый казачий круг внутри делился на множество кружков, вплоть до семьи. На Кавказе селились донские, хоперские, уральские, волжские казаки, не смешиваясь с терскими, гребенскими, кизлярскими, моздокскими станицами.
Неприветливы и грозны были горы первым поселенцам. Их дети уже веселее, с присвистом пели в такт конской рыси: «Полно вам, снежочки, на талой земле лежать, полно вам, казаченьки, горе горевать…» Мачеха-земля кормила щедро, стала матерью. И на службе в дальних странах пели сытые казачьи сотни: «О тебе тут вспомина-ючи, как о матери поем, про твои станицы вольные, про родной отцовский дом».
И уже ревниво смотрели на новых пришельцев – мужиков, иногородних, старались с ними не смешиваться.
Поразительно: в терских казачьих станицах наблюдалось редчайшее высокомерие темных, неграмотных землеробов и скотоводов по отношению даже к аристократии, особенно интеллигенции.
«Кому чего, а барыне зонтик», – язвительно говорили они.
С чиновными, знатными, богатыми считались, кланялись им, но посмеивались над их одеждой, культурой, словами, считая все это несерьезным для истинного человека, то есть казака.
Как в первую ночь у гор казаки укрылись в кругу телег, так потом замкнулись от других казаки в кругу своих традиций, песен, трудов, веры, не смешиваясь с русским народом, лишь свято блюдя, не щадя жизни, границы Российского отечества, раздвинутые ими же, казаками, так, что Россия занимала одну шестую часть земной поверхности.
– Под щитом князя Дмитрия Ивановича Донского вывели они землю Русскую из беды на поле Куликовом. Воевали царю Сибирь. В Аляске фортеции ставили. Чертов мост перешли с генералиссимусом Александром Васильевичем Суворовым. И никакой награды себе не требовали, окромя воли, – конь, шашка, парус – вот владенья казака. Потому и селились на дальних окраинах, расширяя Русь плечом, плугом и «вогненным боем», – восторженно говорил Никита.
– Потому селились на окраинах, – морщит лоб Ефим, – что горькой была мужицкая доля. Бежали из помещичьей крепости на рыбные раки, в богатые леса, ставили городки и станицы, обносили их частоколом из колючек, жили в землянках, лаптем щи хлебали – зато сами себе атаманов и попов выбирали.
3
Разговор продолжается. Но теперь к нему присоединяются все попутчики по купе, внимательно слушавшие до этого казаков.
– А казаки всегда действуют на лошадях, или есть пешие? – спросил кто-то из них.
– Есть и пешие, пластуны, но это больше у кубанцев, наши же – терские – больше конные, – заговорили казаки. – Нас этому учат с малолетства.
И пошел разговор дальше.
– Иной казачонок только ходить научился, а его уже сажают на шею коня – приучайся.
– У казака конь, что родной брат, – делятся они со спутниками. И их взору за окном вагона представляются ночные пастбища. Черным серебром месяц осыпает склоны балок, листву, речку. У костра казачата рассказывают сказки. Рядом табун, с которым не страшен ни гробовой выползень, ни оборотень, ни волк. Круты склоны Кавказских гор. Тяжко водят боками умные кормилицы, тащат из ущелий возы с сеном и хлебом.
Причудится запоздалому казаку некто. В страхе скачет домой, а горная ночь гонится следом облаками, кустами, туманами. Чует конь тревогу всадника, скачет, аж в гриве свистит. Ночь свищет, гогочет, за плечи казака хватает, а конь уже влетел в переулок – не выдал казачий братец!
А купанье коней в вечерней тихой воде! Голые казачата смело направляются туда, где коню с головой, и от коней видны только ноздри и уши.
Коней любят казаки до бешенства. Зимой бегают в конюшню проведать любимцев – щель соломой заткнуть, сена подкласть, сунуть корку хлеба в мягкие подвижные губы или просто прикоснуться к атласной шее четвероногого члена семьи.
– Невесту так не готовили к венцу, как коня на службу, – шутит Ефим.
А Никите почему-то вспомнился недавний военный случай.
Казаков тогда пустили в бой. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей вражеской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Их теснили. Впервые они стали испытывать на себе дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла – укусы того самого оружия, которое так счастливо служило им.
Фронт держала пехота. Вдоль ровно вырытых окопов и устроенных блиндажей, что создавало противнику обстановку относительной безопасности.
Казачье гиканье перестало действовать на воображение неприятеля, а конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными. Требовалась работа инженерных войск, которые смогли бы проделать проходы в ограждениях и дать возможность прорыва казачьей конницы.
Шел третий час летнего, просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. Казакам поступил приказ выйти на исходную.
В авангарде полка, вместе с казаками, на степной раскаряченной лошаденке ехал командир полка Стрижак. Рядом с ним ехали Никита и его друг, урядник Матвей Колодей.
Осмотрев позиции и приняв доклады разведчиков, Стрижак отдал приказ Казею на наступление.
– Повод! – скомандовал Никита и казаки перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых на них глазели опешившие вражеские солдаты.
– К бою готовсь! – приказал Казей, и казаки бросились в атаку.
Преодолев сделанные проходы, казаки кружили по-над окопами и траншеями первой линии, но противника в них не обнаружилось.
– Где же противник? – недоуменно спрашивали друг друга казаки.
– Похавались, – в шутку отвечал им один.
– Побежали блох давить, – дерзили другие.
И только потом стало ясно, что противник преднамеренно отошел на вторую линию обороны.
Казаки кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках шашки. Но что это? Вражеская кавалерия стала охватывать казаков. В бинокль было видно, как сперва одиночные всадники, а за тем и группы выскакивали из лесочка и устремлялись на казаков.
Те подались вперед. Но только к ним, на открытую местность, вступила пехота, на них обрушился шквал огня.
Над головами стояло бешущееся небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Пули летели в сторону казаков.
Оказалось, полк попал в полосу пулеметного обстрела.
Полковник Стрижак, расположившийся у дороги, что вела в сторону деревушки, где располагался вражеский штаб, распорядился атаку прекратить.
– Назад, – продублировал команду Казей.
Казаки бросились в рассыпную и стали продираться сквозь кустарник в лесок, что был по правую сторону дороги. Пехота тоже остановила движение и стала прятаться по кустам.
Отставший в суматохе Колодей догонял свою сотню.
Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая местность и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла, и Матвей, вздумав воспользоваться передышкой, двинулся карьером. В это мгновение пуля пробила шею его лошади. Матвей проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.
Матвей не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране, потом выпрямился и обвел блестящий горизонт томительным взглядом.
– Прощай, Буян, – сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему, – как ворочуся без тебя в станицу? – Прощай, Буян, – повторил он сильнее и заплакал. Клокочущий вой достиг слуха казаков, и они увидели Матвея, бьющего поклоны своему боевому другу – коню.
– Не покорюсь судьбе-шкуре, – закричал он, отнимая руку от помертвевшего лица. – Я их еще порублю – при станичниках, дорогих товарищах, обещаю тебе, Буян…
Матвей прилег к лошади и закрыл рану рукой. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Матвеево хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди.
– Собирай сбрую, Матвей, – сказал подошедший к нему Казей, – пойдем в полк.
Казаки с пригорка увидели, как Матвей, согбенный под тяжестью седла, с лицом, посеревшим от горя, брел к своей сотне, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей простыне полей.
– С дому коня вел, – участливо сказал кто-то из казаков. – Такого коня где еще найдешь?
– Конь – он друг, – ответили ему.
– Конь – он отец и брат, – вздохнул снова тот же казак, – бесчисленно раз жизнь спасает. Пропасть Матвею без коня…
А на следующий день Колодей изчез.
– Добывает коня, – говорили о нем.
Целых три дня отсутствовал Матвей в расположении. И вот в день выступления полка он появился.
– Мое вам почтение, – произнес он, расталкивая казаков, и занял в рядах свое место.
Командир полка, смотревший в бесцветную даль, не оборачиваясь, прохрипел:
– Откуда коня взял?
– Собственный. У противника отбил, – ответил Колодей.
Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. А потом на бивуаке, полукругом обступив его, расспрашивали. Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги, считали зубы.
– Отличный конь! – первым похвалил тогда коня Казей, и все согласно закивали.
– Лошадь справная, – за всех подтвердил снова Казей. Отчего Матвей благодарно улыбнулся.
Глава XIV
1
С каждым днем все больше казаков возвращалось домой. Их встречали за околицей шумной толпой. Когда фронтовики подходили, слова тонули в криках, причитаниях, поцелуях. Казаки, почти со страхом, брали детей на руки, заглядывая им в глаза, смущенно смеялись, видя, что ребята не узнают отцов, робко смотрят на их бородатые высохшие лица.
Из толпы спрашивали:
– А где наши?
Вернувшиеся быстро и сбивчиво отвечали, что одних они видели еще в Польше или Пруссии, о других слышали, что они по пути домой.
– Григорий лежит в госпитале, – отвечал кто-то спросившему. – Поправляется, шлет вам привет, скоро приедет.
Толпа приходит в движение и идет по станице. Жены вернувшихся вели мужей под руку, прижимались, терлись об их плечо щекой, смеялись или плакали, чтобы вся станица видела, как они счастливы.
Прибывшие бездельничали день-другой, засиживались то в одной, то в другой компании, рассказывая о местах, где побывали, о сражениях, об австрийцах и немцах.
С каждой новой рюмкой – новые, все более красочные истории. За выпивку охотно платили старики, им не верилось, что последняя война была тяжелее, чем те, в которых они сражались под Шипкой и Ловечем – в Турецкую, и под Ляояном и Мукденом – в японскую.
Никто не знал, что принесет завтрашний день. Год обещал быть тяжелым. Многие хозяйства в станице были разорены. Поэтому, расстроенные и обозленные, уходили люди в черную, как деготь, ночь.
С самого рассвета вернувшиеся казаки бесцельно, как куры вокруг яйца, суетились в своих дворах. Вытаскивали откуда-то ржавый гвоздь и вбивали в другое место с такой злостью, что он гнулся и ломался. Пытались чинить брички. Но колеса полопались, и брички рассыпались при первом пинке. Бессмысленная возня во дворе утомляла казака больше, чем целый день работы в поле.
Старики поговаривали о «добрых старых временах», но больше втихомолку, так, чтобы не услышали это вспыльчивые казаки-фронтовики.
Время от времени неведомо откуда возникали самые невероятные слухи, вплоть до таких, что наступит небывалая засуха, так как миллионы пушечных и ружейных выстрелов разогнали тучи, которые поднялись высоко в небо и не опустятся оттуда много лет.
И тогда кто-либо из фронтовиков говорил:
– Вы не имеете понятия о том, что сейчас происходит в стране?
– А что там? – спрашивали его.
– Нищета, страх, голод, холод, – отвечал фронтовик, – торжество и хозяйничанье иноземцев.
– Да, большую ошибку совершил царь, – вступал в разговор урядник Челапкин. – Он должен был либо идти до конца, либо уступить свое место другому, более достойному. Эту войну он должен был продолжать до конца и победить.
– А ты сам-то был на фронте? – задал вопрос кто-то из фронтовиков.
– Ваш намек мне понятен, – невозмутимо отвечал Челапкин. – Конечно, был. Хотя и не долго, Я же был ранен.
– Вот это твое счастье, что сразу был ранен и уцелел. А многие наши хлопцы уже никогда не вернутся, также как и миллионы русских солдат, полегших в боях незнамо за что.
Челапкин промолчал. Послышался глубокий вздох собравшихся и чье-то предложение:
– Наливай еще по стаканчику.
2
Очередная команда казаков, возвращающихся с Кавказского фронта, пребывала с Владикавказа. Алексей Чумак с Чередником во главе колонны подъезжали к станице. Его конь шел спокойно и легко. Конь Тимофея мудрил, притворно пугался птиц, кустов, прядал ушами, норовил укусить соседнего коня. Переехали глубокую балку и выехали на пригорок.
С возвышенности виден тракт, круто и прямо летящий на станицу. Дорогу проколеили лошади, сотню лет назад. Тут мчались по пути в Персию Грибоедов и Деннис Давыдов, ехал в Арзерум Пушкин, покупавший в станице яички и другую снедь. Ехали солевары, купцы, курьеры. Шли богомольцы, нищие, бродяги.
– В каком это было году? – вспоминает Алексей. – Спускались мы тут с отцом. Дождь со снегом, ветруган дул, вода по буркам текла, на сапогах пуды грязи с соломой, отвалится ком – коленкой до борозды достанешь, так легко становилось. – Он замолчал.
– Что задумался? – спросил его Тимофей.
– Да свое опять вспоминаю, – ответил Алексей.
Его пленяли казаки Пушкина, Лермонтова, казаки Сибири, Средней Азии – охотники, землепроходцы, строители, воины – люди особой воинской породы.
Сзади осталась балка, впереди станица, а вдалеке виднелся Эльбрус. Балка сверху похожа на рыжий хвост огромного быка, снизу – на его чудовищный мощный лоб, заросший кустарником. Прорезанные дождями ребра, поросшие ясеневой и кизиловой шерстью, источают ледяные родники, собирающиеся в звонкую речушку.
С детства знает Алексей эти яры, сизую дымку, смирное весеннее солнышко, трепетный шепот листвы деревьев.
День полон шорохов трав, синей нежности, воспоминаний. Вдруг защемило сердце.
Станица лежала на возвышенности, просматриваемая от края до края. А под ней важно нес свои воды Терек.
Сзади белели грани Главного Кавказского хребта. На одной высоте с хребтом перемещалось белое руно застывших, как на гравюре, облаков.
Надо всем этим – над пашнями, горами и облаками – неправдоподобно высоко поднималась исполинская масса Эльбруса.
Любуясь неоглядной панорамой, Алексей продолжал вспоминать. Чудилось, что горы еще красноватые под пеплом вулканов, в неостывшей окалине магмы. Он представил, как ярко освещали Кавказ факелы вулканов в доисторические времена. Как нехотя отступало море. Надвигались ледники. Потом тут ревели бронтозавры, бились с южными мамонтами саблезубые тигры. В этих же балках ходили обезьяно люди. Их пещеры завоевали племена охотников на зубров и медведей. Это же солнце освещало шалаши первобытных кузнецов и пастухов. Тут справляли кровавые обряды, хранили огонь в глиняных сосудах, изобретали лук, колесо, топор.
Бесчисленные орды людей прошли здесь, где снежные горы соседствуют со знойными степями, лесными дебрями и плодородными полями, а солнце тропиков – с лютым северным бореем. И неспроста в преданиях земных народов возникли тут картины рая, земли богов и героев, и тысячи лет племена тянулись сюда… Следы великого переселения здесь на каждом шагу. Цари Кавказа упоминаются в Ветхом Завете как нечто древнее. Жизнь здесь била ключом.
Терек, вытекающий из предгорий Казбека, делает здесь свой последний изгиб перед поворотом на восток. Здесь по его берегам и поселили казаков станицами для охраны Военно-Грузинской дороги. Никому не сгибались в угоду казаки. Устраивались, жили и несли свою нелегкую справу[8].
Закапал дождь. Казаки накинули на головы башлыки. А сердце стучало: они в самой чудесной стране – дома…
Все трижды перекрестились. А вокруг все потонуло в тумане. Но ненадолго. Дождь как начался, так быстро и закончился. Над лесом появилась белая полоса света, а первые проблески солнца осветили далекий Эльбрус.
Казаки въехали в станицу, Вскоре Алексей увидел свое подворье.
Чумаки жили небогато, но жизнью своей были довольны. Род их исходил из древних запорожцев и здесь, на терской земле, ни в чем не уступал старым казачьим родам станицы.
В лето от Рождества Христова тысяча восемьсот тридцать восьмое прибыли их предки сюда, на Терек, с Украины. Тут, в среднем течении Терека, и поселились они, записанные казаками, вольными людьми, исправляющими лишь царскую службу по охране отечества. Кавказские горы, расположенные как будто и рядом, остались для станичников загадкой. Вроде недалеко Эльбрус, а недоступен.
Первые дома казаки поставили на месте небольшого военного укрепления, возникшего еще во времена Ермолова. Отвели землю под пашню, под выпасы и кладбище. Сами ютились на первых порах в землянках, а потом стали строить крошечные хаты. Несли караульную службу по Военно-Грузинской дороге на постах и пикетах.
Чумаки поставили рубленную из целых бревен хату, но стены внутри обмазали и побелили по-кавказски. Как водится, дом обмыли, окропили святой водой. Первыми пустили походить по горнице кошку и петуха, привезенных с Украины. На счастье к порогу прибили подкову.
Славились казаки удальством, померной хозяйственностью, и когда старому Чумаку предлагали что-то новое, он отказывался, отвечая что жизнью доволен, как говорится, сыт, пьян и нос в табаке.
Подворье у Чумаков чистое, благодаря додельным рукам стареющей теперь матери, отца и его родной женушки – Наташи.
Он наследует его. Так повелось исстари: девок выдавали замуж в чужую семью, старших сыновей выделяли на сторону, а родовое именье доставалось младшему, докармливающему родителей. Двор тянулся по-над Тереком, обнесен высоким, крепким плетнем. Строения крыты ровно подстриженным камышом. Хата уже врастала в землю и чуть покосилась. Пол земляной. На чердаке – битые горшки, сломанные грабли, вилы, разбитые кадушки, тряпье.
Из трубы вился дымок. Со двора доносился запах свежеиспеченного хлеба. Хлеб пекли по субботам на всю неделю, по десять-пятнадцать хлебин, учитывая животы работников и побирушек.
В лавках покупали соль, сахар, керосин, бечеву, гвозди, материю, рис, деготь, мыло, синьку. Все остальное давало свое хозяйство – кожи, шерсть, топливо, муку, мясо, масло, птицу, овощи. Лес давал калину, барбарис, кизил, яблоки и груши-дички. Хотя кое-где уже появлялись сады.
Запасы хранили в леднике. Зимой запасали холод на все лето. На реке рубили лед и на подводах возили во двор. Ледник, как правило, был в летней кухне, в подвале. Там хранили масло, сметану. Молоко в глубоком колодце не пропадало неделю. Сало, селедку и т. п. хранили в ящиках или кадушках, густо пересыпая солью.
Обед начинался с пирогов с капустой или мясом. За пирогами три первых – борщ с мозговой костью, казачий суп с салом, лапша. На второе – мясо, жареная картошка, курятина. Следом вареники, лапшевник, пирог с рисом и яйцами, пирог сладкий с вареньем или изюмом. И потом узвар.
Понятно, пища менялась по сезонам и дням – свинина, баранина, говядина, весной окрошка с луком и редиской, осенью арбузы и виноград, зимой тыквенная каша, соленья, моченья, копчености.
Неизменными оставались хлеб, молоко и сало – в скоромные дни. Алексей иногда после обеда «на десерт» натирал горбушку салом с чесноком. С детства любил он хлеб с сахаром и кружкой ледяной воды. Дыни, груши, сливы тоже ели с хлебом.
3
Много за войну повидали казаки, о многом подумали, и вот, возвратившись в станицы, встали перед дилеммой: царя нет, а как же земля, останется за казаками или как?
– Земля дана всем, и она одинаковая к человеку, – говорили одни.
– Нет, казачья земля – особенная, – говорили другие. – Она царями нам дана испокон веку.
– А царя нет.
– Верно, казаки, – оглядывая собравшихся, сказал атаман Щербина, – кажется мне, братцы, придут сюда люди землю требовать, вот что указывает в своем воззвании атаман казачьего войска: «Недалек тот час, когда голодные массы солдат и населения, впав в отчаяние, могут двинуться на наш край и все истребить на своем пути».
– Это ж какие массы? Что по горам прячутся, или заводские кацапы?
– А мы не от кацапов пошли, – рубит кто-то наперекор вечным истинам казачества.
– Эх ты, – раздается тому в ответ, – кабы не знал твою матушку и отца Максима Гавриловича, так подумал бы: не от залетного ли коробейника произошел ты?
– Ну, ты потише, потише, куда повернул, – отвечает казак. – А то мы не знаем.
– Что ты знаешь?
– Я из гребенских, сами сюда прибыли, наши уже и забыли, когда это было…
– Весьма от давних лет по Тереку у реки жительство свое имеем, а каким случаем, по указу или без указу, при котором государе сначала поселились, того за давностью сказать не можем, – говорят они.
– А что стоят наши городки и станицы по-над Тереком, как крепости духа, это точно – все знают.
– Царь Иван Грозный признал нас, гребенцов.
– А Петр Великий узаконил казачье войско. Люто боролся он с двоеперстием и бородами, а терцев самолично прибыл жаловать старым крестом и бородой. Как же казак мог бунтовать против государя, если виноделие, ловля рыбы, соль, промысел не облагались налогами.
– Это было при царе Горохе! И соль, и вино, и морской промысел давно стали царской монополией, – уже спокойно отвечают спорщику.
– Ладно, – соглашается тот, – Но взамен этого монархи поставили казаков на казенный кошт, как первых защитников отечества. Выдавали порох, свинец, денежное довольствие, хлебное жалованье – столько-то фунтов соли, четвертей и четвериков муки, овса, крупы, каждому по чину. Давали и казачьим вдовам, если растили царю сынов. Из оружейной палаты нам отправляли бердыши, палаши, стрелецкие знамена и секиры, хотя и секиры и камзолы казаку ни к чему – вот она, шашка острая!
Казаки смеются – знай наших.
Заговорили о богатстве казачьем, о вечной неустроенности.
– Главное богатство казака – не дом, а верность присяге, войску. Живи под плетнем, а церковь чтоб восьмиглавая. В старых письменах нас именуют горестью. Сто человек держали однажды Азово-Моздокскую линию, от моря до моря. А налетали на Линию разные хангиреи тысячами конников.
Али ту бабу – казачку сравнить с мужицкой? Про наурские щи слыхали?
– Чего, чего? – придвинулись к рассказчику казаки.
– В станице Наурской было. Налетели Магометы. На валы бросились и бабы, в нарядах, монистах – отмечали годовой праздник. Орудовали вилами, топорами, вар лили и – туда же! – поспевшие щи со свининой. Так потом спрашивали у обожженных горцев: «Не в Науре ли щи хлебал?»
– А казаки не пробовали на вкус, какой он черкесский или чеченский кинжал? – заступился за горцев один казак. – Только посинелые языки вываливались. Горцы – это тоже казаки, что остались на кручах со времен великого переселения народов. Перемешали тогда гунны котел человеческий медными мечами. Кто уцелел, прижился в горах, привык видеть тучи снизу, отбивался от всех, пускал корни в камни. У нас крест в станице, а за спиной Петроград. У горцев Коран и аул – отступать некуда. Потому и верят в своего магометанского бога так, что молитву не могли прервать наши николаевские солдаты.
– Земля у них богатая, а за пшеничный хлеб с яра сигнут – только и знают мамалыгу кукурузную, – заметил кто-то. – Да, яблоки ели лесные. Налетела конница Шамиля на славный садами Кизляр. Сады и помешали штурму. Муллы и наибы орут – бесполезно: джигиты ихние полезли на ветки, набивают пазухи грушами да виноградом, известными им лишь по Корану. Виноград-то лучше пороха на вкус… – отвечает спорщик.
– Виноград, он, конечно, сладкий, – как бы соглашаются с ним казаки. – Но сам говоришь, что молитву горца не прервет ни выстрел, ни шашка. Потому что война тут была священной, религиозной.
– Богами всегда прикрывали войны.
– Матвей? – спросил Никита Казей товарища, – помнишь того пленного австрийца, что рассказывал нам старую чешскую поговорку: «Не видать Праге свободы, пока русский казак не напоит коня из Влтавы»? У русского народа наверное, есть миссия: спасти мир, утвердить христианство. Народ наш богоносный, избранный.
– Но войной не обратить, а озлобить, – возразили ему.
– Вот в России сейчас и спорят две силы: одна – за войну до победного конца, а другая – долой войну.
– А нам как же быть? Идти за толстопузых министров? – послышался вопрос.
– Конечно. Министры в солдатской цепи и в казачьей лаве не атакуют. Надо, чтобы министры не раздували войну, а как-то ее гасили. Надо действовать миром, вот как мы тут гутарим, как на митинге мы видели во Владикавказе: и большевик выступает, и кадет длиннопатлый, и эсер, и есаул кубанский.
– Это они попервой говорят, а потом начнут землю нашу делить. И будет война братская, а это самоубийство.
– Что же получается: казачий круг смыкается? Смотри, был казак Илья Муромец. Кем он стал потом? Крепостным смердом. Микулой-пахарем. Бежал в казачью вольницу. Куда попал? В царские слуги. Цари кончились. Теперь куда? А туда, как всех называют: в граждане новой России. А она, Россия, голодная, измученная, три года кровью умывается.
– И еще будет умываться, – кричит кто-то.
– Так что же, нам Россию иноземцам отдать?
– Ну ладно, хватит ерепениться, – оборвал заспоривших атаман Щербина. – Скажи-ка?
– Россия – республика! Как это? Как такое могло случиться? Разве можно всему царству повалиться в один день?
Только что, в январе-феврале, все текло по другому, по волею божиею укоренившемуся закону. «Казаки! – поздравлял царь с Новым годом. – С новым счастьем, родные». И где оно, великое царство? Какая, казалось, твердыня! Какие парады, обеды, сколько горячих молитв в церквах, какие манифестации патриотизма у Зимнего дворца и на площадях российских городов!
– Много было самоуверенности и самомнения.
– Нет, просто ничего не бывает. Заслужили.
– Война проклятая! – сказал кто-то в сердцах.
– Воевали и раньше, – поправил Щербина. – Прозевали опасность крамолы. Плакали по усадьбам, по собственности, а оно нынче не о том плакать придется.
– Ничего, надо привыкать. Все вырождается, – сказал старый казак Дзюба. – И царь, и знать.
– Государь не подлежит обсуждению, – сказал атаман.
– Пропала Россия!
– Рано, рано дали свободу русскому народу.
Еще будут локти кусать, воображаю, какая грустная жизнь наступит лет через двадцать. И сквозь золото льются царские слезы. Намучаются и поймут, что при государе жилось не так плохо.
Казей и Чумак вышли на улицу.
Их взору открылся Терек. Под обрывом реки плоско текла вода, а вдали, за Джулатом, маленькими точками темнели кабардинские аулы.
В лицо дул теплый ветерок. Всякий раз, когда млела душа чувством к родной вольной округе, хотелось запеть что-то дедовское.
Никита вспомнил:
Поехал казак на чужбину далеко На добром коне вороном. Родную сторонку навеки покинул, Ему не вернуться в отеческий дом…Глава XV
В правящих кругах Англии, США, Франции понимали, что политическая ситуация в России чревата переменами, способными серьезно поколебать Временное правительство. Содействие его укреплению было одной из важнейших задач союзных миссий, устремившихся в Россию весной и летом 1917 года. Именно через них правящие круги Запада пытались добиться от Исполкома Петроградского Совета, а затем и ВЦИК первого созыва всемерной поддержки Временного правительства.
Но к концу июня Временное правительство и поддерживающий его ВЦИК Советов совершили, пожалуй, свой самый большой политический промах. Расчитывая впечатляющей военной победой добиться ощутимого перелома в борьбе за стабилизацию внутреннего положения, они предприняли наступление на фронте, хотя для многих было ясно, что быстро разлагающаяся армия не выдержит сколько-нибудь серьезных испытаний.
Так оно и произошло. После некоторого успеха на Юго-Западном фронте, особенно 8-й армии генерала Корнилова, не выдержав германского контрудара, русские войска начали беспорядочное, порой паническое отступление. В результате десятидневных боев они потеряли около шестидесяти тысяч человек.
Один из главных организаторов этой военной авантюры Керенский писал:
«План наступательной операции 18 июня в общих чертах состоял в том, что все фронты, один за другим, в известной последовательности наносят удары противнику с таким расчетом, чтобы противник не успевал сосредотачивать вовремя свои силы на месте удара. Таким образом, общее наступление должно было развиваться довольно быстро. Между тем на деле все сроки были разрушены, и необходимая связь между операциями отдельных фронтов быстро утеривалась. А следовательно, исчезал и смысл этих операций. Я предлагал генералу Брусилову прекратить общее наступление. Однако сочувствия не встретил. На фронтах продолжались отдельные операции, но живой дух, разум этих действий исчез. Осталась одна инерция движения, только усиливающая разруху и распыляющая армию».
О себе самом, как видим, ни одного плохого слова: виноват Брусилов. Военный министр подзабыл, с каким исступлением и напором уговаривал он и посылал в огонь наступления фронтовые части. Заложив по-наполеоновски руку за борт френча и размашисто пробегая вдоль строя солдат, он и впрямь мнил себя в ту пору полководцем:
– Солдаты! Вы пойдете вперед! Туда, куда поведут вас вожди и правительство! – призывал он.
Но вместо этого началось отступление. Поражение на фронте немедленно отозвалось в тылу. Реакция радикализованной массы, прежде всего солдат Петроградского гарнизона, постоянно опасавшегося отправки на фронт, была мгновенной. Начались митинги и демонстрации, в том числе и вооруженные. Левацкие настроения били через край. Большевистское руководство колебалось: возглавить это движение и свергнуть Временное правительство или сдержать всплески социальной стихии. В самом Временном правительстве тоже не было единства. В нем задавали тон находившиеся в большинстве кадеты и представители монархо-помещичьих кругов. Кадетская «Речь» высказывала тосьсу о прошлом, звала вернуться к однородному буржуазно-помещичьему кабинету, доказывая:
– Если при прежнем составе правительства возможно было хоть некоторое руководство ходом русской революции, то теперь, видимо, ей суждено развиваться далее по стихийным законам всех революций.
Сами же, боясь ответственности, кадеты 2 июля заявили о своем решении уйти в отставку.
– На вас кровь, кровь! – вне себя прокричал военный министр Керенский. – Там, на фронте наши армии ведут бои, а вы здесь дезертируете с постов и взрываете правительство.
Слухи о выходе кадетов из правительства поползли по городу.
– В чем причина? – задавали вопросы обыватели. – Как понять их неожиданный уход?
А кадетская партия, развязывая правительственный кризис, хотела оказать давление на министров-социалистов, добиться от них проведения своей программы. Кадеты требовали: разоружить Красную гвардию, вывести революционные войска из Петрограда, запретить партию большевиков. Дельцы не только в торгово-промышленных делах, но и в политике, они решили припугнуть товарищей из Советов. Рассуждали: безусловно, Чернов и Церетели пойдут на уступки, побоятся остаться без поддержки кадетской партии и ясно просматривающегося за их спиной англо-американского капитала.
А у мелкобуржуазных лидеров не хватило характера. Меньшевики и эсеры, имевшие большинство в Советах, по-прежнему проявляли нерешительность. Взять власть – значит рассориться с банкирами, дипломатами, а это, полагали они, граничит с авантюризмом.
Но идея сожительства с кадетами рушилась на глазах.
Пока верхи искали очередной компромисс, события стали развиваться по новому, более драматическому сценарию.
– Бери винтовки, штыки, буржуазия мобилизовалась! – призывали агитаторы солдат Петроградского гарнизона.
И первыми на улицы вышли солдаты 1-го пулеметного полка и 180-й пехотный полк.
– Мы будем ходить вооруженными до тех пор, пока власть не перейдет к советам рабочих и солдатских депутатов, – заявляли они после того, как были обстреляны в разных местах города.
Чхеидзе, сжавшийся и растерянный, встречал толпы демонстрантов у Таврического дворца. Он совершенно охрип, убеждая солдат и рабочих разойтись, но успеха не имел. Стихийные выступления уже захлестнули Выборгскую рабочую заставу. Поднялись «Лесснер», «Нобель», «Порвнайнен», Металлический и другие заводы. Тревожное настроение столицы перекинулось и на окраины.
В бюро ЦИК готовились к расправе с поднявшимися рабочими районами и солдатскими казармами.
В воззвании ЦИК было сказано: отправляйтесь по домам, иначе вы будете предателями революции. Штаб военного округа, не надеясь на войска гарнизона, вел переговоры со Ставкой о присылке с фронта надежных частей. Керенский, находившийся в Могилеве, отправил ночью на имя министра-председателя князя Львова телеграмму:
– Петроградские беспорядки произвели на фронте губительное, разлагающее действие. Категорически настаиваю на решительном прекращении предательских выступлений, разоружении бунтующих частей и предании суду всех зачинщиков, всех мятежников.
О намерении властей расправиться с непокорными сразу же было объявлено в пространном обращении главнокомандующего войсками Петроградского военного округа:
– Исполняя приказ Временного правительства очистить столицу от людей, с оружием в руках нарушающих порядок и угрожающих личной и имущественной безопасности граждан, предлагаю жителям не выходить без крайней необходимости на улицы, запереть ворота домов и принять меры против возможного проникновения в дома неизвестных лиц. Воинским частям предлагаю приступить немедленно к восстановлению порядка на улицах.
А в Таврическом дворце заседали члены ВЦИК и Петросовета. Решали, что делать.
Вероятно, с февральских дней здесь не было такого скопления народа. У солдат и рабочих, окруживших дворец, озабоченные, злые лица. Настроение у толпы такое, что они с наслаждением бы свернули шею всем соглашательским вождям.
– Министров сюда! – слышатся выкрики из толпы.
– Их уже и так звали, – ехидно отвечает кто-то. – Не выходят, бестии, не хотят.
– Так – штыками!
Пришлось кому-то доказывать, что штыки преждевременны, что надо еще подождать.
Атмосфера была накаленной.
Вышедший к демонстрантам Чхеидзе предложил выделить от пятидесяти четырех заводов четырех товарищей, которые сделают заявления.
И вот они во дворце.
Взял слово первый рабочий:
– Странно, когда приходится читать воззвание Совета: рабочие и солдаты называются в нем контрреволюционерами. Наше требование, общее требование рабочих – вся власть Советам рабочих и солдатских депутатов.
Второй представитель:
– На заводах нам грозит голод. Мы требуем ухода министров-капиталистов. Мы доверяем Советам, но не тем, кому доверяет Совет. Министры-социалисты пошли на соглашение с буржуазией, но буржуазия – наш кровный враг. Мы требуем, чтобы немедленно была взята земля, чтобы немедленно был учрежден контроль над промышленностью. Мы требуем борьбы с грозящим нам голодом.
Третий представитель:
– Довольно кормить нас словами. Я спрашиваю авторов воззвания: кто же посягнул на власть Советов? Нам нужен немедленный переход власти в руки революционного народа.
Четвертый представитель:
– Перед вами не бунт, а вполне осознанное выступление. Мы требуем принять все меры борьбы с саботажем и локаутами капиталистов. Необходимо установить рабочий контроль за производством. Пока соглашательская политика с буржуазией будет продолжаться, не может быть успокоения в стране. Довольно согревать эту гадину за нашей пазухой!… Сейчас, когда кадеты отказались с вами работать, мы спрашиваем: с кем вы еще будете сторговываться? Мы требуем, чтобы власть перешла в руки Всероссийского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В этом единственный выход!
На выступления рабочих делегатов в Екатерининском зале первым откликнулся Церетели. Он заявил:
– Пролетариат требует захвата власти. Но это будет уступка насилию меньшинства!
Его поддержал Дан:
– Мы ответственные представители власти, отвечаем под штыками, стоящими вокруг нас: власти этой взять не можем и ответственность с себя снимаем. Если время наступило, то пусть ее берут в руки те, кто и раньше на этом настаивал. Страна с Лениным не примирится! – закончил он.
С призывом к разуму появился на трибуне и правый эсер Чайковский, «народный социалист»:
– Мы ведем мировую войну, от которой мы не можем отказаться, – сказал он, – и в то же время волей-неволей должны совершать социальную революцию. В этой коллизии заключается трагедия нашего положения. Я – за войну! – бросил он негодующий упрек в сторону левых скамей.
Если социалисты возьмут всю власть в свои руки, они через месяц окажутся банкротами!
Пока Чайковский рисовал мрачные картины большевизации революции, в зал вбежал близкий к Керенскому эсер Гоц и восторженно объявил:
– Во дворец явились Семеновский и Измайловский гвардейские полки. Они отдают свои силы в наше распоряжение и приветствуют ЦИК!
Депутаты встали, запели «Марсельезу».
К вечеру над Петроградом разразился проливной дождь. Настроение демонстрантов было сбито, ряды расстроены. Люди прятались от дождя в подъездах, сбивались группами в подворотнях.
Семеновцы и Измайловцы расположились биваком в Таврическом дворце. Спасать им было некого: делегаты Совета расходились по домам.
Зато бодрствовал Мариинский дворец и штаб военного округа. Правительство, опасаясь дальнейшего роста большевистского влияния в массах, планировало силой расправиться с «гидрой революции».
Но опасение, что периферия и, главное, фронт не поддержат выступление в столице, заставили ЦК большевиков быть сдержанными. Политическая атмосфера в Петрограде быстро изменилась. Те, кто еще вчера готовы были идти за большевиками – сегодня так же готовы обрушиться на них. Была разгромлена «Правда», арестованы большевистские руководители. В. Ленин и Г. Зиновьев ушли в подполье. В разных местах города демонстранты и митингующие оказались под обстрелом. И вот в Петроград вступили войска, прибывшие с фронта.
Правительство могло торжествовать победу: стихийное выступление рабочих и солдат 3–4 июля было подавленно. Уже вечером 6 июля оно из штаба округа переехало в Зимний дворец, поближе к английскому посольству. Наутро Керенский, встретившись с послом Бьюкененом, подвел его к окну и, не скрывая торжества сказал:
– Правительство теперь является в полной мере господином положения и будет действовать независимо от Совета. Видите, в сквере – арестованные и разоруженные бунтовщики. Они вскоре будут посланы на строительство Мурманской железной дороги как военнопленные. Исполком Совета наделил меня всей полнотой власти в отношении армии. И я уже уполномочил офицеров, в удовлетворение требований боевого генерала Корнилова, расстреливать без суда солдат, не повинующихся приказам.
– Необходимо применение тех же дисциплинарных мер и в тылу, – советовал сэр Джордж. – необходимо подавить рабочие беспорядки и включить Корнилова в состав правительства. Иначе произойдет новое большевистское восстание.
– Я разделяю ваши взгляды, – соглашался Керенский, – но у меня связаны руки.
– Не позже как завтра князь Львов заявит о своем уходе, – заметил посол и покровительственно добавил: – Союзники и Россия ждут от вас энергичных действий. Рабочие не разоружены, Ленин не арестован.
Керенский успокаивал посла, что малейшие попытки восстания со стороны большевиков заранее обречены на поражение.
А июльские события явили собой первые грозные раскаты гражданской войны.
Эти события внушили Керенскому беспокойство за судьбу царской семьи, и, опасаясь какой-либо новой революционной вспышки, он решил отправить ее из Царского Села в более безопасное место.
Предложение отправить их в Крым, где уже находились некоторые члены бывшей императорской фамилии, в том числе и мать Николая II Мария Федоровна, он отклонил. Остановились на далеком сибирском городке Тобольске, находящемся на расстоянии 250 км от ближайшей железнодорожной станции Тюмень.
Глава XVI
1
На Тереке, как и по всей стране, после Февральской революции так назывались те события после отречения от власти Николая II был создан свой орган власти.
5 марта 1917 г. во Владикавказе был образован орган Временного правительства – областной так называемый Гражданский комитет. Его почетным председателем был избран член IV Государственной думы, казачий есаул А. Караулов, назначенный Временным правительством комиссаром Терской области.
Начальником области стал полковник Михайлов. А бывший начальник Терской области генерал Флейшер и его помощник генерал Степанов «по настоятельному требованию населения города, представителей казаков и горцев были арестованы».
Вслед за отстранением от должности начальника Терской области были смещены начальники округов и созданы окружные гражданские комитеты.
Во главе округов так же были поставлены комиссары: Хасавюртовского – князь Капланов, Владикавказского – мировой судья Платов, Назрановского – чиновник Джабагиев, Нальчикского – дворянин Чежоков, Веденского – полковник Адуев, Грозненского – присяжный поверенный Ильин.
В городах сохранились городские думы. Были образованы городские гражданские исполнительные комитеты.
А в казачьих отделах сохранилась власть начальников отделов, в станицах – атаманов, как и при царе.
В станице Пришибской, что расположена в восточной дуге Терека, атаман Щербина собрал расширенное заседание правления.
– Что будем делать, казаки? Как жить? – задал он сразу вопрос.
– По старому, своим уставом, – раздалось сразу несколько голосов.
– Значит, я так понимаю, мы поддерживаем нашего нового атамана М.А. Караулова.
– Конечно. Раз выбрали, надо поддержать!
– А он говорит, что наша единодушная поддержка послужит могучей моральной и материальной поддержкой Временному правительству в его священной задаче – провести страну через все грозящие внешние и внутренние опасности к Учредительному собранию, которое установит новый строй.
– Раз власть назначена, ей и надо подчиняться, – сказал старый казак Дзюба. – А то что же получается – анархия?
– Да вот, появляются такие агитаторы с городов, которые предлагают не подчиняться Временному правительству, оно де не законное.
– И что же они предлагают, конкретно?
– Они призывают крестьян к революционному действию, к решительному натисьсу на помещичье землевладение, советуют отбирать земли у владельцев, не дожидаясь Учредительного собрания.
– Так могут вести себя только абреки.
– И не абреки это вовсе.
– А кто?
– Большевики!
– А слышал я их – еще на японской, – вступил снова в разговор Дзюба. – Агитировали против войны. Кацапня[9].
– Кацапня не кацапня, а попадают люди под их влияние, – продолжал атаман. – Вот недавно в Безенги (Балкария) один оратор заявил: «Чем отличается Временное правительство от царя, если помещик Суншев Далхат, который при царе сидел на нашей шее, и сейчас остается правителем – старшиной? Мы боролись за землю, свободу и мир, а их у нас нет».
– Пусть переизберут старшину, – сказал один из казаков.
– Кого они изберут, если у них между собой согласия нет, – ответил другой.
– Недавно комиссар Нальчикского округа Хамид Чежоков выезжал с целой свитой в Малую Кабарду, требовал от крестьян, чтобы они не только освободили княжеские и кулацкие земли, но и вернули владельцам все имущество «до единой черепицы», поклялись на Коране, что ничего из награбленного не скрыто, все возвращено.
– И что, этим большевикам никто не противостоит? – спросили у атамана.
– Противостоят эсеры и меньшевики. Вот, что они пишут в возвании, – атаман развернул газету: «В некоторых местах темные люди начали грабить частные хутора и самочинно отбирать у них землю. Партия социалистов-революционеров громко заявляет: те, кто сейчас призывает к погромам и захватам, делают страшное дело».
– Это они верно говорят. Не свое – не хапай! – сказал зажиточный станичник Семен Белоконь.
– Семен, а ты недавно был в Грозном, что там нового? – спросили у него.
– Проявляется солидарность, – ввертывает тот не понятное ни атаману, ни присутствующим слово и, не переставая крутить цигарку, рассказывает, как на старых промыслах в Грозном рабочие друг за друга «горой стоят, солидарно, значит».
В городе действительно прошла всеобщая забастовка. Рабочие требовали повышения заработной платы, улучшения условий труда, строгого соблюдения 8-часового рабочего дня и заключения коллективных договоров. Предприниматели, видя твердую решимость рабочих забастовщиков стоять на своем, вынуждены были пойти на удовлетворение их требований.
– Ну, эти молодцы! Своего добиваются! – по ходу рассказа Семена резюмировали казаки. – А то эти собственники уже совсем зарвались. Все за границу хотят увезти. А что нельзя увезти или реализовать, прикрывают.
Вопрос о тяжелом положении на Грозненских нефтяных промыслах обсуждался 14 июля 1917 г. на заседании нефтяной секции особого совещания по топливу. Как отмечалось в журнале заседания, помощник Кавказского уполномоченного инженер Турьян доносил, что «Грозный затопляется нефтью, которую некуда поместить за отсутствием свободных хранилищ и недостатком транспортных средств, вследствие этого грозненские нефтепромышленники, преимущественно Нового района, прекратили эксплуатацию более 30 скважин, в том числе заглушили до семи действующих фонтанов с суточным дебитом более 300 тыс. пудов нефти, из которой 1/3 беспарафинистой». К этому инженер Турьян добавляет, что указанное положение грозит вызвать волнение рабочих, что может повлечь приостановку действий всех промыслов.
Разруха в промышленности и транспорте дополнялась продовольственным кризисом. Дороговизна в области принимала огромные размеры. Катастрофически росли цены на все. На почве дороговизны и голода в области происходили продовольственные волнения.
Когда этот разговор завершился, кто-то сказал:
– Слава Богу, у нас еще терпимо.
– Потому что вместе держимся, – сказал другой.
– Вот тебе и солидарность, правда, Семен? – попытался кто-то пошутить.
2
Но положение на Тереке, как и в стране в целом, с каждым днем продолжало усложняться и ухудшаться. Временное правительство требовало хлеба для снабжения армии и продолжения войны. Местные власти тоже призывали к новым напряжениям и жертвам. Газеты писали о нуждах Кавказской армии. Терская область являлась одним из районов, за счет которых власти тщетно старались выйти из крайне тяжелого положения с продовольствием на фронтах. Так, в телеграмме министра продовольствия Пешехонова от 16 июля 1917 года в адрес Ставропольской губернской продовольственной управы указывалось, что необходимость снабжения продовольствием армии и населения «ставит министерство перед неотложной задачей взять возможно большее количество хлеба из районов с вышесредним урожаем, каковыми, несомненно, являются Северный Кавказ и Донская область».
27 сентября 1917 года начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Духонин в телеграмме Керенскому просил в спешном порядке учредить особое бюро для Кубанской и Терской областей и Ставропольской губернии от имени Временного правительства на гибельные последствия наступающего на фронте продовольственного кризиса, вызванного продолжительным недовозом.
В это же время в обзоре продовольственного положения на местах за период с 21 сентября по 6 октября 1917 года (по данным информационного подотдела особого организационного отдела министерства продовольствия) по Северному Кавказу отмечались продовольственные волнения. В нем, в частности, указывалось: «увеличение твердых цен не усилило подвоз» (Владикавказ).
С 3 по 7 августа 1917 г. в Пятигорске проходил съезд партийных организаций Северного Кавказа, а съезд прибыло 24 делегата от 14 партийных организаций Грозного, Ставрополя, Новороссийска и Екатеринодара, от объединенных организаций Пятигорска, Владикавказа, Туапсе, Армавира, Тихорецкой, Геленджика. Среди делегатов было 9 большевиков, 1 интернационалист и 14 меньшевиков.
На повестке дня были поставлены вопросы о текущем моменте, выборах в Учредительное собрание и задачах партии социалистического направления, создание Северо-Кавказского краевого центра партии.
Доклад о текущем моменте на съезде сделал лидер меньшевиков Владикавказа Н. П. Скрынников. С резкой критикой оборонческих, соглашательских взглядов, изложенных в его докладе, выступили большевики.
– Революция на этом не остановится, а пойдет дальше, – утверждал делегат владикавказских большевиков М. Д. Орахелашвили и указывал на ее движущие силы.
– В дальнейшем развитии революции заинтересованы лишь пролетариат и революционное крестьянство, – говорил он. – Тактика большевиков опирается именно на эти классы. Новая революция, новый натиск революционных сил – вот выход, – заявил он и призвал рабочий класс с трибуны съезда «готовиться к новым наступлениям». Он также выступил по поводу условий объединения социал-демократов Северного Кавказа.
– Объединиться мы можем только на началах интернационализма, – говорил он, – что несовместимо с революционным оборончеством.
По текущему моменту были внесены две резолюции – большевистская и меньшевистская. Численным перевесом меньшевистских голосов резолюция, внесенная большевиками, была отклонена. Тогда большевистская фракция отказалась от дальнейшего участия в работе съезда и покинула зал заседаний.
Контрреволюционные силы не складывали оружия. Они не успокоились на том, что в июльские дни захватили полностью власть в стране, и делали все, чтобы закрепить эту победу, предотвратить надвигавшуюся пролетарскую революцию.
Контрреволюция мобилизовала свои силы как в центре, так и на местах. Спешно консолидировались казачьи и горские верхи на Тереке. Атаман Терского казачьего войска М. А. Караулов то выезжал в Тифлис, в штаб Кавказской армии «для истребования» с фронта казачьих полков, то по вызову Керенского ездил в Петроград, где он согласовывал планы своих контрреволюционных действий, получал задания.
На Тереке решено было нанести удар прежде всего по пролетарскому Грозному – опорному пункту революции в области. Для этого уже к концу июля 1917 года был создан сводный казачий отряд под командованием помощника атамана Терского казачьего войска есаула Медяника.
В начале августа по приказу главнокомандующего Кавказской армии отряд этот был введен в Грозный. Командир его – есаул Медяник – объявил город на военном положении, окружил здание Совета и потребовал прекращения всякой работы. Казаки разоружили застигнутых в расплох солдат революционного 21-го Кавказского стрелкового полка, захватили казармы с оружием и арестовали руководителей.
Вслед за отрядом Медяника в город вступил 2-й Кизлярский казачий полк. Об этих фактах перехода в наступление казаков Грозненский комитет большевиков сообщал 20 августа 1917 г. в ЦК: «На днях у нас расформирован 21-й полк. Из города выводится почти весь местный гарнизон. Прибыл 2-й Кизлярский полк казаков… Арестованы двое членов нашей партии… Казачество держит себя вызывающе».
Вслед за Карауловым и его сподвижниками стали «спасать революцию» и члены ЦК Союза объединенных горцев. Они разъехались по округам и развернули лихорадочную деятельность. По их указанию созывались различного рода съезды и совещания, главной задачей которых было, по признанию самого комиссара Терской области эсера Б. Шаханова, «единение туземцев с русской демократией» с целью создания «сильной власти». На них выносились национальный и земельный вопросы, вопросы об организации Советов крестьянских депутатов и земельных комитетов. Кое-где они даже создавались.
Буржуазия, которая после июльских событий в Петрограде целиком сосредоточила в своих руках власть и взяла курс на установление в стране диктатуры, продолжала сплачивать контрреволюционные силы России.
Важное место в подготовке генеральской диктатуры российской буржуазией отводилось так называемому государственному совещанию, которое открылось в Москве 12 августа.
В центре совещания были кандидаты в военные диктаторы – генералы Корнилов и Каледин. Они выступили на совещании с открытым ультимативным требованием установления в стране военной диктатуры. Они настаивали на запрещении митингов и собраний, разгоне Советов и солдатских комитетов, установлении «сильной власти», восстановлении в армии старых царских порядков, введении смертной казни не только на фронте, но и в тылу.
Генерал Каледин по-солдатски прямо поставил точку над i, требуя «… выбросить на свалку все демократические организации, прежде всего Советы».
На Московском совещании выступил и атаман Терского казачьего войска Караулов. Он вслед за Корниловым и Калединым также потребовал ликвидации всех комитетов и демократических организаций и создания твердой власти.
Когда Каледин выступал и требовал упразднить все Советы и комитеты как в армии, так и в тылу, Караулов кричал с места: «Совершенно правильно».
Буржуазия, напуганная организованным выступлением рабочих, их готовностью на удар ответить ударом, решила повременить с установлением в стране военной диктатуры.
Но, как подтвердил дальнейший ход событий, заговор против революции продолжался. Во главе его был «герой» Московского государственного совещания генерал Корнилов, назначенный после июльских событий Верховным главнокомандующим вооруженными силами России.
В плане подготовки корниловского мятежа важное место отводилось и Кавказу Заговорщики рассчитывали опереться на казачьи части, находящиеся на Кавказском фронте. Главнокомандующий этим фронтом, его начальник штаба, вся руководящая часть генералитета Кавказского фронта были участниками заговора.
О тесных связях контрреволюционной терской казачьей верхушки с заговорщиками говорят и такие факты: накануне выступления Корнилова Терское областное казачье управление отозвало из Совета рабочих и солдатских депутатов представителя от казачества. В созданный затем во Владикавказе для борьбы с корниловщиной Комитет спасения оно своих представителей не послало. Чтобы успокоить казачьи массы, выступавшие против Корнилова, управление выпустило воззвание, в котором говорилось, что казачество «будет бороться с анархией, откуда бы она ни исходила».
25 августа 1917 года генерал Корнилов, пытавшийся кровавыми мерами предотвратить надвигающуюся социалистическую революцию, двинул войска на революционный Петроград. В составе войск, стянутых к Петрограду для удушения революции, была «Дикая дивизия», в которой в основном были горцы Северного Кавказа и Дагестана.
По замыслам Корнилова, Кавказской туземной дивизии предназначено было сыграть крупнейшую роль в деле захвата революционного Петрограда. Она была одной из трех дивизий, входящих в состав «Петроградской отдельной армии», задачей которой было восстановить порядок в Петрограде, Кронштадте и во всем Петроградском военном округе.
Но солдаты Кавказской туземной дивизии не только решительно отказались идти на подавление революционного Петрограда, но и потребовали немедленного возвращения на родину, на Кавказ. Они арестовали своих офицеров, а наиболее ненавистных им расстреляли.
Наивные расчеты организаторов мятежа на то, что «туземцам все равно, куда идти и кого резать», провалились с треском.
Горцы и слышать не хотели о возвращении на фронт, чтобы умирать, защищая интересы кучки капиталистов и помещиков и их правительство, возглавляемое Керенским.
Об активных настроениях солдат-горцев, о том, насколько глубоко проникла в их среду революционная агитация, свидетельствует письмо генерала Половцева, назначенного Временным правительством в Кавказскую туземную дивизию, П. Пальчинскому – Петроградскому военному генерал-губернатору. Оно датировано 4 сентября 1917 года, сразу же после жарких дней корниловского путча.
«Прочти рапорт, посылаемый мною Керенскому, – писал Половцев Пальчинскому. – Официальным языком не описать того кавардака, который я здесь нашел. Развал полный. Дошло до того, что вчера примерные по поведению кабардинцы отцепляют паровозы, заявляя, что в газетах написано, что их везут на фронт, а Керенский обещал на Кавказ, и если он обещания не исполнит, то сами уйдем. Словом, ведут себя вроде кронштадтских товарищей. Хотя пока болтают языками, но скоро заработают кинжалами».
Автор письма с большой тревогой предупреждает: «Если обещание А. Ф. не будет исполнено, тузенцы-горцы окончательно потеряют всякое доверие к начальству, и скандал может быть огромный и кровавый».
«Боеспособность равна нулю, – сетовал Половцев, – в случае приказа идти против врагов внешних или внутренних не могу быть уверенным, что приказ будет выполнен».
Страшась возможных последствий дальнейшего задержания горцев, Половцев сетовал: «Необходимо отвезти их на Кавказ, там горский съезд поможет, старики в аулах набьют молодежи морды, и порядок можно будет восстановить. Нужно мне сейчас же дать возможность заверить, что это будет сделано через неделю или две, и это исполнить». Это была робкая надежда на периферию одного из главарей контрреволюции, провалившейся в центре. Но и там в дни корниловского мятежа она получила должный отпор.
Характеризуя положение, создавшееся в воинских частях Кавказского фронта после этих событий, генерал Пржевальский вынужден был признать, что «после корниловского выступления… авторитет войсковых начальников всех степеней был окончательно подорван; между офицерским корпусом и солдатами образовалась непроходимая пропасть. Командный состав окончательно потерял доверие солдат».
Факты со всей отчетливостью показывали, что терский областной Гражданский исполнительный комитет, Союз объединенных горцев, Национальные советы и другие при поддержке меньшевиков и эсеров делали все, чтобы изолировать население от революционной России, подорвать авторитет и влияние большевиков и не допустить социалистической революции.
Один из пятигорских эсеров Иевлев, выступая с докладом в городской думе 7 сентября 1917 года, говорил: «Мы должны сказать, что если власть будет передана в руки пролетариата, кризис власти неминуем. К чему же нам изменять свою линию поведения? Мы должны согласиться с основным положением, что революция наша является буржуазной, а не социальной. Да мы и не предполагали произвести социальную революцию; социалисты-революционеры и социал-демократы меньшевики этого не проповедовали. У нас – революция политическая с надбавкой капитализма. Единственно большевики это проповедовали. В попытках выступления большевиков скрыта гибель революции».
«Дальше уже идти гибельно, – пугал докладчик, – не следует увлекаться социализацией и освобождением труда, от громких лозунгов пора перейти к ограничительным».
«Недисциплинированная толпа, – говорил он, – опаснее всяких химер». И далее: «Наша революция всколыхнула дно, откуда выплыли подонки… В деревне, где в первые дни революции прекратилось хулиганство, более и более возрастает разлад и разруха, и все с полным правом говорят, что все это дала революция. То, что происходит теперь в Петрограде, – начинает сжимать мое сердце ужасом и болью».
А на страну быстро надвигался общенациональный революционный кризис. Все отчетливее слышались раскаты приближавшейся грозы.
Часть третья Запоздалая справедливость
Есть в наших днях такая точность, Что мальчики иных веков, Наверно будут плакать ночью О времени большевиков. С. Куняев. 1940 г.Глава XVII
С роковых июльских событий, с того несчастного для армии и всей страны наступления на фронте, закончившегося ужасным Тарнопольским прорывом немцев, на деятельность Временного правительства легла печать чуть ли не оцепенен-ности. Только Керенский в тот момент не колебался. Пропагандистским маневром – обвинением Ленина и других большевиков в связях с германским генштабом – и силовым давлением – вызовом войск с фронта он несколько отсек тогда большевизирующую часть революционной демократии. В целом же большевики как партия не были разгромлены, напротив, сравнительно быстро начали восстанавливать свои силы.
Почему? У власти не хватило решимости? Что помешало?
Керенский как юрист понимал, что все обвинения против большевиков в связях с немецким генштабом и причастности к июльским событиям необходимо еще доказать законным следственным образом. Однако не это все-таки было главным. Опять сыграл свою роль авантюризм Александра Федоровича.
До поры до времени политический авантюризм Керенского приносил прибыль, исчислялась ли она в золоте или в нематериальных проявлениях – министерских портфелях, популярности и даже обожании. Керенский был героем и предметом обожания для обывателей, принимавших его политический авантюризм, разбухающий на каждом витке карьеры, за мужество, волю и твердость позиции. В то же время колебания в отношении к Керенскому среди союзников, лидеров кадетов и мелкобуржуазных партий сотрясали воздух прямо-таки по шкале землетрясений. То он – «единственная светлая надежда», только он способен провести утлый челн Временного правительства через разбушевавшуюся стихию революционного океана к вожделенной пристани, то его уже считают политическим трупом и сговариваются заменить на военного диктатора Корнилова, то снова возрождение. И так – до тех пор, пока Октябрьский переворот не вынудил Керенского бежать из Зимнего дворца – покинуть столь льстившие его тщеславию царские апартаменты.
– Если бы мы все, подобно товарищу Керенскому, горели тем же огнем пламенной веры и любви и эти чувства приложили к делу устроения русской жизни, около нашего военного министра сгруппировалась бы такая армия сильных духом людей, которой не страшны были бы ни анархия, ни разруха, – заявлял крупный военный промышленник С. Н. Третьяков в мае 1917 г., а 23 октября на завтраке в английском посольстве тот же Третьяков, но уже в должности председателя Экономического совета, весьма презрительно отзывался о министре-председателе.
Биография Керенского так и освещается «авантюрным светом».
В ноябре 1914 года он выступает в качестве одного из защитников пяти членов Государственной думы – большевиков Петровского, Бадаева, Шагова, Муранова, Самойлова. Керенский прогремел тогда, это щекотало ему нервы, утоляло самолюбие. А после Февральской революции та защита в 1914 году оказалась козырной картой для его зажигательных речей.
На I съезде Советов Керенский расписывался в уважении «к доктрине Маркса», защищая Маркса от Ленина.
Судя по тому, какую подозрительную активность проявлял министр юстиции первого состава Временного правительства на перекрестках дорог, далеких от правосудия, баловень Фемиды решился на измену богине, едва получив портфель. Видно, полагал он, и не без оснований, что военно-морское министерство – самый высокий трамплин для прыжка в кресло министра-председателя. Тем более что в отсутствие князя Г. Е. Львова – тогдашнего главы Временного правительства – председательствовал на заседаниях, на что было специальное постановление.
И вот он начинает исподволь, но весьма энергично «приручать» общественное мнение, дабы не возмутилось оно тем, что присяжный поверенный берет на абордаж армию и флот.
Он оседлал своего конька. Иноходью, галопом, аллюром нес он своего седока, и если спотыкался или припадал на ногу, седок знал, как его пришпорить.
«Ничто не поражает так, как его появление на трибуне с его бледным, лихорадочным, истеричным, изможденным лицом. Взгляд его то притаившийся, убегающий, почти неуловимый за полузакрытыми веками, то острый, вызывающий, молниеносный. Те же контрасты в голосе, который – обычно глухой и хриплый – обладает неожиданными переходами, великолепными по своей пронзительности и звучности. Но что за этим театральным красноречием? За этими подвигами трибуны и эстрады? – Ничего, кроме утопии, комедиантства и самовлюбленности!» – писал французский посол в России Морис Палеолог.
5 мая Керенский получает портфель военного и морского министра в 1-м коалиционном правительстве. А чуть позже становится главой правительства.
После Октября сподвижники Керенского в своих мемуарах воздали «по заслугам» главе Временного правительства, обвиняя при этом в его карьере злой рок, подчеркивая свою якобы непричастность к взлету и падению присяжного поверенного. Трагическим комиком называл Керенского Милюков.
– У Керенского не было ни надлежащей государственной головы, ни настоящей политической школы, – говорили о нем меньшевики. – Без этих элементарно необходимых атрибутов Керенский не мог не шлепнуться со всего размаха и не завязнуть в своем июльско-сентябрьском состоянии, а затем не мог не погрузиться в пооктябрьское небытие.
В точности частных оценок не откажешь. Но в этом запоздалом развенчании министра-председателя читается и позиция меньшевиков: дескать, будь на месте присяжного поверенного «надлежащая государственная голова» с «настоящей политической школой», все могло быть иначе.
То есть они отрицают исторические предпосылки пролетарской революции в России, ее неизбежность, как об этом заявляли большевики.
Фигура Керенского устраивала кадетов и меньшевиков с эсерами как буфер в их коалиции. Кадеты под вывеской министра-председателя из эсеров рассчитывали укрепить свой авторитет в правительстве, а эсеры и меньшевики – удержать начавшее уже падать доверие масс.
Поддерживающие Керенского эсеры и меньшевики смотрели на большевизм пусть как на крайнюю, экстремистскую, но все же органическую часть социал-демократии, революционной демократии. Поэтому удар по ним, приведя к ослаблению социал-демократического лагеря, мог быть отрицательно воспринят ВЦИК Советов.
Но и это не все. Имелось еще одно важное обстоятельство, определявшее сдержанность Керенского, не говоря уже о ВЦИК в июльские дни. Разрушение крайнелевой части революционной демократии, ослабление ее неминуемо должно было привести к укреплению и консолидации правых сил, также неоднородных по своему составу.
Так оно в действительности и произошло. Именно после июльских событий началось возвышение генерала Корнилова, который стараниями помощников Керенского Б. Савинкова и М. Филоненко, вознамерившихся укрепить власть, соединив красный флаг премьер-министра с крепкой генеральской рукой, в 20-х числах июля стал Верховным главнокомандующим.
Корнилов и его окружение выдвигали собственную программу – «Программу трех армий»: армии на фронте, армии в тылу, армии на железных дорогах. Это была программа милитаризации страны, фактически предрешавшая разгром Советов, других революционно-демократических организаций и радикальную перестройку власти – либо с включением в нее политиков правого толка, либо построенную как военная диктатура.
Керенский не мог не знать об этом, так как соответствующая информация поступала к нему по разным каналам, усиливая подозрения и опасения. Если в июле главной представлялась, и в действительности была, левая опасность, то во всяком случае к середине августа главной становится правая угроза.
Но Керенский упорно хотел сохранить позицию центра.
«Мне трудно потому, что я борюсь с большевиками левыми и большевиками правыми, – говорил он, – а от меня требуют, чтобы я опирался на тех или других. Или у меня армия без штаба, или штаб без армии. Я хочу идти посредине, а мне не помогают».
Левые и правые вели ожесточенную борьбу, Керенский пытался гасить ее, а страна стремительно шла к катастрофе.
Как писал один из журналистов того времени: «Вспыхнули тысячи аппетитов. Появились тысячи сепаратизмов. Каждый аппетит заявлял себя суверенным. Всякий требовал, требовал и требовал». В результате ухудшилось все: и экономическое, и политическое, и военное положение. Разочарование, опустошенность, апатия и злоба заполнили души.
В канцелярию Керенского валом шли письма. Писали: берите назад вашу свободу, при царе хоть хлеб был. «Вами опозорена Россия, опозорено русское имя». «Вы сеяли ветер и заставляете всех нас пожинать бурю». «Что вы дальше думаете делать с Россией, какие эксперименты?… Не пора ли вам понять, что из этого состояния анархии и произвола, в котором очутилась Россия, из состояния полной потери и совести, и разума единственный выход – диктатура. Конечно, диктатура не пролетариата, не охлократия. Я монархист, но не боюсь сказать, что нужна диктатура военная, что необходимо участие в ней непременно военного и твердого человека. Вы хотите поменьше крови, но не обольщайтесь мечтами… Дождетесь диктатуры Советов, а затем социалистической или немецкой…»
Страшась реальной анархии больше, чем проблематичного монархизма, Керенский после Государственного совещания двинулся вправо. У Корнилова была армия, и с нею, держа Корнилова под контролем, он мог рассчитывать на блокировку левых и стабилизацию власти. Важно было только сдержать Корнилова и тех, кто стоял за ним, в приемлемых, допустимых для Керенского и демократии рамках.
Однако с каждым днем становилось яснее, что именно это-то и составляет труднейшую задачу. Августовская «правая волна» становилась все более крутой. И как в июле правительство решилось остановить левую атаку, так теперь, в конце августа, Керенский попытался затормозить правую. 27 августа, использовав подходящий предлог, встречу с В. Львовым, явившимся к нему из Ставки, он разорвал свой, казалось бы, налаженный альянс с Корниловым.
Это была провокация. Дело в том, что войска были выдвинуты на Петроград с целью наведения там общественного порядка по решению Керенского. Сам Керенский должен был прибыть в ставку Корнилова для согласования действий. Но провокационная поездка Львова противопоставила генерала Корнилова Керенскому. Львов, попросту говоря, обманул Керенского, сказав, что Корнилов взял всю полноту власти в свои руки и хочет установить диктатуру. Керенский испугался и поддался уговорам большевиков, которые обещали не выступать против Временного правительства, встретить Корнилова единым фронтом. Лавр Георгиевич, будучи настоящим русским офицером, старался не лезть в политику а просто честно выполнять свой долг. И утверждение о том, что он был монархистом, является не совсем точным. Генерал Корнилов считал, что военные должны привести Россию к учредительному собранию, которое и решило бы судьбу государства.
Корнилов и в самом деле разительно отличался от многих царских генералов. Прежде всего – храбростью и готовностью брать на себя ответственность. Правда, решительность его нередко оборачивалась безрассудством, авантюризмом, азартностью игрока. По мнению командующего Юго-Западным фронтом Брусилова, у которого Корнилов командовал в Карпатах дивизией, он – начальник лихого партизанского отряда.
Но столичная буржуазная пресса превозносила «народного генерала, казака-крестьянина» Лавра Корнилова.
Он действительно родился в августе 1870 года в глуши Сибири, в Семипалатинской губернии, в семье коллежского секретаря. Служил в разных местах азиатской части империи, с объявлением мобилизации 1914 года отправился на театр войны против Австро-Венгрии.
В Галиции, в апреле 1915 года, после разгрома вверенной ему дивизии Корнилов попал в плен. Там он встретился с сослуживцем по русско-японской войне – генералом Мартыновым, который находился в плену с августа 1914 года.
«Как хороший солдат, Корнилов томился в плену, – вспоминал Мартынов. – В то время он был еще черносотенцем и, читая в австрийских газетах о борьбе царского правительства с прогрессивным блоком Государственной думы, неоднократно говорил, что он с удовольствием перевешал бы всех этих Гучковых и Милюковых.
Он рвался к боевой деятельности, его непрерывно точил червь неудовлетворенного честолюбия».
Через год, весной шестнадцатого, оба генерала решили бежать из плена. Мартынов нашел сообщника из числа служащих замка, где они находились под стражей, предложил ему деньги, но тот, посчитав сумму недостаточной, донес обо всем начальству. Мартынова перевели в тюрьму, а Корнилова, заболевшего нервным расстройством, отправили для лечения в соседний госпиталь.
Там он подкупает фельдшера и, переодетый в австрийскую солдатскую форму, благополучно переходит румынскую границу. Фельдшера же арестовали, он был приговорен к смертной казни через повешение.
«Геройский» побег из плена сделал известным имя начальника дивизии генерала Корнилова: «Вождь-герой!» – кричали тогда газеты.
Генерал был замечен Родзянко и был назначен командующим войсками Петроградского военного округа 2 марта 1917 года.
Вчерашний монархист тут же заговорил языком республиканца:
– Я считаю, что происшедший в России переворот, – заявил новый командующий корреспондентам, – является верным залогом нашей победы над врагом. Только свободная Россия, сбросившая с себя гнет старого режима, может выйти победителем из настоящей мировой войны.
На радость Милюкову и Гучкову, которых он еще год назад не прочь был повесить, Корнилов самолично произвел арест императрицы.
Командующего столичным округом раздражали два обстоятельства: слабость правительственной власти и «распущенность» народных масс.
– Министры обнаруживают признаки переутомления, – зло острил командующий, когда у него спрашивали о текущих событиях. Он соглашался с английским послом Бьюкененом, что в борьбе с Совдепом нужен человек действия, способный воспользоваться первой же благоприятной возможностью, чтобы подавить незаконного соперника и избавиться от него навсегда.
Корнилов считал себя именно таким человеком. И вот, став Главкомверхом, он решил, что настало время, чтобы воплотить свои планы в жизнь.
Корниловские войска по согласованию с Савинковым уже двигались к Петрограду, чтобы обеспечить там военное положение, когда Керенский внезапно для всех объявил Корнилова изменником и сместил его с поста Верховного главнокомандующего.
Наверное, победа над Корниловым не далась бы Керенскому столь легко, если бы его неожиданное решение не получило полную поддержку всей революционной демократии и даже ее крайне левой части – большевиков.
Но произошло именно так. В критическую минуту борьбы с правыми Керенский прибег к помощи левых и выиграл. На помощь ему пошла и нерешительность Корнилова в решительный момент. Застрелившийся Крымов будто бы сказал перед смертью: «Если бы мне попался в руки Корнилов, я бы его собственноручно застрелил».
Это похоже на правду, так как предсмертную записьсу Крымова Корнилов уничтожил и никому и никогда не говорил о ее содержании.
Корниловцы и все поддерживающие их были разгромлены без единого выстрела, фактически рассеяны и деморализованы. Сам Корнилов и его сторонники оказались под арестом.
Но, увы, это была пиррова победа Керенского. Как в июле он затормозил победу правых сил, не дав им добить большевиков, так теперь, в начале сентября, пытался ограничить победу левых сил. Керенский сужал следствие над корниловцами, объявлял о юридической невинности корниловских войск, которые, по его утверждению, были обманно двинуты против правительства. Он назначил, в сущности, корниловца генерала Алексеева начальником штаба Ставки, рассчитывая, что это успокоит правых. Вместе с тем, не дожидаясь Учредительного собрания, провозгласил Россию республикой: это должно было внести успокоение в другой лагерь – в ряды революционной демократии.
Как и в июле, теперь, в сентябре, он лихорадочно стремился сохранить баланс сил. Но провал выступления Корнилова усилил анархию в стране, особенно в армии.
В середине сентября ВЦИК Советов и Исполком Совета крестьянских депутатов созвали Демократическое совещание, чтобы обсудить вопрос о создании новой, демократической власти, формирования правительства из представителей социалистических партий и тех общественных организаций, которые готовы были их поддержать.
Но демократическое совещание раскололось, пожалуй, еще больше и глубже, чем Государственное совещание.
В этих условиях Керенский не нашел ничего лучшего, чем повторение ходов. В двадцатых числах сентября, при поддержке сторонников, он сформировал еще одно, третье по счету, коалиционное правительство, состоявшее из 6 кадетов, 3 меньшевиков, 4 эсеров и трудовиков и 4 независимых.
Это означало, что власть после потрясения корниловщиной оставила в «низах» убеждение, что она оказалась способной вернуться лишь «на круги своя». Доверие к власти стремительно падало. Существовать ей оставалось недолго.
25 октября открылось экстренное заседание ЦИК первого созыва. В составе ЦИК преобладали меньшевики и эсеры.
Было уже за полночь, когда Гоц[10] занял председательское место, а на ораторскую трибуну поднялся Дан[11].
– Переживаемый момент окрашен в самые трагические тона, – заговорил он. – Враг стоит на путях к Петрограду, силы демократии пытаются организовать сопротивление, а в это время мы ждем кровопролития на улицах столицы и голод угрожает погубить не только наше правительство, но и самое революцию.
Массы измучены и болезненно настроены: они потеряли интерес к революции. Если большевики начнут что бы то ни было, то это будет гибелью революции.
– Ложь! – раздался возглас из зала. – ЦИК имеет власть и право действовать, и все обязаны повиноваться ему. Мы не боимся штыков! ЦИК прикроет революцию своим собственным телом.
– Он уже давно мертвое тело, – несется опять из зала.
Дан, ударив кулаком по столу, выкрикивает:
– Кто ведет подстрекательскую работу, тот совершает преступление.
Голос из зала: – Вы уже давно совершили преступление! Вы взяли власть и отдали ее буржуазии!
Следующий выступающий заявил:
– Маркс и Энгельс говорили, что пролетариат не имеет права брать власть, пока он не созрел для этого… захват власти массами означает трагический конец революции.
Ему вторит Мартынов, которого ежеминутно прерывают выкриками с мест:
– Интернационалисты не возражают против передачи власти демократии, но они осуждают большевистские методы. Сейчас не время брать власть.
Они еще не знают, что в главный штаб Красной гвардии связной доставил приказ ВРК[12], в котором говорилось:
1. Немедленно мобилизовать все силы и направить в Смольный отряд в 1500–2000 красногвардейцев.
2. Занять все важные пункты в районах, установить охрану фабрик и заводов, подготовить отряды к захвату правительственных учреждений.
3. Провести немедленную мобилизацию всего транспорта.
Заседание ЦИК длилось до четырех часов утра. От большевиков выступил Троцкий.
– История последних семи месяцев показывает, что меньшевики покинуты массами. Меньшевики и эсеры побили кадетов, а когда им досталась власть, они отдали ее тем же кадетам.
Дан говорит, что вы не имеете права восставать. Восстание есть неотъемлемое право революционера! Когда угнетенные массы восстают, они всегда правы.
Говоря о «неотъемлемом праве» революционера на восстание, Троцкий сделал еще одну попытку его предотвратить. Он предложил ЦИК способствовать передаче власти Временным правительством, как он выразился, в рамках «советской легальности», то есть мирным путем.
Призрак власти воодушевил меньшевиков и эсеров. Посыпались различные предложения по принятию резолюции. Но выступил В. Володарский. Он заявил, что накануне съезда Советов ЦИК не имеет права брать на себя функции съезда. И большевики покинули заседание.
Когда об итогах заседания доложили Керенскому, он сообщил, что к нему явилась делегация от стоящих в Петрограде казачьих полков.
– Казаки желают знать, какими силами я располагаю для подавления мятежа. Казачьи полки только в том случае будут защищать правительство, если лично от меня получат заверения в том, что на этот раз «казачья кровь не прольется даром», как это было в июле, когда мной будто бы не были приняты против бунтовщиков энергичные меры.
Керенский не преминул и тут козырнуть якобы своей популярностью: Делегаты особенно настаивали на том, что казаки будут драться только по особому, моему личному приказу», – подчеркнул в разговоре он.
Но не надо было быть провидцем, чтобы понять: казачьи полки в октябре были не те, что в июле, когда проявляли, как отмечалось в донесениях, «сравнительную устойчивость» и «дисциплинированность».
В одном из последних предписаний генерала Верховского перед уходом в бессрочный отпуск говорилось:
– Казачьи полки в Петрограде застоялись и попадают под большевистскую пропаганду. Поэтому прошу произвести смену этих полков.
Военный министр знал о настроениях казаков, а главнокомандующий Керенский, оказывается, даже не подозревал и, вопреки развивающимся событиям, хранил уверенность в безусловной верности казаков Временному правительству.
Впрочем, и союзники делали ставку на казаков. 20 октября глава английской военной миссии генерал Нокс в беседе с американским полковником Робинсом сказал:
– Необходима военная диктатура, необходимы казаки, этот народ нуждается в кнуте.
Но в ночь на 25 октября это было уже поздно. Площадь перед Смольным была залита людским морем. В глухом гуле слышались, однако, четкие отрывистые команды, – они направляли революционные отряды в горячие точки, к важнейшим пунктам Питера, чтобы захватить их, удержать любой ценой, чтобы оттеснить правительственные войска к Дворцовой площади, к Зимнему, где доживало последние часы Временное правительство.
Из штаба округа доносили:
«Положение в Петрограде угрожающее. Уличных выступлений, беспорядков нет, но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, мостов. Никакие приказы не выполняются. Юнкера сдают караулы без сопротивления. Казаки, несмотря на ряд приказаний, до сих пор из своих казарм не выступили».
Восстание началось и успешно развивалось. К утру 25-го под контролем комиссаров ВРК находились городская электростанция, Центральный телеграф, Петроградское телеграфное агентство, Центральная телефонная станция, Государственный банк, предприятия связи, мосты, вокзалы. Всю ночь восставшие получали подкрепления. Шли вооруженные отряды рабочих, из Гельсингфорса взяли курс на Петроград эскадренные миноносцы, за ними последовали линейные корабли и заградители. По приказу ВРК крейсер «Аврора» отошел от стенки Франкорусского завода и медленно пошел вверх по Неве.
К 10 утра Керенский вызвал министров на экстренное совещание в штаб, но начал его раньше, спешил. Совещались втроем: министр-председатель, Коновалов и Кишкин. Остальные еще не подъехали. Керенский передал свои полномочия Коновалову и заявил, что вынужден выехать из столицы.
Министр юстиции Малянтович, прибывший позже, встретил Керенского уже у выхода.
– Куда он направляется? – спросил Малянтович у Коновалова.
– Навстречу войскам, в Лугу..
– А в Петрограде, значит, нет войск, готовых защищать Временное правительство?
– Ничего не знаю, – Коновалов развел руками. – Плохо.
– А какие войска идут?
– Кажется, батальон самокатчиков.
– Поистине плохо, если для защиты Временного правительства надо ехать в Лугу.
К 6 часам вечера 25 октября Дворцовая площадь оказалась в плотном кольце революционных войск. Солдаты и красногвардейцы убеждали юнкеров, охранявших Зимний, сложить оружие и сдаться, но юнкера колебались. Вскоре они отошли к самому дворцу, за баррикады, площадь опустела. На нее тут же выехали броневики ВРК, заняв все выходы с площади.
А в Смольном после долгого ожидания и волнений в 22 часа 45 минут открылся II Всероссийский съезд Советов. Повестка дня включала следующие вопросы: об организации власти, о войне и мире, об Учредительном собрании.
Начало работы съезда было осложнено обструкцией меньшевиков и эсеров. Мартов предложил приостановить военные действия. Лидеры заявили, что съезд заседает в тот момент, когда Зимний дворец подвергается артиллерийскому обстрелу, а там среди членов Временного правительства находятся представители социалистических партий. Одно заявление следовало за другим, съезд стал превращаться в антибольшевистскую демонстрацию. Настроение рядовых делегатов было колеблющимся.
Решили сделать перерыв.
Лишь в первом часу ночи 26 октября революционные солдаты, матросы и красногвардейцы во главе с Антоновым-Овсеенко и Чудновским ворвались во дворец и начали занимать комнаты и залы Зимнего. Наконец они вошли в кабинет, где находились члены Временного правительства, Керенского среди них не было: накануне ему удалось бежать, воспользовавшись посольской машиной американцев. «Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными!» – заявил Антонов-Овсеенко.
Это произошло в 1 час 50 минут 26 октября. Временное правительство России прекратило свое существование.
Можно много анализировать, определяя разные причины поражения и победы Ленина, но в том, что произошло в действительности, все-таки не заключалось ничего фатального. Соперничали и боролись люди. Выиграть мог любой, в том числе и Керенский. Дорога к демократии России не была заказана. Керенскому не хватило политической энергии и политического искусства в борьбе с ненадежными союзниками и искусными противниками.
Остальное известно: поездка Керенского в Псков, попытка организовать движение войск Северного фронта на Петроград, поход казачьих сотен генерала Краснова, поражение, отступление в Гатчину.
Разговор с Красновым, по-видимому, окончательно укрепил Керенского во мнении, что уходить надо немедленно. Сохранился неполный листок бумаги, на котором плохоразборчивым почерком Керенского были набросаны слова о сложении им постов премьер-министра и Верховного главнокомандующего.
В Петрограде еще шли переговоры между большевиками-победителями с одной стороны и меньшевиками и эсерами – с другой о создании однородного социалистического правительства, но все это было уже обречено. Власть находилась в руках большевиков, и ни Ленин, ни Троцкий не намерены были ею делиться. Троцкий уже произнес свою крылатую фразу, что меньшевиков и эсеров следует отправить в мусорную корзину истории.
Перед решающим выступлением он – главный мотор большевистского восстания – напутствовал большевиков – делегатов II Всероссийского съезда Советов: «Если вы не дрогнете, гражданской войны не будет, наши враги сразу капитулируют, и вы займете место, которое вам по праву принадлежит».
Дух якобинства витал над ним.
Троцкий вспоминал момент, который сегодня воспринимается как предвидение: «Когда я доложил о свершившейся ночью смене власти, воцарилось на несколько секунд напряженное молчание. Потом пришли аплодисменты, но не бурные, а раздумчивые. Зал переживал и ожидал… Когда мы шагнули через порог власти, нерассуждающий энтузиазм сменился тревожным раздумьем».
Один из участников писал позднее: «Монументальность, с которой неистовый Ленин… принялся за создание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия». Но… «Но в ответ на ленинское “да буде так”, жизнь отвечала не библейским “и стало так”, но всероссийским “и не стало так”. Марксистской идеей Ленин намеревался перевернуть Россию, в корне перестроить ее жизнь, но жизнь корежила, перевертывала эту идею…»
Началось страшное в революции: пьяные погромы, разгул анархии. Забастовали служащие большинства учреждений, новой власти грозил паралич. Политические партии и группы, враждебные большевикам, развернули против них яростную борьбу через еще не запрещенную печать, еще не подавленые Советы и другие демократические организации. Часть наркомов и членов ЦК требовали соглашения с другими социалистическими партиями, создания коалиционного социалистического правительства. Лишь настырность Ленина, энергия Троцкого и, может быть, излишний ультиматизм меньшевиков и эсеров сломили оппозицию в большевистских рядах.
Но генеральное сражение с большевиками готовилось теперь в Учредительном собрании, где они оказались в явном меньшинстве.
Часть боевого офицерства тайно уходила на Дон, к генералу Алексееву, формировавшему Добровольческую армию. Стремительно разваливалась армия: потоки солдат устремлялись в тыл, грозя смести все на своем пути.
Казалось, большевики обречены. Некоторые из них и сами считали дни, не веря в прочность и длительность своей власти. До сих пор силой своей энергии большевики творили события, теперь эти события начинали переделывать и творить их. Большевики во многом становились заложниками дела рук своих. Они оказались перед дилеммой: власть или поражение. Они не отступили, решив идти до конца. Из арсенала революционных методов, уже опробованных во Французской революции, они готовы были взять самое страшное оружие – террор.
Патриарх Московский и всея Руси Тихон в своем послании Совету Народных Комиссаров от 13 (26) октября 1918 года писал: «Целый год вы держите в руках своих государственную власть. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды. Наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. Отказавшись защищать Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска. Против кого вы их ведете? Вы разделили весь народ на враждующие между собой станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и вместо мира искусственно разожгли классовую вражду.
Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем не повинных. Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братской кровью. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха.
Где свобода слова, печати, где свобода церковной проповеди?
Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Вы положили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю…
Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль – это священное достояние всего верующего народа.
Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Ныне же к вам, употребляющим власть на преследования ближних, истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещевания. Обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая, и от меча погибнете сами вы, взявшие меч».
Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин). Родился в 1856 году в Псковской губернии в семье священника. Окончил курс духовного училища, семинарию, академию. В 1891 году принял постриг с именем Тихон.
Когда в 1917 году Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество, после четырех туров голосования на Патриарший престол были избраны три кандидата. Жребий пал на митрополита Тихона.
5 мая 1922 года заключен под домашний арест, в московском Донском монастыре. 19 апреля 1923 года препровожден во внутреннюю тюрьму ГПУ, 8 мая возвратился под арест в Донской монастырь. 21 марта 1925 года допрошен на Лубянке по делу о «шпионской организации церковников», которую, по замыслу следствия, возглавлял.
Скончался 25 марта 1925 года. В 1989 году прославлен Русской Православной церковью Московского Патриархата как святой.
Глава XVIII
1917 год был особым как в истории России, так и в истории казачества.
Созданное еще в марте 1917 года казачье правительство заявляло станичникам: «Временно придется жить без царя, а затем его придется избрать». «Вы не торопитесь, – говорил его глава, атаман Караулов, – пройдет дождик, засияет солнце, и вы пойдете по торной дороге». Но казаки сразу же засомневались. Ибо они видели, что дороговизна в области принимает огромные размеры. Достаточно только того, что в июле все продукты подорожали на 500 процентов в сравнении с довоенным временем. Тот же атаман Караулов в своем воззвании к производителям хлеба указывал: «Недалек тот час, когда голодные массы, впав в отчаяние, могут двинуться на наш край и все истребят на своем пути».
Среди казачества начинает все более усиливаться стремление к внутренней обособленности. «У казаков, веками искавших “воли”, явилось стремление самим обеспечить себе максимум независимости». Поэтому казаки Дона, Кубани и Терека, горские народы, понимая сложившуюся в стране ситуацию, на конференции в сентябре 1917 года в Екатеринодаре образовали Союз казачьих войск и горских народов. В резолюции конференции указывалось: «Содействовать образованию и укреплению законной государственной власти в стране, обеспечению порядка и спокойствия на территории Союза». Там же было предложено образовать Союз юго-восточных автономных и федеральных областей, без выхода из состава России, пока в ней не восстановится «сильная власть». В станицах проходят выборы атаманов. Были они и в станице Пришибской. Казаков в станице было не много, так как шла мировая война и многие были на фронте, но выборы проходили согласно уложению.
Собравшимся на круг казакам была предложена кандидатура Коцюбы Ивана Харитоновича, писаря правления, гвардейца.
– Он неимущий! – выкрикнуло несколько человек, нарушая порядок, имея в виду, что он не зажиточный.
– Зато у него четыре сына и он грамотный, – поднявшись, сказал один из казаков.
Альтернативой была предложена кандидатура Ефима Попова – владельца станичной лавки. Разгорелся спор. Но круг есть круг. Большинством в несколько голосов был избран Попов. А решение круга – закон для казаков.
Через день выехали в станицу Михайловскую, что под Владикавказом, для представления атамана вышестоящему начальству. Чтобы скоротать дорогу, вели разговоры об обстановке в стране и в войске, об убранном урожае. Кто-то завел разговор: сможет ли нынешнее правительство вывести страну из хаоса, и все как-то разом посмотрели на ехавшего впереди атамана. Все знали, что физический недостаток не позволил ему дослужить действительную службу.
Да и внешность его явно не располагала казаков к нему. Низкого роста, горбатенький, с неуклюжей походкой, он и раньше вызывал усмешки. А борода, отпущенная для солидности, – жиденькая и рыжая – больше вызывала смех, чем уважение. «И этот человек взял на себя смелость повести станичников за собой», – думал каждый казак про себя. Думал об этом и Никита Петрович Казей, ехавший рядом с атаманом. Это был средних лет казак, плотно сбитый и с хорошей осанкой. Он был предусмотрительным и осторожным, умел хорошо видеть все вокруг и должным образом оценивать. «Да, не такой атаман нам нужен», – думал Никита, мерно качаясь в седле, но вслух, конечно, этого сказать не смел.
В Михайловской их ждали. Как только они въехали во двор правления, на крыльцо вышел атаман войска. Приняв рапорт Попова, он поздоровался с казаками, и они зашли с тем в дом. Казаки спешились и, разминая ноги, весело разговаривали и шутили.
Они с нетерпением ожидали выхода атамана и команды «Отдыхать». Но прошло совсем немного времени, и из правления вышел побледневший и какой-то поникший их атаман.
– На конь! – зло, как будто выдавил из себя команду, и в ту же минуту казаки были в седле.
– Пришибцы! – обратился к казакам вышедший на крыльцо войсковой атаман. – Я вас ценю и уважаю. Но неужели у вас в станице не нашлось казака более достойного?
И он, посмотрев в сторону их атамана, перевел взгляд на Казея, который в строю был первым:
– Передавайте привет от меня станичникам. Бог вам в помощь, доброго пути!
И депутация молча двинулась обратно.
Какой разговор состоялся в правлении, что там произошло, никто не знал, а расспрашивать атамана было не принято. Но когда казаки приехали в станицу, Попов подал в отставку, и она была принята. Бурным был казачий круг, но атаманом был избран Никита Петрович Казей. Получив благословение священника, он там же на круге обратился к станичникам:
– Братья казаки! В сложное время вы мне оказали доверие. Но, поверьте, я все силы приложу, чтобы не померкла в ваших душах казачья честь и чтобы не было стыдно нам перед будущим поколением за наши с вами дела.
И в своих опасениях он оказался прав. Октябрьская революция 1917 года вновь расколола общество. Было много правительств. И трудно было разобраться, где кончается одна власть и начинается другая. Только во Владикавказе находилось сразу четыре правительства – Казачье во главе с Карауловым, Горское – во главе с Чермоевым, Терско-Дагестанское – во главе с Каплановым и Владикавказский совет рабочих и солдатских депутатов.
В борьбе за власть все они не брезговали никакими средствами. В декабре 1917 года они спровоцировали стычки между чеченцами и казаками на Сунженской линии. Затем они попытались спровоцировать бойню между казаками Пятигорья и окружающими горцами. В этой обстановке атаману станицы нужно было держать ухо востро. I съезд народов Терской области, проходивший с 25 по 31 января 1918 года в Моздоке, Советской власти не признал, а в умах казаков посеял сомнение. Да еще стало известно, что в феврале пройдет II съезд Терской области в Пятигорске.
Заинтересованные люди предупреждали казаков, что Советская власть, обещая народу землю, у казаков собирается ее отнять. В одном из воззваний по этому поводу было записано: «Нам, истинным сынам Терека и потомкам славных дедов и отцов, необходимо призадуматься, чтобы не разбросали зря доставшееся наследство». То есть звучала у казаков тревога за свою собственность – землю, не захваченную, а выкупленную когда-то государством у горских князей и переданную казакам за службу.
Казаки, конечно, понимали, что изменения будут. Но они считали, что это будет решено в законодательном порядке. В одном из документов так об этом и было записано: «Несомненно, такие важные вопросы может решать только правомочное Всероссийское Учредительное собрание, а не самозванные съезды».
Но события разворачивались по-иному. 4 марта 1918 года на II съезде Терской области в Пятигорске была признана Советская власть и провозглашена Терская народная Советская республика. А созданная 22 мая того же года на III съезде народов Терека в Грозном земельная комиссия предложила переселить на другие земли казачьи станицы Сунженскую, Аки-Юртовскую, Терскую, Фельдмаршальскую и др. Казаки заволновались.
В ответ на призыв о создании Красной Армии казаки-делегаты данного съезда заявили: а не проще ли восстановить прежние казачьи и национальные полки? Ибо они уже тогда видели, что дело идет к гражданской войне.
Газета «Терский казак» за 1 июня 1918 года писала: «Терское казачество вновь осознало себя». Но на Грозненском съезде, конечно, устроители съезда (большевики) отвергли это предложение. А казакам это было непонятно. Когда же началось практическое разрешение аграрного вопроса, обстановка в станицах осложнилась, и значительная часть казаков заколебалась. Не лучше стало и приходом на Терек деникинщины. В захваченных районах отменили все декреты Советской власти и восстановили старые порядки. В результате грабежей и насилия, реквизиций лошадей, волов, бричек и арб в корне была подорвана основа хозяйственной жизни. Для пополнения своей армии они проводили насильственную мобилизацию. Поэтому казаки-пришибцы с опаской смотрели на службу в «Добровольской армии». Сомневаясь в искренности политики белогвардейцев, они всячески не подчинялись их властям. Они, часто голодая и замерзая, прятались в камышовых плавнях Терека, лишь бы не участвовать в экспедициях нового режима. У пришибцев были неплохие отношения с жителями Большой и Малой Кабарды, и резонно у них возникал вопрос: «А кому это надо, чтобы мы убивали друг друга?» А деникинцы стремились подавить волю горцев и казачества, применяя все ту же формулу: «Разделяй и властвуй».
Как нужно вести себя в той обстановке атаману, можно только предположить. Разными были его отношения с казаками. Но зла на него никто не имел.
Глава XIX
1
Сразу после захвата власти на II Всероссийском съезде Советов был сформирован новый кабинет, во главе которого стал Ленин. Большевики не смогли отменить выборы в Учредительное собрание, которое должно было выработать конституцию демократической России. Однако, не получив в его составе большинства, 6 января 1918 года они силой оружия разогнали этот орган, окончательно узурпировав власть в стране.
Это послужило одним из поводов для начала Гражданской войны, которая в течение двух лет разрывала страну на части.
По договоренности с германским правительством сразу после прихода к власти большевики 26 октября 1917 года приняли Декрет о мире и 7 ноября вывели свою страну из войны, прекратив боевые действия. Уже 20 ноября советская и германская делегации встретились в занятом германской армией Бресте и начали переговоры. Однако Троцкий, рассчитывая на скорое начало революции в Германии, отказался подписать договор, выдвинув тезис «ни войны, ни мира». После этого 18 февраля 1918 года немецкая армия продолжила боевые действия, без сопротивления занимая территории, которые должны были отойти к Германии по проекту договора.
На следующий день Ленин согласился подписать договор на условиях немцев. К Германии отходили огромные территории бывшей Российской империи площадью 1 миллион квадратных километров с населением более 50 миллионов человек, на которых были созданы независимые государства: Украина, Польша, часть Беларуси, Прибалтика, Закавказье. Советская Россия должна была уничтожить флот и подписать невыгодные экономические договоры.
Еще в январе 1918 года Ленин подписал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Руководил ее строительством Лев Троцкий, в марте 1918 года назначенный наркомом военно-морских дел.
Первым серьезным противником большевиков стало донское казачество. Однако непопулярный союз атамана Каледина с командованием только что созданной белой Добровольческой армии Корнилова и политиками, бежавшими из Петрограда, вызывал недовольство тем, что белые генералы стояли за возрождение великой и неделимой России; казаки же были за создание собственного независимого государства. Десятого февраля 1918 года на съезде фронтового казачества А. Каледин был лишен власти атамана и вскоре застрелился. Обстоятельства вынудили Корнилова покинуть Дон и повести только что созданную Добровольческую армию на Кубань. Избегая встреч с красными, он достиг столицы Кубани Екатеринодара. Этот тяжелый марш вошел в историю как «Ледовый поход». Попытка захватить Екатеринодар закончилась полной неудачей. После смерти Корнилова командование принял Деникин, который отвел войска от Екатеринодара. К февралю 1918 года немцы продвинулись до Нарвы. Опасность, грозившая Петрограду, заставила Ленина принять решение о переезде Совнаркома в Москву, где большевистская верхушка с семьями разместилась в Кремле.
Весной того же года пала Советская власть на Дону. В мае на Дону избрали атаманом генерала Краснова, который отдал приказ расстрелять членов Донского ревкома. Казаки начали продавать хлеб Германии, что позволило им неплохо вооружиться.
Летом и осенью 1918 года набиравшей силу Красной Армии пришлось столкнуться на юге не только с казаками П. Краснова, но и с Добровольческой армией генерала Деникина.
Усиленный новейшим вооружением и пополнением личного состава, генерал начал наступление на Екатеринодар, который весной Добрармии не удалось занять. В августе войска Деникина вошли в столицу Кубани, а вскоре заняли второй по величине город на юге – Ставрополь.
К концу осени красные были полностью разгромлены и оттеснены к краю полупустынной степи. В ноябре 1918 года в Черное море вошли английские и французские корабли. Десанты высадились в Одессе и других портах Черноморского побережья.
От полного и окончательного разгрома большевиков спасло отсутствие единства среди их противников, поддержка беднейшего населения. Кроме того, у большевиков появилось самое необходимое для удержания власти – численно возросшая, окрепшая, боеспособная Красная Армия.
В феврале 1919 года Красную Армию приветствовал Киев, надеясь, что большевики вернут политическую стабильность. Но весна началась с более успешных военных действий белых.
С юга начал наступление Деникин, на Урале угрожающий характер приобрело наступление адмирала Колчака. В марте 1919 года его армия заняла Уфу, а к концу апреля отвоевала огромные пространства с населением более 5 миллионов человек. Однако в середине мая оборона белых на востоке была прорвана. В июне пала Уфа, затем Пермь, Екатеринбург, Златоуст. В середине октября красные были в 500 километрах от Омска. Колчак покинул Омск 12 ноября, за два дня до вступления Красной Армии в город. Пятнадцатого января 1920 года Колчак был арестован и через три недели расстрелян.
Теперь все надежды белых были связаны с югом.
Еще весной 1919 года Деникин начал наступление с Северного Кавказа. В середине июня был занят Крым, а 26 июня белые вступили в Белгород. В сентябре 1919 года Деникин подошел так близко к Москве, как это не удавалось ни одному белому генералу. Его войска взяли Орел и остановились в 200 километрах от Тулы с ее оружейными заводами, в 400 километрах от Москвы. Казалось, победа не за горами. Но с продвижением на север у Деникина обострялись проблемы в тылу.
На Украине значительно окрепла армия анархиста Н. Махно, который ненавидел Деникина, понимая, что с его победой придет конец мечтам украинского крестьянства о земле. Осенью 1919 года после рейда махновцев по тылам белых А. Деникин вынужден был отправить на борьбу с ним армейский корпус. Деникин начал терять поддержку и на других территориях.
В ноябре красные перешли в наступление, которое возглавила Первая Конная армия. В декабре Красная Армия отбила Харьков, Киев, Одессу, Екатеринослав, а в начале января вошла в Ростов-на-Дону. Деникин уехал в Крым, назначил своим преемником барона Врангеля, а сам эмигрировал во Францию.
В июне 1920 года в разгар советско-польской войны Врангель начал успешное наступление на Кубани и Украине. Ему удалось застать врасплох большевиков, большая часть сил которых в то время была сосредоточена на Польском фронте. Но уже осенью 1920 года после мощного удара Красной Армии белые отступили в Крым, превращенный в неприступную крепость. Турецкий вал на Перекопе, отделяющий полуостров от материка, считался неприступным. В ночь на 8 ноября М. Фрунзе начал штурм Крыма, в котором приняли участие и войска Махно.
Поскольку лобовые атаки Турецкого вала, которые оборонял генерал Кутепов, успеха не имели, красные по мелководью озера Сиваш обошли его и ударили в тыл Перекопского укрепления. Врангелевцы покатились на юг.
2
27 октября (9 ноября) 1917 г., на второй день после переворота, на первом заседании ВЦИК Председателем ВЦИК был избран Л. Б. Каменев (Розенфельд). Но в связи с дезорганизаторской политикой и неподчинением ЦК Каменев через 11 дней был смещен с поста Председателя ВЦИК. 8 (21) ноября 1917 г. его на этом посту сменил Свердлов. Выдвинул эту кандидатуру В. И. Ленин. Как вспоминала Н. К. Крупская, «выбор был исключительно удачен».
«Удачным» оказался и выбор Лениным Троцкого на пост председателя Высшего военного совета Республики.
Насколько «выбор был исключительно удачным», говорят события, происшедшие за время (1 год и 4 месяца) пребывания Свердлова у власти.
В своей речи при открытии Учредительного собрания 5 января 1918 г., которого все ждали, Свердлов делает упор на «беспощадное подавление эксплуататоров, установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах». Здесь же «в интересах обеспечения всей полноты власти… «декретируется вооружение трудящихся».
Свое выступление Свердлов закончил странными, далеко идущими словами: «Позвольте надеяться, что основы нового общества, предуказанные в этой декларации, останутся незыблемыми и, утвердившись в России, постепенно охватят и весь мир».
Когда Свердлов сказал, что Исполнительный комитет Советов рабочих и крестьянских депутатов поручил ему открыть заседание Учредительного собрания, в зале раздались голоса справа и в центре: «У вас руки в крови, довольно крови…» Известно, что Учредительное собрание просуществовало только 12 часов 40 минут. Большевики набрали всего 25 процентов голосов, и выборы были признаны ими недействительными, контрреволюционными. Учредительное собрание было распущено.
В своем выступлении на заседании ВЦИК 4-го созыва 20 мая 1918 г. Свердлов откровенно говорит, что «если в городах нам уже удалось практически убить нашу крупную буржуазию, то этого мы пока еще не можем сказать о деревне». Неоднократно он подчеркивал в своей речи: «Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая не так давно шла в городах, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии – только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношение к деревне сделаем то, что смогли сделать для городов». Чем не призыв к гражданской войне? Он и сам этого не скрывает: «Если мы не сумеем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, то нам придется пережить очень и очень тяжелые дни».
С болью о массовом терроре говорит очевидец тех событий, писатель В. Г Короленко. В одном из писем Горькому он пишет: «История сыграла над Россией очень скверную шутку… Лишенный политического смысла, народ тотчас подчинился первому, кто взял палку… Вот к чему привело раздувание вражды – самая трудолюбивая часть народа положительно искоренилась». То есть в раздувании вражды Свердлов занимает отнюдь не последнее место.
Он же причастен к убийству царской семьи. Вечером 18 июля в Кремле заседал Совет Народных Комиссаров под председательством В. И. Ленина. Слово предоставляется Свердлову: «Я должен заявить следующее, – говорит он. – Из Екатеринбурга получено сообщение о том, что по постановлению Уральского областного Совета там расстрелян бывший царь, Николай Романов… Заседавший сегодня президиум ВЦИК постановил: решение и действие Уральского Совета признать правильными».
В ответ на убийство Володарского (Гольдштейна Моисея Марковича) в июле 1918 г. создается Верховный революционный трибунал, первыми шагами в работе которого стали постановления о смертной казни.
А «красным террором» массовый террор стал называться после убийства Моисея Соломоновича Урицкого. И тоже с «легкой руки» Свердлова. 2 сентября 1918 г., выступая на заседании ВЦИК, он подчеркнул, что «на белый террор врагов рабоче-крестьянской власти, рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором против буржуазии и ее агентов». А в середине сентября на заседании коллегии Петроградской ЧК выступил Зиновьев (Апфельбаум), который возбужденно потребовал немедленно вооружить всех рабочих с предоставлением им права самосуда. Напирая на классовое чутье, он призывал к расправе над «контрой» прямо на улицах, без суда и следствия. Действия Зиновьева поддержал Свердлов. Он, как известно, (пин из главных организаторов истребления казачества.
Да, переход казачества на сторону Советской власти происходил медленно и трудно. Как записано в энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР», (1983 г., с. 248), это «объясняется не только политическими и социально-экономическими условиями того времени, но и в известной мере ошибками, допущенными в отношении казачества в центре и на местах».
Одной из таких ошибок, наиболее существенной, была подписанная единолично Свердловым 24 января 1919 г. директива Оргбюро ЦК РКП(б) о поголовном истреблении казаков. Вот некоторые фрагменты из этой зловещей директивы: «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный, массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью… Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как и к хлебу, так и ко всем сельскохозяйственным продуктам… Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания. Центральный комитет постановляет…»
Вот так и пошло со времен Свердлова: «Центральный комитет постановляет…». На самом деле ЦК ничего не постановлял. Росчерком пера одного человека миллионы шли на эшафот.
Голоса ушедших обращаются к нам, ныне живущим, как набат, стучатся в наши сердца, взывают к нашей совести:
Четвертые сутки пылают станицы… Раздайте патроны, поручик Голицын! Корнет Оболенский, налейте вина…И слышен их роковой тембр. Мальчишки, волею судьбы ставшие юнкерами, прапорщиками, поручиками, деникинские добровольцы, которых история «того берега» назвала рыцарями белого движения. Это были люди из благородных семей, где слово «Отечество» произносилось с трепетом, у них был один обет: «Пасть или победить! Мила за Родину могила». Они воспитывались на заповедях Л. Н. Толстого: «Верьте, русские офицеры, в великое ваше призвание».
И они верили до конца.
Тысячи казаков вступали в конные армии Буденного и Миронова, в красногвардейские отряды на Кавказе. Однако немало служило и у Деникина. Одни уходили добровольно, другие – по мобилизации. Белые офицеры, как и большевистские агитаторы, добирались до самых отдаленных хуторов и действовали не только путем агитации, но и силой оружия.
Но были моменты, когда казаки, уставшие от братоубийственной войны, поверив листовкам, где обещали мир и прощение тем, кто служил в белой армии, спешили к своим куреням, чтобы заняться мирным трудом. Поверил этому и подъесаул Терского казачьего войска Никита Казей.
Избранный атаманом своей станицы, он, сторонник вооруженного нейтралитета, насколько у него хватало мудрости, ума и знаний, старался вести казаков по правильному курсу. Вместе с атаманами соседних станиц он наладил связь и отношения с руководством соседних кабардинских, балкарских и осетинских сел. Совместно приняли ряд мер по обеспечению порядка и спокойствия населения, по пресечению грабежей, хотя на Тереке повсюду свирепствовала разнузданная, оголтелая реакция.
С приходом белых был восстановлен Терский казачий круг, существовавий при царе, в котором теперь главенствующую роль играли белогвардейские офицеры и генералы, зачисленные в «почетные казаки», иностранные офицеры из числа советников «Добрармии». На войсковом круге (22 февраля – 3 марта 1919 г.) выбрали войсковым атаманом Терского казачьего войска генерал-лейтенанта Вдовенко. Председателем войскового правительства стал Абрамов.
В казачьих станицах была восстановлена власть атаманов. В городах, волею деникинцев, возродились городские думы во главе с городским головой, управы, приставы. На свои места вернулись старые царские чиновники.
В захваченных районах деникинцы отменяли все декреты Советской власти и восстанавливали старые дореволюционные порядки.
Для пополнения своей армии деникинцы проводили насильственную мобилизацию населения. К середине мая 1919 г. из мобилизованных в Терской области ими было сформировано 10 кавалерийских полков и несколько пластунских батальонов.
Заподозренных в сочувствии большевизму бросали в тюрьмы, расстреливали и вешали. Анархия и беззаконие, полный произвол и бесчинства тяжелым прессом давили на все слои населения, в том числе и казачество.
В результате насилия и грабежа, неоднократных реквизиций лошадей, волов, бричек, арб и т. д. в корне была подорвана основа хозяйственной жизни на Тереке. Почти прекратились полевые работы, некому и нечем было пахать землю; скот, что еще оставался у людей, катастрофически падал от бескормицы. Ужасающие масштабы приняли спекуляция, воровство и мародерство.
Население всячески не подчинялось деникинским войскам.
Как и горцы, казаки решительно уклонялись от службы в «Добровольческой армии», что приводило в бешенство белогвардейцев и их приспешников.
Казаки Терека находились между «молотом и наковальней».
Вершители судеб казачества знать не знали уклад жизни этого удивительного общества, в котором никогда не было духа преклонения перед насилием и подчинения несправедливости. А Свердлов, Троцкий, Донбюро и РВС южного фронта своими действиями последовательно и систематически превращали друзей Советской власти в ее врагов.
Пленум ЦК РКП(б) 16 марта 1919 г. отменил январскую директиву Свердлова, но Донбюро не посчиталось с этим и 8 апреля 1919 г. обнародовало еще одну директиву: «Насущная задача – полное, быстрое и решительное уничтожение казачества как особой экономической группы, разрушение его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновничества, распыление и обезвреживание рядового казачества…»
То есть Донбюро не только не вступилось за казаков, но и приняло решения, усиливающие террор. Вот что написано дальше в этой директиве:
«Во всех станицах, хуторах немедленно арестовать всех видных представителей данной станицы, пользующихся каким-либо авторитетом, хотя и не замешанных в контрреволюционных действиях, и отправить их как заложников в районный революционный трибунал.
При опубликовании о сдаче оружия объявить, что в случае обнаружения по истечении указанного срока у кого-либо оружия будет расстрелян не только владелец, но и несколько заложников.
Составить по станицам под ответственность ревкомов списки всех бежавших казаков, то же относится и к кулакам, всякого без исключения арестовывать и направлять в районные трибуналы, где должна быть применена высшая мера наказания».
Страшное опьянение властью… Ведь здесь уже и речи не идет об активных врагах Советской власти. Тут откровенно казачество объявляется вне закона. Подумайте только: кто же они – самые авторитетные люди в станице, кого надлежит брать в заложники? По традиции – отважные казаки, доблестно сражавшиеся за Отечество. В любой станице знали и почитали отличившихся в службе. И теперь именно их в первую очередь ждала расправа.
О содержании директив казачеству не было известно. Репрессии в станицах начались неожиданно. Скорый суд вершили ревкомы, состоявшие из людей пришлых. В станицу входили вооруженные отряды. Выволакивали казаков и баб, вели на расстрел на виду у всего люда. Были станицы, где в несколько дней расстреливали по сотне человек. Увозили заложников на подводах. Куда, зачем, за что? Стон и крик неслись над куренями. Одна трагедия повлекла за собой другую. Казаки взялись за оружие.
На Верхнем Дону вспыхнул мятеж. От одной станицы к другой скакали конные отряды. В самое короткое время на стороне мятежников оказалось 30 тысяч штыков.
Нельзя обойти молчанием и то, с какой жестокостью действовали казаки, поднявшиеся на восстание. Виселицы, расстрелы… Казаки веками защищали страну от иноземного врага, а теперь воевали против своих. Никто в точности не знает, сколько под острыми казачьими шашками пало красноармейцев, шедших усмирять Донскую вольницу. И сколько погибло казаков. А сколько их оказалось потом в эмиграции – в Болгарии, Греции, Турции, Франции. Репрессии против казаков продолжались.
Мы привыкли и знаем только о репрессиях 30-50-х годов. Но мало кто знает, что настоящая репрессия была проведена коммунистами не в эти годы, а в 20-е. Например, в 1922-28 годы в Кабардино-Балкарской республике репрессировано более 15 тысяч человек, принадлежавших к наиболее зажиточным слоям населения, а казачество вообще было уничтожено и казачий район (округ) был ликвидирован.
Глава XX
1
Оказался за границей и терский казак Никита Казей. Когда армия Деникина начала отступление с Северного Кавказа, кто-то из «доброжелателей» шепнул ему:
– Уходи, Никита, иначе ты первым в станице пойдешь в расход, – сообщил тот, зная откуда-то о директиве.
И Никита с небольшой группой станичников решился.
Красное закатное солнце смотрело вслед уходящим казакам. Впереди всадников на земле дрожали и пересекались уродливо длинные тени, они взбегали на пригорки, а потом полого вытягивались по всей равнине до края земли, до тех небесных тучек, что спустились на востоке преждевременной сумеречной мглой.
Кони шли резво, а в людях чувствовалась какая-то усталость и разбитость. Подъесаул Казей, назначенный командиром сотни, то и дело придерживал повод, оглядывая походный строй из конца в конец, подбадривал, подтягивал взводных командиров. Командир полка ехал впереди, о чем-то сосредоточенно думал. Когда Казей нагнал его, он посмотрел на темнеющее восточное небо, стрелы пересекающихся теней впереди, в багровом от зари пространстве, таившем в себе некую обреченность, и негромко сказал:
– Пусть запоют, что ли. Для души!
И когда они выехали на высокий берег Терека, откуда уже еле угадывалась только что покинутая станица, кто-то не очень верным, почему-то осевшим голосом запел:
Прощай, прощай, любезная станица И вы, предобрые друзья, Благословите, отец – мать родные, Быть может, я на смерть иду.Казаки подхватили, сначала нестройно, каждый со своей ноты и места, разобрали по голосам, выровняли. Кони пошли бойчее, дружным и отчетливым стал топот копыт.
В оранжевой закатной степи звучала старая казачья песня, с которой не одно поколение терцев уходило в далекие походы:
Простите, отец – мать родные, Благословите сына своего. Смотрите все вы, остальные, Часы прощанья моего. Сяду, сяду я на коня, помчуся, Слезою грудь я обмочу. Бог знает, когда возвращуся, Назад к вам в гости прилечу…Пели все, от головы строя до замыкающего. Каждый пел по-своему, кто – тихо, с раздумьем, кто – громче и с безотчетной лихостью. В середине колонны кто-то грязным кулаком вытирал слезы. Рядом кто-то высморкался с храпом и толкнул соседа локтем: «Не поет душа, братуха, а плачет…» – и в ответ услышал злобное, отчетливое: «Ага, поплачь, братишка, оно помогает!».
Никита Казей, объезжавший колонну, услышав сквозь неровное пение чьи-то слова: «Поплачь, братишка…», как бы очнулся. Боже, что же такое творится на русской земле, как оно могло раскрутиться до такой степени, что мы теряем облик человеческий? Казаки, веками защищавшие страну от иноземного врага, теперь воюют против своих. В самом деле, кто заглянул в душу казачью? Никто. Называли жизнь казака вольной. Однако какая это была воля? У казака двойная ноша. Работал в поле и нес службу. И срок службы – 20 лет. А что касается «нагаечников», так Никита сам знает, что казаки протестовали, когда их посылали против своего народа. Депутаты говорили об этом в Думе.
И вот их разделили на белых и красных. Ну что ж, что некоторые казаки отошли недавно к красным? Они ведь не подличали сознательно, они попросту искали безопасности для своих животов, для семей, отцов и малолетних детей, – неужели так велика и неискупима вина их? Темных, простых, не искушенных в этой политической борьбе «двух стихий», которые почти и не проявляются на поверхности событий. За что на нас такая кара? Где же справедливость?
Меланхолия души продолжалась у Казея не долго. Он сумел погасить ее холодком мысли расчета, сознанием опасности, хотя почувствовал в душе прилив яростной и неукротимой злобы.
Он даже заскрипел зубами и огладил чуткими пальцами холодноватый эфес шашки, висевшей на боку.
«Кто же его истинный враг? – Вот кого бы он рубанул с великим вожделением и лютой радостью. Нельзя… Надо еще разобраться. Не может быть, чтобы волчок судьбы не смешал направления, не набрал нужной скорости».
Тьма впереди сгущалась, солнце давно упало за горы.
Бесстрашно сражались добровольцы на полях сражений, но фортуна повернулась в сторону красных.
К весне 1920 г. их войска изгнали деникинцев с Украины. Войска Кавказского фронта ликвидировали группировку противника на Северном Кавказе. Остатки деникинских войск были прижаты к морю и вынуждены эвакуироваться морем из Новороссийска в Крым. Деникин отстранил себя от должности, и командование войсками перешло к генералу Врангелю.
Врангель создал сильные укрепления на Перекопе, в районе Сальского перешейка и Чонгарского полуострова. Главная линия обороны проходила по старинному Турецкому валу, имевшему высоту до 10 метров. Перед валом имелся широкий и глубокий ров, впереди рва – две линии окопов с проволочными заграждениями. По вершине вала тянулась линия окопов и блиндажей. С востока Турецкий вал прикрывался Сивашем, с запада – огнем кораблей. Сильно был укреплен и Чонгарский перешеек.
Военные специалисты Антанты считали Крым неприступной крепостью.
Но войска красных в ночь на 8 ноября форсировали Сиваш и укрепились на Литовском полуострове. На рассвете Турецкий вал загремел и задымился от непрерывной канонады. На расстоянии десятка верст слышался грохот тяжелых батарей, вздрагивание земли, вспышки залпов, – там бились и умирали на крутых скатах мерзлой земли штурмовые батальоны 51-й дивизии Блюхера и Особой ударноогневой бригады красных курсантов.
Первые атаки к полудню 9 ноября были полностью отбиты белыми. Неся огромные потери, цепи красных откатились и залегли. Началась лихорадочная переформировка, передвижка частей, подход резервов, но и второй штурм не принес успеха.
Поздно вечером Фрунзе вызвал по телефону Блюхера и коротко сказал:
– Ветер изменил направление, Сиваш заливает водой. Наши части на Литовском полуострове могут быть отрезаны. Надо взять вал во что бы то ни стало.
– Хорошо, – сказал Блюхер.
– Я надеюсь, – повторил Фрунзе. Голос его не предвещал ничего хорошего.
В два часа ночи вновь поднялись в смертельную атаку изреженные цепи красноармейцев.
На рассвете стало известно, что Турецкий вал взят. Белые откатились под защиту Юшуньских укреплений, на 20 верст к югу. Там были еще окопы в полный профиль и шесть проволочных заграждений.
Поздно вечером 10 ноября Врангель пригласил к себе генерала Барбовича.
– Генерал! Красным удалось потеснить нас на Перекопе. Но прорвалась через укрепления лишь небольшая горстка… Да! Более десяти тысяч их легло при штурме вала, генерал! Но, как я сказал, эта небольшая горстка все-таки прорвалась на перешейке и настойчиво штурмует Юшуньские линии нашей обороны. Я возлагаю на ваш сводный корпус, генерал, священную задачу: уничтожить всех, кто посягнул на крымскую землю. В этом – успех сражения, успех всей зимней кампании.
Барбович пристально смотрел чуть выше плеча Врангеля, на карту Крыма и Северной Таврии, размеченную красными и синими флажками позиций. Он, подобно главнокомандующему, верил и надеялся, что эту зиму еще удастся провести в Крыму, за надежной преградой Перекопа и Сивашских болот, с тем, чтобы ранней весной начать полный разгром изнуренной голодом и разрухой Красной Совдепии.
– Ваше высокопревосходительство, – подтянувшись, сказал Барбович. – Насколько мне известно, у красных имеется кавалерийский резерв. Не введут ли они его вслед за остатками пехотных частей, взявших вал?
– Чтобы бросить на колючую проволоку под Юшанью? – ответил Врангель. – Вряд ли. Вырубите красных поголовно, генерал! В ваших руках все.
Врангель был прав. Корпус Барбовича оставался последним конным резервом армии, который еще мог переломить ход сражения на перешейках.
Барбович взял белую папаху на руку, почти доставая алым верхом до крестов и медалей на левой стороне груди, и склонил большую, седеющую на висках голову в полупоклоне.
Врангель сделал шаг вперед. Значимость минуты была такова, что ни он, ни Барбович не думали о какой-либо церемонности. Просто на кон ставилось нынче все – это понимал каждый.
2
И вот корпус у Юшаньских позиций. Мелькают густые, но чахлые от соли камыши Красного озера, от озера Старого выкатывается в сизой мгле багроволикое солнце. Вся степь, розоватая от холодного тумана, впереди засеяна бегущими фигурками пехотинцев. Это красные в панике бросают позиции. Проблесками крошечных молний засверкали в пыли шашки атакующих. Огромная белая лава, разгоряченная азартом погони и кровью близкой и неминуемой победы, шла на предельном карьере, рвущем из-под копыт землю и ощущение страха. Она как бы стаптывала и обращала в пыль, в ничто отдельных настигаемых ею пехотинцев, праздновала и вымещала злобу за потерянный Перекоп. Мало того, именно в ближайшие часы все красные силы, просочившиеся на полуостров, должны быть сметены, уничтожены, и спокойная зимовка обеспечена для всей белой армии до самой весны.
Но тут из гнилой зыби Сиваша, нестройной, жидковатой лавой стала вылезать конница красных и пробовала встать на пути.
Барбович перекрестился столь удачному стечению обстоятельств и махнул рукой – с Богом! – будучи уже не в состоянии выйти из этой главной атаки во всей своей жизни. И вот уже две конные лавы мчались навстречу друг другу, и померкло солнце в глазах каждого всадника, и смерть опахнула крылом узкое пространство между озерами.
Среди красных случилась сумятица. Их конница распалась, всадники уходили влево и вправо.
– Ура-а! – неслось со стороны белых.
– Ага, дрогнули, проклятые христопродавцы, пошли в рассыпную, мать вашу! Руби!..
Орали бородатые урядники, вахмистры, прикрывая собой вторую, сплошь офицерскую лаву.
Вставали на стременах, опуская правые руки с шашками к лампасу для «затека», тяжести скорого удара. И, подчиняясь некоему закону сходящихся лав, клином шли в образуемый красными разрыв.
Но именно в этот момент, в доли минуты из тыла красных выскочили тачанки.
Скакавший рядом с командующим Казей с высоты седла видел своими глазами всю эту удивительную и страшную операцию пулеметных тачанок.
Они образцово отработали маневр. И грянул гром небесный: конница генерала Барбовича попала в шквал шестислойного пулеметного огня.
Первые же очереди пулеметов срезали начисто передние линии атакующих. Кони падали, летели через головы, растягивались намертво в полете, всадники то никли в седлах, то вскидывали руки и картинно, как в дурном сне, вылетали из седел, пропадали внизу, в густой и уже кровавой пыли.
Сколько времени продолжалось все это, Никита Казей не помнит. Он был ранен, и верный конь вынес его к своим. Ранение оказалось тяжелым, он потерял много крови. Придя в себя, Никита с ужасом почувствовал, что койка, на которой лежал, проваливается куда-то вниз, в бездну. И без того тяжелая голова пошла кругом, и он снова впал в забытье. Очнувшись, увидел, что комната до отказа заставлена койками с перебинтованными людьми. По-прежнему качало, и Казей наконец догадался, что находится на пароходе.
Мучительно хотелось пить. Слабым голосом попросил у женщины в белом халате воды. Она странно посмотрела на него и принесла неполную кружку. Хватило едва на несколько глотков, вода была невкусной и плохо утоляла жажду. Он попросил еще, однако сестра лишь развела руками и сказала, что вода кончается. От нее Казей узнал, что пароход следует в Константинополь. Это было начало исхода русской армии генерала Петра Врангеля из Крыма. Более 140 тысяч несогласных с террором большевиков покинули Россию вместе с Черноморским флотом (переименованным в Русскую эскадру), регулярными частями под командованием генерала Александра Кутепова и рассеялись по всему миру.
В Константинополе на берег сошла лишь небольшая часть пассажиров, остальные, в том числе и Казей, поплыли дальше и высадились на греческом острове Лемнос – последнем пристанище тысяч беженцев, а с ними терских, донских и кубанских казаков.
Это был воистину крестный путь. Осенью 1920 года на Лемнос прибыло более 18 тысяч кубанских казаков генерала Фостикова, здесь уже находился Донской корпус, терские и астраханские станичники. Французское командование продержало прибывших больше месяца на кораблях, не позволяя им сходить на берег, не обеспечивая необходимым количеством воды, провизии и медикаментов.
Никита Казей, которого вынесли на носилках, увидел полуразрушенные дома, стены которых хранили следы пуль и снарядов. Потом он узнал, что во время войны здесь высадился десант английских и французских войск и произошел кровопролитный бой.
Надвигалась зима. Задули холодные, пронизывающие ветры с моря. В бараках, палатках и землянках было холодно и голодно, однако его молодой организм брал свое. Скоро Казей уже мог ходить на костылях. В глубине души он был даже рад этому – ранение избавляло от изнурительной муштры, которую насаждал генерал Врангель, лелея мечту возобновить вооруженную борьбу с большевиками. Дисциплина в лагере была драконовская. Особенно жестоко, вплоть до расстрела, карали тех, кто выражал желание вернуться на родину.
На плацу лемносского лагеря Врангель приказал выложить камнями свое изречение, гласившее: «Только смерть может избавить тебя от исполнения долга».
Умирать Казею не хотелось, ну а что насчет долга… Свой долг перед Россией он выполнил, кажется, до конца, халупником[13] никогда не был, воевал честно, в армии Врангеля тоже служил не за страх, а за совесть, пока не оказался на этом забытом Богом и людьми острове за тридевять земель от России.
– Что ожидает меня и тысячи других русских, потерявших в одночасье родину? – задавал он сам себе вопрос. – Кому они теперь нужны и нужны ли вообще?
Эти вопросы мучили не одного Казея. Длинными зимними вечерами в бараках шли нескончаемые, по-русски беспорядочные споры. Одни доказывали, что борьба не окончена и белую армию Европа использует для крестового похода против Совдепии. Другие полагали, что все само собой устроится, третьи мечтали вернуться на родину, однако вслух об этом говорить не решались, потому что это могло стоить жизни.
Помалкивал и подъесаул Казей. У него были свои счеты с Советской властью, хотя, казалось бы, богатств она у него не отобрала. Единственным «богатством» его был чин есаула, но и это «богатство» было весьма сомнительным в глазах окружающих его военных, что ему не раз недвусмысленно давали понять. И в самом деле. Пройдя ускоренные курсы при штабе корпуса, он в 1916 году получил чин сотника, подъесаула, а есаула ему присвоил уже Врангель, и это обстоятельство как раз вызывало скептические усмешки.
После беспорядочных споров он долго лежал с открытыми глазами, слушая вой ветра за тонкими стенами барака. Надвигалась страшная, безысходная тоска, до жути зримо перед глазами вставали сверкающие на зимнем солнце деревья, все в снегу, улицы родной станицы, церковь в центре, уютный теплый дом, старенькая мать и моложавая, красивая жена. Где все это теперь, что стало с родными? И что ждет его самого?
К весне 1921 года французское правительство, убедившись, что большевиков нельзя победить русскими или иностранными силами, опорная база которых находилась вне России, и вдобавок победить с помощью солдат, которые в момент наилучшего состояния армии в Крыму, на родной почве оказались не в силах защитить его от прямого нападения советских войск, прекратило помощь остаткам врангелевской армии.
Граф и простой станичник, барон и мелкий служащий ели из одного котла, искали дрова, пытались спасти и хоронили детей, объединенные общим горем.
Англо-французские власти обнесли лагеря проволочными заграждениями, которые в последствии убрали при условии перехода на собственное иждивение. Это многое объясняет, когда узнаешь их истинные цели – сломить дух, разобщить, рассеять по миру крупные и боеспособные подразделения Белой армии, которые еще могли отстоять Россию. В лагеря свободно пропускались агитаторы, записывающие желающих на работы в Бразилию и другие страны, приезжали даже из Советской России, обещали, что вернувшихся реабилитируют. Их дружно освистывали. Но, к сожалению, некоторые поверили и были расстреляны, сгинули в советских концлагерях. Генерал Врангель, русское командование всячески противостояли разобщению в рядах солдат и офицеров, среди казаков. И тем не менее многие покинули Лемнос в поисках лучшей доли.
Беженцы начали уезжать с острова в начале лета 1921 г. Они отправлялись на материковую Грецию, в Югославию, Болгарию.
Казей снова оказался на пароходе, на сей раз французском, который держал курс на Константинополь. Стояли теплые, почти летние дни, пассажиры все время проводили на палубе и по своему обыкновению спорили. Казей, как всегда, только слушал. Его внимание привлек сравнительно молодой мужчина с бородкой в пенсне, резко выделявшийся среди военных не только типично интеллигентной внешностью, но и манерой говорить. «Большевистская революция, – говорил он, – была чудовищной исторической ошибкой, вызванной случайным стечением обстоятельств, гримасой истории. Если бы ее не было, Россия все равно пошла бы по пути демократии и прогресса. История все расставит на свои места, и Россия пойдет вместе с другими цивилизованными странами по пути демократии и прогресса. Большевизм в России доживает свои последние дни».
Он говорил складно, убедительно, как по писанному. Человека с бородкой Казей видел впервые и поинтересовался у стоящего рядом худого поручика с мрачным лицом, слушавшего интеллигента.
– Не знаете, кто этот человек?
– Новиков, – недовольно буркнул поручик. – Газетный издатель. Типичный халупник. Смотрите, как разошелся. А спросите его, где он был, когда мы краснопузых били? Из-за таких, как он, мы и проиграли. Россия не созрела для демократии. Давить надо этих краснопузых жидомасонов. Только силой оружия можно спасти Россию от большевиков, а мы тонем в словесах.
Фамилия Новиков где-то встречалась Казею в газетах. Но познакомились они здесь, на пароходе. Казей заинтересовался рассуждениями Новикова. В отличие от большинства офицеров Новиков был противником монархии и видел будущее процветание и величие России в демократии и прогрессе. Правда, для Казея осталось неясным, что именно подразумевает его новый знакомый под этими словами. Видимо, и Новикову он чем-то понравился, скорее всего, его самолюбию льстил неподдельный интерес, который казачий офицер проявил к его персоне.
Когда пароход пришвартовался в бухте Золотой Рог, они были почти друзьями.
В Константинополе их пути разошлись. Новиков вынашивал планы создания собственной газеты и понимал, что в Турции, где русских эмигрантов было сравнительно мало, издание заранее обречено на провал. Он решил ехать в Софию, звал с собой Казея, однако тот отказался. Он подумывал о возвращении на родину и рассудил, что всегда легче уехать из Константинополя. Однако сделать это оказалось совсем не просто. Советские суда в порт не заходили, небольшие деньги, которые у него были, таяли, в Константинополе никакой работы найти не мог, да и почти ничего делать не умел, разве что воевать. В порту, правда, можно было подработать на разгрузке судов – амбалом, как здесь называли грузчиков, однако какой из него, с покалеченной ногой, амбал.
Как-то во время скитаний по пыльным и грязным портовым улочкам с ним заговорил на немецком языке иностранец. Казей, общавшийся на фронте с немцами и австрийцами, знал кое-какие слова, и они друг друга поняли Иностранец оказался помощником капитана грузового судна. Видимо, ему стало жаль русского офицера, своего сверстника, и он привел его к капитану. На судне нужен был разнорабочий, и его взяли. В Марселе он сошел на берег и больше на судно не вернулся.
Его дальнейшая судьба мало чем отличалась от судеб тысяч таких же русских эмигрантов. На чужбине сполна пришлось вкусить эмигрантского лиха: был мойщиком посуды в ресторане, закручивал гайки на конвейере автомобильного завода «Рено». По вечерам ходил на собрания Союза офицеров и постепенно понял, что господа офицеры озабочены не столько судьбами бывшей родины, сколько своими собственными распрями и дележом эфемерных должностей. Их объединяла лишь ненависть.
Вести с родины находились в разительном противоречии с тем, что говорили на собраниях. Советская Россия крепла и набирала силы. Да и сам Казей, начав зарабатывать свой кусок хлеба тяжелым трудом, по-иному уже смотрел на события и все реже ходил на собрания.
Однажды Казей узнал, что он вместе с другими рабочими фирмы «Рено» уволен в связи с сокращением производства. «Все верно, – с горечью подумал он, – эмигрантов берут последними и увольняют первыми». Времени у безработного достаточно, и Казей целые дни проводил на улице, скитаясь по Парижу, только теперь открывая для себя этот город. Как-то в русском кафе ему попалась на глаза газета «За свободную Родину». Он стал просматривать ее без особого интереса, заранее зная, о чем пишут эмигрантские газеты. Однако он в своих предположениях ошибся. Внимание привлекла статья о притязаниях Большевистской России на Бессарабию, отошедшую по итогам войны (Версальскому договору) к Румынии. Жизнь в этой бывшей русской губернии описывалась в радужных красках. Патриотические чувства Казея – сторонника единой и неделимой России – были уязвлены.
Внизу последней страницы значилась фамилия редактора: Новиков. Казей не сразу сообразил, что это тот самый Новиков, с которым он познакомился в свое время на французском пароходе, и отправился по адресу, указанному в газете.
Новиков его узнал, не выказав, впрочем, особой радости, посетовал, что газета, как он выразился, идет неважно, решив, видимо, по внешнему, весьма жалкому, виду своего гостя, что тот пришел просить денег. И ошибся. Старый знакомый ничего не попросил. Новиков повеселел, стал расспрашивать о житье-бытье. Узнав, что тот ищет работу, неожиданно предложил место курьера, сразу предупредив, что жалованье весьма скромное. Казей был рад и этому.
Свои обязанности бывший есаул исполнял добросовестно, редактор был доволен, и постепенно между ними установились если не дружеские, то доверительно-приятельские отношения.
Однажды вечером, когда они сидели в кафе, Казей как-то непроизвольно заметил, что в газетах последнего времени уж очень много материалов из Румынии и Бессарабии.
– Румыния – это форпост против большевизма на Востоке, – отделался общими словами редактор. Но позже, подогретый несколькими рюмками водки он с пафосом произнес:
– Мы – активисты, а это значит, что в священной борьбе против большевизма хороши любые средства и любые союзники. Пора понять, что собственными силами сковырнуть Совдепию мы не в состоянии.
Ответ звучал убедительно. Так считали все сторонники «активизма», приверженцы активной борьбы с Советской властью, считавшие, что в этой борьбе допустимы все средства, вплоть до террора.
В маленькой редакции все на виду, и Казей заметил, что редактор часто уединяется с какими-то непонятными, явно не русскими людьми, а потом с подобострастным видом провожает их чуть ли не до первого этажа. Кто-то из газетчиков сказал Казею, что это румыны.
Иногда Новикова неделями не было в редакции. В Париже его тоже в это время не было. Где он пропадал, никто толком не знал, поговаривали, что он ездит куда-то за границу.
Как-то после недельного отсутствия редактор пригласил в свой кабинет Казея и стал жаловаться:
– В Париже слишком много конкурентов – русских газет, – говорил он. – Тираж газеты падает, и я подумываю переехать в Бессарабию и издавать газету там.
Новиков намекнул о каких-то своих влиятельных друзьях в Бухаресте, которые обещали помочь, и пригласил Казея с собой. Казей согласился, рассудив, что новую работу ему найти придется не скоро, а эта вполне устраивает.
Новиков, не ожидавший, видимо, скорого согласия, обрадовался и, к удивлению Казея, предложил поехать в Румынию для переговоров вместе.
В Бухаресте Новиков где-то пропадал целыми днями, оставляя Казея одного. Однажды, возвратившись вечером в гостиницу, он с огорчением сообщил:
– Министерство иностранных дел Румынии разрешения на издание газеты не дает.
– Почему? – задал вопрос Казей.
– Мотивирует тем, что в Кишиневе и так слишком много русскоязычных газет.
В тот же вечер Новиков впервые пригласил Казея на важную встречу. С кем конкретно предстояла встреча, он не уточнил. Такси, которое они взяли возле гостиницы, быстро доставило их в двухэтажный особняк на тихой улице недалеко от центра. В богато обставленной старинной мебелью гостиной их встретил представительный мужчина с аристократическим, несколько надменным лицом. Он с подчеркнутым радушием приветствовал Новикова и повернулся к Казею. Новиков представил того, как своего коллегу, казачьего есаула, служившего при штабе Врангеля.
Пожимая руку Казею, тот сказал, что уже слышал о нем от господина Новикова и рад видеть в своем доме собрата по оружию.
– А вы на каком фронте служили? – воспользовавшись паузой, спросил Казей.
– Разве господин Новиков вам не говорил? – Он взглянул на редактора. – А, понимаю, продолжал он с улыбкой, – господин Новиков известный конспиратор.
– У меня была другая служба, дорогой есаул. Я полковник Круду, бывший начальник разведки Юго-Западного фронта, а сейчас полковник генерального штаба румынской армии. Служу во втором отделе.
«Из этих… халупников, – с неприязнью подумал Казей. – Неплохо устроился во время войны, да и после».
Новиков с озабоченным лицом молча сидел в кресле.
– Не огорчайтесь, господин Новиков, – наигранно бодрым тоном произнес Круду. – Эти господа из министерства иностранных дел осторожничают, полагая, что создание еще одной русской газеты сейчас, когда наметилось некоторое сближение с Советами, может отрицательно отразиться на их дипломатической игре. Они до сих пор не поняли, что с большевиками можно разговаривать только с позиции силы.
Новиков сидел молча, понурив голову.
– Посмотрим, как они запоют, когда Советы вплотную поставят бессарабский вопрос, – продолжал полковник, недовольно поджав тонкие губы. – Однако нет худа без добра. Вы, господин Новиков, и ваша газета в это сложное и тревожное время больше нужны нам там, в Париже, а не здесь, в Бессарабии.
Он улыбнулся натянутой улыбкой и уже деловым тоном спросил:
– Надеюсь, я могу быть откровенным в присутствии господина Казея?
– Безусловно, господин полковник, – подтвердил тот.
– Мы здесь, в Бухаресте, высоко ценим, господин Новиков, вашу работу по разъяснению среди русской эмиграции правильного понимания акта исторической справедливости – воссоединения Бессарабии с Румынией. К сожалению, далеко не все еще русские понимают и поддерживают этот исторический акт. Не только во Франции, но даже здесь, в Румынии, немало сторонников великой, единой и неделимой России. Пора кончать с этими иллюзиями, – сказал полковник и остановил взгляд на Казее.
Кровь прихлынула к лицу Казея, но он выдержал этот взгляд. А полковник, переведя взгляд на Новикова, продолжал:
– Румыния естественный геополитический союзник западных демократий, противостоящий коммунизму на Востоке. И вы, господин Новиков, призваны внести достойный вашего публицистического таланта вклад в наше общее дело. Можете рассчитывать, как и прежде, на нашу помощь и поддержку.
Круду и Новиков заговорили о своих делах, понимая друг друга с полунамека, будто старые добрые знакомые. Казей не вникал в разговор, потому что он касался большой политики, которая его никогда особенно не интересовала.
В гостиницу они возвратились уже ночью. Несмотря на позднее время, Новиков зашел в номер к Казею и заявил, что обстановка и интересы дела требуют, чтобы его газета имела в Кишиневе своего представителя, и этим представителем должен быть он, Казей. Предложение было неожиданным, застало Казея врасплох, и он молчал, не зная, что ответить.
Новиков расценил молчание как согласие и добавил:
– Обязанности представителя газеты будут не очень обременительными, но жалованье будет конечно, выше прежнего.
Он даже пообещал оказать услугу Казею: дать денег, чтобы открыть в Кишиневе маленькую лавку.
– Когда разбогатеешь, – с улыбкой говорил Новиков, – вернешь долг.
И Казей вспомнил, что не раз говорил Новикову о своем заветном желании: открыть в тихом провинциальном городке свое «дело», скопить к старости капиталец и доживать свои дни на покое.
Но, прежде чем дать согласие, Казей все же попросил уточнить, в чем именно будут заключаться его обязанности.
– В Кишиневе много беженцев из Советской России, и ты должен этих людей опрашивать и передавать полученную информацию мне в Париж, – сказал редактор. – Это обычная журналистская работа, – сказал он, и, видя колебания Казея, добавил, – Тебе помогут наши румынские друзья.
Казей чувствовал, что Новиков чего-то не договаривает, однако предложение было слишком заманчивым, и он согласился.
Накануне отъезда в Париж Новиков дал ему несколько адресов друзей в Кишиневе. Казей проводил редактора и в тот же вечер уехал в Кишинев.
Когда на следующее утро он вышел из поезда и смешался с толпой, заполнившей привокзальную площадь, ему почудилось, что попал в Россию: всюду звучала русская речь.
Сняв номер в дешевой гостинице, он отправился бродить по городу.
Тихий, утопающий в свежей зелени Кишинев являл разительный контраст с шумным, пропахшим бензином Парижем. Слух ласкали исконно русские названия улиц: Пушкинская, Купеческая, Михайловская, Мещанская, Жуковская. Впрочем, у них были и другие, официальные названия, но они не прижились. И русская речь, и названия улиц будоражили, бередили тоску по родине.
Один из друзей Новикова, которого Казей посетил в первый же вечер, любезно его встретил, угостил бокалом красного вина, очень напомнившего Казею терский чихирь[14]. Выслушав гостя, хозяин пообещал ему поскорее выбить разрешение на торговлю и подыскать подходящее помещение под лавку.
«Однако, как время быстро летит», – подумал Казей, закончив приборку в лавке. Он присел на скамью, машинально поглаживая разболевшуюся ногу. – «Видать, к перемене погоды, ничего не поделаешь, – весна. Или просто перетрудил».
Мелодичный звон колокольчика, укрепленного на двери, отвлек Казея от воспоминаний. В вошедшем он узнал Чаркела. Их первая встреча произошла здесь, в лавке. Случилось это вскоре после того, как Казей открыл свое дело. Он находился в подсобке, когда звякнул колокольчик, и поспешил к покупателю. При его появлении человек в поношенной одежде испуганно вздрогнул, как будто ему помешали. «Мелкий воришка или бродяга», – решил тогда Казей, разглядывая давно небритое, испитое лицо посетителя. Тот заискивающе поздоровался, голодными глазами пожирая выставленные на полках продукты. Его жалкий, униженный вид живо напомнил Казею годы собственных скитаний, и у него возникло чувство, похожее на жалость. Они разговорились. Незнакомец рассказывал о себе сбивчиво, путано, явно что-то утаивая. Казей пообещал его накормить, если поможет перетаскать тяжелые мешки с сахаром и мукой. Тот охотно согласился.
Еда и вино, выставленные Казеем, развязали язык незнакомцу. Говорил он по-русски чисто, как российский житель. Пояснил, что он из Воронежской области. Отец был крепким хозяином, раскулачен. А ему удалось бежать сюда. Здесь ему нравится: тепло, вина полно, пей – не хочу. Вот только работы постоянной нет – перебивается случайными заработками.
Казей сказал, чтобы заходил еще – помогать по хозяйству. Не думал, не гадал, что его судьба так тесно переплетется с этим человеком.
Однажды вечером, когда он собирался закрывать лавку, в ней появился маленький человек со стертым, неприметным лицом и тихим голосом сообщил, что господина Казея сегодня вечером ждет у себя господин Ломакин. Эту фамилию он произнес почтительным шепотом. Казей вспомнил, что Ломакин – это фамилия человека, которого он посетил в первый же вечер с письмом Новикова.
– Нехорошо, Никита Петрович, забывать друзей, – с упреком произнес Ломакин, пожимая ему руку. – Где это вы пропадаете? Заглянули бы вечерком запросто, тем более, что вы нам очень нужны.
– Все некогда, – пробормотал Казей. – С утра до вечера в лавке, в открытии которой вы оказали содействие. Еще раз разрешите поблагодарить.
О том, зачем именно он понадобился Ломакину и кого тот имел в виду, говоря «нам», он спросить не решился.
– Я слышал, – с улыбкой продолжал Ломакин, – вы делаете большие успехи на торговом поприще. Далеко пойдете, господин Казей. – Он сделал паузу и продолжил: – Если, конечно, палата не аннулирует разрешение на торговлю.
Озадаченный, Казей растерянно молчал. За намеком о возможном аннулировании разрешения скрывалась явная угроза.
Угадав состояние собеседника, Ломакин продолжал:
– Видите ли, господин Казей, местные торговцы не любят конкурентов, особенно иностранцев. У них большие связи в жандармерии и сигуранце, я хочу по-дружески предостеречь. Может случиться так, что даже я со своими связями не сумею помочь. Надеюсь, вы меня поняли?
Хотя Казей и не понял, к чему клонит Ломакин, он молча кивнул.
– Вот и прекрасно, Никита Петрович, продолжим. Будем говорить откровенно, как подобает военным людям.
При упоминании о военных людях Казей с удивлением взглянул на Ломакина.
– Вот именно, господин Казей. Вы – есаул, хотя, к сожалению, бывший, а я майор, но зато на действительной службе в румынской армии, заместитель начальника разведотдела армейского корпуса, который призван обеспечить порядок и спокойствие в Бессарабии. У нас здесь очень много врагов, господин Казей. Вы удивлены? Вы нам можете и должны помочь.
– Каким образом? Я же всего лишь мелкий лавочник…
– Не скромничайте, Никита Петрович. Начну с того, что вы в Кишиневе человек новый, не примелькавшийся, еще не расшифрованный вражеской агентурой. Скажу вам доверительно: Бессарабия кишит агентами Третьего интернационала. От них вся смута. Иногда просто не знаешь, кто друг, кто предатель. Трудно стало работать, да и не с кем.
– А с меня какой же помощник? – робко спросил Казей. – Я же бывший.
– Извините, я не хотел вас обидеть. Ближе к делу. Нам нужны люди, на которых можно положиться. Вам, торговцу, приходится каждый день сталкиваться со многими, самыми разными людьми. Присматривайтесь к ним повнимательнее, завязывайте знакомства, ищите таких, кто пригоден для разведработы. Особый интерес представляют те, у кого остались родственники в Советском Союзе. Кстати, кто у вас там остался?
– Отец умер еще во время мировой. Мать старенькая была еще жива, когда я там был. Жена с сыном оставались. В первые годы переписывался я с ними, а потом перестал писать, боялся повредить им письмами. В Париже до меня дошел слух, что жену забирали в ЧК как жену белого офицера. Ну а сын… Он же теперь большой. Словом, не знаю.
– Могу обрадовать вас, Никита Петрович, – несколько торжественно объявил Ломакин. – Супруга ваша, Марина Алексеевна, так ее, кажется, зовут, на свободе и проживает по прежнему адресу с сыном. А матушки уже нет.
Пораженный неожиданной новостью, Казей растерянно молчал.
– Значит, Марина жива, – не веря услышанному, выдавил он. – А я думал, пустили, как они выражаются, в расход.
Ему очень хотелось верить, что все обстоит именно так, как говорит Ломакин, однако сомнения не исчезали.
– Я очень хотел бы верить вашим словам, господин Ломакин – Ровным голосом произнес Казей. – Однако насколько достоверны эти сведения? Если, конечно, не секрет.
– Вообще-то секрет, но вам я скажу. Вы недооцениваете наши возможности. Мы дали задание нашим людям за кордоном поинтересоваться вашими родственниками. Со временем, может быть, поможем вам передать им весточку. Но об этом позже, а пока ваша задача – подыскивать нужных нам людей. Я сведу вас с председателем беженского комитета, это наш человек. Среди перебежчиков попадается подходящий человеческий материал. Будете также контактировать с комиссаром кишиневской сигуранцы Мунтяну. Он, правда, не нашего ведомства, но мы делаем одно дело. И еще. Через вас я буду поддерживать связь с господином Новиковым, – голос майора звучал так, будто он отдавал приказ. – Само собой разумеется, вся эта работа будет соответственным образом вознаграждаться. Я полагаю, три-четыре тысячи леев в месяц вам не помешают. Не правда ли?
Этот разговор для Казея был совершенно неожиданным. Он догадывался, что Новиков втягивает его в какую-то темную игру, однако не предполагал, что все произойдет так стремительно. Он только начал становиться на ноги. Отказаться – значит все начинать сначала. Новиков его обратно не возьмет. А начинать новую жизнь в его возрасте и с его здоровьем совсем не просто. «И потом, – размышлял Казей, – они, может быть, помогут связаться с семьей, если этот Ломакин не лжет».
– Согласен, господин майор, – по-военному сказал Казей.
– Я так и думал. Более подробные инструкции получите позднее, а пока займитесь вербовкой, – ответил тот.
Чаркел стал первым, кого звербовал Казей. Тот согласился сразу, не раздумывая. Потом были и другие, но этот – первый.
И вот этот «первенец» стоял в лавке, обнажив в улыбке гнилые желтые зубы.
– Здравствуйте, Никита Петрович! – Чаркел подошел совсем близко к прилавку, протянул скользкую потную руку, которую с неохотой пожал Казей. – Небось соскучились?
Казей всмотрелся в его глаза: вопреки обыкновению Чаркел был трезв.
– Знаете, Никита Петрович, я же только что оттуда, из-за кордона, – с откровенностью бормотал он. – Живет матушка Россия. Кругом свои, русские люди, тоска взяла… Какая ни есть, а все же родина. Не хотелось возвращаться сюда, да еще шкурой рисковать.
«Похоже на провокацию», – подумал Казей и осторожно спросил: – А что же помешало тебе остаться? Повинился бы, отсидел годика три – и все.
– Годика три… Шутите, уважаемый. Тремя годами там не отделаться. Как бы к стенке не поставили.
– Вот именно, – поддакнул Казей. Он все еще не исключал провокации.
– Выпить чего не найдется? Горло совсем пересохло, – спросил Чаркел.
– Найдется, найдется, только пьянка тебя до добра не доведет. Ломакин очень недоволен.
– Да пошел он… – Чаркел грязно выругался.
– Ну, ты полегче, – на всякий случай сказал Казей, хотя сам к Ломакину не питал симпатий.
– Да ладно вам, – отмахнулся Чаркел. – Мы же с вами русские люди и можем говорить откровенно. Думаете, я не вижу? Да вы этого Ломакина и всех их терпеть не можете.
– Ну, ты не только за тем пришел, чтобы выговориться, – спросил его Казей, наливая в стакан вина.
– В том-то и дело, Никита Петрович. Угощали меня вчера два беженца в кабаке. Ребята хорошие, деревенские, тихие. Только уселись – входит солидный такой господин, одет чисто, по-городскому, и вид городской. Штирбу к нему. Поговорили они и к нашему столу подходят. Я очень удивился, откуда у них такой знакомый. Оказалось, на той стороне еще познакомились, заготовителем вроде работал в Тирасполе. Сидим выпиваем на шар-мачка. Он за все заплатил. Видать, при деньгах. Слово за слово, начал я его потихоньку щупать. Говорит, из Херсона сам, отца, коммерсанта, посадили, а ему удалось перейти на эту сторону. Коммерсант. Живет в Югославии. И сюда прибыл по своим торговым делам. Что-то мне не нравится этот коммерсант, Никита Петрович. – Чаркел снова приложился к стакану.
– А фамилию этого коммерсанта и где он остановился, небось, не узнал?
– Обижаете, господин есаул. – Чаркел сделал вид, что в самом деле обиделся.
– Стратулат его фамилия, остановился в центральной гостинице. При деньгах, – еще раз с нескрываемой завистью сказал он. – Нутром чую, не тот, за которого себя выдает. Сам вроде русский, а фамилия у него какая-то…
Казей, слушавший сначала болтовню Чаркела вполуха, теперьловил каждое слово. В самом деле. Откуда и почему взялся этот бывший русский со странной фамилией там, где живут беженцы? И эта странная встреча с двумя из них в кабаке? Откуда простые крестьянские парни могли знать, причем близко, этого коммерсанта?
– Ты кому-нибудь о нем говорил? Из наших или из сигуранцы?
– Никому, Никита Петрович, не успел. А что? – тревожно спросил Чаркел.
– Нет, ничего, все правильно. Ты пока о нем никому не говори. Я сам займусь этим человеком.
Он немножко помолчал, принимая решение.
– Сходи к нему в гостиницу сегодня и скажи, что с ним хочет познакомиться твой друг, такой же, как он, русский коммерсант. Если согласится, приведешь вечером его ко мне. Понял? – сказал он.
– Так точно, – по-военному ответил агент.
А Казей уже про себя думал: «Если верить Чаркелу, ему в сети идет крупная рыба – интеллигентный человек, недавно с той стороны, с родственными и дружескими связями – и не где-нибудь, а в Херсоне.
Если же это шпион, или, как они там говорят, разведчик, то он утрет нос этим бездельникам и взяточникам из сигуранцы. Все лавры пожнет разведотдел, и ему лично кое-что перепадет.
А вечером произошла встреча. Некоторое время они молча разглядывали друг друга. Первым на правах хозяина нарушил молчание Казей.
– Рад с вами познакомиться, господин… Стратулат. Всегда приятно встретить на чужбине соотечественника, к тому же коллегу. Я слышал, вы тоже коммерсант? Давно оттуда?
– Откуда именно?
– Оттуда, из России.
Только вчера Стратулат получил через связного соответствующую легенду и чувствовал себя уверенно.
– Года два назад удалось уйти. Сразу после ареста отца. Мы жили в Херсоне на Старомещанской. Я уже рассказывал вашему… – он запнулся, не зная, как назвать Чаркела, – вашему знакомцу.
– Он мне говорил, – сдержанно, как бы между прочим, ответил Казей.
– Вообще, мне показалось, что этот Чаркел, – продолжал с улыбкой Стратулат, – проявил ко мне повышенный интерес. Отчего бы это?
– Он мне иногда помогает, – неопределенно отвечал Казей. И, меняя тему разговора, осведомился, что конкретно интересует фирму, которую тот представляет. – У меня есть некоторые связи в торговых кругах, – любезным тоном добавил Казей, – и я готов помочь соотечественнику. Между нами говоря, среди здешних торговцев много нечестных людей. Могут обмануть.
Извинившись перед гостем, он вышел из комнаты. Стратулат заметил, что он припадает на левую ногу. Оставшись один, он огляделся по сторонам. Старая потрескавшаяся мебель, оклеенные выцветшими обоями стены. Ничего в обстановке и убранстве комнаты не выдавало привычек или увлечений ее обитателя. Над диваном приколота фотография. Стратулат всмотрелся в пожелтевший снимок. В молодом бравом казаке с трудом можно было узнать хозяина квартиры. Рядом сидела красивая женщина с чисто русскими чертами лица, держа на руках ребенка двух-трех лет. В нижнем углу снимка было написано: «Владикавказ. 1914 г.».
– Это я с женой и сыном. Перед отъездом на фронт сфотографировались.
Казей разлил в бокалы красное густое вино.
– За знакомство и успехи в делах! – он отпил из своего бокала. – Отличное вино, не уступает хваленому бургундскому. И в несколько раз дешевле. Вы, господин Стратулат, присмотритесь, может, закупите партию этого вина, не прогадаете.
Гость с видом знатока посмаковал вино, поблагодарил и сказал, что подумает.
Казей подошел к фотографии, которую только что рассматривал Стратулат, и сказал:
– Это все, что у меня осталось в России.
– Не так уж и мало, – серьезно сказал гость. – Где сейчас жена и сын? Вам что-нибудь известно об их дальнейшей судьбе? – Стратулату показалось, что его собеседник подавил вздох.
– Первые годы переписывались, а потом я перестал: боялся повредить ей своими письмами. ЧеКа, как известно, не любит жен царских офицеров, тем более эмигрантов. Может, замуж вышла. Она ведь красавица. Сын совсем теперь взрослый. Так и умру на чужбине, не повидав. Однако заговорил я вас, господин Стратулат. Вы уж простите старика.
– Ну какой же вы старик, Николай Петрович, – запротестовал гость. – Вам еще жениться не поздно. Вы же один живете? Нет, что ни говори, а хозяйка в доме нужна.
– А у меня и дома своего нет, – Казей горько улыбнулся. – Разве это дом? – он обвел рукой комнату. – Да и кому я вообще нужен? Нет, так и умру бобылем на чужбине. А до России отсюда рукой подать, вот она, рядом.
– А если вернуться? – Стратулат решился на откровенный разговор.
– Чтобы в расход?
– А если бы к стенке не поставили? Другие же возвращаются, – Он, кажется, нащупал самую болезненную струну в душе сидевшего напротив него человека: тоска по жене и сыну, страх перед надвигающейся старостью… На этой струне можно было сыграть.
– Странный у нас разговор получается. Вы, добровольно покинувший Россию, как будто уговариваете меня вернуться. Здесь нет логики, господин Стратулат, если это действительно ваше настоящее имя.
– Логика здесь простая, господин Казей. Мой отец был богатым человеком в Херсоне. Я уже говорил об этом вашему приятелю. Еще до войны он предусмотрительно поместил ценности в швейцарский банк. Кое-что удалось спрятать при обыске. Мне не было смысла оставаться там, если за границей можно жить припеваючи. В общем, «Уби бене иби патрия», как говорили римляне. Где хорошо, там и родина. Ну, насчет фамилии вы правы. Отец давно поддерживал не только деловые, но и дружеские связи с сербами. Влиятельные люди и помогли мне не только получить паспорт, но и сменить фамилию. Так, знаете ли, проще. Фамилия отца – Шатохин Сергей Дмитриевич, Старомещанская, 18. Будете в Херсоне – можете убедиться, – с улыбкой закончил Стратулат.
– Все может быть, – неопределенно отвечал Казей. Но Стратулат чувствовал: он ему не верит.
– Кстати, и здесь немало бывших русских, – с неприязнью в голосе сказал Казей. – Вчера был Дмитриев, сегодня, глядишь, уже Димитриу, Васильев – Василиу, Петров – Петреску, Пономаренко – Паскалуца. И так далее. Однако черт с ними. Я родился русским и умру русским.
– Будем надеяться, это случится еще не скоро. Куда торопиться?
Непритязательная шутка немного разрядила напряженную обстановку. Они расстались не столько довольные, сколько заинтересованные друг другом.
Шло время. Как-то, идя в лавку, Казей купил свежий номер «Бессарабского слова». Пробежав заголовки и несколько сообщений из-за рубежа, он хотел уже отложить газету, как внимание его остановила заметка в разделе «Происшествия». Корреспондент сообщал, что в лагере, где размещены беженцы из СССР, обнаружен труп некоего Чаркела Паскалуца со следами тяжких побоев. Подробности пока не известны, однако предполагают, что несчастный беженец, которому удалось проскочить невредимым сквозь огонь чекистских пулеметов, стал жертвой большевистских агентов.
Казей перечитал заметку. Участь своего агента его не взволновала. Скорее наоборот. В глубине души он даже почувствовал нечто похожее на удовлетворение. «Закономерный конец, этого следовало ожидать», – холодно констатировал Казей. И тут же со смутным чувством тревоги и беспокойства вспомнил о русском коммерсанте из Югославии, с которым его познакомил покойный Чаркел. Этот неведомо откуда взявшийся русский человек со странной фамилией не выходил у него из головы. Он интуитивно чувствовал, что это не тот человек, за которого себя выдает. А вдруг существует связь между смертью Чаркела и появлением этого человека? Если этот Стратулат – советский агент, то в его интересах было убрать Чаркела, который их познакомил. Неужели этот русский все так хорошо рассчитал и подбирается к нему?
Рассуждая так, Казей даже с собой не был до конца откровенен. Его удерживало другое. Встреча затронула за живое, напомнила о России. Мысли о родине, жене, сыне в последнее время неотвязно преследовали даже во сне. Он просыпался среди ночи в холодной сырой комнате и с открытыми глазами дожидался утра. Жизнь в Кишиневе складывалась не так, как ему представлялось. Здесь он так ни с кем и не сблизился, его мучило одиночество, чувство собственной неполноценности, даже унизительности своего существования. Есаул терского казачьего войска, атаман станицы – а кто он теперь? Мелкий лавочник, содержатель явки, вербовщик, осведомитель.
В таком состоянии и застал его в лавке Стратулат. Казей не ожидал этого визита, однако встретил любезно, раскупорил бутылку вина, подвинул полный бокал гостю. Тот кивком поблагодарил и, не прикасаясь к бокалу, осведомился:
– Что это с вами сегодня, Никита Петрович? На вас лица нет. Неужели смерть Чаркела Паскалуца так подействовала?
– А вы откуда знаете, что он умер… вернее – погиб? Хотя, что это я спрашиваю, в газете ведь написано.
– Вот именно, – Стратулат отхлебнул из бокала. – Знаете, Никита Петрович, я давно хотел спросить вас: что связывало вас с этим Чаркелом?
– А вас, господин Стратулат? – вопросом на вопрос ответил Казей.
– Меня? – удивленно переспросил тот. Досолки но ничего. Мы встретились случайно. Я уже рассказывал.
Казей, припадая на левую ногу, прошелся по комнате, постоял возле двери.
– Извините, господин Стратулат, я вам не верю. Кто вы?
В жизни разведчика бывает свой звездный час, когда на карту поставлено все, и решение надо принимать сразу, немедленно. Он машинально взглянул на черный кожаный портфель, который принес с собой и поставил в углу Казей поймал этот взгляд и по выражению гостя догадался, что с портфелем связано нечто важное. Внутренний голос подсказывал Стратулату: «Сейчас ты должен это сделать». В портфеле лежало письмо жены Казея и ее снимок с сыном, доставленные вчера курьером с той стороны. Он открыл портфель и достал пакет.
– У меня есть кое-что для вас, Никита Петрович, – он передал пакет.
Казей обеспокоенно повертел пакет в руках, надорвал бумагу. В нем оказался конверт без надписи. Он быстро вскрыл его, достал исписанный лист бумаги, узнал почерк жены и изменился в лице. Стратулат, чтобы не мешать, отошел в сторону, издали наблюдая, как на лице Казея сменилась целая гамма чувств: удивление, радость, недоверие, надежда…
– Откуда это у вас, господин Стратулат? – наконец пробормотал он, не выпуская из рук листок.
– С той стороны, разумеется, откуда же еще. Что пишет супруга? – он мог бы и не задавать этого вопроса, потому что знал содержание письма.
Разыскать Марину Алексеевну во Владикавказе не составило его коллегам из Центра труда, и они сумели убедить ее передать письмо и фотографию.
– Марина пишет, что у них все в порядке, – он положил письмо на стол и стал рассматривать фотографию. – Почти не изменилась, а ведь сколько лет прошло. Зато сына не узнать. Совсем взрослый. Пишет, что учится в Политехническом институте. Нет, этого не может быть. Мистика какая-то. Не поверю, пока не увижу своими глазами.
– Так в чем же дело, Никита Петрович? Что вам мешает, что вас удерживает здесь?
– Ничего. – Он сказал это не раздумывая, как о давно решенном. – Но куда мне деваться, кому я нужен?
– Знаете, что я вам скажу? Возвращайтесь-ка на родину. Там вас ждут.
– Чтобы поставить к стенке, – он невесело усмехнулся.
– Вы уже наделали в своей жизни ошибок, не делайте еще одну, самую, может быть, непоправимую. Никто вас к стенке не поставит. Никогда не поздно искупить вину перед родиной.
– А кто вы такой, собственно, чтобы говорить от имени родины? – в голосе Казея проскользнули нотки недоверия и злости. – Я на своем веку достаточно повидал патриотов, все говорят от имени России, а на деле… – он не договорил и махнул рукой.
– Кто я такой, не так уж важно. Главное уже сказал – я с той стороны. И представил веские доказательства, – Стратулат показал на письмо и фотографию. – Теперь все зависит от вас. Решайте, Никита Петрович.
Они проговорили до рассвета. Вернее, говорил один Казей. Стратулат слушал, изредка прерывая уточняющими вопросами. Его собеседник вел рассказ сбивчиво, перескакивая с одного на другое. Стратулат чувствовал, что Казей ничего не утаивает и хочет выговориться до конца. У него оказалась хорошая память, но у слушателя еще лучше. Стратулат многое узнал о Новикове, Ломакине, Чаркеле, о недавно приходившем к нему офицере Летнинском, фамилии и приметы агентов, завербованных Казеем и засланных на советскую сторону.
За окном забрезжил рассвет, когда Казей передал свой разговор с Летнинским, с Ломакиным и устало откинулся на спинку стула.
– Значит, Летнинский – резидент «Интел-лидженс» и предлагал вам сотрудничать.
– Да. А сотрудничать с ним мне порекомендовал Ломакин. Он же напомнил мне о сотрудничестве с Новиковым, сообщив, что тот тесно сотрудничает с «Сюрт э женераль», а особенно с ее «Сервис д’Ориан». Службой Востока. Из их разговора я понял, что готовится солидная акция по переброске опытных сотрудников на ту сторону для оседания.
– А что же вы ему ответили? – переспросил Казея разведчик.
– «Я подумаю», – но он мне грозно ответил: некогда думать. Надо действовать, и немедленно.
Ну вот и все, господин Стратулат.
– Нет, не все, Никита Петрович. Постарайтесь помириться с Летнинским и примите его предложение.
Казей некоторое время размышлял, потом улыбнулся и тихо произнес:
– Мне надо все хорошенько обдумать.
– Думайте, Никита Петрович, думайте!
Стратулат пришел в гостиницу только под утро. А после обеда, в назначенный час, в Москву ушла зашифрованная телеграмма.
* * *
Москва. В центральном аппарате разведки шло совещание.
– Теперь нам известен еще один канал шпионской деятельности и диверсий, – сообщил присутствующим начальник. – Я уже доложил наверх. Стратулату передайте – пусть продолжает начатую работу. У него, судя по всему, появились новые возможности, и он должен их полностью использовать. Передайте ему мою личную благодарность.
Начальник помолчал, о чем-то размышляя, а потом продолжил:
– Казея тоже поблагодарите. Он нам очень помог и, я думаю, еще не раз поможет. Срочно разрабатывайте план по его внедрению.
3
А в верхних эшелонах власти в стране в то время не прекращалась борьба за лидерство. После смерти Ленина власть в стране формально перешла к Политбюро ЦК, но на деле коллективное правление продолжалось не долго. Лидерство все больше захватывал Сталин. Однако положение Сталина было не столь непоколебимо, как может показаться. К началу 1926 года внутри партийного и советского руководства, внешне лояльного к Сталину, сложился заговор с целью отстранения его от должности генсека и передачи этого поста Дзержинскому. Во главе этой группы стояли Рыков и Томский. Но их планы стали известны Сталину, который среагировал мгновенно.
Во время июльского пленума ЦК 26-го года после очередной «схватки» с Зиновьевым и Каменевым Дзержинскому внезапно стало плохо, и он умер от сердечного приступа, его место главы карательной машины занял Менжинский.
Весной 1926 года Зиновьев, Каменев и Троцкий выработали единую платформу, противопоставив ее большинству партии. Тогда Зиновьева вывели из состава Политбюро. А в ноябре 1927 года все трое был исключены из партии. В 1928 году Лев Троцкий вместе с женой и сыном были сосланы в Алма-Ату, а менее чем через год изгнаны из страны.
Эту расправу Сталин осуществил при поддержке Бухарина, Рыкова и Томского, которые не только одобрили репрессии против «левой оппозиции», но и сами приняли активное участие в ее разгроме. И вскоре об этом пожалели.
Занимая главные символы революционной власти: должность главы правительства, авторитет партийного теоретика, Коминтерн и профсоюзы, они не учли, что теперь в СССР была только одна реальная власть – партийный аппарат, который полностью подчинялся воле Сталина.
В начале января 1928 года по настоянию Сталина Политбюро ЦК проголосовало за применение чрезвычайных мер к крестьянам, «скрывающим» излишки зерна. В деревни посылались вооруженные отряды, которые производили реквизиции, произвольный и незаконный захват зерна и аресты, разгоняли местные органы власти, закрывали рынки и пытались насильно загнать крестьян в коммуны.
Весной 1928 года страну захлестнул зерновой кризис, что вызвало усиление полемики Бухарина – Рыкова – Томского со Сталиным, разногласия между которыми все явственней превращались в непреодолимую пропасть. Бухаринцы продолжали настаивать на том, что кризисные явления суть следствия неправильной политики правительства, тогда как сталинисты, сами спровоцировавшие подобную ситуацию, с пеной у рта доказывали, что все кроется в порочной природе НЭПа.
В сентябре 1928 года была оглашена новая программа индустриализации, базирующаяся на концентрации всех средств на развитие тяжелой промышленности любой ценой, включая нарушение устойчивости экономики и активное сопротивление населения. Финансы же для этого предполагалось выжать из сельских жителей. Задерганный Томский подал заявление об отставке. Вслед за ним Бухарин подал в отставку с постов редактора «Правды» и главы Коминтерна.
К осени 1929 года чрезвычайные хлебные заготовки стали нормой, а в стране впервые после окончания Гражданской войны ввели продуктовые карточки. В деревнях начались крестьянские бунты.
В самом начале 1930 года было издано распоряжение удвоить и утроить темпы коллективизации, и крестьянство накрыла новая волна насилия. Поскольку понятие «кулак» было довольно растяжимым, пострадало большое количество середняков. Как правило, около 20 % записывали в кулаки, грузили в вагоны и везли в Сибирь на голодную смерть.
Насильственная коллективизация обернулась полным крахом и без этого далеко не блестящего советского сельского хозяйства.
Результатом такой политики стал страшный голод, от которого особенно пострадали Украина, Поволжье, Северный Кавказ и Казахстан. Крестьяне умирали миллионами.
А Иосиф Сталин утвердился как единовластный правитель страны. Теперь каток репрессий, подмяв основную массу простого населения Советского Союза, неумолимо приближался «верхам».
В самом начале 1934 года прошел XVII съезд партии, названный «Съезд победителей», так как на нем было объявлено о победе социализма в СССР. Но его можно назвать и съездом «обреченных», так как вскоре из 1966 его делегатов 1108 было арестовано, а из избранных 139 членов и кандидатов в члены Центрального Комитета 98 расстреляно. Причиной этого стали результаты тайного голосования на выборах нового ЦК. Против генсека подали свои голоса 270 делегатов, тогда как против Кирова только 3. Тогда-то Сталин и решил, что пришло время заняться основательной чисткой рядов партии.
В июле создается Народный комиссариат внутренних дел (НКВД), во главе которого был поставлен Генрих Ягода. При НКВД было создано Особое совещание, которое имело право приговаривать к ссылке до 5 лет, депортации или направить на работу в концентрационный лагерь.
Сигналом для начала крупномасштабной чистки послужило убийство Кирова. Начались репрессии с Ленинграда, где было обнаружено гнездо убийц – «Ленинградский террористический центр», члены которого были приговорены к высшей мере наказания и в тот же день расстреляны. Затем в течение 1935 года из Ленинграда были депортированы все дворяне, бывшие царские госслужащие и офицеры, а также представители купеческого сословия. Также из города в Восточную Сибирь были высланы 40 тысяч рабочих вместе с семьями.
Вал репрессий несся по стране.
В сентябре 1936 года Ягода был смещен с поста главы НКВД, а через два года расстрелян. Его сменил Николай Ежов, которому предстояло выполнить самую грязную часть «великой чистки», а затем последовать за своим предшественником.
Если, уничтожая своих оппонентов, Сталин добивал политические трупы не первой свежести, то затеянная им чистка командного состава армии носила совсем другой характер – генсек неожиданно для всех пустил под нож почти все руководство РККА.
Уже в январе 1937 года органы НКВД арестовали по обвинению в троцкизме полтысячи офицеров. В конце мая все главные фигуры будущего процесса были арестованы и переданы в руки Ежова. Через несколько дней, 11 июня 1937 года, состоялся закрытый суд над Тухачевским, Якиром, Уборевичем, Корком, Эйдманом, Фельдманом, Примаковым и Путной. Судебное дело длилось несколько часов, после чего все были приговорены к расстрелу.
Процесс над Бухариным и чистка в армии стали лебединой песней Ежова. Внимание Сталина привлек его земляк, партийный босс из Закавказья, Лаврентий Берия, которого в июле 1938 года генсек сделал заместителем Ежова, а в декабре 1938 года он занял место Ежова, который бесследно исчез в подвалах Лубянки.
Но всего этого ни Стратулат, ни, конечно, Казей не знали. Поэтому, ведя работу, каждый думал, размышлял о своем.
«Почему Стратулат заинтересовался именно мною?» – прокручивал в голове Никита. А когда он задал этот вопрос разведчику, тот натянуто ухмыльнулся:
– По той же причине, что и Ломакин с Летнинским.
– Все как в старом анекдоте – скидай штаны, власть переменилась, – пошутил Казей.
– Выходит, так.
Казей понял идея расспрашивать его исходила не от Стратулата, а от кого-то постарше. Он заподозрил это во время «прокачки» – уж больно наивными и беспомощными были вопросы, так как Стратулат знал о нем гораздо больше.
«Правда, не о том периоде, что начался в жизни в Крыму, у Врангеля, – думал Никита. – Но так или иначе Стратулат попытается вывернуть меня на изнанку, любыми методами и средствами. И его понять можно: в мою историю трудно поверить, тем более профессиональному разведчику, привыкшему любую проблему рассматривать под углом происков разведслужб других государств».
Тем более, что Никита сообщил ему о готовящейся операции по внедрению агентов.
«У разведчиков свои законы и кодекс поведения, – размышлял Никита. – Хочешь мира – готовься к войне. Так говорили древние».
И тут ничего не поделаешь.
Несмотря на изменившуюся ситуацию в стране, поневоле втянувшую военную разведку в грязные разборки власть имущих, Стратулат как профессионал продолжал выполнять свой долг, как его учили и как он этот долг себе представлял.
– Ну, что вы решили? – спросил он.
– Я отказываюсь, – сказал Никита.
В его груди проснулся и ворочался протест.
– Осточертели! Красные и белые, правые и неправые. Зачем я вам нужен?
– В свое время узнаете. Вы не просто нам нужны, а очень нужны.
– Я сомневаюсь, что смогу быть вам полезен. Христа ради прошу, помогите мне – и я исчезну для всех навсегда.
– Не могу. И не хочу, – жестко отрезал Стратулат.
– Почему?
– Я не имею права сорвать важную операцию только потому, что поддался сентиментальному порыву. Говорю сейчас абсолютно честно. Не могу! Не имею права.
– Тогда о чем дальше говорить, – Казей пожал плечами и встал. – Здесь шлепнете или куда отведете?
Стратулат сделал вид, что не понял его отказа.
– Садитесь! Садитесь и не прикидывайтесь простаком. Тупых мы не берем.
– Да? – Никита скептически улыбнулся.
– Да! Вы прошли тщательную проверку. А чтобы попасть в нашу контору, нужно пройти жесточайший отбор. Да, мы разные по личным качествам, характерам и устремлениям, среди нас есть и очень неприятные типы, но вот что касается чутья и профессионализма – этого у нас не отнять.
– Какой профессионализм? – удивился Казей.
– Самый непосредственный. Вы же видите, как давно я за вами наблюдаю. Вы, наверное, отметили, как быстро и полно собрано на вас досье.
– Чего проще, – буркнул Никита. Хотя сам перед этим удивлялся. – Вы можете сейчас лепить мне все что угодно. Я как чистый лист бумаги – что вы напишете, то можно считать правдой. Только это совсем не так.
– С вашим утверждением можно спорить, но это не все, – сказал Стратулат.
– У меня для вас есть сюрприз. И пока вы с ним не познакомитесь, не нужно принимать окончательного решения. Игры, в которые мы играем, весьма серьезны, а ставки в них настолько высоки, что вам даже трудно представить.
– Плевать мне на ставки! И на ваш сюрприз.
– Напрасно. Вам все равно придется узнать, – Стратулат принял стойку «смирно», – у нас теперь будет шеф.
– Кто? – ошеломленный вестью, спросил Никита.
– Я его не знаю. Сказали из самой Москвы.
«Вот, я и предполагал, что над ним кто-то стоит», – прокручивал в голове Казей.
– А как же ваши обещания?
– С семьей будет все в порядке, даю слово, – ответил Стратулат.
– Слово к делу не пришьешь. Вы ведь не всесильны, а ситуация в любой момент может меняться.
– Может. Но мы постараемся минимизировать всякие неожиданности.
– Я требую гарантий.
– Что вы подразумеваете под понятием «гарантий»?
– А нельзя ли вывезти жену и сына?
– Куда, за рубеж?
– Хотя бы сюда.
– Ни в коем случае, – отрезал Стратулат, – надеюсь, вам не нужно объяснять, почему.
– Тогда вы рискуете, – глухо сказал Никита.
– Вы мне угрожаете? – Стратулат налился кровью.
– Предупреждаю.
– Никита Петрович, не забывайтесь! Здесь командую я.
– Но я еще не сказал свое «да». Поэтому не нужно наступать мне на горло.
– Все это верно, – ответил ему Стратулат. – Но в ваших требованиях упущен из виду один важный момент – вы ведь не рядовой гражданин, вы казачий есаул, атаман, агент зарубежной разведки. Вы преступник. И мы даем вам шанс искупить вину. Так кто должен требовать гарантий?
– Вы рискуете… – Никита закусил удила. – Я и впрямь не вправе что-либо требовать.
– Но вы можете быть спокойны за семью, – успокоил его Стратулат. – У меня нет причин вас обманывать.
– К вам в голову не залезешь.
– Верно, придется, Никита Петрович, принять все на веру.
– Наверное, придется.
– Все остальное в ваших руках.
– Еще бы.
– Будем стараться вместе. У вас задание настолько ответственное и опасное, – скрывать не буду, – что ни о каких подвохах с нашей стороны просто не может быть и речи.
– Вы хотите сказать, что только дурак рубит сук, на котором сидит?
– Что-то в этом роде. Так вы согласны?
– А у меня есть альтернатива?
– Значит, договорились. – Стратулат смотрел на Казея угрюмо, жестко и с некоторым сомнением. – И учтите, в Центре на вас тоже надеются.
– Я польщен.
Стратулат сделал вид, что не понял Никитин сарказм. Он сказал:
– Теперь мы более тщательно проработаем некоторые моменты вашей биографии, пройдем курс занятий и будем ждать. У нас на подготовку к внедрению есть еще месяц.
– К внедрению?
– Именно. Теперь уже можно открыть карты: вы должны проникнуть в одну из интересующих нас разведок.
Никита мысленно продолжал бороться с собой, чтобы не сорваться. Когда тебе тридцать, дальнейший путь тебе представляется ясным: конь да сабля, ратные тяготы да лихая смерть.
А когда тебе за пятьдесят перевалило, тут и задумаешься: дать согласие или нет на неизвестную тебе работу.
Никита знал, что в жизни ничего случайного не бывает, она наполнена и стройностью, и смыслом, просто не каждый смертный способен еще прозреть.
Он посмотрел на себя в зеркало. Несмотря на немолодые годы, он был высок, осанист, собою важен. Не сказать, что пригож – слишком резки были черты хищного ястребиного лица, но, что называется, виден.
Первое, что отметил, – морщины с первого гляденья стали резче, черные волосы там и сям засерели первой сединой. Это пускай. Главное – зубы белые, крепкие – хоть глотку ими рви.
Казей уже лет пять как вышел в свой коренной, настоящий возраст, с тех пор менялся мало, и видно было, что выпадет из него еще не очень скоро, разве что седины будет прибавляться да морщин.
Решать надо было. Быстро. А ошибешься – сам пропадешь и семью погубишь.
Он опять стал перед зеркалом. Глядел на себя, ибо ни от кого иного подсказки все одно не будет.
– Хватит думать, – решил Казей. – Что это на меня страх напал?
Он где-то уже слышал, что существует три формы страха. Первая – это астеническая форма. Когда человек начинает паниковать и к осмысленным поступкам не способен. Это, так сказать, трус по натуре. Но у шестидесяти процентов людей существует нормостемическая форма страха. При этом у них снижается осмысленность поведения, но разумные поступки не исключаются. Наконец, третья форма страха – стеническая. Люди, обладающие ею, при любой опасности проявляют повышенную находчивость и выдержку, ощущают прилив сил, боевое возбуждение.
– Ну, это у меня, конечно, есть, – подумал Никита. – Я не трус. И мне надо совершить разумный поступок.
Додумать до сего места было самое трудное. Дальнейшее прыткий ум Никиты Петровича скорехонько выстроил.
Перед важным делом Казей, бывало, подолгу колебался, и так вертел, и этак. Но уж если что решил – не медлил. Устраивалось все так, что унывать – только Господа гневить. Жена жива, здорова, сын пристроен, как мечталось, – это главное. А что расстаться придется, не увидевшись, и, может навсегда, то это лишь по-глупому, по-земному, так говорится. У Бога кого любишь, того не потеряешь, ибо истинная любовь вечна и нетленна.
Сердце у Никиты прыгало, мысли тоже. Выбор у есаула был примерно такой: либо в гроб пасть, либо на гору Олимп взлететь. И он подумал: «Может новая власть простит ему все, ведь кому-то она простила. Тем более, что он станет ей помощником».
И он сказал Стратулату свое: «Да!»
Тот провел с ним несколько занятий, потом по два занятия провели незнакомые Никите люди, и он стал готовиться к поездке самостоятельно, как и договорились. По мере приближения срока Никита старался все обдумать, как бы мысленно сжиться с предстоящей работой, присмотреться к людям, которые поедут вместе с ним, послушать, о чем они говорят.
Все это важно для успешной работы на месте, в незнакомой обстановке.
Со Стратулатом он больше не виделся, да и не к чему. Задание он получил, обещание всяких благ в случае успеха выслушал. А то, что он не вполне уяснил, что представляет собой организация, в которой он теперь будет состоять…
Право, что за важность! Он и прежде не знал, на кого работал.
Главное – он поверил Стратулату.
Накануне отъезда Никита увиделся с человеком, который когда-то приглашал его к Ломакину.
Тот позвонил Никите домой и сказал, что нужно поговорить. Они назначили встречу у гостиницы, где поздно вечером в толпе тот безошибочно определил Никиту.
Он передал ему внушительную пачку денег и сообщил, что информацию от него будут ждать уже через неделю после прибытия на место.
– Если в течение месяца не поступит никаких вестей, то это значит, что вы либо погибли, либо скрылись, – сказал напоследок человек, делая вид, что рассматривает фасад гостиницы.
Что это могло значить, Никита прекрасно понял. Если вдруг выяснится, что он жив, но скрывается… Тогда очень скоро превращаешься в труп, и никаких иллюзий. Можешь сбежать куда угодно – все равно умрешь там от какой-то недостаточности. Или врачи подтвердят, что ты отравился несвежими продуктами. Вариантов много, но конец всегда один.
Нет, он не собирается никуда исчезать. Ему предстоит еще многое сделать.
Послесловие
Что проку над былой грустить бедою?
Пора идти нам за иной звездою!
Илья ЧавчавадзеПосле смерти Сталина 5 марта 1953 года, как и после кончины Ленина, в Кремле развернулась жесткая борьба за власть. Сперва перевес был на стороне председателя Совета министров Маленкова, официального преемника Сталина, поддерживаемого Берией, одно имя которого внушало ужас своими кровавыми злодеяниями. Им противостояли Хрущев и Булганин. Чтобы удержаться у власти, Маленков и Берия наметили реформы. Однако уже в июне 1953 года в ГДР вспыхнуло восстание против коммунистов, и Берия срочно вылетел в Берлин. Этим воспользовался Хрущев, чтобы подготовить переворот, сместить и уничтожить своих политических соперников. После возвращения из Берлина Лаврентий Берия попал в жернова военного переворота. Армия в лице маршала Жукова перешла на сторону Хрущева, и ближайший соратник Маленкова был осужден и расстрелян. Одновременно начались физическое устранение наиболее одиозных офицеров госбезопасности и процесс реабилитации жертв политических репрессий.
После этого Маленков стал быстро терять политическое влияние. Уже в сентябре 1953 года Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС, а в начале 1955 года Маленков был снят с поста премьер-министра, оставив его Булганину.
Так Хрущев одержал окончательную победу.
В феврале 1956 года на XX съезде КПСС Никита Хрущев прочитал свой знаменитый доклад о культе личности Сталина. Несмотря на то, что единственным виновником террора был объявлен Сталин, хотя на совести самого Хрущева было немало загубленных жизней, этот доклад стал поворотным пунктом в истории СССР. Начался массовый процесс реабилитации.
Эпоха красного террора закончилась.
За туманным горизонтом некоторой демократизации общества появляются предпосылки возрожденческого движения казачества. И хотя традиции казачества официально не поддерживались советским обществом, они начинают зримо присутствовать в отдельных фольклорных коллективах песни и пляски. Проявляется определенный интерес к истории и этнографии терских казаков среди ученых. Изучались архивные материалы, собирались экспонаты материального быта. На их основе была сформирована коллекция Археолого-этнографического музея МГУ и Музей казачьего быта в станице Котляревской в Кабардино-Балкарии.
В феврале 1979 г. было создано Бюро по изучению истории казачества при Научном совете Академии наук СССР. Стали появляться российские, всесоюзные и международные конференции, первые из которых состоялись в 1980 и 1986 годах в Черкесске. В докладах и сообщениях присутствовали и вопросы изучения истории, культуры и быта терских казаков. Местные краеведы в городах и селах бывшей Терской области создавали музеи и по крупицам собирали предметы казачьего быта и другие материалы.
Играли свою роль писатели и поэты, писавшие о казачестве.
Временем складывания непосредственных предпосылок возрождения оправданно считается середина 1980 годов, когда в стране наметились демократические преобразования, создавшие условия для объединения потомков российских казаков и воссоздания разрушенного и утерянного в течение XX века.
Политика демократизации и гласности создавала условия для реанимации исторической памяти, расширения доступа к ранее закрытым и умалчиваемым страницам истории казачества, более объективного представления и открытого обсуждения роли казачества в развитии государства Российского на различных его этапах, включая советское время.
В меняющейся социально-политической среде вызревали импульсы будущего возрождения.
На них отразились быстро развивающиеся экологическое и историко-культурное движение по сохранению памятников, достопримечательных мест, изучение истории населенных пунктов, отдельных объектов, личностей.
Но вернемся в одну из терских станиц во второй половине 50-х годов.
…Мирно вьются дымки над хатами. Во дворах орут, надсаживаясь, петухи. Стрекочет трактор, и словно в ответ ему остервенело затявкали хозяйские псы. Где-то, как потерянная, мычит корова. Станица набирает рабочий ритм.
Около чайной стоит машина и несколько подвод. Шофер и возчики забежали перекусить. За столиками ели, курили, громко переговаривались, кто-то смеялся, кто-то спорил.
Молодая женщина в аккуратно повязанной цветной косынке и белом фартуке, только что весело шутившая с кем-то, хмуро сказала кому-то:
– Спиртное у нас после двенадцати. Ступай пока.
За одним из столов мерно вели беседу три степенных станичника. Говорили об урожае, о новостях, которы передало радио, недавно проведенное в станицу, ждали еще кого-то.
Вот в чайной появился старый казак Алексей Андреевич Чумак.
– Мое почтение, Алексей Андреевич… Привет, Андреевич… Садись, подвинемся. Сюда, сюда, давай! – несется отовсюду.
Чумак – коренной житель, потомственный терский казак, прошедший Первую мировую и Гражданскую. Его все знают и уважают.
Пробираясь между столиками, он еле успевает здороваться и пожимать тянущиеся к нему руки.
– Здравствуйте, Алексей Андреевич, – просияла женщина, когда Чумак подошел к стойке. – Уж чем вас угостить, не знаю?
Солнце уже перевалило за полдень, когда Чумак подсел к трем станичникам.
– Ставь, Дуняша, беленькую, – весело сказал Чумак и поздоровался с сидящими.
Разговор за столом продолжился.
– Хочу сообщить вам новость, – обратился он к станичникам. Те притихли.
– Пришло письмо Белобловским от Семена.
– Откуда?
– Говорят, из Бразилии.
– Вон куда занесло казака?
– Да, не близко!
– Что же он пишет?
– Всего не знаю, – говорит Чумак, – но между всем прочим он сообщает, что во время войны он видел нашего атамана Казея Никиту Петровича.
– Где? – в один голос спросили Чумака.
– Пишет, что в Америке. Но встреча была мимолетной и скорой, и где тот сейчас, он не знает.
– А жаль. Интересно, как он туда попал, – стали рассуждать сидящие. – Поди, не по его воле занесла туда его судьба?
– Помнится, жена говорила, что последняя весточка от него была еще до войны из Румынии.
Они выпили за здравие тех, кого судьба занесла так далеко от Родины. И старый казак продолжил:
– Мы не имеем права забывать историю. Наш святой долг – сохранить для потомков ее трагические страницы, пропитанные казачьей кровью, передать правду о тех, кто навеки упокоился здесь, а тем более на чужбине.
– А Никита был мне другом, – сказал Чумак, и непрошенная слеза пробежала по его щеке.
– Это же орлы были, – возбужденно продолжил он и назвал еще несколько фамилий казаков не вернувшихся домой.
По оконному стеклу шлепали густые нежно-зеленые ветви ясеня. Ветер задувал откуда-то сбоку, ветви шелестели, терлись о стекло, золотые солнечные блики скакали по столу и белым стенам чайной.
– Ну что, пошли, братцы, – пора и честь знать, – предложил собеседникам Чумак. – По дороге договорим.
Они вышли.
Вдоль по улице потянулись знакомые дома. Где-то поблизости опять стрекотал трактор. Возле чайной так же стояли машина и подводы. А симпатичная Дуняша суетилась там за своей стойкой.
Солнце клонилось к западу. Но вскоре его закрыла тучка, небо побагровело, постепенно переходя через оранжево-желто-голубое в густо синее, почти черное.
– Красиво, – задумчиво проговорил кто-то из казаков, показывая в сторону Эльбруса.
– А действительно, ты глянь! – послышалось в ответ.
Чумак, положив руки на плечи стоящих по бокам казаков, как старший, поучительно сказал:
– Дело идет вглубь и вширь. Так что будем ждать, что и о казаках скоро вспомнят по-хорошему.
– Настало время и нам, братья-казаки, вспомнить свое прошлое, почувствовать его священное дыхание. Прошлое принадлежит нам и нашим отцам и дедам, а мы люди не последнего ума, – говорил старый казак.
Слушавшие же его соглашались, понимая, что «расказачивание», длившееся десятилетиями, не вытравило из души потомков казаков их неистребимое желание сохранить преемственность поколений и 400-летнюю историю своего народа, его быт, обычаи, культуру и все славные традиции, которые признаны в цивилизованном мире и приобщены к сокровищнице мировой культуры и которые, к сожалению, начали утрачиваться.
Но возрождение казачества произойдет только через несколько десятилетий. Не будет в живых старого казака Чумака и других его собеседников, когда 24 марта 1990 г. Малый круг Терского казачества поставит ряд организационных задач с учетом сложившейся обстановки:
– Добиваться исторической правды и прав казачества.
– Стремиться к возрождению казачьей культуры и быта.
– Содействовать социально-правовой защите казаков.
Казачий съезд выступил от имени казаков региона и принял несколько резолюций и обращений, адресованных как властям, так и тем казакам-терцам, которые разбросаны революцией и гражданской войной по стране и зарубежью. С берегов Терека, впервые за 70 с лишним лет, прозвучал призыв к объединению казаков в движение, к возвращению на родные земли.
И жизнь Терского казачьего движения забурлила. Проходят учредительные круги в станицах, создаются отделы, избираются атаманы. А через год в г. Владикавказе Учредительный круг потомков казаков принимает Устав регионального объединения казаков «Терское казачество», переименованного позднее в Терское казачье войско, избирает Правление и Атамана.
Призыв казаков Терека к возрождению был услышан в казачьих землях России. Станичники знакомились с опытом терцев, писали на Терек, а затем стали объединяться на своих исконных территориях, а проживающие не на своей земле – организовывали земляческие союзы казаков.
Группа казаков, участников 12-го съезда кадетов Российских кадетских корпусов, который состоялся с 16 по 23 сентября 1990 года в городе Санта-Роза, Калифорния, США, собралась для обмена мнениями в связи с происходящими в нашем Отечестве судьбоносными событиями, и пришла к следующим выводам:
1. Перед нами, казаками Зарубежья, стоит задача первостепенной важности – помочь нашим братьям-казакам в России в их усилиях по восстановлению славных казачьих традиций и возрождению казачьего духа.
Несмотря на все попытки в течение более семидесяти лет со стороны коммунистов-интернационалистов путем геноцида и другими средствами уничтожить казачество, все еще живы там здоровые казачьи силы, которые ныне нуждаются в поддержке и помощи.
2. Для успешного осуществления вышесказанного необходимо нам, казакам в Зарубежье, объединиться для создания Казачьего центра связи и обмена информацией, по примеру такового, созданного на Съезде кадев, участниками которого мы являемся.
Предавая гласности эти наши предложения, мы надеемся, что руководство наших славных казачьих войск и войсковых организаций, также рассеянных по всему миру, казаки примут наше предложение, создадут так нужный всем нам, казакам, центр и приступят к активной работе на пользу России и казачества[15].
26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации репрессированных народов, в том числе и казачества.
Этим решением государство принесло извинения казачеству. И благодарные потомки терских казаков навсегда сохранят в своих сердцах имена депутатов, преодолевших предубежденность к казачеству и принявших мудрое и мужественное решение.
Примечания
1
Дранг нах Остен(нем.) – «Марш на Восток».
(обратно)2
Барабан – место на возвышенности (местн.).
(обратно)3
Болид – bolide (фр.), от греческого bolis — метательное оружие.
(обратно)4
Ллойд-Джордж – премьер-министр Великобритании.
(обратно)5
Кацап – так в станицах называли не казаков.
(обратно)6
Фольварк – дом, поместье, приспособленные для обороны.
(обратно)7
Чугунка – поезд (местн.)
(обратно)8
Справа – служба.
(обратно)9
Кацапы – так пренебрежительно казаки называли иногородних.
(обратно)10
Гоц Абрам Рафаилович, эсер.
(обратно)11
Дан (Гурвич) Федор Ильич, меньшевик.
(обратно)12
ВРК – Военно-революционный комитет Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.
(обратно)13
Халупник – так презрительно называли тех, кто в бою прятался в халупе, т. е. в укрытии.
(обратно)14
Чихирь – виноградное вино, домашнего приготовления.
(обратно)15
Казачий вестник». 22.09.1990 г. Уральск.
(обратно)



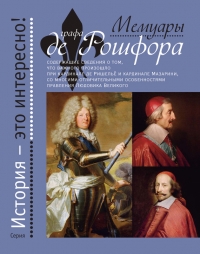
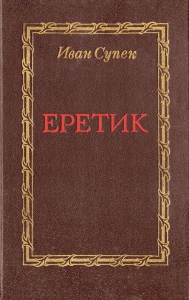
Комментарии к книге «От Терека до Карпат», Владимир Георгиевич Коломиец
Всего 0 комментариев