Встреча. Повести и эссе
Александр Гугнин. Встреча через столетия
Семь известных писателей ГДР — Анна Зегерс, Франц Фюман, Гюнтер де Бройн, Эрик Нойч, Герхард Вольф, Криста Вольф и Петер Хакс — повествуют в этой книге о великих предшественниках: Иоганне Вольфганге Гёте, Георге Форстере, Фридрихе Гёльдерлине, Генрихе фон Клейсте, Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане, а также о нескольких полузабытых авторах: Каролине фон Гюндероде, Беттине фон Арним, Фридрихе де ла Мотт Фуке. Их произведения помогают современному читателю погрузиться в далекую и сложную эпоху, отстоящую от нас почти на два столетия, встретиться с блестящей плеядой немецких художников и мыслителей, составивших гордость не только своей страны и своего времени, но и мировой художественной культуры.
Представленные здесь произведения — повести, рассказы и эссе о Гёте, Форстере, Гёльдерлине, Клейсте и Гофмане, чьи имена всемирно известны, вряд ли нуждаются в специальных пояснениях. Хотелось бы только, чтобы читатель понял замысел книги: разные по стилю и жанру произведения, собранные вместе, создают новое идейно-эстетическое единство. Настоящая книга дает читателю не только срез немецкой литературы и немецкой истории на одном из интереснейших и богатейших этапов ее развития, но и демонстрирует разнообразие творческих манер, широту эстетического поиска, сходство и различия интересов и замыслов современных литераторов ГДР. Что же заставляет таких остросовременных писателей, как Эрик Нойч, Криста Вольф, Франц Фюман, Гюнтер де Бройн, Анна Зегерс и многих других[1] углубиться в историю, еще раз осмыслить национальную литературную традицию? Ведь настоящий писатель не занимается историей из чисто архивного интереса, обращение к прошлому для него всегда продолжение раздумий о современности, о дне сегодняшнем.
Взглянем сначала на проблему самым наивным и в то же время самым естественным образом: заслуживает ли эпоха «Бури и натиска», веймарского классицизма и романтизма в Германии — одна из самых блестящих эпох в развитии мировой духовной культуры — того, чтобы литература ГДР берегла, осваивала и постоянно развивала это свое культурное наследие? Прежде всего, пожалуй, поражает удивительная плеяда блистательных имен, иногда причудливо сосуществующих почти одновременно в небольших географических пределах. В маленьком Веймаре, например, куда Виланд переехал в 1772 году, а Гёте в 1775 году, поселяются Шиллер и Гердер, в 1796 году сюда приезжает Жан-Поль. Совсем рядом находится Иена, где во второй половине 1790-х годов вокруг братьев Августа Вильгельма и Фридриха Шлегелей сформировался Иенский романтический кружок: Новалис, Вильгельм Ваккенродер, Людвиг Тик, близкие им философы Фихте и Шеллинг. На юго-западе Германии (в герцогстве Вюртембергском) в 1792 году встречаются и живут в одной комнате при Тюбингенском университете трое студентов: Гёльдерлин, Шеллинг и Гегель; они вместе высаживают символическое «дерево свободы» в честь Великой французской революции. После многолетних бесприютных скитаний по Германии и за ее пределами Гёльдерлин навсегда остается в Тюбингене, где в начале нового века уже формируется Тюбингенский романтический кружок: Людвиг Уланд, Юстинус Кернер, Густав Шваб, позднее здесь начинают творческий путь Вильгельм Гауф и Эдуард Мёрике. В 1802 году Ахим фон Арним и Клеменс Брентано совершают знаменитую поездку по Рейну, навеявшую замысел «Волшебного рога мальчика», и через несколько лет формируется Гейдельбергская группа романтиков, блистательно разработавшая национальную фольклористику: собрания народных песен, сказки братьев Гримм, издания немецких народных книг, издание и комментирование памятников средневековой народной культуры (таких, например, как «Песнь о нибелунгах» или скандинавские саги). Следует напомнить и о Генрихе фон Клейсте, Адельберте Шамиссо и Берлинском романтическом кружке; Йозефе Эйхендорфе, Вильгельме Мюллере, молодом Гейне — поистине эта великолепная литературная эпоха (нередко называемая условно «эпохой Гёте») не может не привлечь внимания. Она не может не заинтересовать и художников и читателей.
Однако вне исторического контекста нельзя по-настоящему понять ни творчество отдельного писателя, ни судьбу всего литературного направления. В последние десятилетия XVIII века Европу потрясли события всемирно-исторической важности: во Франции окончательно рухнул многовековой феодальный уклад, что не могло не отозваться громким эхом во всей Европе. Раскаты этого эха гремели и в XIX веке, который, по словам В. И. Ленина, «во всех концах мира только то и делал, что проводил, осуществлял то, что создали великие французские революционеры буржуазии…»[2] Многочисленные государи раздробленной Германии боялись революционной Франции и предавали ее анафеме. Лишь в отдельных областях левобережного Рейна, куда вступали французские войска (в курфюршестве Майнцком, например, где с 1788 года работал библиотекарем Георг Форстер), были созданы якобинские клубы и вербовались сторонники Французской республики среди лучших представителей интеллигенции и бюргерства.
Анализируя события, настроения и поведение людей в эту сложную историческую эпоху, нельзя забывать, что месяцы тогда порой значили больше, чем годы, а годы были богаче событиями, чем иные десятилетия. Насколько восторженно встретила передовая европейская интеллигенция падение Бастилии 14 июля 1789 года, настолько же смутило, испугало и оттолкнуло многих прогрессивных людей усиление республиканского и плебейского элементов в революции, и особенно якобинская диктатура 1793–1794 гг. Гёте, еще в 1785 году поклонник и почитатель Форстера, в 1792 году более чем сдержанно оценивает революционно-демократические настроения у своего бывшего единомышленника: «Большое возбуждение умов, распространение республиканских умонастроений. Я чувствовал себя неловко в этом обществе»[3]. Георг Форстер, один из немногих в Германии, сумел, не отказываясь от революционно-демократических идеалов, преодолеть характерный для немецкой классической литературы и философии разрыв между мыслью и делом, между прекраснодушной теорией и ежедневной жизненной практикой. Сам Форстер, с горечью узнав об осуждении его революционной деятельности большинством бывших единомышленников в Германии, писал: «…они не могли понять человека, который в подходящее время способен также действовать, и находили меня достойным отвращения за то, что я на деле осуществляю принципы, удостоившиеся их похвалы в моих сочинениях»[4].
Любопытный спор на эту тему происходит в повести Кристы Вольф между Клейстом и известным правоведом и историком Савиньи, будущим профессором и прусским министром. Клейст стремится преодолеть извечный разрыв мысли и действия, философии и общественной практики, особенно характерный для Германии, где на рубеже XVIII–XIX вв. прежде всего развивалась идеалистическая философия при почти полном отсутствии революционных общественных движений. Савиньи утверждает, что такой разрыв не только вполне естествен, он есть благо, ибо позволяет науке, философии развиваться свободно, без оглядки на жизнь — ведь никому и в голову не приходит, что идеальные философские модели могут иметь непосредственное касательство к жизни…
Эта проблема отрыва философской и эстетической мысли от жизни интересует не только Кристу Вольф, но и Эрика Нойча. Писатели рассматривают, как эта дилемма решалась Форстером, Клейстом, Гёте, Гёльдерлином и Жан-Полем. Форстер умер в революционном Париже 12 января 1794 года, оставив по себе память как «лицо великое, достигающее колоссальности в 1791, 1792, 1793 годах», как человек с «необыкновенным тактом понимания жизни и действительности»[5]. [1] Общественные позиции Гёте никогда не были революционными. Выступив в начале 1770-х гг. вместе с Гердером как идеолог «Бури и натиска» («Гёц фон Берлихинген», «Страдания юного Вертера», «Прометей»), молодой Гёте отразил антифеодальные настроения поднимающегося третьего сословия в Германии; при этом он не столько помышлял о непосредственных политических переменах, сколько имел в виду лишь «немецкую литературную революцию»[6], то есть смену литературно-эстетических канонов, вкусов, привычек и представлений, — иначе говоря, он полагал заменить феодально-просветительскую идеологию идеологией бюргерски-просветительской. Пройдя через «эстетическую фазу» «веймарского классицизма» («Герман и Доротея», «Годы учения Вильгельма Мейстера»), Гёте во второй части «Фауста» по-своему обобщил сложнейший исторический опыт эпохи, воздав поэтическую хвалу созидательному труду на благо общества и соединив в одно эстетическое целое утопию и антиутопию, веру в конечное торжество сил добра и реалистическое осознание исторической невозможности торжества этих сил в современных ему условиях.
На рубеже XVIII–XIX вв. в Германии пышно распустился «голубой цветок» романтизма. Трудно и, пожалуй, невозможно отыскать общие черты и дефиниции для многочисленных побегов и ответвлений, которые дал романтизм в трехстах немецких государствах, весьма различающихся по своим общественно-политическим и культурным условиям. Ясно лишь общее направление: от космополитизма и философско-эстетического универсализма иенских романтиков конца XVIII века — ко все большему сосредоточению на национальной истории и культуре у романтиков гейдельбергских и швабских; от активной антибуржуазности, определенной индифферентности к текущей общественной жизни у ранних романтиков — ко все более пристальному вниманию к ежедневным политическим будням, хотя, как правило, и без выдвижения революционных социальных программ.
Более остро и конкретно размышлял о возможностях непосредственных политических сдвигов в Германии Жан-Поль (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763–1825). Гуманистические и республиканские политические идеи Жан-Поля отчетливее всего выразились в четырехтомном романе «Титан» (1800–1803). Мысль Жан-Поля устремлена в направлении, близком Гёльдерлину, а временами и Форстеру. Как и Форстера, его порой охватывает отчаяние от того, что, несмотря на «непрерывное воздействие мыслящих голов» (по словам Ф. Шиллера), общественные условия в Германии еще не созрели для коренных революционных преобразований и республиканское устройство на рубеже XVIII–XIX вв. немыслимо как движение «снизу», в широких народных массах; за него приходится агитировать «сверху» — как об этом свидетельствует история присоединения левобережного Рейна к революционной Франции.
Духовные и эстетические искания Фридриха Гёльдерлина связаны с тем же кругом общественных проблем, только ищет он, может быть, более страстно, напряженно, трагически. Герхард Вольф в сложно скомпонованном, но документально очень точном повествовании видит причину духовной драмы поэта в сложном соединении многих противоречий, которые объективно невозможно было разрешить так, как этого хотел Гёльдерлин и как он должен был хотеть этого в силу особенностей своей натуры и своего таланта: «Боюсь, что горячность жизни во мне остынет, соприкоснувшись с ледяной историей наших дней, и страх этот проистекает оттого, что со времен моей юности я воспринимал все разрушительное более болезненно, нежели остальные, мне кажется, чувствительность эта имеет причиной душевную мою организацию, оказавшуюся в соприкосновении с жизненным опытом, выпавшим мне на долю, недостаточно прочной и устойчивой». Герхард Вольф рисует потрясающую трагедию человека и писателя, продолжающего верить в идеалы Французской революции в то время, когда сама Франция уже шаг за шагом отступается от этих идеалов. В этом трагедия не одного Гёльдерлина, но целого поколения талантливых, «чувствительных» и революционно настроенных молодых людей в Германии, особенно в прирейнских землях и в Вюртемберге, где постепенно обострились противоречия выборных сословных представителей с герцогом, стремящимся к единовластию. Г. Вольф рассказывает о нескольких драматических судьбах молодых людей этого поколения: талантливого журналиста Фридриха Эмериха, правдиво описывавшего положение в прирейнских областях (он был арестован и в состоянии умопомешательства выбросился из окна госпиталя в Вюрцбурге в 1803 г.), литератора Готхольда Фридриха, Штойдлина (в 1792 г. он опубликовал «Тюбингенские гимны» Гёльдерлина, преследовался за революционно-демократические убеждения и утопился в 1796 г. в Рейне), Казимира Ульриха Бёлендорфа, талантливого и разностороннего человека[7], окончившего свою многострадальную скитальческую жизнь в 1825 году выстрелом из пистолета; близкого друга Гёльдерлина и республиканца по убеждениям Исаака Синклера, арестованного по предательскому доносу в 1805 году… На основании того же доноса были подготовлены и бумаги для ареста самого Гёльдерлина, но доктор Мюллер из Гомбурга выдал заключение о его безумии. 11 сентября 1806 года Гёльдерлина силой увозят из Гомбурга в психолечебницу Аутенрита в Тюбингене («Это не притворство, это отчаяние», — сказал И. Синклер, когда узнал о болезни своего друга и единомышленника); в этом городе великий поэт в полубезумии живет до 1843 года на попечении приютившего его столяра Циммера. На наш взгляд, очень важно, что Герхард Вольф в своем повествовании о Гёльдерлине придерживается проверенных исторических фактов, не идет на поводу у ставшей в последнее время модной на Западе гипотезы: Гёльдерлин якобы притворился безумным, опасаясь неминуемого ареста и преследований.
Трагедия Клейста разыгрывалась в эти же годы, и он по-своему размышлял над сходными проблемами, хотя и не был республиканцем, как Форстер и Гёльдерлин. «Некоторых людей природа защитила от крайностей. Непомерные деяния, непомерные мысли их отталкивают», — размышляет в повести Кристы Вольф Клейст. В разговоре с Каролиной фон Гюндероде Клейст сравнивает два миросозерцания, два типа отношения к миру: свое и Гёте. Для Гёте, как представляется Клейсту, «главное — равновесие. Он полагает, что противоборствующие силы в мире можно разделить на две ветви разума — он называет их добро и зло — и что в конечном счете обе эти ветви способствуют совершенствованию человечества». О себе же Клейст говорит, что он не может столь отчетливо и просто разделить мир на добро и зло, на «здоровое» и «больное». «Я могу поделить мир только одним способом: взять топор и самого себя, свою душу разрубить надвое, а потом протянуть почтенной публике обе половинки. Но публику это вряд ли устроит: „Фу, какая мерзость! Где же чистоплотность!“» Криста Вольф заставляет Клейста перечислять в уме различные государства мира и прикидывать, в каком из них он мог бы жить, где на Земле есть условия, отвечающие его внутренним потребностям. «Нежилая жизнь. Нет места. Нигде». В раздумьях Клейста (и в заголовке повести) косвенно звучит слово «утопия», ибо буквально переведенное с греческого «утопия» означает «место, которого нет». К. Вольф старается вернуть понятию «утопия» первозданный позитивный заряд, напоминает об огромной роли социалистов-утопистов в формировании сознания передовых слоев общества в разные эпохи, она настаивает на том, что позитивное воздействие утопии не исчерпалось и в наше время. Вера в лучшее будущее, пускай порой и наивная, заставляла многих людей уже в их время вести себя в соответствии с нравственными нормами и принципами, которые, на их взгляд, могли быть осуществимы лишь в будущем. Высокое нравственное начало, свойственное социальной утопии и служащее связующим мостком между настоящим и будущим, — вот над чем в первую очередь задумывается Криста Вольф.
Обратим внимание и еще на два эссе Кристы Вольф, посвященные судьбам замечательных женщин романтической эпохи: Каролины фон Гюндероде (1780–1806) и Беттины Брентано (по мужу фон Арним, 1785–1859). Эти две у истоков столь схожие и в финале столь различные судьбы писательница рассматривает как два возможных варианта развития женского романтического характера в Германии, когда Французская революция 1789–1794 гг. и возникшие на немецкой философской почве идеи романтического универсализма впервые пробудили в этой стране заметное движение женщин за эмансипацию. Писательница не абсолютизирует эти две судьбы и, хотя видит в своих героинях определенные типы человеческого поведения, не забывает о конкретных условиях их исторического бытия; ей дороги прежде всего реальные личности, чья жизнь протекала не по заданной схеме, а явилась следствием сложнейшей суммы внешних и внутренних, объективных и субъективных обстоятельств и предпосылок.
В повести о Клейсте («Нет места. Нигде») обе женщины предстают перед нами в действии, в спорах и размышлениях; художественный вымысел здесь свободно сочетается с документально подтвержденными фактами. Криста Вольф разрабатывает свою художественную гипотезу: о глубоком духовном родстве и о сходстве идейно-эстетического поиска Клейста и Гюндероде, о трагической бескомпромиссности и безысходности этого поиска в тогдашней Германии (Гюндероде покончила с собой в 1806 году, Клейст застрелился несколько позднее — в 1811 году). Эта гипотеза о духовном родстве нужна К. Вольф для художественной апробации весьма серьезной проблемы: каково духовное различие (при установленной духовной общности) гениально одаренного мужчины и гениально одаренной женщины, какова и насколько правомерна разница в их жизненном поведении, в их взгляде на себя и на мир? Проблема эта, поставленная тактично, бережно и в то же время с глубоким пониманием самого существа ее, интересна уже сама по себе, но тем интереснее она решается писательницей на конкретном материале жизни и творчества Генриха фон Клейста и Каролины фон Гюндероде.
В эссе К. Вольф лаконичнее, строже придерживается уже опубликованных или архивных материалов, здесь речь идет не о литературной гипотезе, а о максимальном приближении к истине: о скрупулезно документальном (и тем не менее художественном) воспроизведении судеб Каролины фон Гюндероде и Беттины фон Арним. Если первая из них настроена максималистски: либо все, либо ничего, то вторая чуть-чуть смещает акценты: насколько возможно — все, но исходя из конкретных условий, из того, что дано исторической ситуацией. Сравнительно благополучный жизненный путь Беттины фон Арним потрясает, пожалуй, глубже и основательнее, чем трагический расчет с жизнью Каролины фон Гюндероде. Вначале Беттина — воздушно-эфемерное создание, непосредственная романтическая натура, живая и любознательная, заинтересовавшая самого Гёте[8], затем (с 1811 г.) — верная и надежная спутница жизни известного писателя-романтика Людвига Ахима фон Арнима (1781–1831), вырастившая семерых детей, постоянно занятая домашними хлопотами, и, наконец, в 1830—1850-х гг. — активная поборница демократических, а нередко и революционно-демократических идей и убеждений, что в условиях Пруссии середины XIX века свидетельствовало о ее незаурядном мужестве.
В 1837 году, например, Беттина фон Арним защищает братьев Гримм, изгнанных вместе с пятью другими профессорами из Геттингенского университета за отказ признать незаконную отмену конституции ганноверским королем, и умело добивается их приглашения в Берлин Фридрихом Вильгельмом IV. Криста Вольф сообщает и об исторически вероятной встрече Беттины фон Арним с молодым Марксом в 1842 году. В 1843 году, на волне революционно-демократического подъема сороковых годов, Беттина фон Арним издает том «Книга в дар и владение королю», где пытается раскрыть прусскому монарху истину о подлинном положении трудящихся классов Германии, используя документальные материалы и свидетельства (посвящение королю позволило писательнице обойти цензуру). Книга эта, как и некоторые другие гражданские поступки Беттины фон Арним, сыграла довольно заметную роль в общедемократическом движении в Германии. По-своему интерпретируя жизненную позицию этой талантливой и мужественной женщины, К. Вольф пытается решить и свою литературно-эстетическую проблему, о которой говорилось выше.
Как видно из сказанного, эпоха, привлекшая к себе внимание многих крупных писателей ГДР, необычайно драматична, насыщена сложными конфликтами и потому, естественно, интересует художников слова. Однако нередко писатели — Эрик Нойч, Криста Вольф, да и Франц Фюман — не просто интересуются благодатной темой, важнейшими страницами прошлого своей страны и своей культуры, они ищут своих духовных предтеч. Эту мысль ярко сформулировал Эрик Нойч:
«Каждый писатель ищет своих литературных предков. И каждый выбирает в зависимости от своего вкуса, темперамента (и от живущей в душе просветленной юношеской романтики), но прежде всего в зависимости от духовного родства, которое чувствует писатель более поздней эпохи к тому или иному из своих предшественников, писателей прошлой эпохи, — то есть в этом выборе много субъективного, не всегда целиком совпадающего с общей, научно-обоснованной правдой о том или ином авторе».[9]
Своим духовным предтечей Эрик Нойч, к примеру, называет Георга Форстера:
«Своей жизнью и своим образом мыслей он воплощает лучшее достояние революционных и реалистических немецких традиций. И разве нам сегодня что-нибудь мешает творить, используя богатства его эстетического опыта?»[10]
Анна Зегерс в своем рассказе «Встреча в пути» и Франц Фюман в эссе о Гофмане рассматривают проблему культурного наследия в несколько ином ключе. Момент личного пристрастия или неприятия здесь не столь существен, речь идет о проникновении в диалектику историко-литературного развития в различные эпохи, о границах и возможностях того или иного художественного метода, о судьбах современного реализма. В новелле Анны Зегерс Гофман, Гоголь и Кафка, встретившись в пражском кафе, читают друг другу отрывки из своих произведений и обсуждают роль и место фантастических и мифологических элементов в художественном произведении. Из разговора выясняется, что сходные формальные приемы, используемые столь различными писателями, в разных художественных методах выполняют разные функции, хотя каждый из героев Зегерс по-своему стремится рассказать правду о своей эпохе. Анна Зегерс отдает явное предпочтение реалистической манере Гоголя, но она видит своеобразную прелесть романтической сатиры Гофмана, ценит эмоциональное воздействие гротескных фантазий Кафки, хотя и решительно отвергает его пессимистический взгляд на мир.
Для Франца Фюмана, писателя с необычайно широким кругом интересов, внимательное изучение жизни и творчества Гофмана — очередная ступень в понимании сложной диалектики жизни и литературного творчества. Фюман анализирует некоторые проблемы литературного наследия, и в частности творчество Гофмана, которого в ГДР (а иногда и у нас) до некоторого времени относили чуть ли не к реакционным романтикам, хотя еще Г. Гейне и В. Г. Белинский очень высоко оценивали его острый и прозорливый сатирический талант. Культурное наследие по-настоящему действенно, подчеркивает Фюман, когда мы умеем понять его целиком, в противоречиях и диалектике, а не вырываем из него отдельные части, выпрямляя и схематизируя их. Гофмана тоже надо видеть целиком, не вычленяя из его разностороннего творчества лишь те произведения, которые поддаются интерпретации как сатирически-реалистические. Причудливые и фантастические образы, утверждает и доказывает писатель, были для Гофмана не бегством от действительности (как иногда еще утверждается в нормативно-негативной критике), а способом освоения действительности, своеобразным — и по-своему точным — раскрытием ее сущностных (в тогдашней Германии нередко фантастически-уродливых) черт. Проблемам раскрытия специфики художественного таланта Гофмана Фюман посвятил несколько речей и статей, вышедших в ГДР отдельной книгой[11].
Как мы видим, при общем и вполне закономерном интересе к «эпохе Гёте» у разных писателей ГДР есть и свои личные побудительные мотивы. И естественно, что они могут быть весьма различными, скажем, у Кристы Вольф, у Франца Фюмана или у Гюнтера де Бройна.
Возьмем, к примеру, эссе Гюнтера де Бройна о Фридрихе де ла Мотт Фуке (1777–1843) — разорившемся прусском бароне, благонамеренном и всегда послушном своим государям, необычайно плодовитом романисте, восславившем подвиги средневековых рыцарей, служение прекрасным дамам, феодальные турниры и поединки. Слава его в Германии пришлась на время национально-освободительного подъема 1809–1814 гг., когда патриотизм — пускай даже в консервативно-средневековом обличье — ценился выше художественных достоинств. Гюнтер де Бройн в своем эссе о Фуке очень далек от намерения идеализировать стиль жизни или творческие заслуги незадачливого литератора, пережившего свою славу и упорно продолжавшего писать роман за романом, хотя далеко не на все из них находились издатели. Де Бройн рассказывает о жизни Фуке то с сарказмом (когда речь идет о рыцарском празднике «Очарование белой розы» в 1829 г. в Берлине), то с иронией (когда говорит о режиме дня Фуке, писавшего ежедневно, помногу и почти без помарок), то с юмором и долей участия (когда сообщает о непростых обстоятельствах семейной жизни Фуке), то с сочувствием и проникновением в своеобразную трагедию этого литератора, связавшего свое дарование с ложными идеалами и ложными эстетическими посылками. Перечитав многочисленные произведения Фуке, Г. де Бройн приходит к выводу, что лишь немногое из его наследия может быть без оговорок предложено современному читателю: Фуке интересен там, где рыцарские сюжеты потеснились народными легендами, где в произведение вторгался его личный жизненный опыт. Среди этого немногого, например, и повесть «Ундина» (1811), на сюжет которой Э. Т. А. Гофман создал в 1816 году первую романтическую оперу в Германии. Заметим кстати, что на русский язык «Ундину» перевел В. А. Жуковский. А В. Г. Белинский, прочитав перевод, писал: «В стихах Жуковского обыкновенная сказка явилась прекрасным поэтическим созданием. „Ундина“ одно из самых романтических его произведений… Нельзя надивиться, как искусно наш поэт умел слить фантастический мир с действительным миром и сколько заповедных тайн сердца умел он разоблачить и высказать в таком сказочном произведении»[12].
Петер Хакс, популярный драматург, тоже заглянул в «эпоху Гёте»: он дописал третий акт незаконченной комедии Гёте «Ярмарка в Плюндерсвайлерне», написал «драму по Гёте» «Пандора», выступил на дискуссии о романтизме в Академии искусств ГДР с речью «Поэт-клятвопреступник» (о Фридрихе Шлегеле) и, наконец, в 1976 году создал монодраму о Гёте: госпожа фон Штейн, в течение десяти лет (действие происходит в 1786 году во время неожиданного отъезда Гёте в Италию) близко знавшая великого поэта, рассказывает о своем знакомстве с ним. В пьесе привлекает прежде всего психологический портрет госпожи фон Штейн: начиная свой монолог, придворная дама осуждает невоспитанность Гёте, а затем постепенно и как бы незаметно для себя она, подпадая под неотразимое обаяние поэта, оправдывает и защищает Гёте и, наконец, признается в любви к нему. Пьеса эта, на наш взгляд, не претендует на документальную достоверность, писатель стремился к художественно-психологической достоверности, что ему вполне удалось.
Завершает книгу повесть Гюнтера де Бройна «Бранденбургские изыскания». В этой повести все вымышлено, и вместе с тем все правдиво. Мы обратим здесь внимание лишь на один аспект повести — литературно-полемический: писатель остроумно высмеивает рецидивы вульгарно-социологического литературоведения. Вульгарно-социологическое литературоведение, разделив писателей на прогрессивных и реакционных, предпочитает схемы, ибо диалектика непредвзятой реальности подрывает самые основы такого подхода к литературе. Однако именно на вульгарной социологии удается сделать карьеру преуспевающему берлинскому профессору Менцелю — герою повести Гюнтера де Бройна. В угоду карьере ему приходится «выпрямлять» факты биографии и творчества романтического историка и писателя Макса фон Шведенова (лицо вымышленное), а часто прибегать и к прямой фальсификации. Профессору Менцелю противопоставлен сельский учитель Пётч — он не владеет «научным» методом, а просто очень любит творчество своего земляка и потому дорожит прежде всего фактами и ревниво следит за их точной интерпретацией. И хотя симпатии де Бройна явно на стороне Пётча, читателю вовсе не навязывается такая позиция: бесперспективный эмпиризм, не подстрахованный теорией, тоже осмысливается писателем весьма иронически…
Вот, пожалуй, и все соображения, которыми хотелось бы предварить чтение этой книги. Пусть же «встреча» с «эпохой Гёте» и современными писателями ГДР будет интересной для советских читателей.
Эрик Нойч
Форстер в Париже
Глава первая
Покуда мы молоды, мы всегда думаем:
это или ничто; но вот мы вырастаем и не
получаем того, что так страстно желали, —
и ничего, как-то обходимся.
20.11.1793В шестой день месяца фримера Форстер выехал из Понтарлье. Он сидел в широкой и уютной карете, какие в обиходе на юге: в ней легко могли разместиться еще трое или четверо — и Тереза, и обе дочки, и Губер. Но он ехал один. Утомленный бессмысленным ожиданием, он взял наконец в Труайе лошадей самых скорых, почтовых, что и полагалось ему как эмиссару Конвента по рангу.
Оставалось надеяться, что ему удастся делать и впредь не менее того, что давно уже, по крайней мере со времени походившего на бегство отъезда Терезы из Майнца, вошло в привычку. И те дни в Валь-де-Травере, когда он еще раз попытался приручить свое счастье, как-то сгладились в памяти, растворились. Подернулись пеленой забвения? Нет, конечно же, нет. Но горечь теперь возобладала, а радость долгожданного и страстно желанного свидания угасла. Воспоминание его угнетало. Оно давило на него и сейчас почти физической тяжестью, так, будто запоздалое разочарование в этом свидании взялось мстить ему за надежды, призвав на помощь закутанные в туман гóры Юры — холодные, голые, мокрые, они грозили обрушиться на него и погрести все его мужество. Он чувствовал, как судорогой сжимало грудь. Он в достаточной степени был медиком, чтобы знать, что это проделки проклятого ревматизма, который он нажил себе, плавая под парусами Кука в ледяных и неспокойных водах Антарктики.
Жизнь втроем… Мысль об этом, крепко засевшая в нем в долгие бессонные ночи, продолжала преследовать его. Ведь Тереза и Губер обещали отправиться за ним в Париж. Было ли это среди увядших, голых лугов, осиянных странным желтым светом, сочившимся из-под низких облаков? Или в гостинице «Медведь», этой тихой харчевне, утопающей в сонном орешнике? Да, конечно, вечером, когда дети уже спали, а они втроем сидели за бутылкой красного, греясь у камина. Розочка, Клер. Он отнес их в кровать. Они так прильнули к нему — догадывались ли, что происходит? Он поцеловал их и обещал, что расставание продлится недолго. Взгляните на мамочку. Видите, она плачет, она не станет нас разлучать.
Париж, Полярная звезда республики, святая столица мира, скорее туда, в мой Париж. В последний раз сменили лошадей. С самого раннего утра, как выехал, во рту не было маковой росинки. Так спешил. С ревматической болью в груди. Четвертушка хлеба на дорогу — вот и все. Мучила слабость, и в пути не раз приходилось устраиваться на ночлег. Он отодвинул занавеску на окне и по могучим букам и по разбросанным гладким валунам определил, что находится где-то в лесах под Фонтенбло.
Он подал кучеру знак, чтоб тот ехал быстрее. Allez! Postillon. Allez![13] Крикнул — и задохнулся от кашля.
Все хлопоты его оказались напрасными, и это тоже мучило. Все его хождения, попытки уговорить членов муниципалитета в Понтарлье дать им, как хотела Тереза, развод на французской земле и в соответствии с французскими законами ни к чему не привели. Отступился после этого и ее покровитель из Невшателя, этот скользкий и, кажется, все еще связанный с роялистами Ружмон. Теперь она пишет, что хочет остаться в Швейцарии, переехать только в менее ханжеский Цюрих. Было похоже, однако, что план этот принадлежит не ей, а Губеру. Но может, он ошибается? Может, права Каролина, не скрывавшая своего презрения к Губеру еще тогда, в Майнце? Ах, эта власть обстоятельств, думал он, сложных, врастающих корнями в историю обстоятельств, — она становится для нас законом, коего ни избежать, ни опровергнуть. Смешно, конечно, что от него, этого всемогущего закона, зависит такая малость, как судьба нескольких совершенно незначительных лиц. Но приходится подчиниться. Мы полагаемся, правда, на счастливый жребий, а не следовало бы полагаться на жребий несчастный? Когда на руках одни козыри, мы посмеиваемся над опасениями. Но когда все козыри выйдут, мы-то сами останемся.
Нет, мечтателем Форстер не был.
И разве он зависел от своей жены?
Да плевать ему теперь на всю Германию со всеми ее ищейками и дураками в каждом, и самом мелком, крошечном, осколочном княжестве. За поимку его объявлена награда в сто дукатов. Узнав об этом, он сказал: какой же бездарный тупица тот генерал, что так высоко оценил мою голову — разве столького она стоит! За генералову я не дал бы и шести крейцеров… Он рассмеялся. Вперед, кучер, вперед! Настегивай лошадей…
Да, он скучал по Парижу. Все же не видел его с самого начала августа, если не считать короткого пребывания между двумя поездками — в Аррас и сюда вот, по поручению правительства. К тому ж ему обещали место библиотекаря. Он рассчитывал на шесть тысяч ливров дохода и надеялся, что и для Губера удастся что-нибудь подыскать. На это можно было бы славно жить. И снова подле него были бы дети, Тереза… Но, вспомнив ее, он поежился. Закутался в плед. В памяти встало: он писал тогда, помнится, кому-то из друзей, кажется Лихтенбергу[14], год назад или больше, хотя после возвращения из путешествия по Фландрии, Брабанту и Англии уже прошла чуть ли не вечность, — он писал тогда: я чувствую себя гораздо более убитым, чем должен был бы в своем положении: как растение, которое замерзло и уже не может ожить.
Оба последних ребенка умерли от болезней, сын от оспы. Почему вдруг именно тогда последовали эти удары судьбы? Может, то было предостережение? Ах, Тереза, Тереза, дитя мое, девочка моя! Помнишь ли, как я впервые пришел в гости к твоему отцу и подарил тебе пеструю ткань, привезенную с Гаити? Нет, он не сомневался, что никогда не сможет вырвать ее образ из сознания. Всю ее, плоть, но более всего душу… Хотя за время их брака Тереза часто ранила его, но ведь и сколько дарила наслаждения. В мыслях своих он опять был с ней близок. Держал в своих объятьях, слушал ее голос, пил дыханье ее уст. Его лихорадило. Поехал бы он, ежели б знал, что ждет его там, в гостинице «Медведь»?
Солнце, редкое в эти ноябрьские дни, выглянуло из-за туч и скрылось за холмами. Закат стоял багрово-красный. В прибрежных кустах пряталась Сена. Высокие голые тополя, обвитые плющом, вонзали в небо свои вершины. Ни ветерка. Ландшафт странно неподвижный, печальный. И в Шампани листва виноградников уже не искрилась на солнце, как несколько недель назад. Она покоричневела, почернела, насытилась влагой. В воздухе висел жирный запах тления. Природа умирала. Опровергнуть этого не мог даже розовый отблеск вечерней зари, перерезавший реку. Дорога стала каменистой, неровной. Колеса застучали, и Форстер откинулся поглубже на сиденье. Он представил себе, что его дочки сидят здесь, рядом с ним. Догадаться обо всем они смогли бы и испугаться, но понять — нет, для этого они были слишком малы: Розочке всего семь, а Клер только четыре. Происшедшего они не уразумели бы. Итак, в Париж? Но для немедленного счастья этот город еще не был создан. В Париже голод, в Париже холод. И все же… С девочками, с Терезой и даже Губером — с ними, может, было бы спокойнее, надежнее, светлее на душе. Он еще верил, что жить можно и втроем. И в то же время его охватывал озноб от одной мысли об этом. Когда он путешествовал с Гумбольдтом[15]… Да, вот тогда-то Губер, сей секретарь дрезденской миссии, и воспользовался его отсутствием, получив свободный доступ. Куда? Вплоть до спальни, разумеется. А потом, перед самым бегством из Майнца, против его воли, Тереза открыла двери их спальни и для Каролины. Хотела склонить его к тому, что давно уже позволяла себе? Но ведь он не раз повторял, что убеждения и чувства его неизменны…
Словно гора нависла над ним. Форстер чувствовал, как ее тяжесть давит ему на голову — будто обруч, который стягивается все туже и туже. И грудь опять стеснило. Новый приступ кашля, ощущение такое, будто сердце колотится о ребра.
Лишь отдышавшись, он смог собраться с мыслями. Открыл окно. Прохладный ветерок принес облегчение.
Когда вскоре после его прибытия в Понтарлье выяснилось, что режим безопасности на границе стал строже, так что любым иностранцам, стало быть и Терезе с Губером, было категорически запрещено находиться на территории республики, он проехал дальше — к ним, в Швейцарию. Дети испугались, когда он, спрыгнув с подножки кареты, бросился, чтобы в порыве чувств прижать их к своему сердцу. Клерхен, та просто убежала. Как это задело его тогда, ну вот, решил он, Губер прибрал уж детей к рукам. Но Розочка тут же развеяла досаду удивленным, почти упрекающим возгласом: «Фу, папа! Ну на кого ты похож? Прямо медведь какой-то косматый!»
Тут только он вспомнил, что за год разлуки с семьей, должно быть, сильно изменился. Неудивительно, что Клер его не узнала. Ходил он в сапогах с отворотами и в узких потертых нанковых штанах, в серо-зеленом сюртуке английского фасона с высоким воротником и небрежно повязанным вокруг шеи платком, то есть выглядел совсем не так, как Губер, который еще носил кюлоты и туфли с серебряными пряжками. Но что еще более изменило его внешность, и это не ускользнуло от внимания старшей дочери, — еще в Майнце он срезал косичку. Волосы его теперь путались и торчали во все стороны на затылке, не припудренные, косматые, мокрые от моросящего дождя.
«Как ты похудел», — сказала Тереза.
Ее голос, казалось, был полон участия, от чего год назад, в Майнце, он так бы и взвился, не преминув ей попенять. А сейчас это прозвучало для него чуть ли не как объяснение в любви. Но он хотел скрыть смущение и припустился вскачь за Клер, да так резво, что шейный платок развязался, обнажив на якобинский манер голую грудь. Догнал он ее под орехами на склоне. Неистово обнял, хотя она визжала и отбивалась. Ах, золотко мое, милая детка… Зарыл лицо в ее платье, чтобы скрыть слезы нахлынувших чувств.
Ружмон, поклонник Терезы времен ее геттингенской молодости, и в самом деле устроил все лучшим образом, как его просил о том Форстер. Бумаги были в полном порядке. Целью пребывания значился сбор сведений о намерениях нейтральной Швейцарии относительно Франции. Все это походило на миссию прямо-таки дипломатическую, тем паче что здесь, под Нойенбургом, не очень-то, похоже было, считались с прусскими амбициями, и чиновники, говорившие по-французски, пока не обратили внимания на то, что мсье Agent du Conseil exécutif[16] был немец и, следовательно, имперский подданный.
Вошли наконец в гостиницу, сели в зале. Дети сразу же стали клянчить шоколад, у Клер появилось знакомое выражение в глазах, как у Терезы, — выражение затаенно-настороженного выжидания. Вероятно, она хотела выяснить, что можно позволить себе с этим человеком, который выдавал себя за ее отца, что не очень-то походило на правду. Форстер сорил деньгами, настояв на том, что меню составит он сам. Бульон. После него чудная теплая рыба, утром еще пойманная в озере, как уверяла хозяйка. В качестве мясного блюда рагу. Три вида овощей. Затем жареная дичь, салат. Клубника со взбитыми сливками. Апельсины в сахарном сиропе, вишни и другие фрукты. Потом какой-то особый крем, миндаль, орехи, печенье.
«Стол проломится», — съехидничал Губер.
«Дорогой друг, — возразил Форстер, сохранив ту форму обращения, которой придерживался в письмах, — изголодалась вся Франция, и я вместе с нею. Но я, конечно, забыл, что вы, вдали от этих событий, в любое время можете позволить себе роскошь поесть досыта».
Тон был резким, обиженным.
Губер, который давно уже болезненно воспринимал трещину в их прежней дружбе, попытался хотя бы в этот момент замазать ее, поспешив исправить неловкость, возникшую от его замечания. «Ну, что касается спаржи, милый Жорж, то нужно заметить, что в такое время года она редкость и на королевской кухне. Но знаете ли вы, как ее едят здесь по-французски?»
И он показал — обойдясь без ножа и вилки. Подцепил дымящийся стебель кончиками пальцев, протянул его через сдобренный горчицей майонез и, высоко задрав голову с широко раскрытым ртом, принял спаржу на язык.
Розочка рассмеялась. «До чего же смешно, дядя Фердинанд…» Она повторила за ним, но тут же, скривив лицо, выплюнула спаржу и заявила, что вкус у нее, как у земляного червяка.
Форстер насторожился. Откуда у нее такое сравнение? Не случайное, должно быть, надо бы расспросить. И команда Кука вынуждена была иной раз питаться моллюсками, а то и существами, что стоят гораздо ниже их в таблице Линнея. Но Тереза опередила его, побранив дочь за неумение вести себя за столом и вытерев ей подбородок салфеткой.
Благодушного Губера все это не занимало нимало, он с упоением поглощал деликатесы. Форстеру многие говорили о нем как о галантном и красивом молодом человеке — даже Каролина, даром что она терпеть не могла смазливых дамских угодников. Чему действительно можно было позавидовать, так это ослепительно белым зубам, его-то собственный оскал был, напротив, дыряв — цинга не пощадила его во время кругосветного путешествия, сильно попортив улыбку. Он наблюдал за Губером, все еще поглощавшим спаржу. Тереза заметила это. В лице Форстера она поймала выражение безжалостного приговора, которое всегда появлялось у него, когда дело шло о какой-нибудь, по его мнению, глупой, смешной или абсурдной научной сентенции или таком же поведении. Она и сама натерпелась, ловя на себе, бывало, этот испытующий взгляд, в коем — как бы это сказать? — не было ничего, кроме научного интереса к экзотическому растению. И теперь ей было досадно за Губера в роли диковинки, она толкнула его ногой под столом.
Форстер это заметил. Опять что-то укололо его. Как был бы он счастлив, будь такой жест, такой знак близости подарен и ему.
Карета везла его сквозь ночь. Париж, должно быть, уже недалеко. Хотя слева, по берегу Сены, все еще теснились тополя, окунувшие свои черные стволы в белый туман, но дорога становилась шире, накатаннее, глаже. Кони больше не ярились и бежали ровнее. Форстер видел, как блестят их крупы от пота в бледном лунном свете. Согласись он с кучером, дали бы коням еще раз передышку и сами расположились бы тогда на ночь на постоялом дворе. Но он спешил домой, и разве не изрядно отблагодарил он возницу? Форстер торопился к себе в Отель голландских патриотов, в котором жил поблизости от Пале-Рояля, где надеялся подлечить свой недуг жиром да настойками и продолжить работу над «Парижскими очерками».
Он просил Губера, как когда-то тот просил его, прогуляться по окрестным лугам, испытывая некоторое облегчение хотя бы оттого, что от их соперничества не страдают ни Тереза, ни дети.
Вышли на другой день, тайком сговорившись, ранним утром. Высокие вершины юрского массива вокруг покрылись снегом. Снег сверкал белизной над темной полосой ельника. Воздух в долине был свеж и прохладен, будто по заказу для прогулки. Правда, Губер, который был десятью годами моложе, упустил из виду, что нужно бы соответственно одеться. По жухлой, покрытой изморозью и мокрой траве он разгуливал в своих башмаках с серебряными пряжками и в замшевых чулках на шелке, которые защищали только от комаров да слепней. Но не от холода. Форстер заметил это лишь тогда, когда напарник его стал кашлять. Но тут уж они прошли половину пути, и поворачивать было поздно. Или назад в Травер, или вперед до ближайшей деревни.
«Идемте лучше вперед. Что-нибудь да найдем. Правда, в такую рань нам самим придется затопить печь, но я к этому уже привык. Выпьем чего-нибудь согревающего, кальвадоса например, если найдется. Только не вздумайте обижаться на меня».
Лучше вперед, чем обратно, где не дай бог Тереза опять будет толкать Губера ногой под столом. А здесь он с ним с глазу на глаз.
Так добрели они до Мотье, не то городка, не то деревни, благополучный вид которой поражал в такой суровой и окаменелой глуши. Трактир располагался на широкой улице, недавно застроенной крепкими крестьянскими домами. Он примыкал к кузнице, и со двора непрестанно доносились удары молота о наковальню. Миловидная женщина в явно французском наряде отворила им и, заметив несчастный вид Губера, пригласила поскорее войти и поставить ботинки сушиться к печке. Сейчас она разведет огонь, пошевелит только угли да подложит поленьев, печка еще не остыла, вчера ведь было воскресенье, мужчины сидели да бражничали тут до полуночи. Потом принесла ему, франту, какие-то бесформенные и толстые войлочные сапоги и подала им горячий грог с большим количеством коньяка.
Они были единственными посетителями. О чем только не было говорено между ними доселе, и вот настал миг обсудить то, ради чего они уединились. Форстер не знал, как начать. Но потом, тщательно следя за тем, чтобы не дать волю обиде и ревности, сумел заставить себя напомнить то, что они давно знали друг о друге. Путешествие Форстера с Гумбольдтом, когда он отсутствовал в Майнце три с половиной месяца. Губер отрицал — и это было известно, — что подло воспользовался этим. Он не станет коварно обманывать человека, коему стольким обязан. Порукой тому хотя бы его, Губера, дружба с Шиллером, чьи идеалы человеческих отношений он полностью разделяет; и отчасти даже льстит себя надеждой, что в образе благородного и самоотверженного маркиза Поза отразилась частичка и его «я».
Форстер не удержался от тихой, иронической улыбки. Ну разумеется. Во время задушевных чаепитий у них дома они когда-то много вечеров подряд читали по ролям «Дон Карлоса», и Губер всегда претендовал на роль маркиза. Не без оснований? «Спаси себя для Фландрии[17]. Быть королем — удел твой. Мой — за тебя погибнуть…» Ах, Фердинанд, оставь хоть теперь это комедиантство. Даже тогда в шиллеровском пафосе было слишком много саксонского акцента.
Да и Каролина, юная вдова Бёмера, принцесса Эболи в данном случае, разражалась эболически-дьявольским хохотом, говоря, что не в силах сдержаться, когда слышит, как корежит саксонский диалект и самые возвышенные пентаметры.
«Мне бы не хотелось огорчать вас, Жорж, разбирая с вами ваши надежды и пожелания, мнение на сей счет Терезы и мои собственные чувства. Но избежать этого, видимо, невозможно. Зачем бы в противном случае понадобилось нам это стеснительное — и для вас тоже — свидание? Мы хотим, чтобы впредь по этому вопросу царила ясность — для всех заинтересованных лиц, включая и opinion publique, общественное мнение. Вы не можете себе представить, как мы здесь живем. В Невшателе и у стен есть глаза и уши. Я вынужден пробираться по ночам к Терезе тайком…»
«Но разве вы не преуспели в этом, с тех пор, как поселились в моем доме?»
Губер смешался, и Форстер тотчас пожалел, что не совладал с собой и высказался. Но, бог мой, он ведь не святоша, особливо когда дело касается женщины, которую страстно желаешь.
«Вы знаете, как и я, что началось все лишь тогда, когда умерла маленькая Луиза. Ей едва минуло шесть месяцев. Умерла она после сомнительных экспериментов Земмеринга, проводимых с вашего благословения. Не я чувствовал себя тогда покинутым вами — но Тереза».
Форстер молчал. Оспа. Сэмюэль Томас Земмеринг[18], врач, друг его юности с тех самых пор, как тот прибыл в Кассель, в Германию, или то, что нужно под ней понимать, поставил диагноз и заявил, что если спасение и возможно, то лишь в случае применения нового средства — прививки. Последнее достижение теории, подтвержденной, казалось, бы практикой — но не в случае Луизы, Терезиной дочки. Тогда-то он еще не сомневался, что это и его дочь. С чего бы? А ведь нужно было только посчитать! Что коров взять здесь в долине, что любых птиц — известно, сколько длится созревание. Нет, Губер, это ложь. И не двойная ли? Что значит, не я, а Тереза чувствовала себя покинутой? И на это теперь есть ответ. Он дан еще восемь лет назад. Дан циником Лихтенбергом, писавшим о его, Форстеровом, браке Земмерингу: «Я желаю славному Форстеру семейного счастья, однако ж не думаю, что он обретет его. Форстер понимает любовь как и подобает ему, Тереза же — только в гренадерском смысле…»
Земмеринг потом показал ему это письмо. И если поразмыслить теперь, нужно признать, что рога он приобрел вместе с женой.
Тайной это никогда для него не было. Со всеми подробностями выболтала ему все еще Каролина сразу же после бегства Терезы из Майнца. И о Ружмоне, и о Мейере. И бог весть сколько их было, геттингенских студентов. Даже отца, почтенного профессора Гейне, такая ненасытность дочери откровенно озадачивала.
«Ложь, — сказал он вслух. — Истина же в том, что началось это значительно раньше. Я всегда видел в вас своего ученика, Губер, временами и друга. Пожалуйста, не думайте, что вы могли бы теперь поучить меня, все обстоит как раз наоборот. Не сомневайтесь, я знаю все».
«Тереза не хочет больше иметь никаких обязательств перед вами. Она чувствует себя отторгнутой вами — телесно».
У него дух захватило от такой наглости. Он представил себе любовника своей жены в неглиже, с голыми, поджарыми икрами, в шлепанцах. Походил ли он в таком виде на Адониса?
«Потому-то она и зачала со мной двоих детей?»
Каролина, когда гроза однажды загнала его к ней в дом на Нонненгассе, призналась, что находит его несносным. «Только что вы потеряли ребенка от оспы. И уже заботитесь о замене, ну куда же это годится». Ведь и она не подозревала тогда, что ни Луиза, ни Георг не были его детьми.
«И оба ребенка, Роза и Клер, мне дороги. Я хотел бы их сохранить».
«Но как, Форстер? Взять их собой в Париж? Где вам самому нечего есть, где свирепствует террор, гильотина, где всякое дьявольское отродье, вроде Робеспьера, отбивает у всех последнее сочувствие революции? Даже Шиллер, почетный гражданин республики, в ужасе отворачивается от нее, как я слышал. И вы хотите отнять у матери два таких прелестных невинных создания, чтобы отправиться с ними к волкам? Да их разорвут там, как овечек, и, кроме того — умоляю вас! — вы убьете Терезу».
Ах, Губер, Губер. Если б я мог расправиться и с тобой, как привык расправляться с князьями!
Впервые ощутил он свое бессилие — впервые стала наваливаться на него гора. Он отправился в Швейцарию в надежде победить, а вышло так, что лишился последнего своего достояния, остававшегося у него с тех пор, как он ступил на сторону революции, — лишился любимой, семьи…
Разговор после этого не клеился. Слишком по-разному они смотрели на вещи. Отправились назад — на сей раз по той дороге, которой пользовались почтари, и вскоре добрались до «Медведя». Тереза встретила их упреками. Их долгое отсутствие так разволновало ее. И что же, конец? Или начало новой робкой надежды?
Форстер, сотрясаемый кашлем, больной, чувствовал себя глубоко несчастным в своей карете. За окном ее был Шарентон-ле-Понт. Темная и грозная крепость охраняла слияние Марны и Сены. Вскоре замелькали и огоньки Парижа. Наконец-то…
Глава вторая
Могут погибнуть тысячи и сотни
тысяч семейств, но великое дело
уже не повернуть вспять.
27.11.Улица Мулен, на которой жил Форстер, помещалась в самом центре города, в массивном каре, рассеченном многочисленными улицами и переулками с четырех- и пятиэтажными домами, между бывшим якобинским монастырем, в котором располагался теперь названный по нему революционный клуб, и Королевским дворцом, носившим нынче название Дворца Равенства, Egalité, с его садом, окруженным колоннадой и многочисленными лавками. От его пристанища, одной-единственной комнаты в доме Голландских патриотов с полукруглыми окнами во двор, было всего десять минут ходьбы до Тюильри и, должно быть, минут пятнадцать — до площади Революции.
Здесь находилась гильотина, во всяком случае та самая, что стала символом своих собратьев, поелику именно на ней был приведен в исполнение приговор знаменитостям: Людовику Шестнадцатому и Марии Антуанетте, Кюстину и герцогу Орлеанскому, жирондистам и мадам Ролан.
Еще месяца не прошло с тех пор, как здесь же был обезглавлен и Люкс[19]. Известие об этом Форстер получил в Понтарлье. Оно отравило ему день, и он вдруг со всей отчетливостью понял, что ужасно одинок — один-одинешенек в целом мире. Друзья, державшие его сторону, покинули его. Немцы и так ненавидели его — все эти генералы, аристократы, бездельники, праздно болтающие ученые от Берлина до Рейна. «Они не могли понять человека[20], который в подходящее время способен также действовать, и находили меня достойным отвращения за то, что я на деле осуществляю принципы, удостоившиеся их похвалы в моих сочинениях», — писал Форстер. Отец проклял его, профессор Гейне от него отвернулся, теперь предала и семья — его Тереза, без которой он не мог жить, без которой мог только прозябать. Все разрушено, все погибло… «Теперь мне не обрести покоя, необходимого для работы. Не могу примириться с мертвящим одиночеством, хотя удручающее общество людей презираю еще больше».
Еще вчера вечером он смазал жиром фланель и обернул грудь. Спал крепко, хотя сны снились ужасные. Проснулся весь в поту. Но полегчало заметно. Ревматическая боль как будто улеглась, поутих и кашель. Первой мыслью его снова был Люкс, Адам Люкс, который прибыл вместе с ним в качестве депутата рейнско-немецкого Конвента, чтобы добиться присоединения Майнца с окрестностями к Французской республике. Он хотел точно знать все обстоятельства его казни. Может, попадется кто-нибудь из его старых знакомых, кто мог быть свидетелем, — Малишевский, Дорш, Кернер… Странно, но лишь во вторую очередь он вспомнил о том, что сегодня — день его рождения. Двадцать седьмое ноября. Итак, этим сереньким утром ему минуло тридцать девять.
В прошлом году в Майнце они еще отмечали этот день, хотя и в отнюдь не безоблачном настроении, — Тереза, занятая мыслями об отъезде в Страсбург и о том, как бы ей соединиться с Губером, Каролина, Ведекинд[21] с женой и сестрой, англичанин Бранд и, кажется, Люкс. Почему так случилось, что именно он вступился за Корде, убившую Марата, да еще отпечатал листовку, в которой назвал победителей 31 мая узурпаторами? Потому что она была обаятельна и красива с ее коротко остриженными, темно-каштановыми волосами и античным профилем, гордо взнесенным над эшафотом? Потому что он увидел в этой юной и дерзкой деве наследницу Жанны д’Арк? Люкс, хоть и склонялся к жирондистам как бывший ростовщик из Костхайма, в душе был все же романтик. Но дочиста вымести мусор старого общества и проложить новый путь возможно не иллюзиями, а железной метлой неумолимой, как закон, реальности, пусть даже эта метла именуется гильотиной.
Вот теперь жертвой стал Люкс: превратился из подметальщика в мусор. Перед трибуналом, как удалось узнать Форстеру, он держался невозмутимо, признал, что по законам заслуживает смертной кары. На эшафот легко вспрыгнул сам, словно подтверждая то, что писал: я устал жить дальше со всеми вашими пороками, с несчастьем, которое вы несете отечеству…
За окном опять шел дождь и бушевал ветер. Он оделся и после скудного завтрака — хлеба с сыром, которыми разжился у соседей, польских эмигрантов, поскольку собственных припасов не имел, — вышел на улицу. На улицу Мулен, которая через несколько шагов пересекалась с улицей Терезы — ирония судьбы, усмехавшаяся ему всякий раз, как только он выходил из дому. Холодный ветер хлестал его по лицу. Сапоги вскоре забрызгались грязью до самых отворотов, сквозь дыры проникала влага, и он поспешил найти прибежище под сводами колоннады Королевского дворца. Здесь, как всегда, царило деловое оживление. В лавках предлагали осколки монархии, огрызки старого режима — епископские тиары, позолоченные скипетры и знамена с лилиями, церковное одеяние и придворные камзолы. Голодранцы в деревянных ботинках и драных штанах глазели, раскрыв рот, на выставленные на витринах ювелирные изделия, еще более, однако, на тех щеголей и франтов, что покупали кольца и драгоценные камни для себя и кокоток. Повсюду — бюсты Франклина, Руссо, Брута, о котором, правда, никто не знал, так ли он выглядел на самом деле, и, конечно, бюсты Марата. На заваленных барахлом тележках старые и юные женщины, бывшие монахини в париках, привозили всякий хлам для продажи. Кругом сновали продавцы газет, выкрикивая их названия: «Moniteur», «Ami du peuple», «Pere Duchesue»! На вывеске одного парикмахера значилось: здесь намыливают священников, причесывают дворян, наводят марафет на третье сословие. Все стены сплошь были заклеены плакатами — большими и маленькими, белыми, желтыми, зелеными и красными, напечатанными и написанными от руки, и все они кончались словами: Vive la République! Фонтан на площади перед дворцом был завешан двумя огромными изображениями, выполненными клеевыми красками в стиле Давида[22]. На одном Кайе де Жервиль[23] предъявлял Национальному собранию герб шиффонистов, на другом пойманный в Варенне Людовик Шестнадцатый, которого насильно вернули в Париж, восседал в своей карете, чудовищных размеров старинной берлине, а по бокам ее красовались два гренадера с обнаженными штыками. Все обращались друг к другу со словами «гражданин» и «гражданка». На шляпах красовались кокарды или плюмажи трех цветов. Мужчины предпочитали жилеты голубого цвета — цвета тирании, а женщины утверждали, что красный цвет фригийских колпаков им особенно к лицу. В церкви Сан Рош отплясывали карманьолу и пели «Са ира»[24]. На ее ступенях и в ее нишах какие-то оборванцы играли в карты, картинки коих также подверглись революционным преобразованиям. Королей заменили гении, дам — богини свободы, валетов — статуи братства и равенства, а в качестве тузов фигурировали недавно принятые декреты. Буйное и величественное нутро Парижа, как представлялось Форстеру, развернулось во всю свою ширь, несмотря на нехватку хлеба, угля, мыла. На улицах уже можно было видеть людей, распиливающих на дрова свои кровати, а перед лавками пекарей и мясников стояли длинные очереди изможденных людей. Это называлось «держать веревку», потому как вдоль всего ряда был протянут канат.
Обуреваемый мрачными мыслями, Форстер ходил по городу без особой цели. Бытовые заботы тяготили его. Позарез нужны были новые сапоги. Свои теперешние он еще раз залатал и заштопал в Аррасе, когда понапрасну дожидался возможности начать переговоры с англичанами по вопросу об обмене военнопленными. Но на что купить ему новую пару? Жил он исключительно на поденные, которые платил Конвент, — восемнадцать ливров в день. Столько стоил обед или фунт мяса. Кожи на скотном дворе обходились значительно дороже — купить их можно было только по спекулятивным ценам, так как на зиму необходимо прежде всего обеспечить надежной обувью армию.
К этому добавились новые неприятности: после хождения по инстанциям будущее, казалось, рухнуло окончательно. Он, ведь твердо рассчитывал на место директора парижской Национальной библиотеки. Однако в Комитете общественной безопасности его даже не стали слушать, заявив, что готовится новый закон, по которому он как иностранец будет подлежать компетенции Комитета общественного спасения, а в этом последнем чиновник уже в прихожей сообщил, что запрошенный пост занял некто Лефевр де Виллебрюн. То был человек, которого он знал и даже — по справедливости — ценил как переводчика классических греческих авторов, однако ж своего разочарования все равно скрыть не мог.
Он глядел на мысы своих жалких сапог, размышляя о том, на что обрек бы Терезу и Губера, последуй они за ним. Шесть тысяч ливров в месяц. Куда там! Он остался при своих мизерных ста восьмидесяти в декаду.
Чиновник с сожалением пожал плечами. «Нам искренне жаль, гражданин Форстéр», — сказал он, по-французски делая ударение на последнем слоге. «И пожалуйста, не думайте, что мы не в состоянии оценить ваши заслуги. Национальная библиотека срочно нуждалась в строгом и квалифицированном руководстве. Мы надеялись на вас, крепко полагались на вашу готовность — вы же совсем пропали и так долго не давали о себе знать».
Ах, это время, это бесполезное время, которое он попусту провел в Понтарлье еще после возвращения из Валь-де-Травера! На огорчение он имел право, на обиду — нет. Виноват только он сам. Ему бы давно надо было сообразить, что развода в отсутствие Терезы нельзя добиться и по новым французским законам.
Он еще просил о возможности побеседовать лично с кем-либо из членов Комитета общественного спасения. Он хотел бы добавить к своему докладу о проделанной работе в штабе Северной армии еще кое-какие личные наблюдения и замечания и надеялся встретиться для этого с Сен-Жюстом[25], о котором знал из «Монитёра», что тот в Париже. Он назвал это имя, хотя и сомневался, что будет принят. Не до него сейчас. Республика слишком занята борьбой — и с внешними и с внутренними врагами. Восстание в Вандее все еще не было подавлено, Тулон принадлежал англичанам, положение в Эльзасе и в Австрийских Нидерландах обострялось, и военные комиссары должны были неотступно находиться при войсках.
Чиновник тем не менее сделал себе пометку, и Форстер простился.
Поскольку ветер тем временем разогнал дождевые тучи, в саду у Тюильри опять было полно народу. На опустевших газонах бородатые и беззубые старцы проводили время за игрой в бетанк — старинной французской игрой, которая, однако, до революции, и даже до 10 августа прошлого года вряд ли могла быть кому-нибудь разрешена. Они бросали подальше деревянный шар, так называемую «свинью», а потом кидали круглые величиной с кулак голыши, стараясь попасть как можно ближе к свинье, по возможности сбив по дороге камни противника. Как ни часто наблюдал за этой игрой Форстер, он все еще не усвоил ее правила. Он только слышал, что вместо камней надо бы использовать литые ядра, но правительство их конфисковало и отправило на переплавку в кузницы, изготовляющие оружие. Он заметил, что сегодня свинье были приданы черты Дантона[26]. Неистовый Эбер[27] все горячее и решительнее писал в своей «Pére Duchesue» о том, что некие люди, которых он назвал «Предусмотрительными», приняли взятку от коалиции европейских королей и князей, чтобы задушить революцию.
В это мгновение со стороны улицы Сент-Оноре докатился взрыв дикого крика. Должно быть, толпа там опять сопровождала тележку на эшафот, к цирюльнику нации, как выразился один старик, тут же бросивший игру и пустившийся вприпрыжку вслед за толпой, которая криками, свистом, проклятьями изливала свою мстительную ненависть к кому-то — на сей раз, может быть, к спекулянтам и барыгам.
На террасе перед манежем с ним заговорила женщина. Ее только что вырвало, и она прикрывала рот платочком, чтобы не дышать на собеседника. «Гильотина, — сказала она, — погубит все установления человечности. Даже дети мои — вон они стоят под тем жиденьким каштаном — подражают палачам в своих играх. Недавно гильотинировали кошку. А в одном предместье, говорят, уличные мальчишки уже казнили кого-то из своих сверстников…»
Ах, дети, дети! Только им суждено пожать плоды кровавой борьбы и насладиться последствиями этого переворота. Он-то гораздо меньше боялся за их будущее, чем эта женщина. Почему же именно бесчувственность должна стать главным результатом революции, одушевленной пафосом высокой морали? Конечно, твердости придется проявить немало, чтобы пресечь происки врагов революции. Это будет стоить жизни еще многим людям. Но разве не сами они повинны в своей судьбе? Единственное средство от рака — это нож, хотя, конечно, я рад, что не мне приходится быть хирургом. Я бы не смог — при всем том, что ясно понимаю необходимость террора.
И на этот раз тележка двигалась со стороны Консьержери. Нет, он больше не мог выносить вида несчастных жертв, даром что был сторонник их казни. В последний раз ему понадобились все силы, чтобы заставить себя присутствовать при этом. Он только что вернулся из Арраса и в мыслях своих уже был в Понтарлье — а тут казнь Марии Антуанетты. Завтра же, он слышал, очередь Барнава…
Что же, революция и на самом деле пожирала своих собственных детей, как говорили те, кто взывал к умеренности? Надо бы ему зайти в какую-нибудь пивную, хоть как-то утолить голод и чего-нибудь выпить. Не любоваться же на все катящиеся головы подряд. Генерал Кюстин[28] и Люкс… Когда-то единомышленники, они превратились потом, с течением дел, в людей, которые хотели бы повернуть колесо истории вспять. И не о предательстве ли он с глазу на глаз хотел поведать Сен-Жюсту? Но разве не превращал он тем самым и себя в орудие террора?
Форстер думал о своих письмах, названных им «Парижские очерки» и посылаемых им с некоторых пор Губеру, который должен был печатать их в Германии. Насколько важнее речь Робеспьера от 10 октября и оглашенное в Конвенте требование Сен-Жюста, согласно которому Франция должна оставаться революционной вплоть до заключения мира. Они решили держаться максимума. Определить потолок цен на продукты, на хлеб и мясо, и на кожу, вероятно, и на сапоги. От этого пострадают тунеядцы, спекулянты и выжиги, все те, кто обогащается за счет народной бедности. Равенство диктовало законы. Гора уже дискутировала вопрос о введении бесплатного и обязательного образования.
Вот это и есть истинная революция, думал он, политический великан. По сравнению с ней весь прочий мир, как он организован на сегодняшний день, выглядит карликом.
От присутствия на казни Марии Антуанетты он не пожелал уклониться, потому что считал это событием исторического значения, полностью соглашаясь с аргументами якобинцев, еще когда процесс дебатировался в клубе. Уже казнь Людовика Шестнадцатого нанесла коалиции глубочайшую рану, и она взвыла, ибо понимала, конечно: в январе на эшафот был отправлен сам монархический строй, их режим. На сей раз Пруссия и Австрия шумели еще больше, угрожая республике военным вмешательством в случае самомалейшей опасности для жизни императорской дочери из дома Габсбургов. Итак, они первыми начали торги о голове бывшей королевы. Что же еще оставалось делать революционерам, как не решиться на самый суровый приговор? Нельзя же им было выказать слабость и подчиниться давлению? Должны же они были проявить мужество и показать всему миру, что власть теперь принадлежит только им и только они вправе выносить приговор о жизни и смерти?
Речь Сен-Жюста, в которой он блестяще сформулировал все это, была неотразимой. С Марией Антуанеттой погибнет не просто одна из королев, с нею погибнут сами притязания королей на подавление свободной воли народа.
Тележка, в которую был запряжен обыкновенный извозчичий конь, покатилась обычным путем от Дворца Правосудия по мосту, мимо старых и мощных стен, каменных свидетелей монархии, мимо Лувра, Пале-Рояля и дворца Тюильри и непосредственно под стенами морского ведомства выехала на площадь Революции, где перед окрашенным в осенние тона парком стояла гильотина. Многочисленный отряд конной и пешей жандармерии экскортировал повозку на всем пути ее следования, придерживаясь строго военного порядка. Сразу же после объявления приговора, ночью, удары барабана призвали все парижские части к оружию. На рассвете все решающие точки города, площади и мосты, были заняты артиллерией. К одиннадцати часам, когда вдова Капет покинула тюрьму, собралось тридцать тысяч человек пехотинцев, конных и артиллеристов, чтобы обеспечить неприступный, сверкающий клинками, штыками и дулами коридор посреди улиц Дюрул и Сент-Оноре, по которым она должна была совершить свой последний путь.
В толпе был слышен поначалу глухой, заряженный ожиданием ропот. Но там, где толпа уже завидела повозку, он мгновенно превращался в неистовый, оглушительный, нескончаемый рев. Удовлетворенный гнев народа взмывал к небесам, как могучая стихия. Окна, балконы и даже крыши были усеяны толпами зевак. На домах реяли трехцветные знамена, надписи призывали: «Да здравствует республика! Долой тиранов!» — и толпа тысячами глоток вторила этим призывам.
Однако Мария Антуанетта, казалось, ни на что не обращала внимания, она словно оцепенела. Лишь изредка обменивалась какими-то словами со священником, сопровождавшим ее, как полагалось по закону, в партикулярном платье. Она сидела спиной к кучеру, руки, как у всех преступников, в кандалах, в длинном и свободно ниспадающем пикейном платье белого цвета, на голове, рано поседевшей для ее тридцати восьми лет и коротко остриженной надсмотрщиками Консьержери, красовался безобразный чепчик. Лицо ее одеревенело от непрерывных усилий высоко и прямо держать голову, выказывая презрение. Вокруг рта легли складки, нижняя губа была выдвинута, глаза под неподвижными и опущенными ресницами словно остекленели. Еще в последний момент, говорили кругом, она протестовала, что ей не предоставили закрытую коляску, как ее супругу.
Форстер, жадно вглядываясь в площадь, запруженную солдатами и жителями Парижа, притиснулся к самому эшафоту, к двум металлическим столбам, соединенным перекладиной, к которой был прикреплен сверкающий на неярком солнце треугольник стального ножа. Вот вдали обозначилось и движение.
Было около полудня.
Мария Антуанетта взошла на помост… Необъятный круг внезапно затих. Ни издевательских криков, ни визга. Страшный топор со свистом упал и отсек некогда венчанную голову от туловища.
Катящуюся голову Форстер со своего места не видел. Он узрел окровавленный комок, лишь когда палач его поднял, протянув жадно внимающей каждому его движению толпе.
Толпа всколыхнулась и взорвалась криками торжества. Vive la Pépublique!
«Пусть поскорее сообщат австрийцам, — услышал он разговор двух мужчин в одежде санкюлотов, которые пылко обнимались на радостях. — Римляне только и смогли, что продать поле, на котором стоял лагерь Ганнибала. Мы же отрубаем головы ближайшим родственникам королей».
И теперь еще, спустя несколько недель, ему становилось не по себе, когда он вспоминал о пережитом во время казни. Революция была неразлучна с ужасом, с террором, и сегодня, в первый день после некоторого перерыва, в Париже, он находил признаки того, что террор этот ужесточался. Но разве может он винить в том характер французов? Наряду с их ошибками и капризами, с их обидчивостью и вулканической безрассудностью он видел и их достоинства, да и разве искал он свой идеал в одной какой-нибудь нации? Нет, лишь все нации вместе составляют человечество, а французы, или лучше назвать их якобинцами, — это те, кто призван пострадать для будущего процветания всего человечества. Так, как пострадали уже, к примеру, немцы во времена Лютера и мятежных крестьянских войн, когда они шли впереди других народов, разрушали крепости и монастыри, приняли Реформацию и защитили ее своей кровью…
Форстера эта мысль поразила. Казалось, предощущение ее давно уже в нем вызревало, не находя ясной и отчетливой формулировки. А он с самой ранней юности привык больше всего на свете радоваться таким открытиям, которые базировались на логике и выдерживали любую критическую перепроверку. Обязательно надо записать. Это сравнение — Французской революции с немецкой Реформацией — доставило ему удовольствие, больше того — почти физическую, телесную радость.
До улицы Мулен было недалеко. Только бы хватило масла в светильнике или свечей. Ибо уже теснились в его голове начальные фразы текста:
Вы, бравые галлоненавистники! Горе нам, бедным республиканцам, как послушать ваши молитвы и вашу болтовню! Мы-де дорого поплатимся за то, что скинули со своего хребта короля, принцев, дворян, духовенство! Реквизированные августейшие угодья, поместья духовенства и эмигрантов — вот куски, предрекаете вы, коими мы должны подавиться! Можно ли сопоставить, однако, несчастье, которое делает сто тысяч богатых бедными, с тем счастьем, которое делает имущими двадцать четыре миллиона бедняков?
Но шутки в сторону.
В следующем письме своих «Очерков» он заставит немцев понять, что такое Франция.
Глава третья
Земля еще дрожит под нашими
ногами, почва раскалена, как
лава. Но в том, что республика
существует, уже нет сомнений.
2.12Нет, настолько одиноким, как он того опасался, Форстер мог себя не чувствовать. Правда, чистить да варить картошку он должен был сам — но к чему не привыкнешь, — зато с молодым соседом-поляком удалось договориться, чтобы тот приходил к нему перед рассветом разводить огонь в камине. Поэтому уже рано утром в комнате было тепло, и, встав, он мог сразу же сесть за стол и прилежно трудиться до самого обеда. Кроме того, его посещали визитеры — даже чаще, чем ему это было приятно, и за четыре дня после возвращения он сам получил несколько приглашений. На прошлой декаде он обедал у знакомого семейства в Версале, вчера у Гаррана де Кулона, депутата Конвента, приглашение коего он не мог не принять, поскольку тот был коллега, ученый; а сегодня он случайно или, во всяком случае, неожиданно встретил в коридоре Конвента Мерлина де Тионвилля[29], которого не видел с самого Майнца.
«Неужели — Форстер! Могу ли я верить своим глазам, профессор? Старый морской разбойник! Вы доставите мне несказанную радость, если сейчас же, немедля, в чем есть, так сказать, отправитесь ко мне в гости. Нужно о стольком поговорить! И, бога ради, то есть — разума ради, надо теперь говорить, скажите наконец, как вы, как дела ваши? Не нуждаетесь ли в помощи, в рекомендациях?» И, окинув взглядом Форстера, который молчал, он со смехом добавил: «Ну, в сапогах-то вы, во всяком случае, нуждаетесь. И я вам их раздобуду».
Неугомонный Мерлин, его красноречие било фонтаном, по крайней мере в этом ничуть не изменился. Последнее, что Форстер о нем слышал — когда уже, правда, был далеко от Майнца, — что во время осады города пруссаками, которых поддерживали не только принцы да священники, но и господин действительный тайный советник Гёте, он собрал отряд из восьмисот немецких и французских санкюлотов и совершал с ним отважные вылазки. После капитуляции, по условиям которой ему был гарантирован свободный проход в окружении храбрых сорвиголов, он, в гусарской униформе, с ниспадающей, как и теперь, копной волос и торчащими усами, пикировался с возбужденной толпой по обеим сторонам оцепления и, рассказывают, защищал при этом Форстера, советуя всем умерить свой пыл, потому что времена меняются, и они еще вернутся в город победителями.
Форстеру сообщил об этом Губер, узнавший, должно быть, от кого-нибудь в Германии, может от Шиллера, с которым он постоянно переписывался. Ибо в конце июля, когда пал Майнц, Губер уже преспокойно посиживал с Терезой в Невшателе, занимаясь по ночам маскарадом, чтобы тайком проникать к ней в дом…
Форстер сказал: «Хорошо. Я принимаю ваше приглашение, Антуан. И ловлю вас на слове: в самом деле, достаньте мне кожи…»
Мерлин, который всегда немного играл в Дантона, раскатисто рассмеялся, обнял его и горячо поцеловал в обе щеки. «Какая честь для меня! Вот — новый знак нашей дружбы, не правда ли? Мы подняли ее, так сказать, на новую ступень. Будем же впредь называть друг друга по имени, Жорж. Сердечно благодарю вас!»
После обеда, без уведомления, peu à peu[30] пришли еще Ребель с Хаусманном, оба в то время, как и Мерлин, комиссары Конвента при Рейнской армии, честняга Лекуантр, депутат из Версаля, и — что, по правде говоря, было ему не так приятно и что удивило его — жена Антона Дорша, у которого он был вице-президентом освобожденных областей между Бингеном и Ландау.
Форстер приветствовал ее весьма принужденно и сдержанно, но тут же заставил себя улыбнуться со всею галантностью, на какую было способно его еще в детстве попорченное оспою лицо, поцеловал ей руку и вообще старался не отставать, насколько возможно, от любезности французов. Но этого-то как раз делать не следовало. Потому что его массивная угловатая фигура с тяжелой круглой головой выглядела скорее смешно, как у насилу выдрессированного медведя. Элегантность ему не шла, он знал это. И надо же было встретить здесь именно Дорш! Уже одно только ее присутствие, даже если она не откроет рта, хотя этого было трудно ожидать при ее-то темпераменте, действовало на него угнетающе, сразу вызывая в памяти все его неудачи и неприятности. Ведь он в глубине души не очень-то выносил их вместе с мужем, ибо знал по опыту как людей, которые свои частные интересы ставят выше общего блага народа, выше железного закона революции, заключающегося в том, чтобы добиваться максимума не для себя, а для всего человечества. Он же, человек все-таки, при всей скромности, с большими заслугами, нежели Дорш, не мог никому и ни в чем отказать тогда в Майнце, работал с утра до ночи, навьючив на себя, как на осла, должности и обязательства, хотя сразу заметил, что такой самоотверженности, такой своего рода неподкупности больше боятся, чем уважают. И все же он и теперь не стал бы ублажать всяческих мягкотелых сладкоежек, даже если бы все кругом утверждали, думал он с горечью, что он не от мира сего. Париж, каждый день, проведенный в нем, только укреплял его в своей правоте. Он даже вынашивал мысль о необходимости ограничить себя еще больше. Чтобы сохранить моральную независимость и в то же время не разориться окончательно экономически, придется отказаться от многих потребностей.
Но разве все эти мысли пришли ему в голову только при появлении Дорш?
Позвали к столу. Мерлин роскошно сервировал его и удостоился комплиментов. Несмотря на трудное время, стол так и ломился от всевозможных fruits de la mer, даров моря, — устриц и крабов, ракушек и улиток, спешно, чтобы не испортились по дороге, доставленных на перекладных из Нормандии. Затем были предложены различные сорта сыра и ко всему легкое красное вино из Шампани.
Ребель пожелал узнать, что думает Форстер, человек, объехавший весь земной шар, о непрерывно нарастающей волне террора.
Хаусманн, в сопровождении которого он прибыл в конце марта в Париж, чтобы присоединить Майнц к Французской республике, спросил, решился бы он теперь на такой шаг.
Дорш — и слава богу, подумал он сначала — перевела разговор на Швейцарию, поделившись своими впечатлениями от красот тамошней природы, коими она смогла насладиться во время пребывания там в юном возрасте.
«Но, мадам, — вставил Ребель, — ведь это было так недавно. К тому же я сомневаюсь, чтобы старые и покрытые снегом горы могли быть столь же красивы, сколь нежные холмы и долины женского тела».
Она лишь ненадолго дала себя прервать и продолжала: «Теперь, как вы знаете, в сих божественных местах пребывает мой муж, дабы по указу Робеспьера передать соседям дружеские заверения Конвента. Да, но что же я… Разве вы не только что оттуда, милый Форстер? Вы ведь видели Терезу?»
Уж лучше бы она помолчала, подумал он.
«Каково ей там? Она по крайней мере передавала приветы?»
«Нет… То есть, пожалуй, да. Не знаю. Мы, видите ли, обсуждали наш развод».
Он опять искал слова, в которых мог бы описать свои чувства. Но понимал, что это ему не удается. Голос его дрожал. Он уже проклинал себя и болтушку Дорш.
Вмешался Мерлин, думая, вероятно, выручить его из затруднения своим прославленным наскоком: «К сожалению, я так и не познакомился с вашей женой, Жорж. Когда я приехал — в новогоднюю ночь, — вы уже отправили ее в Страсбург…»
Довольно, надо защищаться. «Все обстоит не так, Антуан. Это одна из гнусных сплетен, которые обо мне распустили. Вот видите, поговаривали злые языки, даже Форстер прячет свою жену подальше от французов. Я, конечно, не мог требовать от нее жертвы жить и, может быть, умереть со мной, но уехала Тереза против моей воли. Так решила она сама».
Да, об этом политическом пункте он сказал со всей ясностью и без колебаний, устранив тем самым, казалось, и всю щекотливость разговора. Однако ж ненадолго. На сей раз начал свои подковырки Ребель — так же, подумалось Форстеру, как выковыривает он вилкой содержимое ракушки.
Зашел спор о Руссо, о всех «за и против» тех весьма беспечных отношений между полами, которые царят у диких народов, и в конце концов согласились на отрицании так называемой морали христианской цивилизации.
«Вот видите, мсье профессор, — сказал Ребель, с наслаждением смакуя своими толстыми губами ухваченный вилкой белый кусочек, — ничто так не возбуждает интерес настоящего мужчины, как разговор о женщинах. О вашей жене мне всегда говорили как о необыкновенно образованной и остроумной даме. Известно, что вы безумно любили ее. И что же? Не терзайте долее мое любопытство. Что побудило вас расстаться с ней, коли не было недостатка в том Нечто, которое мы тут хвалили у обитательниц Южных морей?»
Возможно, сказывалось действие вина. Госпожа Дорш, сидевшая рядом с Ребелем, нагнулась к нему и прошептала что-то на ухо, потом захихикала и сказала вслух: «А произошло все, гражданин председатель трибунала, самым естественным образом — и виной тому маленькая да славненькая вдова Бёмер…» Форстер внезапно ощутил пресный привкус во рту. Ему нужен был свежий воздух. Он встал из-за стола, вышел в соседнюю комнату, открыл окно и глубоко вздохнул. И вдруг — какой фантастический вид открылся перед ним! Над крышами, позолоченными косыми лучами заходящего солнца, поднимались купола Нотр-Дама и, насколько хватало глаз, тянулись улицы и набережные, ярко освещенные, хотя вечер только-только начинался. Пирамиды и гирлянды из бесчисленных лампочек прорезали темные купы оголенных платанов и каштанов и отражались в водной глади Сены. Народ, собравшийся на обоих берегах реки, пел и танцевал при свете огней. Форстера подивило, что у Мерлина де Тионвилля была такая, явно для привилегированных, квартира. В этом он намного превосходил и самого Робеспьера, первого человека республики, жившего в нескольких улицах отсюда, на Сент-Оноре № 400, у столяра Дюпле.
Каролина?
Она переехала к нему. Тереза предоставила своей подруге детских лет угол в их доме, и даже спальню, это было еще до ее отъезда, потом, в декабре, она написала Каролине письмо, которое, разумеется, знал и Форстер: «Люби и заботься о Ф. и не думай, что до весны положение изменится. А до того времени можно позволить себе много приятного…»
Каролина любила его давно уже, и он знал об этом. Но тут ему были предъявлены доказательства, на какие только способен человек. Она будто изголодалась. А началось все еще в 1779 году, в сочельник. С первой же встречи, сказала она. Ей только что минуло пятнадцать. Форстер приехал из Касселя — молодой человек, проживающий в Англии, которого много печатают и много читают, прославившийся уже и в Германии своей книгой «A Voyage Round the World»[31]. Это он совершил кругосветное путешествие под парусами, и всяк желал поглазеть и поудивляться на него, — молодой парень с отважным, хотя несколько и подпорченным оспой лицом, побывавший на всех морях и континентах. Он запросто входил в салоны князей и вел себя непринужденнее и горделивее, чем кто бы то ни было в его возрасте. От него словно исходило некое стоцветное романтическое сияние, некий флер непререкаемости Антарктики. И вот, впервые придя в гости к ее отцу, ориенталисту Михаэлису, он подарил девочке пеструю ткань, привезенную с Гаити.
Вошел Лекуантр, спугнув его мысли. «Пожалуйста, гражданин Форстер, окажите нам честь…»
Форстер вернулся — и сразу же раскаялся.
Ибо едва он сел за стол, как Дорш вновь приступила к нему: «И что же, вы ничего не слышали о том, что сразу после падения Майнца, жены Ведекинда и Форкеля, а также Каролина были взяты под стражу и заточены в крепость Кёнигштейн, где находились в пресквернейших условиях?»
«Что вы все пытаетесь меня уязвить, мадам. Ведь я вовсе не осел, за которого вы меня принимали в Майнце». Он сказал это быстро и по-немецки, чтобы французы ничего не поняли, особливо Ребель, прилежно обхаживающий располневшую, но все еще видную даму.
Она замолкла с обиженным видом, а он подумал: мы-то здесь все прекрасно знаем, насколько разных мнений вы придерживались тогда.
Однажды взбунтовались крестьяне близ Грюнштадта. Взбунтовались, отказываясь платить новые контрибуции, наложенные Кюстином — ему был необходим фураж для армии, — они были так же тяжелы им, как отмененные после французской оккупации подати и десятины. Дорш явился от генерала и на заседании административного совета объявил о его намерениях, одобренных тремя комиссарами Конвента, а именно Мерлином, Ребелем и Хаусманном. В Грюнштадт направлялся отряд французской национальной гвардии в сопровождении нескольких членов административного совета, включая Форстера как наиболее известного и популярного среди них. Эта миссия должна была или ублажить крестьян, или в случае необходимости разогнать их по домам силой оружия. Форстер начал немедленно протестовать, и поддержал его только Феликс Блау, бывший при курфюрсте профессором теологии и наделенный большим ораторским даром. Они вдвоем предлагали совсем другое, тем более что знали, кто подзуживал крестьян: а именно графы Лейнинген-Вестербург, оставшиеся в своем замке. Форстер и Блау требовали восстановления майнцской гражданской милиции, чтобы послать один из ее контингентов в Грюнштадт — не для боевых действий, а для переговоров — и воздействовать на крестьян политическими аргументами, исходящими от немцев же, а не устрашением, исходящим от французов, тогда удалось бы превратить бунт в противоположность — в манифестацию симпатии к новой и свободной государственной власти.
Своим решением Мерлин склонил чашу весов в пользу плана, предложенного Форстером.
Холодным, потрескивающим от мороза февральским днем они поскакали в Грюнштадт с отрядом милиции и лишь несколькими национальными гвардейцами.
Но уже в воротах города их встретили крестьяне. Мирным предложениям они не поверили, опасаясь репрессий. Дошло до столкновений, раздались и выстрелы. У французов были ранены лейтенант и солдат. Тем временем в замке, целы и невредимы, отсиживались оба графа, зачинщики беспорядков.
Форстер отдал приказ построить баррикаду и послал за подкреплением. Тяжело пришлось бы ему, если бы правы оказались Кюстин, Хаусманн, Ребель и Дорш, а не он. Тогда он решился: вместе с Блау и десятью добровольцами ворвался в замок. Несколько дверей и окон были выбиты, и атака закончилась только в княжеском будуаре. Там они слезли с седел, предоставив лошадям топтать балдахины и занавески.
Граф Готхольд, хоть и обнажил клинок, но заметно дрожал, когда они ворвались к нему — гневный и на все готовый Блау, маленький чернявый капитан Ленен и Форстер.
Форстер сказал: «Именем закона вы арестованы, гражданин Лейнинген».
«Еще чего… — прозвучало в ответ. — Ваши законы — это не мои законы».
«Вот именно, — саркастически возразил Форстер, — как и ваши законы не были нашими. В этом и состоит смысл переворота».
Он отослал графа и его брата, которого только после долгих розысков удалось найти в шкафу, где он спрятался, в крепость Ландау. Насилия Форстер не хотел допустить. Но с этой секунды он знал: мы должны сломить любое сопротивление делу освобождения народа. Крестьяне, кстати, в разговорах по душам быстро утрачивали свою строптивость. В Майнц вернулись с обозом в двадцать четыре повозки, до отказа груженных фуражом. Основательно потрясли перво-наперво графские запасы, остальное добровольно сдали крестьяне окрестных деревень, Шестьдесят человек насчитывал их отряд поначалу. Сто десять человек присоединилось к ним по дороге, и все пели «Са ира». Аристократов на фонарь!
«Разве то не было успехом?» — спрашивал теперь Форстер. «Вопреки Кюстину и — простите, милостивая государыня, — вопреки Доршу?»
Мерлин де Тионвилль согласно кивнул. Ребель возразил: «Ну, время еще покажет».
Форстер не знал, что тот имел в виду.
Феликс Блау, единственный, с кем он был полностью согласен тогда в совете, после взятия Майнца пруссаками был схвачен и подвергнут истязаниям. От их последствий, говорили, он теперь и чахнул. Каролина? Со своей восьмилетней дочкой Аугустой, которую Форстер любил как отец и, если быть честным, переносил на нее отцовские чувства к Розочке и Клер, она была заточена в Кёнигштейн. Бывший курфюрст и епископ хотели использовать их в качестве заложников, чтобы заполучить Форстера, хотя Каролина категорически отрицала, что имеет к нему какое-либо отношение. И об этом ему стало известно. Ведь даже в «Монитёре» писали: «qu'on a menée à la forsteresse de Königstein la veuve Böhmer, amie du Citoyen Forster»[32].
Неужели Дорш так мало верила в его благородство? Он, конечно, был полон решимости отдаться в руки врагов, чтобы вызволить Каролину. Но она через третье лицо, через геттингенца Мейера, дала знать, что этот безрассудный шаг никому не поможет. А потом вмешались другие люди, молодой студент по имени Шлегель, Александр фон Гумбольдт, его бывший спутник и друг, и, наконец, ее брат, которые добились ее освобождения…
«Гражданин профессор, — услышал он вдруг, — отложите на некоторое время свои размышления. Вот дети желают поиграть с вами в жмурки». Перед ним стояла молодая красивая француженка, вся в цветах республики — в белом батистовом платье классического покроя, перехваченном под грудью широким красным поясом, и в длинной синей накидке без рукавов. Он не мог понять, как она очутилась перед ним, но, верно, она пришла с двумя другими женщинами, актерками одного из увеселительных театров, как было объявлено. Круг был уже образован. Красавица улыбнулась ему и вытянула его на середину. Мерлин сказал, что с тех пор, как он познакомился с этой игрой в Германии и без ума от нее, лучшего средства отдохнуть от государственных забот и быть не может.
Форстер очень старался, чтобы не водить бесконечно. А роль была не такой уж легкой, и тычков досталось ему немало, особенно увесистых — от мужчин. В виде фантов ему пришлось последовательно выставить сюртук, галстук, обручальное кольцо, а когда все разыгрались до того, что потребовали в залог и рубашку, он предпочел пожертвовать своими худыми сапогами и стал разгуливать в одних носках.
Общество хохотало до слез над его неуклюжестью, а Люсиль, девушка, предназначенная для него на сегодняшний вечер, как он догадывался, все повизгивала от удовольствия и кричала: Il est ours allemande. Он — немецкий медведь.
Но придется их разочаровать. Не может он отложить свои размышления на более позднее время. Надо возвращаться одному в холодную комнату. Ах, Тереза… Я добьюсь твоего прощения, потому что сердце мое переполнено нежностью, потому что один только взгляд, пожатье руки, поцелуй, объятье скажут все лучше меня. Коли я только и живу, пока надеюсь сохранить тебя, то я выдержу все, любые испытания, беспрекословно… Побереги себя, милая моя! Когда дует такой свирепый северный ветер, убивающий всякое цветенье, я по сто раз на день вспоминаю о тебе и в мыслях пекусь о твоем здоровье… Ах, если б я мог превратиться в теплое платье, которое согревало бы тебя…
Так, или примерно так, писал он ей из Люттиха и Лондона, из Амстердама и Гаарлема, из городов доброй половины Западной Европы. В каждом письме своих «Очерков», собиравших по кирпичику здание будущей книги, были такие строки. Он и теперь изнемогал от тоски по ней, как и три года назад, во время путешествия, когда его охватывало неукротимое и мучительное желание бросить все и вернуться к ней. Никто прежде не вызывал в нем таких чувств. Чем сделала меня ты, о том ведаю я один, и для этого нет слов… Твоя любовь была для меня условием самой жизни. Она обнимала и захватывала всего меня целиком, она была благостыней и утолением жажды. Мы были одним человеком…
Да, и это верно: мы были… Отчаяние тут же навалилось на него. Ведь чистым и безмятежным никогда не было их прощание, что бы он ни писал о нем. Всегда это было бегством, и всегда казалось, что она бросает его навсегда.
А когда возвращался… Несколько бурных ночей. Но разве он не замечал, что Тереза тайком плачет, лежа рядом с ним? Не замечал, что она более сдержанна с ним? Потом неделями ничего. Кухарка Марианна и та однажды сказала ему: «Поверьте старухе, господин профессор: не след надолго оставлять такую молодую жену…» Когда он с изумлением посмотрел на нее, она покраснела и поспешила добавить испуганным голосом: «И детей, конечно, тоже не надо оставлять, вы ведь и сами понимаете…» Глаза открыл ему Земмеринг. Много позже, однако, да, много позже.
Фанты надо было погашать, и ему выпало самое скверное: поцеловать Дорш. После этого он засобирался домой, в последнюю очередь натянув и сапоги.
«Минуточку! — крикнул Мерлин. — Минуточку, дорогой друг. Я надеялся, что в одних носках вы не пойдете по Парижу. Надеялся, что вы еще останетесь, и Люсиль вас утешит. Ну, а если уж вам так необходимо вернуться в свою берлогу — то что же делать, Жорж. Но я вам кое-что обещал. Прошу вас. Примеряйте все, что найдете в этом шкафу».
С этими словами он открыл в коридоре потайную дверь, сделанную в стене и заклеенную такими же обоями. За дверью обнаружился альков, в котором были всевозможные ткани, туфли и изрядное количество сапог.
«Нет, благодарю, — сказал Форстер. — Похоже, я слишком устал. Кроме того, я просил вас только о коже».
Глава четвертая
Я вовсе не склонен втягивать вас
в этот водоворот, но у меня нет
и малейших колебаний в том,
чтобы советовать вам решиться
на что-либо, ежели вы только
чувствуете в себе присутствие воли.
11.12«Легенда, — сказал Сен-Жюст, — все это легенда. Я не тот, каким хотят меня видеть и каким изображают за границей. Я не происхожу из аристократов и не сидел в Бастилии, за то что якобы освистал в опере королеву. Мы не желаем незаслуженных лавров, но предпочитаем истину и справедливость. Только они могут оградить революцию от всякой грязи. Истина же в том, что я один из первых противников монархии. До тех пор пока существуют короли, я буду призывать: сделайте их тем, чем они сделали вас, — низшим классом общества. Установите республику, чтобы судить их. Я изучал право и даже писал стихи — слабость, которую вам, гражданин Форстер, писателю, европейской знаменитости, легко извинить. Моя родина — человечество, место рождения — Франция. Вырос я в Пикардии, в Эсне меня выбрали в Конвент. Я, таким образом, посланец Севера, и меня тем более интересует, как обстоят там дела у нашей армии. Крепка ли она, хорошо ли воюет. Как Неподкупный из Арраса, так и я никогда не прощу себе ни одной пяди земли, которая достанется врагу без самого отчаянного санкюлотского сопротивления».
Вчера вечером Форстер обнаружил у себя на улице Мулен извещение о том, что его ждут в Комитете общественного спасения, и вот он уже более часа сидит в этой комнате, в павильоне Флоры, обставленной весьма скупо, хотя и со следами былого предназначения — ведь, начиная с Генриха Четвертого, она всегда служила увеселениям королей. По диагонали располагались в ней два стола, один, прямоугольный, предназначался для работы и был завален брошюрами, газетами и прочими бумагами, другой, маленький, круглый, обставлен стульями явно из дворцового инвентаря — с вышитыми золотыми розочками на обивке. Такие же цветастые шелковые обои на стенах были, по крайней мере наполовину, прикрыты откровенно деловыми и трезвыми шкафами с папками дел. Две мраморные стелы по углам комнаты с бюстами Марата и Лепелетье, обоих мучеников революции[33], завершали обстановку. И опять ему само собой пришло в голову, что даже здесь, в помещении высшего правительственного органа республики, царила гораздо большая простота, чем в квартире его друга Мерлина, которую он видел неделю назад.
И Сен-Жюст, казалось ему, выглядел здесь совсем по-иному. Он впервые встречался с ним с глазу на глаз. И в Конвенте, и в Якобинском клубе видеть его приходилось только издали, и все впечатление исчерпывалось несравненным стилем его речей. Теперь, после того как он узнал, что Сен-Жюст писал стихи, это отчасти объяснилось. Не хвалите меня сверх меры, словно бы хотел он сказать, ведь вы как один из самых политических писателей нашего времени умеете распоряжаться словами не хуже меня… Поражало и то, что Сен-Жюсту, этому наряду с хромоножкой Кутоном самому влиятельному человеку республики после Робеспьера, было всего-навсего двадцать шесть лет. Внешне он походил скорее на студента, чем на сенатора. Длинные черные волосы до самых плеч. Тщательно, со вкусом подобранная одежда, подчеркивавшая стройность фигуры и неукротимость жившей в ней силы. С другой стороны — почти девичья мягкость черт узкого лица. Он был, конечно, красив со своей смуглой, оливковой кожей, настоящий француз, как на картинке. Голос его, даже когда произносил он достаточно жесткие вещи и тоном самым безапелляционным, звучал вкрадчиво, а неумолимость его логики указывала на выучку у Монтескьё. Во всяком случае, недооценить его было невозможно. Этот юноша — нет, мужчина — был острым как кинжал.
«Слушаю вас, гражданин Форстер. Вы просили об этой беседе. Кстати, еще одна ложь, распространяемая обо мне: я вовсе не брал на себя миссию передать смертный приговор Марии Антуанетте. Я выступал за ее казнь и приводил обоснования необходимости этой казни. Этого мне было достаточно. Короли, согласно нашей морали, всего лишь обыкновенные преступники, вина которых состоит в том, что они притесняют людей, целые народы. Зачем же мне было искать встречи с этой австрийкой, иностранкой, узурпировавшей власть в нашей стране? История просто перешагнула через нее, а что до меня, то я никогда не считал себя умнее истории, задачи которой мы только берем на себя и по мере возможности их выполняем».
Но разве не призваны отдельные люди, а тем более народы влиять на ход истории, изменяя пагубные, несправедливые общественные отношения? Разве не доказали это в нашем веке французы? Эти мысли промелькнули в голове Форстера, и опять он подумал, что они заслуживают оглашения, что над ними стоит поработать. Пока же они еще не созрели.
Он пришел, чтобы доложить о своей миссии в Аррасе. Сен-Жюст, хоть и немедленно прервал работу, когда ему доложили о его приходе, принял его, скорее, прохладно, сдержанно, почти недоверчиво, как показалось Форстеру. Лишь после самого короткого и формального приветствия он указал ему на один из стульев со старорежимными розочками. Не здесь ли сидела во время оно сама королева, обсуждая с придворными дамами аферу с подвязками? Сен-Жюст поначалу соблюл дистанцию даже буквально. Он оперся руками о край стола, став спиной к свету, скупо брезжившему сквозь высокие полукруглые окна, и выслушал доклад стоя. Лишь когда речь пошла о Хондшуте, где в результате трехдневной битвы англичане и ганноверцы под водительством герцога Йорка были сброшены в море, что явилось изрядной расплатой за Дюнкерк, Сен-Жюст оживился, взволнованно прошелся несколько раз по комнате и, наконец, приставил стул к стулу Форстера.
Речь была о маленьком, щуплом, но необыкновенно хватком комиссаре Конвента Левассёре, акушере в прежние времена. Уже при прибытии в штаб Северной армии его плотным кольцом окружили взбешенные офицеры, не скрывавшие своей ярости по поводу казни прежнего главнокомандующего, генерала Кюстина. Fais ton devoir! Выполняй свой долг! Других наказов не получал ни один комиссар Конвента, которого посылали на фронт. Оба они, Сен-Жюст и Форстер, прекрасно знали об этом. Победа или смерть. Левассёр этого и держался. Он немедля подавил бунт, и сделал это недрогнувшей рукой. Несколько офицеров было расстреляно на месте. Предстояло поднять моральный дух войск, и он добился этого с энергией поистине поразительной. На солдатах была рваная форма, на ногах обувка из дерева или лыка, а то и вовсе из сена. Он велел прочесать в городах буржуа и реквизировать всю кожаную обувь. Женщинам приказал залатать солдатские мундиры и брюки, а также пошить новые, кузнецам — привести в порядок оружие, крестьянам — немедля снабдить армию провизией, детям — отыскивать в развалинах домов селитру, без которой невозможен и порох. Тот же самый Левассёр вечером второго дня битвы при Хондшуте заявил во всеуслышание, что битва еще не проиграна, следовательно, ее надо выиграть любыми средствами. И сам бросился на врага с развевающимися трехцветными лентами на шляпе. Лошадь под ним была убита. Оказавшись по пояс в воде, он сражался шпагой. Его пример подействовал на солдат. Allons, enfants de la patrie![34] — прогремело над озером. Его королевскому высочеству, герцогу Йорку ничего не оставалось, как бежать, да еще следить за тем, чтобы не утонуть при этом. Из всей осады Дюнкерка не вышло для него ничего путного, потерял только свою знаменитую полевую артиллерию, о непобедимости которой он столько шумел… То была первая блистательная победа революционной армии после Вальми и Жемапа[35].
«В вашей речи был огонь, гражданин Форстéр, — сказал Сен-Жюст. — Но вы были все это время далеко от Парижа, и я не знаю, известно ли вам, что и преемник Кюстина, генерал Хушар, приговорен трибуналом к смерти?»
«Да. В то время как решался исход битвы при Хондшуте, он прятался в надежном убежище».
«Но не сплетни ли это? Вы это видели?»
Сен-Жюст, хотя и отказался от подчеркнуто дистанцированного тона, который принял поначалу, все еще оставался по-деловому серьезным. Время от времени он вперял в Форстера испытующий взгляд, как теперь, чего Форстер никак не мог понять. В качестве комиссара он выполнял особое задание Конвента и — fais ton devoir — не мог упрекнуть себя ни в чем, что касалось выполнения служебного долга.
Он сказал: «У меня есть надежные свидетели — солдаты, которые до этого эпизода отдавали свои симпатии Хушару, а не Левассёру».
«А вы сами? Ведь вы — не сражались?»
«Вы знаете не хуже моего, что как иностранцу мне не разрешено носить оружие. Кроме того, задание мое состояло в том, чтобы вести переговоры с англичанами, а не стрелять по ним. К сожалению, несмотря на все мои старания, они не пожелали со мной разговаривать. Тем самым оказалось, что я провел в Аррасе несколько недель совершенно напрасно. Но, по правде говоря, у меня не возникло впечатления, чтобы штаб Северной армии проявил интерес к моей миссии или как-то способствовал ей».
«Могу ли я спросить в связи с этим, не полагаете ли также и вы, что в определенных офицерских кругах у нас существует изрядная нерадивость, если вовсе не предательство?»
«Чтобы сообщить вам об этих опасениях, я и пришел сюда».
«Лафайет, Дюмурье…[36] Если вдуматься, то все это бывшие аристократы и роялисты, нарушившие присягу и нанесшие в конце концов Франции удар в спину. Революция должна искать своих полководцев среди народа. Вместо Хушара мы теперь поставили некоего сержанта Журдана, отличившегося недюжинной храбростью. Он немедля отблагодарил нас, побив австрийцев и освободив Мобеж. Вы правы. Нам нужны такие люди, как он и Левассёр. Ибо в ситуации, когда речь идет о жизни и смерти, непригодность генералов весит вдвойне, ведь с ними теснейшим образом связано благо или горе республики. А посему любое предательство должно караться самым суровым образом, не так ли? Раз ты генерал, то победи или умри. О заслугах же поговорим после войны».
«Я долго думал об этом. Я также не вижу иного пути».
«Стало быть, и приговор Кюстину справедлив?»
«Почему вы спрашиваете меня об этом?»
«Ну все-таки вы хорошо его знали. Рейнская республика пользовалась его военным покровительством».
Так вот оно что! Наконец-то объяснилась настороженность, которую Форстер чувствовал по отношению к себе. Стало быть, Кюстин. Но ведь он не раз схватывался с ним еще в Майнце и не подчинялся его приказам. Генерал слишком долго не разрешал провести выборы в национальный конвент и тем самым вызвал недовольство народа. Во время своих походов он прибегал к поборам, которые по видимости касались только богатых да зажиточных, но в стране с феодальными пережитками ложились бременем на трудящиеся массы. Франкфурт тогда, как и Майнц, просил защиты у мощного французского оружия. Однако ж Кюстин сумел сделать непопулярным у тамошних жителей не только свое имя, но и республиканскую конституцию тем, что запросил с города контрибуцию в полтора миллиона франков — под тем предлогом, что в городе якобы курсируют сплошь фальшивые ассигнации. И он, Форстер, поверил сначала в справедливость этих требований, пока не понял, что граф Кюстин просто хочет компенсировать потерю замков и поместий во время революции. В своем темном и сумбурном манифесте к гессенским солдатам генерал призывал их выступить скорее против санкюлотизма, чем против собственных тиранов и мучителей. Виноват он и в том, что не перешел вовремя Рейн близ Сан-Гоара, чтобы расколоть войска союзников и захватить крепости Рейнфельс, Эренбрейтштейн и Ханау в тот момент, когда в них не было и на понюшку пороха. Не в последнюю очередь из-за его тактических ошибок — если дело было только в них — пал и Майнц, и какой же был его жителям толк лишь омочить себе губы у источника свободы, но так и не утолить жажду?
Сен-Жюст согласно кивнул и с юношеской непосредственностью, которая, как отметил про себя Форстер, отвечала его натуре гораздо больше, протянул ему руку. «Простите меня. Вы меня убедили, и я хочу быть честен с вами. Несмотря на чрезвычайные заслуги ваши перед человечеством, несмотря на кругосветное путешествие под началом Кука и книгу, а также различные ваши статьи, которые я ценю, и даже несмотря на мужественное выступление ваше перед Конвентом — я еще не был уверен, можно ли вам доверять».
«В Германии я объявлен вне закона…» — возразил Форстер с горечью.
Он пожал в ответ руку Сен-Жюста, и тот впервые улыбнулся.
«Пожалуйста, верьте мне. И это могло быть ловушкой, чтобы усыпить нашу бдительность. Враг не брезгует средствами. Заговор зарубежных стран против нас носит тотальный характер. Золото Питта подкупает фальшивых патриотов, роялистских шпионов и оплачивает эмиссаров чужеземных дворов. Вспомните хотя бы о вашем соотечественнике Люксе. Нам не остается ничего другого, как железной рукой управлять там, где не действует справедливость. Нам известно, что среди иностранцев, которые покамест приветствуют падение абсолютизма, в настоящее время гораздо больше поклонников жирондистов, чем истинных друзей санкюлотизма со всеми его политическими и социальными последствиями. Они хотели бы затормозить развитие революции, хотя бы теперь, раз это не удалось им раньше. Слабость по отношению к изменникам — вот, что может нас погубить, как крикнул им недавно Робеспьер в Конвенте. В том, чтобы воспрепятствовать этому, и состоит смысл октябрьских декретов. Наши законы революционны, но те, кто призван их выполнять, не являются таковыми. Республика лишь тогда обретет твердые основания, когда воля суверенной народной власти подавит монархическое меньшинство и будет править по закону победителей. Невозможно привести в действие революционные законы, если само правительство не придерживается революционных основ. Те же, кто осуществляет революцию не до конца, лишь роют себе могилу».
При этих словах Форстера охватило странное волнение. Никогда еще позиция якобинцев не была изложена ему с такой ясностью, и никогда прежде он не готов был полностью разделять ее. Что-то небывалое, неизвестное истории было во всем этом. И опять зрелость и последовательность мысли подкупили его в Сен-Жюсте. Кроме того, он чувствовал, что они стали ближе друг другу. Ибо, хотя их разговор касался дел государственных, он давно уже вышел за рамки официальности. Он мог позволить себе задавать этому грозному члену Comité du salut public[37] вопросы и более интимного характера. Откуда взял он свои принципы, кто был его духовным отцом? За великими мыслями скрываются и великие люди, а тут перед ним сидел — он был уверен в этом — человек великий, и не было ничего на свете занимательнее, чем заглянуть в душу такого человека.
Сен-Жюст ответил ему на это откровенностью, которая опять-таки его поразила. «Легенды, все это легенды… Я не тот, каким меня хотят видеть и каким изображают за границей…»
Форстер вовсе не рассчитывал, что и ему отплатят тою же монетой. А Сен-Жюст, по-видимому достаточно о нем информированный, спросил о его личных делах.
«Не удивляйтесь, — сказал он, — но прежде чем удовлетворить вашу просьбу и встретиться с вами, я посчитал, разумеется, своим долгом составить себе некое представление о вашей жизни, начиная со времени прибытия в Париж. Я слышал, вы ездили в Швейцарию, чтобы увидеться с семьей, в Германии же за вашей головой охотятся».
Напоминание о Травере, об отчаянной попытке его сохранить детей, любви которых ему так недоставало в эмиграции, о попытке договориться в конце концов с Терезой — все это подействовало на него угнетающе. Он молчал, задолжал ответ, ибо вопрос оказался для него и в самом деле слишком неожиданным, и он откровенно растерялся, чувствуя себя как на пепелище.
Сен-Жюст, кажется, догадался обо всем. Он смущенно откашлялся и стал подыскивать слова сожаления. Однако прежде чем он их нашел, открылась дверь, вошел секретарь и протянул какую-то бумагу, сказав, что его ждет Робеспьер.
Форстер встал, решив, что пора прощаться. У Комитета общественного спасения дел хватало.
Однако Сен-Жюст, пробежав текст глазами, положил ему руку на плечо. «Нет, нет… пожалуйста, подождите меня. Я скоро вернусь. Мне доставило бы большое удовольствие заполнить приятной беседой с вами паузу посреди ежедневных забот и хлопот».
Форстер остался один. Подошел к окну, затянутому длинным линялым тюлем, подобранным по бокам. Отсюда хорошо было видно Сену, Понт Насьональ и набережную Орсей на другом берегу реки. Где-то слева был Сен-Жермен-де-Пре, но он не мог уже различить церковь, разве что догадывался — вон там, должно быть, ее башня. Поднявшийся туман окутал Париж молочным покрывалом. Не дай бог, еще сгустится, подумал Форстер. К туману он был особенно чувствителен, а по легкомыслию своему не стал надевать верхнее платье ради нескольких шагов от дома до павильона Флоры.
Воспоминания по-прежнему больно ранили его. Всего труднее было, когда они являлись внезапно, как молния. По ночам он привык лежать без сна и размышлять, а когда работал над рукописями и не давалось нужное слово и вместо него подплывал какой-то паром, который переносил его назад, в прошлое, — ко всему этому он привык и переносил все это спокойно. Ничего неожиданного тут не было. Он привык уже к наплывам мыслей, и воспоминания о прошлом в такие минуты даже помогали ему ковать планы на будущее. А теперь? В самый разгар аудиенции, в которой речь шла о намерениях революционного правительства? Он вдруг испугался, что мысли и мечты его питаются одними иллюзиями. Но он был не тот человек, что живет иллюзиями.
Тереза. Гостиница «Медведь»… Однажды, на другое утро после возвращения их с Губером из Мотье, ему показалось, что она поровну делит между ними если не любовь, то свою заботу. Он хорошо ее знал. Ведь их брак длился восемь лет, и хотя последний год после бегства Терезы в Страсбург не в счет, зато вдвойне можно посчитать счастливые годы в Вильне, когда они еще были совсем одни. Она не из тех женщин, что быстро принимают решения. И ее воспитание, и особенно натура предполагали скорее, что она будет стремиться сохранить все как есть, не отказывая себе, разумеется, в некоторых отступлениях.
Сколько раз он ей говорил: так не годится. Корабль не может одновременно плыть к собственному причалу и в открытое море. Когда-то нужно решиться бросить якорь или поднять паруса.
В Травере настоящей пыткой были ночи, койка его превратилась в лобное место. Ружмон заказал для них четыре комнаты, две — для Терезы и детей на втором этаже, и по одной — для него и Губера на первом. И вот стоило завыть ветру за окном, заскрипеть половице, как он вскакивал в страхе. Он доходил до безумия, представляя себе, как Губер только и дожидается, пока он заснет, чтобы испытанным еще в Невшателе способом проникнуть к Терезе. Ему самому страстно хотелось к ней. Так он и лежал часами без сна, ворочаясь и мучаясь, а по утрам был совершенно разбит.
Радость в первый момент свидания была велика, всемогуща, но и ревность не меньше, она пожирала его целиком, без остатка. Фатальность ситуации, в которой он убеждался все больше, казалось, превосходила его силы. И разве они встретились здесь не с тою единственной целью, чтобы обсудить условия развода?
Чувство было такое, будто горы обрушиваются на него, а ему нужно найти спасение.
На третий день он отправил детей играть в сад и сказал не без ехидства Губеру: «Не соблаговолите ли, дорогой друг, заменить им отца на то время, пока я исполню тут роль черта в якобинском наряде? Вон, видите, Розочка уже трясет яблоки с яблони хозяйки. Подите же к ним, прежде чем они порвали себе чулки и платья, и поупражняйтесь в педагогике».
Губер не сразу понял его и с дурацкой наивностью стал спрашивать взглядом Терезу, что ему делать. Тогда Форстер добавил: «Вы что же, не понимаете, что я хотел бы побыть наедине с моей женой? Дела ведь не зашли еще настолько далеко, чтобы вы постоянно были в роли сторожевой собаки при ней».
Прежде чем посвятить его в свои планы, он хотел обсудить все с Терезой. Они вернулись в дом, потому что ей стало зябко, и Форстер просил ее поберечься простуды. Все, на что он лишь намекал ей в своих письмах, он теперь выложил начистоту. Речь шла о том, чтобы жить втроем. Ведь вокруг этого все и крутится. Больше всего ему хотелось бы, чтобы она переехала в Париж. Он очень надеется, что там ему сумеют восполнить то, что потерял он в Майнце — дом, библиотеку, коллекции, то есть все, что он принес в жертву республиканскому делу. Нужно только кого-нибудь найти, может быть Земмеринга, которого не подозревали ни пруссаки, ни курфюрство, чтобы он точно оценил все, оставленное им в Майнце, и, может быть, спас по возможности что-нибудь из его рукописей. Я все сделаю, друг мой, чтобы ни ты, ни дети не могли ни в чем упрекнуть меня. Ибо для чего и жить, если не надеяться на то, что любовь наша возродится? У меня по крайней мере так на душе. Но я никогда бы не осмелился стать на пути твоему счастью. Нельзя любить человека и в то же время пытаться приковать его к себе цепью, если он страдает от этого, воспринимает такую цепь как ошейник. Я бы хотел только, чтобы ты, Розочка и Клер были поблизости от меня. Пожалуйста, прости мне этот эгоизм. В Германии же теперь соединиться нам невозможно. Не только ненависть ко мне князей и генералов, но и непонимание бывших друзей делают это невозможным. Мой собственный отец, Гёте, Лихтенберг, издатели — все отвернулись от меня, все считают сумасшедшим. А я? Как раз ты, видевшая все мои сомнения и все мои неудачи, знаешь меня лучше, чем кто-либо другой. Я по-прежнему тверд и яснее прежнего отдаю себе отчет в том, что стал на сторону дела, которому должен пожертвовать всем — и личным покоем, и научными занятиями, и, может быть, здоровьем, всем моим состоянием и даже твоей любовью. И пусть будет что будет, я приму все как последствие когда-то принятых в качестве истинных оснований. Одно лишь во мне недоступно никому, потому что лишь я имею туда доступ, — это мое сознание. Нет, Тереза, погоди еще отвечать. Париж, повторяю я, Париж. Я люблю тебя и пытаюсь с уважением отнестись ко всему, в чем ты видишь воплощение своего счастья. Остаться в Швейцарии? Посмотри вокруг. Люди здесь как бараны. Вильгельм Телль, видать, промахнулся со своими наследниками. И сравни это с Францией. Такие понятия, как добродетель и истина, там не пустые слова. Они реальны, за них стоит бороться. Добро пожаловать поэтому, революция, со всеми твоими ужасами и несчастьями. Я сошел со стапеля, теперь нужно плыть. Мнения других людей? Я никогда не прятался за них, так же как никогда не скрывал, что никогда не стану считаться с ними, если только увижу, что они borné[38]. Жить втроем. И в Париже, где такая жизнь не в диковинку. Все это гораздо легче устроить, чем кажется. Мне да, я думаю, и вам предрассудки и болтовня моралистов нашего времени глубоко безразличны. Следуйте за мной, если только у вас есть на это мужество. Но не будем спешить. Давайте обдумаем все трезво и не торопясь. В Париж меня влечет прежде всего интерес сердца, делающего жизнь счастливой, когда мы вместе, а также интерес ума, захваченного тем, что там происходит. Сила республики — в революции мысли. Мы могли бы еще лет двадцать-тридцать быть рядом. Для такой быстротечной вещи, как человеческая жизнь, это бесценно, и зачем же отказываться от такого дара? Голод нам не грозит, особенно если мы будем вместе и ограничим свои потребности самым необходимым. И разве можно было бы роптать на такую жизнь, особливо после всего, что мы испытали, и на фоне того, что происходит вокруг?
Тереза молчала, глядя на него большими неподвижными глазами; о, он хорошо знал этот взгляд, сразу делавший ее отрешенной и недоступной.
«Скажи наконец что-нибудь», — попросил он.
«Конечно, я понимаю тебя, Жорж…» Она даже попыталась улыбнуться. В уголках ее губ запрыгали маленькие морщинки.
Отчего же, отчего все так случилось? В чем была вина его и в чем — ее? Губер, вспомнил он, глубоко уязвил его вчера в Мотье, сказав, что он физически ей неприятен.
«Я хочу поцеловать тебя», — сказал он. Вскочил со стула и схватил ее руки.
«Нет, пожалуйста, не надо. Давай вести себя все же разумно. В любой момент могут войти дети».
И что же, что тут страшного? Почему им нельзя видеть, что их отец и мать еще относятся друг к другу с нежностью? Или то была ложь, а думала она при этом о Губере? Он встал перед ней на колени, как нищий.
«Я была бы готова последовать за тобой в Париж. Но прежде, Жорж, давай оформим развод по новым законам Франции».
В Понтарлье его каждый день кормили обещаниями в муниципалитете, но так ничего и не сделали. Брак его продолжался, оставаясь тем, чем стал давно уже: пустым, потрескавшимся орехом.
Он прижался лбом к оконному стеклу, прохлада подействовала благотворно. Туман сгустился. Его клубы уже смешивались с мутными водами Сены.
Но вот вернулся и Сен-Жюст. Форстер услышал, как щелкнула дверь сзади и обернулся.
«Очень рад, что вы еще здесь. И подкрепиться вам не мешает, должно быть, как и мне». Сен-Жюст держал в руках поднос с чашками из тончайшего фарфора, он поставил их на кругленький столик в углу и налил им обоим кофе, горячего и ароматного. «Между прочим, я тут разглядывал ваши сапоги, — заговорил он на сей раз совершенно непринужденно, — после чего позволил себе дать распоряжение своему секретарю, чтобы он выписал вам квитанцию на новую пару. И впредь, если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь прямо к нему, даже во время моего отсутствия». Он сел и, пригубив кофе, пояснил: «Уже завтра мне придется снова покинуть Париж. Передышка, как видите, была короткой. В Эльзасе дела складываются не слишком благоприятно для нас. Нам пока не удается выбить герцога Брауншвейгского из Кайзерслаутерна, и поэтому крепость Ландау — вы ее знаете — все еще окружена пруссаками и австрийцами. Придется перегруппировать войска, прежде всего укрепить Рейнскую армию и помочь генералу Гошу научиться побеждать после всех его неуспехов. Эта миссия поручена мне».
Он стал описывать внешнее и внутреннее положение республики в настоящее время, мыслями находясь, по-видимому, уже на фронте. По временам он обхватывал голову руками сзади, устремляя вдаль мечтательный взгляд. Еще до весны нужно добиться перелома на всех фронтах, водрузив в решающих точках трехцветное знамя, сказал он. Лишь когда отечество избавлено от внешних врагов, можно утвердить истинное содержание революции, то есть свободу. А до той поры? Он все больше приходит к убеждению, что вся власть должна быть сосредоточена в одних руках. Политическое развитие, по его убеждению, все более неотвязно требует установления гениальной диктатуры, или диктатуры одного гения.
Форстер узнал, что и Гош, возглавлявший Мозельскую армию, был человеком из народа. Сын прачки из Монтрё, он был человеком совсем другого склада, чем военные из бывших аристократов, которые уже только в силу своего происхождения не понимали смысла классовых преобразований, как бы они ни стремились честно служить им. И снова поразил его этот совсем молодой человек, говоривший как мудрец. Время порождало великанов, а одним из тех, кто формировал это время, был Сен-Жюст. Ни в одном из его слов не было ни звука от пораженчества или какого-нибудь сомнения, страха или усталости, нотки которой уже проскальзывали в суждениях стариков о дальнейшем ходе революции. Напротив. При том, что Сен-Жюст отдавал себе полный отчет в серьезности положения, речь его свидетельствовала о несломленной силе и уверенности в будущем. Так он и напишет сегодня же Терезе: «В генералах у нас бараньи головы, так что отдельным неудачам можно не удивляться. Но терпение! Эльзасский урок был полезен и пойдет впрок. Обещаю вам совсем другой оборот дела в следующем походе. Здесь есть еще люди, которые умеют командовать, и они будут командовать…»
Он был уже на улице, в тумане, он был настолько взбудоражен, что самая мысль о необходимости возвращаться в одинокое свое жилище внушала ему ужас.
Он побрел по улицам, не разбирая дороги. Как хотелось ему именно в такие минуты поделиться с близким человеком тем, что у него на душе. Но здесь такого человека не было. Вот раньше, в Майнце, другое дело. Как славно они проводили там время за чаем, когда приходили к нему Земмеринги, Губер, англичанин Томас Бранд. И их Диотимой была Тереза… Или когда присоединилась к ним Каролина, так забавлявшая всех своим хитроумным обыкновением задавать самые смелые и лукавые вопросы… По вечерам, у камина, при свете свечей. Когда Розочка и Клер уже спали, испробовав сотни способов удовлетворить свое любопытство… Доходило нередко и до споров. Литература и искусство, политика, философия… Один только здравомыслящий Земмеринг оставался сдержанным, остальные быстро начинали горячиться. Тогда еще не родились ни последний сын, ни последняя дочь, не родились и не умерли… Между ними была атмосфера доверия, теплоты, дружбы. Хлад одиночества еще не коснулся его сердца. И жизнь его чуть ли не казалась ему тогда счастливее, чем даже в Вильне, — пока не открыли ему глаза…
О Тереза, оставь мне эту надежду! Приезжай в Париж, хотя бы когда смолкнет оружие. Ведь вечно оно не бряцает, а когда наступит мир — дай мне увидеть моих детей…
Он заблудился. Очутился в местах, которые вряд ли видел когда-нибудь раньше. Противный туман и темнота сделали все дома одинаковыми. Фонари попадались здесь редко. В узких и грязных улочках пахло печным дымом, жареным мясом и прогорклым маслом.
Только теперь он заметил, что на нем не было накидки. Сырой воздух впивался в легкие. Он мучительно искал какую-нибудь знакомую точку в этих каменных джунглях, чтобы выбраться наконец из их лабиринта.
С большим облегчением вышел он на широкую улицу Жака и, ступив по ней несколько шагов, увидел справа от себя объятую туманом громаду Нотр-Дам.
Глава пятая
Мы живем в особенное время!
И никто не живет в нем с большею
силою, как человек, обнявший умом
другие важные эпохи истории
и умеющий в них ориентироваться…
14.12Он так долго бродил тем холодным и склизким вечером, что это не могло остаться без последствий, и он все-таки свалился с воспалением легких. Даже письма свои ему пришлось откладывать от одной почты до другой. Работать, писать он не мог. Правда, мыслилось легко, но в теле усиливалась боль. По ночам он почти не спал.
Форстер — как он и сам знал и не уставал в такие моменты, как этот, бранить себя за легкомыслие — всегда хотел быть сильнее коварных покушений природы на его здоровье. Достаточно было вспомнить лихость его во время плавания на «Решении» — под ледяными ветрами, в тайфуны и штормы. Со сломанными мачтами, потеряв всякое управление, корабль их временами походил на беспомощный призрак, носимый ветрами Атлантики. Достаточно было вспомнить чудовищное напряжение души и разума, когда они уж достигли, казалось, конца мира, но так и не открыли шестой континент, догадываясь, что он где-то совсем рядом, всего в нескольких градусах или даже минутах от них. Каким же тяжким оказалось разочарование! Но и тогда он ничуть не берег себя. В ночь, туман, при трескучем морозе вкалывал он наравне с командой на палубе, хотя и капитан, и отец из-за хрупкой его конституции запрещали ему это делать, приказывая оставаться в каюте. Однажды после своевольной вылазки за пингвинами, когда их бот чуть не стал добычей айсбергов и он вместе с матросами чудом спасся от смерти, Кук даже вынес ему порицание и пригрозил наложить арест, посадив в трюм. Нет, не позволит он никакой болезни — и этой тоже — положить себя на лопатки. Письма, которые надо написать Терезе и детям, чтобы не беспокоить их слишком долгим молчанием, — вот одно дело. Другое же: надо во что бы то ни стало продолжить работу над «Парижскими очерками», чтобы не остались втуне впечатления от встречи с Сен-Жюстом. И кроме того, нужно было внести поправки и дополнения в описание революции в Майнце. Во время вынужденного безделья в Аррасе, длившегося два с половиной месяца, он набросал несколько глав, но, к сожалению, по памяти. Дневники же и записные книжки с тщательно записанными в свое время подробностями он забыл в Голландском доме на улице Мулен. Писанины, таким образом, хватало, надо было браться за нее, засучив рукава. И он совершит это усилие, как уже не в первый раз в жизни.
Сядет к окну, закутавшись в теплое одеяло, и положит на колени какую-нибудь подставку, чтобы удобнее было писать. Во что же он превратится и что останется от него, если он перестанет записывать свои мысли, перестанет хотя бы мысленно беседовать со своей Германией?
Тадеуш, юный поляк, коего рекомендовал ему Малишевский, продолжал каждое утро исправно и прилежно топить ему камин. Прежде он просыпался от помешивания кочергой угля в камине да потрескивания поленьев. Теперь лежал с открытыми глазами и с нетерпением поджидал, когда послышатся знакомые шорохи. Поскорее бы наступал новый день, а с ним облегчение мук. Ночь опять прошла ужасно, спазмы в груди долго не отпускали.
У постели его дежурил Иоган Кернер из Швабии, также усердный и дотошно услужливый юноша. Бывший врач, он в настоящее время находился в Париже в качестве корреспондента гамбургской газеты. Порой, когда Форстер чувствовал себя получше, они вели серьезные разговоры, обсуждая новости европейской политики. При этом педантичный Кернер не забывал следить и за тем, чтобы его подопечный через каждый час принимал лекарства. Теперь Форстеру даже казалось, что они помогали. Приступы кончились, боль стала глуше и терпимее. Оттого-то, может быть, Кернер спокойно спал, сладко похрапывая в кресле.
Соберись с силами, Георг! Голова твоя бодрствует, мысль не ослабла…
Он знаком дал понять Тадеушу, что топить довольно, и откинул одеяло. Смятая за ночь простыня давно вылезла из-под матраца вопреки здешнему обыкновению. К французским постелям он до сих пор не привык, и нельзя же было требовать, чтобы он заботился о здешних обыкновениях, борясь с кошмарами.
Философия — вещь, конечно, почетная… Но не менее важны и другие заботы, практические. Опыты познания других народов и стран неотступно требовали своего права. Еще двенадцатилетним мальчиком он проехал с отцом вдоль всей Волги и дальше — до Элтона в киргизских степях. Сравнение нравов и облика этих людей с нравами жителей островов Тихого океана. Кант, Гердер. Человеческие расы. Всякий человек, христианин или язычник, формируется социальными обстоятельствами, данными ему судьбой. А что было в Гунтерсблуме, всего на расстоянии одного дневного перехода от майнцских ворот? Петер Шридде…
Он подошел к секретеру и, подавив кашель, чтобы не разбудить Кернера, зажег свечу и стал разбирать бумаги.
Жаркое лето прошлого года. Поденщик одного из рудников, который как и всё в Гунтерсблуме, принадлежал графскому семейству. Со своей женой Тиной, работавшей в поместье на конюшне, он уже несколько лет жил под одной крышей, в домишке ее больного, почти ослепшего отца, завел с ней троих детей, но так и не смог повенчаться, как это исстари повелось между мужчиной и женщиной. И господа фон Лейнинген-Вестербург, и преданные им священники отказали обоим в церковном благословении, потому что они обратились за ним уже тогда, когда женщина была беременна. Форстер встретил их, когда взялся сопровождать Ведекинда, делавшего в деревнях прививки от оспы. Врач, вероятно, имел на него какие-то виды, потому что настойчиво обращался за помощью всякий раз именно к нему, хотя он, получив, правда, медицинское образование, никогда не занимался врачебной практикой, тем паче в должности университетского библиотекаря. Форстер догадался о тайных замыслах своего друга, когда в совместных поездках столкнулся с ужасающей нищетой. Жилища тут, состоявшие большей частью из одной комнаты, были слеплены из глины, вместо окон в них были проделаны дыры под самой кровлей, в эти дыры зимой выходил вонючий дым от сжигаемого сухого навоза, и они же давали скудное освещение и свежий воздух. Люди спали на соломенных тюфяках. Незадолго до этого графы спустили свору собак на толпу своих подданных, одного ребенка псы загрызли насмерть, а служанку покусали так, что и та вскоре скончалась от ран. Петер Шридде, зачинщик собрания, также пострадал. Весь покусанный, кое-как остановив кровь подорожником и настоем трав, он отлеживался в своей лачужке, мрачный, как туча, скрипя зубами от негодования. Помогите сначала ему, попросила жена. Слепнущий старец бормотал молитвы. Или проклятья небу? А Шридде сказал: «Да что уж там оспа, ваши благородия, супротив той эпидемии, которую мы должны терпеть всю нашу жизнь, когда деспоты отказывают нам в элементарнейших человеческих правах. Есть, насыщаясь плодами собственных рук. Любить тех, кого мы сами хотим. Спариваться, жениться и плодить детей с тем, с кем мы сами хотим. О вас говорят, господин профессор, будто вы объехали весь свет. Что же вы тогда не привезли нам справедливость оттуда? Зачем вы вместо того сами служите так называемому святому порядку, произволу попов и князей и наймитов архиепископа? Вот, взгляните на моих сыновей. Господу богу угодно было даровать им жизнь, но для графа они только ублюдки. Как будто сами господа не пользовались дочерьми бедняков от Грюнштадта до Майнца да не пристраивали потом свой приплод в лесники и управляющие, кто ж этого не знает? Во Франции, по новым законам, они бы теперь, небось, поплатились за это, а нашим детям больше нечего было бы бояться…»
Форстер был атакован таким образом не впервые. Бунт ремесленников в Майнце… «Са ира», распеваемая студентами. Феликс Блау, Андреас Хофман, его коллеги, один профессор теологии, другой — естественного права и истории философии… И конечно же, острый язычок Ведекинда, его клокочущий гнев, его ядовитая язвительность… Но он не верил в революцию в Германии, уже потому хотя бы, что название империи было понятием скорее географическим, чем политическим. Он держался реальности. Грезы, не основанные на знании, были не его делом. Идеалы же, не соотносимые с действительностью и не контролируемые ею, могли даже повредить прогрессу человечества. Эта Германия, когда он явился в ней четырнадцать лет назад, напомнила ему огромный архипелаг в Тихом океане. Тысячи островов и рифов. Тысяча восемьсот — по точному подсчету — непосредственно имперских членов, сотни мелких государств и лишь несколько значительных, вроде Пруссии, Австрии, Саксонии. Путешествие из Касселя в Вену, от Рейна до Эльбы, было предприятием не менее трудоемким и хлопотным, чем плавание между экватором и тропиком Козерога. Разве можно сравнивать с Францией! Централизованное управление. Париж. Или потому ему столь симпатична такая система, что он смотрит на все теперешними глазами? Нет, думал он тогда, из немецкого лоскутного коврика, сколько ни пытайся, единого полотна не сошьешь.
А вот Шридде, тридцатилетний здоровяк и, благодаря постоянной работе, силач, как только выздоровел, сразу стал распространять листовки с призывами вздернуть мучителей — графов Лейнинген-Вестербург — по французскому образцу — на фонарь. Для Форстера так навсегда и осталось загадкой, почему этот человек, не умевший ни читать, ни писать, вздумал рисковать жизнью, промышляя именно этим — ведь за распространение революционных прокламаций ему грозила смерть.
Он рылся в ящиках старого, уже поточенного червями секретера. Болезнь снова дала о себе знать резкой судорогой в груди, что-то словно обожгло его изнутри. Нашел опиум. Но принять сразу, не посоветовавшись с Кернером, не решился. Может, достаточно было бы и хины. Чтобы сбить лихорадку. Он чувствовал, как пылает лоб.
Ведекинд всегда курировал его прежде. Как врач он часто признавался ему, что настолько переживает за своих пациентов, что по ночам его мучают кошмары. Вот такие же кошмары — за своих пациентов — стали мучать по ночам и Форстера, когда являлись ему во сне люди типа Шридде, когда он слышал их голоса, жалобы, проклятья.
Все реже задерживался он в своем домашнем кабинете или тем более в библиотеке университета. Его тянуло туда, к ним, в хижины и мастерские, на виноградники и рудники.
В самом деле, почему он не привез им из кругосветного путешествия справедливость? Но заслужен ли этот упрек? Шридде не умел читать. А если б умел, то увидел бы в его сочинениях… Что же? Ну все-таки… «A Voyage Round the World». Уже в этой книге, то есть когда ему было всего двадцать четыре года, он изложил основы своего мировоззрения. Таити и Маркизские острова. Две одинаковых группы островов, на которых жили люди одного корня, и тем не менее на Маркизах они были счастливее, потому что там не было деления людей на разряды и классы, там не победила система господства королей над своими подчиненными. Но аборигены Южных морей далеко. А Гунтерсблум — вот он, рядом, в самом центре цивилизованной Европы… Форстер спрашивал себя, не выйти ли ему по французскому образцу на улицы и площади, чтобы поделиться своими наблюдениями и мыслями с теми, кому они особенно нужны, но кто не мог прочесть его книгу, с неграмотными. Что, собственно, отличало классовый расклад в Гунтерсблуме от такового на Таити? Если вдуматься и строго сопоставить факты, то почти ничего. Несколько подарков — если их можно признать таковыми — технического прогресса, вот и все. В Новой Зеландии поедали своих врагов, как это случилось и с десятью матросами «Приключения», здесь же их гильотинировали, вешали или расстреливали. Там пользовались ножами из акульих зубов, чтобы прикончить противника, раскроить череп и высосать мозг, здесь же для убийства пользовались ружьями и порохом, пушками и пулями, колесом и шпицрутенами, пускали в ход самые изощренные пытки, чтобы иной раз заживо содрать шкуру с человека, и вся разница была в том, что там после этого жарили на костре его самого, а здесь отнятых у него телят и овец… Несколько лет назад, еще в Вильне, он решительно занял сторону Гердера в его споре с Кантом, утверждавшим, будто черные и белые a priori[39] существа абсолютно различные. Одна раса, утверждал кёнигсбергский философ, ближе к обезьяне и уже в силу темной кожи своей и приплюснутого носа самой природой предназначена для служения и повиновения другой расе. Вот как! Такая невежественная наивность немало позабавила его, и он написал: присущий философскому мышлению пароксизм приводит подчас даже такие светлые умы, как Кантов, к потребности моделировать природу, точно производное собственной логики… Но если мы изначально отрываем негра как отличную от белого человека особь, то не обрываем ли мы последнюю нить, которая соединяет это несчастное племя с нами и дает ему надежду на милость и защиту от европейской жестокости? И где та грань, за которой остановится развращенный белый человек и не станет так же жестоко притеснять другого белого человека, своего собрата? Белый! Благодаря твоему посредству черный может или должен стать тем, кем являешься или кем должен быть ты сам, то есть человеком, счастливо развивающим все свои возможности. Но поди прочь! Он и без твоего участия станет когда-нибудь тем же, ибо и ты сам всего лишь переходный момент в плане творения…
Однако назад к рейнским делам! Графы из Гунтерсблума, узнал он позднее, запрещая обручение Шридде и Тины, лишь мстили за то, что самая красивая девушка из их услужения, забеременев, сорвала им привычную «охоту на мышек», как называли они свои сладострастные развлечения. История, будто списанная у Вагнера, Лейзевица, Ленца[40] или какого-нибудь другого из новейших поэтов, настолько она казалась невероятной.
И все же он попытался вжиться в ситуацию этих двух несчастных людей и нашел, что должен был сделать это гораздо раньше. Многое открылось бы ему и оказалось бы бесценным для него не только как для ученого, исследующего жизнь своих земляков. Поденщик и служанка. Беднейшие из бедных. Дичь, дешевая добыча для дворян и их подручных, проповедующих с помощью подкупленных апостолов, что все различия между людьми естественного происхождения, что одни рождены повелевать и управлять, а другие, большая часть, подчиняться. Диво ли, что эти люди, затравленные и загнанные, находят вполне справедливым перевернуть весь мир вверх тормашками и с революционными песнями на устах да оружием в руках прогнать своих господ и мучителей? Каково было бы оказаться ему с семьей на их месте? Чтобы Розочка и Клер по графскому произволу росли как ублюдки? Даже невозможно себе представить! И все же он вполне отдавал себе отчет в том, что может вжиться в ужасное положение униженных и оскорбленных умом, но не чувствами. Слишком уж иную жизнь он вел, сохраняя как ученый и писатель известную степень свободы, хотя и лишь благодаря своей позиции меж двух социальных групп, борющихся друг с другом. Для него теперь важно было на всю свою дальнейшую жизнь определить, на чьей стороне он хотел бы сражаться.
Да, он жил по-иному… И по-иному любил? При этой мысли подстегиваемое лихорадкой воображение опять переносило его в Травер. Снова вставали над ним отвесные, готовые, кажется, вот-вот обвалиться горы. Символом мрачной угрозы всплывала в памяти гостиница.
Но потом картинки воспоминаний окрашивались в тона более светлые, так что даже суровые контуры юрского массива начинали расплываться в мягкой, переливчатой дымке. Четким и резко очерченным оставалось одно только здание. На приземистом фундаменте, с четырьмя колоннами, возносящими кверху остроугольную крышу. С тремя часто переплетенными окошками внизу и двумя — наверху. Охрой крашенный фасад, белоснежные полотняные занавески, зеленые ставни. Над всем, широко растопырив свои крылья, как для защиты, возвышалась крытая черно-серой черепицей крыша, дубовые ворота, заканчивавшие массивную стену, ограды, вели во двор, отчасти превращенный и в огород. Достопримечательной была лишь готическая надпись на фронтоне под крышей, окаймленная с двух сторон цифрами, составлявшими 1747 год, надпись сия гласила: «Злобе вышло посрамленье, Бог — за дома возвышенье».
Форстер, как только заметил этот шпрух, принял его за доброе предзнаменованье, настолько поразило его это немецкое приветствие, представшее посреди французской Швейцарии.
Но он ошибся. Тереза и он. Несчастливая звезда, всегда, видимо, стоявшая над их браком, вступила в свои права. Девственность? Не встречалась ему никогда в жизни. То ли Мейер, то ли Ружмон, но кто-то опередил его и сорвал сей цветок. Изведавший приключений юноша, после дальних странствий по Южным морям, где он кое-чего поднабрался у закаленных в схватках с сифилисом матросов и у томных, шоколадного цвета аборигенок, он и не спрашивал об этом, да, пожалуй — можно ли так сказать? — не придавал этому значения. Лишь позднее зародились и стали разъедать душу сомнения, появилось чутье обманутого мужчины, нахлынула ревность. Чопорная, по-христиански морализующая Европа снова завладела им. Он стал прислушиваться к разговорам о том, что требуется от мужчины и от женщины, особенно от нее, при вступлении в брак. Боролся с собой — ведь он думал иначе. Кроме того, вкусившие плодов просвещения дочки гёттингенских профессоров — что Тереза, что Каролина — думали также иначе. А вот Шридде и Тина… Между ними была, казалось, полная ясность, ясность света, хоть и скудно падающего в их каморку, но тем более драгоценного. Как бы он хотел сравняться с ними в этом отношении!
Бог мой, что выделывает эта проклятая лихорадка. Она так и подстегивает его мысли, навязывая мучительнейшие фантазии. То представится ему Тереза, то Каролина, то обе сразу в каком-то голом сплетении… «Цветов ли весны, плодов ли осенних взжелаю, того ль, что цветет иль что насыщенье дает, жажду ль постичь небо и землю в сращеньи — должен Сакунталой звать тебя, в этом имени — все…»
Георг, не дай возобладать хаосу! Кернер, помоги! — выдохнул он со стоном.
Юный шваб, однако, продолжал сладко храпеть.
На другое утро, после немилосердных страданий ночи, которую провел подле него, стеная о попранной своей родине и громко вопия Малишевский, он все же не выдержал, открыл флакон с опиумом. Высыпал щепоть коричневого порошка в стакан с водой и выпил. Вскоре наступило успокоение. Судороги в груди прекратились. Придвинувшись вплотную к камину с подставкой на коленях, он смог снова писать.
Тереза боялась только последствий, ослабления его престижа в образованных кругах немецкого общества и возможного еще большего оскудения их семейного бюджета. Она всякий раз остерегала его от решительных шагов, хотя, как правило, с запозданием. Каролина, напротив, пустилась плясать карманьолу, как только французские войска вступили в город. Тут же дала свободу своим черным вьющимся волосам. Она призывала его быть тем, кем он хотел быть. На вас, Жорж, смотрят все. И коли не подадите им знака вы, то кому же решиться на это.
Шридде, долго скрывавшийся в разных укромных местах от Оппенгейма до Нирштейна, был все же арестован своими преследователями. Целая гусарская рота, призванная графом и столовавшаяся у него на дворе, пустилась на розыски Шридде и его товарищей, объявленных агентами Франции. И разыскали. Тину бросили на солому в конюшне и изнасиловали всей командой, ее полуслепого отца избили до крови — за то, что они не захотели выдать, где скрывается Шридде. Форстера мучила совесть. Он горько раскаивался в том, что не последовал совету Ведекинда и не укрыл беглеца в своем доме, где его наверняка не стали бы искать. Он последовал совету Терезы, нет, не совету, а заклинаниям с истерическими слезами и стоянием на коленях. Но рудники он все же посетил. Посмотрел, как там надрываются рабочие. Сначала отламывают кирками и ломами бесформенные глыбы скал, которые с грохотом скатываются в долину, потом вручную, молотом и зубилами высекают из этих скал ровные плитки — в этой работе им помогают и дети, например старший сын Шридде, мальчик неполных десяти лет. Многие из них страдают хроническим кашлем, задыхаются и харкают кровью. Пыль, которой вынуждены они дышать, заполонила легкие. Норма их непрерывно повышалась, а платили им находившиеся на службе у графов мастера — с тех пор как всех рабочих подозревали в пособничестве Шридде — все меньше и меньше.
Потом Форстер снова его увидел. После того, как Майнц заняли французы. Ворота узилищ распахнулись, и заключенные вышли на свободу. Петер Шридде походил теперь на свою тень. Он избежал виселицы и, по понятиям Форстера, должен был бы вернуться сильным и отважным, как Прометей. Однако неукротимый дух его и несгибаемая сила, казалось, навеки иссякли, гордый дух был сломлен. Его пытали в подвалах, чтобы вырвать имена единомышленников. Но ничего — ни слова, ни стона, ни проклятья не пропустили наружу его плотно стиснутые зубы. А вот теперь он смотрел на все вялыми, равнодушными глазами. Освободители его о чем-то спрашивали, но он не отвечал. Тело его будто высохло, когда-то геркулесовая фигура превратилась в скелет. Длинные, спутавшиеся волосы и густая, кишащая вшами борода изменили его облик до неузнаваемости; в тех местах, где еще недавно были кандалы и цепи, зияли кровоточащие раны, в которых кишели черви.
Форстер впился глазами в этого человека с ужасом, содроганием и жалостью, но долго не выдержал и вынужден был отвернуться. Попросив Ведекинда взять его под свое врачебное покровительство, он затем предложил Шридде занять после выздоровления место в майнцском якобинском клубе.
Наконец Шридде пошевелил губами. С большим трудом он выдавил из себя: «Что… с… Тиной?»
Не с тех ли пор… Да, пожалуй, с этого мгновенья Форстер знал, что ему делать, чтобы оправдать возложенные на него надежды. Основать республику. Это прежде всего. Провозгласить свободное государство посреди этого множества мелких княжеств и государств, кишащих — как ему теперь казалось — в мощной бороде народа подобно насекомым-паразитам. Германии все одно больше не было, а если и была, то истекала гноем, копившимся в сотнях ее нарывов. Надо штурмом взять эти крепости насилия и подавления! Мир хижинам — война дворцам! Во имя Шридде и ему подобных… Они будут избавлены от нищеты и смогут шагнуть в более человечное будущее только в том случае, если будут созданы условия общественной жизни, предуказанные французами. А если это творение, республика, рассчитывает продержаться, то она должна прибегнуть к защите французского оружия.
Такова была логика, железный закон революции, с которым можно было либо победить, либо пасть, но которому, во всяком случае, следовало присягнуть. Третьего не дано. Потому-то с такой решимостью заявил он в марте перед конвентом в Майнце: «Поймите, друзья, что занимается совершенно новый период в истории рода людского — период столь же важный, как тот, что начался тысяча восемьсот лет назад, когда двинулось в путь наше летосчисление… Вы одним ударом покончили с тиранией в рейнско-немецких пределах, водрузив знамя народной независимости на освобожденном берегу Рейна. Первый шаг сделан, за ним должен последовать и второй… Скажите же свое решительное слово: свободные немцы и свободные франки должны стать отныне нерасторжимо единым народом!»
Глава шестая
Вот, взвалив тяжесть себе на плечи,
я бреду по колено в пыли, и в голове
моей нет мыслей, кроме: ты должен
идти, пока хватит сил, а там уж все
кончится само собой.
19.12Время текло. Болезнь его длилась уже вторую неделю. Больше всего он ненавидел длинные вечера, унылые и одинокие, когда, устав за день, не мог ни читать, ни писать, но и спать тоже было нельзя — чтобы не обречь себя на бессонные муки ночью. Он уже сбился со счета дней, недавно введенный новый календарь усугублял путаницу, и какое сегодня было число — семнадцатое или восемнадцатое декабря по григорианскому календарю или же двадцать седьмое, також восьмое по новому, — он понять не мог. Вторник-септиди или среда-октиди? Час целый надобился ему, чтобы умыться, побриться, одеться. После чего он лежал, как написал Терезе, раздавленной мухой в кресле. Лежал, в бесплодном одиночестве своем предаваясь глоссам, как он их называл, потому что мысли точные и четкие, последовательно развивавшиеся и не терявшие почву под ногами, ему не давались вследствие изношенности всей машины, его тела.
Тулон! О вернуть бы снова Тулон, порт, верфи, наш флот и наш арсенал…
Англичане, как поговаривали, предпринимали какие-то шаги, чтобы заключить мир. Но он мало верил этой болтовне, тянувшейся из кофеен. О мире нечего было и думать, пока положение стран, входящих в коалицию, не станет стократ хуже того, каким оно представляется в Париже, а этого пока не было в действительности.
Надежды и опасения, опасения и надежды. Но ведь всего этого из головы не выкинешь. Да и где взять такую голову, чтобы выдержала все это? Его голове это, во всяком случае, не под силу. Всякое напряжение ума немедленно сказывалось на ней, это он видел. Каких страданий стоило ему хотя бы кончить вчера седьмое письмо своих очерков.
Любовь с первого взгляда, как ее принято называть… Нет, все было не так. Странно, но как раз теперь он вспомнил то, о чем задолго до помолвки писал Спенеру, своему издателю и тогда еще другу, который теперь, конечно, тоже от него отвернулся. Sed haes inter nos. Но это между нами. Ежели б я предложил руку дочери Гейне, то, думаю, вскоре получил бы профессуру в Гёттингене, невзирая на достаточное количество претендентов. Однако жениться, по правде говоря, мне не хочется, на его дочери особенно…
Чувства его колебались. Как палуба корабля под ногами. Или как белые паруса на голубом горизонте — то возникали, то исчезали. Он кричал рулевому и команде: полный вперед! Но чужой флот был быстрее и скрывался в пенящихся волнах зеленого океана. Потом выныривал снова. Возникал, исчезал…
Тут уж ничего не поделаешь. С обеими, Терезой и Каролиной, он познакомился в один и тот же день, во время первого своего посещения Гёттингена, и не обратил на них никакого внимания, ведь было им тогда по пятнадцати. Он легко мог их тогда перепутать, даром что одна, Тереза, была беленькой, другая, Каролина, очень темненькой. Забавно было, когда однажды Гёте в его майнцском доме в присутствии обеих развивал свою теорию цвета, находя одну желтой, другую голубой. Желтое — это свет, а голубое, значит, тьма? Не похоже. Да и вся метафизика поэта представлялась ему сомнительной, упрямая борьба с Ньютоном — и вовсе смешной. И конечно, он не мог объединить одним словом обеих женщин. Тем не менее Каролину он называл впоследствии своим голубым ангелом.
Пикник потянулся за пикником. От Касселя до Гёттингена был ведь всего один день пути. А профессора наперебой приглашали его, в том числе и Михаэлис и Гейне. С Лихтенбергом он был уже к этому времени дружен, иногда его сопровождал и Земмеринг.
Юные дамы расцветали. Из отроковиц получились очаровательные кокетливые прелестницы. Родители подумывали уже о партиях для них. На природе играли в жмурки и салочки. Под хохот потенциальных тестей — ибо какая-нибудь дочка была тут у каждого — он водил, ловил и ощупывал девушек, иной раз и чмокал их в щечку, вряд ли в пылу игры отличая одну от другой, лишь удостоверяясь, когда снимал повязку, что одна была блондинкой, а другая брюнеткой. Он так умел увлечь их рассказами о Таити, пока на костре жарились фазаны, а вино полыхало у всех на щеках и в глазах. Все его слушали, девушки не сводили с него глаз. Тогда-то он написал своему Спенеру строки, которые теперь всплыли в его памяти. Он мог сделать и другой выбор. И может быть, Каролина последовала бы за ним в Париж и пестовала бы его здесь.
Он потянулся за раздобытыми недавно картами и расстелил их. Вот Индия, страна, которая особенно его манила, с тех пор как он перевел «Сакунталу». В состоянии ли он, если это понадобится республике, снова пуститься в обследование южного полушария на двух ладно оборудованных трехмачтовых? Ведь ему всего тридцать девять, впереди целая жизнь. Это лучший возраст для мужчины: и великому Куку было столько, когда он отправился в свое первое плавание. Что же могло бы ему помешать? Такая поездка избавила бы его от всех бед — и прошедших, и будущих. Он бы еще раз увидел мир и забыл бы о болях и хворях — и о Терезе. Травер стал бы местом последнего прощания.
Такие мысли кружились в голове его днем. По ночам он хоть и засыпал, но не испытывал облегчения. Донимали кошмары, от которых просыпался в холодном поту. В груди теснилось странное беспокойство, нервы были напряжены, как канаты, давил страх — да, впервые ощутил он страх перед смертью и мучительно искал утешения. Терпение — ничего другого не остается! Это единственное, что спасает. Он внимательно прислушивался к своим болям, и временами ему казалось, что они утихают. Разве не глуше стал этот отвратительный хриплый треск в груди? Но может, это сказывается только действие опиума.
Забыть Терезу? Едва эта мысль мелькнула в его голове, он испугался. Ежели б не надежда хоть чем-то быть полезным своей семье — одному небу известно, как тяжко надеяться, когда камнем давит полное одиночество и все, все от тебя отвернулись! — то ему здесь больше нечего было бы делать и он был бы, пожалуй, вправе требовать отставки. Ему самому ничего не нужно, кроме работы — но ради чего? Ради того, чтобы как-то держаться изо дня в день в этом безрадостном бытии? Сотни раз жизнь подсказывала ему, насколько же больше мужества требуется, чтобы жить, чем чтобы умереть. Умереть легко может любая собака. Но вот когда дьявол — а как иначе назвать этого злорадного, с хищным оскалом господина? — когда дьявол спрашивает тебя издевательским тоном: в чем же состоит оно, твое величие? Может, ты всего-навсего тщеславный шут, возомнивший, что ты лучше других, и не видящий из-за этого несправедливости, заложенной в самой природе? Что можно ответить этому чудовищу, для которого люди что спички?
О если б хватало у него сил работать! Ходить в гости, собирать у себя друзей, как некогда в Майнце, предаваться вольной беседе часа два за вином или чаем, а остальное время работать! На секретере лежал проект статьи, которую он собирался представить Комитету общественного спасения. Sur la prépondérance de la République francaise. О политическом преобладании Французской республики.
Но стоило ему остаться наедине с собой, как возникало чувство, что потолок сейчас обрушится на него. Он вперял взгляд в потолок, считал на нем трещины, вглядывался в потускневшие обои. Стены сдавливали его, и иногда он просыпался оттого, что пытался раздвинуть их, как стенки саркофага. Под двумя полукруглыми окошками, сквозь которые он мог видеть только кусочек серого зимнего неба, стоял секретер, напротив него, такого же мрачного коричневого цвета, платяной шкаф с его бельем, между ними кровать, посредине стол с креслом и стулом; по дверной же стене располагались камин и новая карта Франции с границами новоиспеченных департаментов. Вот и все, украшений никаких, а главное ни книг, ни коллекций, оставленных в Майнце, — без них он чувствовал себя здесь действительно как в гробу.
Нет, не нужно лгать себе — Тереза тоже была необходима ему не меньше книг и коллекций. Выросшая в мире интересов своего ученого отца, она с детства привыкла к атмосфере кабинетных занятий и писательства; может, это и явилось решающей причиной, почему он женился на ней незадолго до переезда своего в Вильну. А ведь совсем еще недавно перед тем, в феврале восемьдесят четвертого, он помнил точно, — тогда еще Спенер приехал и попал на смотрины, — он говорил ему, получив приглашение от брата польского короля, князя-епископа Плоцкого, что о женитьбе нечего и думать пока, разве что в дороге что-нибудь подвернется…
Чего в самом деле мог он ожидать от брака? Знал ведь или думал, что знал, сколько в нем несвободы, хлопот и неприятностей — видел же, каково приходится теперь его брату профессору, живущему на скудные подачки удельных правителей. Приходило иной раз даже в голову повенчаться с какой-нибудь юной и красивой бесприданницей из числа тех, что влюблялись в него, но он отгонял подобные мысли. Ему казалось, что они хотят выйти за профессора, а не за Георга, хотят выйти за солидного, обеспеченного человека. Он же искал, конечно, не безобразную, искал молодую, здоровую, невинную и богатую. Вовсе не настаивал на том, чтобы она была красива, умна, остроумна. Его устроило бы чуткое нежное сердце, да немного серьезности, да чтобы не была Ксантиппой. Он хотел бы жену добрую и чистую, и был уверен, что с его-то темпераментом отношения их никогда не сделались бы пресными и он никогда в жизни не обратил бы внимания ни на какую другую. Так он думал тогда и так исповедовался в письмах к Спенеру, немного даже красуясь законченной гармоничностью своих представлений.
Но потом была пасха. Он поехал в Гёттинген. И, оглядываясь назад, он должен признать, что за всю его жизнь не было второй такой насыщенной неожиданными событиями недели, как эта, проведенная в доме профессора Гейне, у которого он остановился и к которому приехал в первую очередь затем, чтобы просить отеческого совета.
Он приехал, так сказать, с видом на Вильну, с перспективой жить одному в незнакомой Польше. Спасти от одиночества могла только женитьба. Но на ком? Какой у него был выбор? Каролина, как он узнал по приезде, была обещана скучному окружному медикусу Бёмеру и уже собиралась отправиться с ним в Гарц. Оставалась Тереза… Она вязала чулки для подруги, показывалась в обществе только с нею и была свободна, как птичка.
Он стал больше обычного уделять ей внимания. Вскоре дошло до объятья и беглого поцелуя в саду, когда они несколько отдалились от общества, которое и на сей раз, как всегда, составили университетские профессора со своими семьями. Ночью после этого она пробралась к нему в комнату, шепотом клялась ему, что полюбила с первой минуты, еще тогда, девчонкой, когда он подарил ей эту ткань, привезенную с Таити. Конечно, теперь она любит его еще больше и отправится с ним в Польшу и в любую, самую отдаленную точку земли, о которой она только и знает что из его рассказов, на Огненную Землю, например, или на остров — надо же, такое совпадение! — Пасхи. Он, такой серьезный, такой умный, такой сильный, только он один может составить счастье ее жизни, которое состоит в том, чтобы делить с ним все невзгоды и заботы… На другой день все заметили, что они отсутствуют. Вечером он поговорил с Гейне. На следующий день они уже, хоть и скромно, отпраздновали помолвку.
Непонятным осталось ему — такова уж, видимо, загадочная женская душа — то участие, которое приняла в устройстве сердечных дел Терезы Каролина, все время поощрявшая ее быть поактивнее. Он-де единственный мужчина, который может составить ей пару…
Мысли его путались, он был утомлен. Вспомнилась его «Сакунтала». Он нашел драму Калидасы в Англии, как ему тогда казалось, случайно, но то не был, конечно, случай — ведь именно в то время он ощутил первые заморозки в своем браке. Он был зачарован теплотой этой пьесы, тем гимном супружеской верности, который был в ней заключен, и теперь еще помнились ему строки, за которые благодарил его Гёте: «Цветов ли весны, плодов ли осенних взжелаю…» Он видел перед собой Индию, в которой правили мудрость и любовь. Паруса, мощно раздуваемые ветром. Белые корабли и один бесконечный голубой бархат неба над колышущимся океаном…
Вдруг в дверь его постучали. Он приподнялся. Вошел человек, в котором он, несмотря на сумерки, сразу же узнал секретаря Сен-Жюста.
Форстер с трудом попытался оторваться от кресла.
Но человек этот вежливо просил его не вставать. Он лишь сейчас узнал, что Форстер болен, иначе давно бы уже пришел, чтобы вручить квитанцию на пару сапог, которую тот забыл в прошлый раз в павильоне Флоры.
Он зажег свечи в канделябрах, положил на стол бумажку и негромким, но твердым голосом продолжал: «Кроме того, гражданин Форстер, я уполномочен передать вам просьбу Комитета общественного спасения. Там знают, что вы, как никто другой, знакомы с местностью между Шпейером и Ландау, и надеются, что вы сумеете оказать помощь командованию».
С этими словами он подошел к карте рядом с дверью и ткнул пальцем в какую-то точку близ Страсбурга.
«Главная ставка наших войск в Эльзасе расположена непосредственно перед вайсенбургской линией. Вот депеша, вы сами можете удостовериться».
Форстер прочел составленный из коротких фраз текст. Под ним стояла подпись Сен-Жюста.
Глава седьмая
Вы знаете сердце человеческое и
ведаете, сколь могучую силу
сохраняет оно до последнего удара,
сражаясь с неприятностями.
Так и со мной.
20.12На другой день он просил Тадеуша раздобыть для него карету. Тот не осмелился перечить, но сразу же поставил в известность Малишевского. Однако ни упреки, ни предостережения, ни самые забористые польские проклятья делу не помогли — Форстер твердо стоял на своем. «Милый Петр, — говорил он, — будь ты в моем положении, ты поступил бы точно так же. Меня тут давит потолок. Я задыхаюсь. Кроме того, мне сегодня значительно лучше».
Он лгал, конечно, во всяком случае полулгал, описывая свое состояние. Однако возможность обзавестись новыми сапогами и в самом деле радовала его и не давала усидеть в своей берлоге. Сапоги понадобятся ему зимой, которая — по теперешней мерзкой погоде было видно — обещала быть холодной и слякотно-снежной. На Ля Вилетт, улочке за собором, находилось, как он знал, большинство кожевенников и сапожников, а для того, чтобы обмерить его ступни да икры — бог мой, как они высохли! — нужно было явиться туда самому.
Хотя его познабливало, поездка по городу пришлась ему по душе. Нашел он и мастера, который обещал соорудить ему сапоги всего за несколько дней, ибо, как он подчеркнул, он верил в неподкупность Комитета общественного спасения. Каждый кусок кожи, который проходит теперь через его руки, идет на солдатские сапоги, и он, сапожник, ускоряет таким образом поход против врагов отечества.
Форстер поблагодарил старика и распрощался. Он чувствовал, что сегодня ему везет и, взобравшись снова в кабриолет, который ждал у мастерской, велел ехать к Онфрою, своему книготорговцу. На этот адрес приходила почта, и, может быть, его уже ждал пакет с какими-нибудь вещами, спасенными из Майнца, с рукописями или дневниками. Нет, возвращаться в постель, где грызет уныние, не хотелось. Ему нужны были люди, с которыми можно поделиться своей радостью, пообщаться, обменяться мыслями, свежими новостями, просто поболтать наконец. Что слышно о Северной армии? Как развиваются события в Эльзасе? Депеша Сен-Жюста, особенно выказанное доверие, очень взбодрили его и взволновали, он даже забыл на время о всех своих болячках. Да и опиум действовал. Надо совладать с болезнью, перехитрить ее, обуздать. Революция нуждалась в нем, в его помощи, он понимал, что может пригодиться при штурме вайсенбургской линии с опорным пунктом — крепостью Ландау, окруженной пруссаками.
Онфрой жил неподалеку от Люксембургского дворца, на одной из улиц, выходивших на площадь, где высился недавно построенный Шальгреном «Одеон». Там же помещалась и лавка, состоявшая из двух одинаковых помещений: собственно магазина и несколькими ступеньками возвышавшейся над ним, вроде сцены, комнаты, в которой в непринужденном порядке были расставлены столы и стулья, — здесь можно было почитать свежие газеты и журналы, а также заказать в кафе, куда прямо из комнаты вела стеклянная дверь, какие-нибудь напитки. Место для встреч и дебатов самое подходящее, вот сюда и стекались студенты, актеры, скучающие денди и прочий праздный народ, так что двери хлопали здесь непрерывно.
На сей раз Форстер извозчика отпустил, заплатив ему непомерно много за свою прогулку по Парижу. Вошел в лавку, и мелодичный колокольчик возвестил о его приходе, как и о приходе всякого посетителя.
Приземистый, довольно тучный Онфрой, который всегда, сколько он его помнил, шариком перекатывался от книжных полок к кассе и обратно, давно не видел Форстера и потому бросился его обнимать со всею пылкостью южного своего темперамента, так что обе щеки Форстера стали влажными от поцелуев. Ему эта манера приветствия всегда казалась неестественной и диковатой, и он никогда не мог себя принудить отвечать тем же. Что поделать, ведь он толстокожий немец, взращенный на хладном севере, в деревянном, обуянном заботами и несчастьями домике пастора близ Данцига, хмур и молчалив, как породившая его среда, связи с которой он никогда и не отрицал. К тому же в груди опять скопился трескучий кашель, и он пожалел, что не сунул в карман фрака дозу опиума для профилактики.
Испытывая некоторое недомогание, он занял место на возвышении. Онфрой сам обслуживал его. Принес несколько новых изданий, новый том Вольтера, который особенно порадовал его, так как он только что прочел «Кандида», а также последний номер «Vieux Cordelier», газеты Демулена[41]. Позаботился потом и о плотской его утехе, заказав гарсону из кафе обычный крепкий чай без сахара, но по возможности с молоком, совершенно по-английски.
Уже через несколько минут Форстер оказался в центре внимания. Кто-то из посетителей догадался, что он иностранец, эмигрант. О нет, честный Самуил Бальтазар Исаак, только не вздумай украшать себя перьями своих клиентов! Постой! Но поздно! Он уж был представлен всем как член многих академий и тот естествоиспытатель, что проплыл со знаменитым капитаном Куком вокруг света и написал об этом примечательнейшую книгу.
«Немецкие газеты лгут!» — услышал он грубоватую, почти враждебную реплику с соседнего стола. Но ему-то что за дело? Это не новость. Из революции немцы делали резню, из побед санкюлотов — их поражения. Форстер все это знал. Он и не возражал, только кивнул Онфрою, чтобы тот принес какой-нибудь нож для разрезания бумаг. «Дни контрреволюции в Вандее сочтены», — сказал другой человек, сидевший в углу, — нервный и бледный, по-видимому студент, выстукивавший неспокойными пальцами в синих прожилках какую-то мелодию на столе. И с этим Форстер согласился. Вот только агрессивный тон, добавил он, ему не по душе. Всего меньше хотелось спорить, особенно с франтами и о вещах, которые не стоили выеденного яйца, спорить о которых означало ломиться в открытую дверь.
Онфрой принес ему деревянный нож и извинился — мол, жду у кассы.
Форстер воспользовался случаем и поменял место.
Но спокойно почитать не удалось и здесь.
Вокруг шел разговор о «Vieux Cordelier». Это по крайней мере было интересно. Какой-то актер, толстый, как каплун, бывший член закрытого ныне роялистского клуба «Одеон», вскарабкался на стол, так что пришлось срочно эвакуировать посуду, и в мимической сценке изобразил — очевидно, чтобы продемонстрировать свою лояльность, — как Демулен призвал парижан к оружию, что и привело в конце концов к штурму Бастилии. Актер старательно воспроизводил всеобщее воодушевление, но выходило, казалось Форстеру, скорее смешно, получалась — как всегда, когда тщились превзойти пафос истории, — пошловатая комедия.
Один из присутствующих был того же мнения. Он ухватил актера за карманьолу — этим словом теперь называлось все: и песня, и танец, и членство в якобинском клубе, и цветастые речи в конвенте Барера, и, среди прочего, простецкая куртка без воротника, — стащил его со стола и выругал за чрезмерное увлечение алкоголем.
Театральный герой, как мешок, осел на стуле, приняв теперь позу мученика, и «со слезьми на глазах» стал жаловаться на несовершенство мира. Но его никто не принимал больше всерьез, и вскоре он поплелся к двери в кафе, чтобы там поискать себе публику. Слышно было, как он там шумел. Республика-де дает искусству слишком мало простора, особенно его искусство наталкивается здесь на непонимание, а потому он переберется в Америку.
Форстер подумал: обошлось бы, наговорит еще себе на плаху. В тюрьме, в соседнем Люксембургском саду, сидело уже немало народу за подобные глупости.
Другие в зале, хоть и не упились допьяна, ораторствовали не менее жарко. Наконец-то, говорили они, за дело взялся настоящий человек — и какой! Камилл Демулен, народный трибун еще с июля восемьдесят девятого года, вкладывавший теперь весь пламень души в свои писания. В только что вышедшем третьем номере своей газеты он решительно выступил против ультрареволюционеров и не обинуясь написал о всех злоупотреблениях. Форстер немедленно раскрыл газету, чтобы посмотреть, какие статьи имелись в виду. Пока шел спор за столиками, он пробежал глазами нужные статьи. И в самом деле, они были начинены взрывными аллюзиями, и, если изрядно знать Тацита и других римских авторов, эти намеки легко было расшифровать. Речь шла о растущем терроре фракции Эбера. О дехристианизации, закрытии церквей, преследовании католических священников, о насилиях в Лионе и на Луаре…
Рядом с достоверными сообщениями были и явные сплетни. В этой каше из выдумки и правды люди ковырялись, как вороны в навозе, и каждый хотел превзойти другого еще более невероятной историей. Взять хотя бы положение в Лионе. Послушать иных, так там царил жуткий голод. Осажденные жирондисты сражались отчаянно, как львы, и разве они заслужили уготованную им участь? На купола церквей и соборов сыплется град ядер. Дюбуа-Крансе, комиссар Конвента, приказал никого не щадить. Город хотят сровнять с землей, а буде возникнет на его месте другой, то и дать ему другое имя: Commune Affranchie, Освобожденная община. Раз Лион восстал против республики, значит, он не должен больше существовать… Фуше говорит, к свободе нужно идти по трупам. В соборе Невера он велел освятить бюст Брута, тираноборца, и на вратах кладбищ приделать надпись: «Смерть — это вечный сон»… В Нанте гильотина работала до тех пор, пока палач не пал замертво от усталости. Среди его жертв были и женщины, и дети. В Аррасе, во время казни, представитель власти будто бы макал свою шпагу в кровь мучеников, приговаривая: «Ах, как я это люблю!..» На Луаре свирепствует пресловутая команда Марата в своих шерстяных красных шапочках. В одиннадцать ночи там погрузили на баржу девяносто священников, чтобы якобы отвезти их в крепость на острове, да только ту баржу потопили посередине реки. Депортация упорствующих христиан вообще все чаще кончается их утоплением. Когда не стало больше барж, решили просто связывать людей по рукам и ногам и бросать в поток. А кто пытался выплыть и в таком положении, того пристреливали с борта корабля.
Вернулся Онфрой.
«Опять эти свирепые жестокости ультра, — сказал он. — Не вредят ли они тем самым делу революции?» Ведь как бы ни старался Комитет общественного спасения блюсти справедливость, подобные злоупотребления бесконтрольны, они захлестывают как стихия. «Это не лучше, чем контрреволюция, и кое-кто подозревает, что ради контрреволюционных целей все и делается».
Ах, что ты несешь, друг любезный! Ведь не контрреволюционер же Эбер, которого почитают по меньшей мере в сорока из сорока восьми фракций, или Моморо, а тем более Шометт[42], недавно выбранный прокуратором парижской коммуны. А если Камилл Демулен напал на них в своей газете, смешав с политическими авантюристами, с преступниками и проходимцами, значит, он заблуждается. А они возглавили санкюлотов в сентябре без всякой корысти, только ради осуществления требований народа установить твердые цены на продукты питания. Шометт, правда, хотел было упразднить католическую церковь, да потом образумился, подчинился линии Робеспьера и поцеловал, так сказать, лозу, которой его отхлестали. Он во что бы то ни стало хотел сохранить единство якобинцев, способствуя укреплению революционного правительства.
И все же не обошлось без перегиба, до сих пор не преодоленного. Форстер имел в виду новую религию, «культ разума и истины», под который приспосабливали старые церкви. В триумфальном шествии толпа несла на плечах богинь разума, изображаемых красотками, оперной певичкой Кандей или мадам Моморо, женой издателя. Их взносили на алтарь, где они сидели в небесно-голубых туниках и красных фригийских колпаках, на бархатных креслах, осененные лавровыми и дубовыми венками. Собор Парижской богоматери походил на бордель. На хорах были намалеваны декорации, изображавшие купы деревьев с хижинами под ними. Под сводами и в нишах — кругом были расставлены столы, ломившиеся от вина, колбас, копченых сельдей и прочих блюд. Прихожане входили и выходили через все двери, получив право бесплатного причащения сих святых даров. Бравые канониры с трубками в зубах обслуживали богинь. Дети, мальчики и девочки, даже десяти лет, напивались вместе со всеми и валялись пьяные на полу. На площади перед собором был устроен костер из церковной утвари, вокруг которого отплясывали полуголые мужчины и женщины. Чудовищным ночным солнцем мерцало в его свете каменное кружево розы, призванной символизировать сплетение добродетелей и пороков. Это пиршество напомнило ему времена его молодости, когда он заблуждался вместе с некоторыми приятелями, предаваясь ереси розенкрейцеров, когда чуть не занялся было алхимией, экспериментами с колбами да ретортами. О, эта вера, что из простого куска лавы можно добыть благородный металл. Заклинание духов, теософия. Как могло его все это привлечь?
Теперь он уже почти не обращал внимания на разговоры вокруг. Листал Вольтера и заказал себе бокал белого сухого. Боли вновь напомнили о себе, сначала глухо, потом все острее и острее.
Верил ли он еще в бога, во всяком случае, в какое-то высшее существо? В Касселе, когда ему еще не исполнилось и тридцати, удалось освободиться от этого дурмана, и он так радовался этому, хотя им с другом его Земмерингом приходилось опасаться мести бывших братьев по ордену розенкрейцеров. Выручило назначение в Вильну, а на пути туда Гердер окончательно открыл ему глаза своими идеями к философии истории человечества. Это стало революцией в его сознании.
С Терезой он нередко спорил о религии, о том, существует бог или нет. Чаще всего дело кончалось ничем, они просто расходились, глубоко недовольные друг другом, твердо решившись никогда впредь не касаться щекотливой темы. Но чем старше становились дети, тем чаще к этой теме приходилось возвращаться, чтобы найти какое-то общеприемлемое решение. В Валь-де-Травере они гуляли по окрестностям с детьми на руках, Клер — у Губера, Розочка — у него. Коровы еще щипали траву, хотя вершины близких гор уже были покрыты снегом. Золотой свет заливал долину, покрытую пестрыми осенними листьями.
Нет, он давно уже был убежденным материалистом, и с течением времени только укреплялся в своей вере, то есть в своем неверии, которое стало путеводной звездой во всех его суждениях о жизни.
«Ах, если б мы могли достичь согласия…» — сказала Тереза — дети в этот момент пускали в ручье кораблики, — запнулась, но потом продолжала: «Если когда-нибудь все же дойдет до этого, ну, до необходимости расстаться, и Розочка останется у тебя, а у меня Клер, то я соглашусь на это лишь при условии, что ты воспитаешь ее в духе евангелизма».
Поклясться в этом он, конечно, не мог. У него были совсем иные представления о предназначении и счастье человека, и он уже выступал с ними публично, хотя и не нашел отклика у кассельского дворянства, а тем паче у их благовоспитанных отпрысков из кадетского корпуса. Тем более привлекала его мысль воспитать собственных детей естественно, без предрассудков, почти неизбежно сопутствующих воспитанию. Судьба человека решается не в колыбели. Не следует подавлять его желания и наклонности. Напротив, нужно помочь маленькому человеку раскрыться, обнаружить свое призвание и свои таланты. Разве не обрекли обстоятельства современной жизни сотни индивидуумов, созданных для самых высоких свершений духа, на жалкое прозябание в толпе, в бессмысленном механическом труде? Это должно быть изменено, и если ему не удастся изменить это повсеместно, то хотя бы дочерей своих он должен спасти.
Тереза, впрочем, ему не возражала, она только сомневалась, что при его теперешнем образе жизни у него найдутся возможности и средства для реализации таких воспитательных прожектов, а напудренный, с куцыми, как его штаны, мыслями Губер ей поддакивал. Как же он, Форстер, думает уберечь два невинных создания в таком аду, какой представляет собой Париж в настоящее время?
Вот в чем все дело. И если быть честным с самим собой, то надо признать, что он действительно во многом бессилен. Соблазн бросить все, целиком посвятить себя заботам о семье был мучителен и неотступен.
Он высказал это вслух и заметил торжествующую ухмылку, промелькнувшую на лице Губера.
Ах, какая все это тоска!
Он побежал к ручью, прижал к себе Розочку и Клер, потом залез по самые отвороты сапог в воду, чтобы вернуть кораблики, которые грозили уплыть к тому берегу.
Некоторые кораблики уже размокли, перевернулись и пошли ко дну, их было не спасти. Клер заревела. Он погладил ее по темным кудрям, сказал, что сумеет помочь делу. Достал из сумки новый лист бумаги и на ее глазах удивительно быстро соорудил кораблик. Это «Решение»? — спросила Розочка. Чтобы не споткнуться, произнося трудное название парусника, она говорила медленно, по слогам.
«Да, милая. Только тот корабль был намного больше, и вместо одной мачты у него было целых три, и все с парусами».
«А насколько больше?»
«Он — как вон та гора, видишь? И такой же белый, как снег».
Во внезапном порыве чувств девочка обхватила его ноги, потому что не могла достать выше, и крепко прижалась к нему. Он поднял ее на руки, заглянул в голубые глаза, обрамленные светлыми волосами, и угадал сродственную себе тоску.
«Папочка, — прошептала она, — давай уедем на Гаити. Я не люблю дядю Фердинанда».
«Что ж, давай. А маму возьмем с собой».
«Конечно, если она захочет».
У него было такое чувство, что сердце трещит по швам. Он ощущал тепло детского тельца, руки, обвивающие его шею, и был готов закричать от тоски, но в этот миг подошла Тереза.
«Ну какой ты легкомысленный, — побранила она его, — лезть в воду в такое время года. Ты погубишь себя».
Они пошли назад. На лужайке бык верхом забрался на корову. Розочка остановилась. Ее это страшно заинтересовало. Форстер сказал: «Они хотят иметь теленочка».
Тотчас же, метнув на него взгляд, полный упрека, Тереза увела дочь.
«Я полагаю, — оправдывался он потом вечером, когда дети уже спали и они опять сидели втроем, — что от детей не нужно скрывать, как наступает смерть и как зарождается жизнь. Этой цели и служат в первую очередь гениталии, имеющиеся на теле у каждого, так и нужно объяснять. Конечно, конечно, — добавил он, не желая задеть Терезу, — всякому объяснению свое время. Розочка же, мне думается, в том именно возрасте, когда естественное любопытство ребенка не следует кормить сказочками об аисте».
Нет уж, Тереза, думал он тогда в «Медведе», только не трави меня библией. Адам и Ева, грехопадение. Ты и сама-то веришь во все это не каждый день. Иначе следовала бы запрету церкви являться голой перед своими детьми, а ты нарушаешь этот запрет, как и я…
Боли опять усилились. Онфрой попытался вызвать карету. Но сколько ни старался, сколько ни тормошил посетителей и ни рассылал слуг, ни одного кучера нигде не нашли. Форстер вынужден был в конце концов решиться на обратный путь через весь город пешком и без сопровождения.
Снова моросило. Из Люксембургского сада доносился шум работы, привычный в последние месяцы. День и ночь в Париже крутились шлифовальные камни, на которых точились ножи и мечи, отлитые из всего наличного железа. Сами мастеровые были одеты бог весть во что, но химики совершили чудесные открытия в кожевенном деле, и вот уже седельники и сапожники вовсю пыхтели над нескончаемым потоком своих изделий из заменителя для армии. Арсенальные кузни стояли вплотную друг к другу под открытым небом, лишь кое-где прикрытые от дождя. С грохотом обрушивались молоты на наковальни, выковывая дула и ружейные замки из раскаленной стали. Часовщиков нарядили выполнять работу потоньше, они выравнивали золотники и ударники. Тысячу мушкетов ежедневно поставляла столица фронту! Согласно приказу Комитета общественного спасения. Женщины шили палатки и солдатскую робу. Дети готовили перевязочный материал для раненых. Повсюду в нишах и за выступами оград Сен-Жермена сидели нищие — калеки войны, живые символы лихолетья, с откромсанными руками и ногами, нередко ослепшие. И тем не менее они были полны бодрости, призывали молодых и здоровых соотечественников выступить в поход против королей и князей Европы, против тиранов человечества.
Как не похожи эти люди на улицах, думал Форстер, на тех болтунов, что рассиживают в кафе вокруг Одеона или Пале-Рояля…
Он шатался и спотыкался на каждом шагу. Отдохнул немного, постояв у стены и опершись о нее руками. Грудь болела, словно превратилась в одну зияющую рану. Каждый глоток воздуха входил в него с болью, терзавшей легкие.
Он все еще не мог забыть услышанное. Вести были много хуже тех, что содержались в депеше Сен-Жюста. Говорили, что Эльзас потерян. Хагенау все еще находился в руках противника, а крепость Ландау было не спасти — рано или поздно она обречена на голодную смерть. Во что же превратилась достохвальная вайсенбургская линия со всеми ее валами и укреплениями? О, если бы он мог сам, на месте увидеть, как обстоят дела там, где ждут его помощи! Надо преодолеть себя… Дальше, еще дальше… Эбер и, Шометт — предатели? Клевета. Но, может, бюро военного министра превратилось меж тем в рассадник заговора против республики?
«Стой-ка, гражданин. Выпей да закуси с нами, коли ты друг». Приглашал его инвалид. Он лишился обеих ног при Жемапе, как тут же рассказал, и передвигался на короткой тележке с четырьмя колесиками при помощи рук.
«И все это — не напрасно. Жить мы хотим, понимаешь ты, жить! Как короли. Быть сытыми каждый день. Их, кровопийц, казнить, а французский народ пусть живет!»
Форстер сделал глоток, съел кусок хлеба с поджаренным мясом. Мясо, похоже, было собачье или кошачье. Но плавая с Куком, он ел и крыс. Вот, думал он, люди, которые тяжко изувечены, потеряли кто ноги, кто руки, кто глаза, а им все ни по чем. Потому что они сбросили свои цепи. А это важнее всего…
Он добрел до каменной набережной Сены, услышал плеск волн, увидел перед собой мост Пон-Нёф с приземистыми опорами и низкими арками. Опять ему пришлось отдыхать, он лег грудью на перила, глядя в темную водную глубь, где отражались пестрые фонари набережной. С каждым шагом силы его оставляли. Ноги словно налились свинцом и не хотели повиноваться, он их перестал чувствовать. Холодный пот стекал по лбу и за ворот рубашки, которая прилипала к спине.
А может, все усиливавшийся дождь лил так, что он промок до нитки? Бог мой, если дела со здоровьем пойдут так и дальше, то до самой весны проваляюсь в постели. Этого только не хватало — выключить из жизни такого ее бойца…
На набережной у Лувра также что-то сверлили. Сдвоенные барки были превращены в мастерскую, где при мерцающем огне обрабатывали стволы пушек.
Шум оглушил его, и он закрыл на секунду глаза.
От Пон-Нёфа до дому ходьбы оставалось не более получаса. Он глубоко вздохнул, собираясь с силами.
Как вдруг услышал рядом голоса. Его остановил патруль национальных гвардейцев. Из их разговора он понял, что его принимают за пьяного.
«Нет, я не пьян, — сказал он, — всего лишь болен. Одинок, как перст, и — болен».
По всей вероятности, нельзя было глазеть на то, чем занимаются на барках. Уж не подумали ли, что он шпион?
«Ваш паспорт, гражданин».
Он показал им документ, который вменялось в обязанность носить с собой и который удостоверял не только личность, но и республиканские взгляды последней.
«Вуаля. Можете идти».
Форстер оторвался от перил. Но через несколько шагов ноги ему отказали. Он упал на колени. Голова кружилась. Попытался выпрямиться, подняться. Руки уперлись в гнилую листву. Улицы, конечно, не подметали… Он помнил только, что солдаты подняли его и что он успел сказать им свой адрес.
Глава восьмая
…ибо ничто не прочно, все колеблется
перед нами, пока мы не решимся на
что-нибудь и не настоим на своем.
22.12Как он очутился на улице Мулен у себя в комнате, он не помнил. Должно быть, потерял сознание. На короткое время он приходил в себя, потом снова погружался в забытье, и сон был единственным его лекарем. Когда, однажды очнувшись, он спросил, какое сегодня число, ему ответили, что идет снежный месяц нивоз. За окном висели низкие темные тучи. Боли давали о себе знать вопреки усиленным дозам лекарств. И опять он испугался при мысли, что проваляется так до самой весны.
Оба поляка, Малишевский и Тадеуш, оказались правы. Конечно, нужно было внять их совету и не покидать дома до полного выздоровления.
Он лежал на кровати, притихший, но обуреваемый нетерпеливыми страстями. А если зачем-нибудь и вставал, например чтобы написать письмо Терезе, то сильно мерз и вынужден был греться у едва теплого камина.
Внутреннее беспокойство, неясность, когда он снова будет в силах покинуть Голландский дом, особенно тяготили. Он часами разглядывал карту у двери, страдая одинаково от физических болей и от своих мыслей. Сен-Жюст, революция призывали его. Он искал на карте точку близ Страсбурга, Хагенау — Ландау, где-то между этими городами находилась ставка Рейнской армии.
Узкая, неуютная комната казалась склепом, в котором он погребен заживо.
Он плакал. Никто не слышал и не видел, как он плачет. Словно ребенок, навзрыд, беспомощно. Судьба так обманула его, что он, мужчина, немало повидавший на своем веку и не привыкший себя щадить, не стыдился теперь своих слез. Как тяжко прозябать тут вдали от родных и друзей, от тех, кого он любил, и ничто, ничто не могло подбодрить и обнадежить его.
Ах, будь у него волшебная палочка, одним мановением он перенес бы сюда Терезу с детьми! И Губера? Бог с ним — и Губера тоже. А всякие недоразумения, думал он, это следствие того, что мы живем в разлуке. Письма, особенно когда пишешь дрожащей от хворобы рукой и мысли твои путаются, могут только посеять в корреспонденте беспокойство, а то и вызвать обиду. При личной встрече все это мгновенно выяснится, и всякие обидные пустяки утратят свое значение.
Размышлял он и о том, нельзя ли как-нибудь, несмотря на болезнь, помочь их благосостоянию. Что-то надо придумать. Ах, если б освободиться от предубеждений, от всяких подозрений друг к другу, мы снова могли бы быть вместе и счастливы!
Но куда заносят его грезы? Надо смотреть правде в глаза, иметь мужество для этого. Ведь какие бы планы он ни строил, все разбивалось о памятную ухмылку Губера. Однако во всем ли виноват один только Губер? Когда он вообще вмешался в их брак?
Форстер, сотрясаемый лихорадкой, в ночных бодрствованиях и в ночном забытьи попытался припомнить их совместную жизнь в Вильне.
Разве не охватывала его тогда прямо-таки телячья радость, которой он никогда не знал в жизни и о которой готов был кричать на весь мир? Разве письма его тех лет к Земмерингу, Спенеру, супругам Гейне не звучали чистой восторженной радостью, подобно эоловой арфе? Брак — это счастливейшее состояние человека, я убежден в этом — такими восклицаниями полнились его письма. Два близких человека заботятся друг о друге, помогают и облегчают жизнь. В доме чувствуешь себя таким счастливым, таким покойным, вне дома надо так мало, да и то ценишь лишь тогда, когда можешь разделить удовольствие с любимым существом. Что Тереза самая несравненная среди женщин, коих я знаю, что я совершенно счастлив с нею, и я в постоянном блаженстве от ее любви и дружбы, что мы радуемся нашему маленькому домашнему хозяйству, как дети, и для нас нет большей радости, чем сидеть вместе рядом — есть ли, читать ли, заниматься ли чем-нибудь или просто болтать, что мы абсолютно счастливы при этом — можешь мне поверить, мой друг, что это так, да ты и не сомневаешься, я полагаю, ибо знаешь меня… Я с каждым днем чувствую себя все счастливее, я вынужден намного расширить границы счастья, которые только мог вообразить себе, она заставляет меня это сделать, я знаю, что ни одна другая девушка в мире не принесла бы мне и тысячной доли этого счастья, которое она дарит мне ежедневно. О, матушка, о, батюшка, как же я вам благодарен за то, что обрел в вашей дочери такую жену… И она, как Форстер знал, писала тогда в таком же духе. «Я плачу, когда вижу, что он страдает. Я каждую минуту думаю только о нем, о том, что лучше его нет никого на свете». И как странно, что у Терезы Форстер оказались совсем другие заботы и представления, чем у Терезы Гейне. Но все равно, я не променяю эту переменчивую, непоседливую, неуравновешенную, влюбленную в жизнь и ненавидящую все в мире женщину ни на какую другую…
Ах, какие то были медовые годы, после того как они летом 1785 года поженились, в Вильне. Приехали туда только в начале ноября, после визитов друзьям, у которых гостили в Готе, Веймаре и Лейпциге, потом у его родителей в Галле, потом в Берлине и Варшаве. И надо же было случиться, что как раз в день приезда в Вильну жизнь их соединилась окончательно — через девять месяцев, десятого августа, родилась дочь, Розочка или Терезинетта, как он ее тогда называл.
Снова из письма Земмерингу: только отцу Гейне я написал пока о том, что сегодня утром, в семь часов, моя Тереза благополучно разрешилась от бремени. Роды прошли превосходно. Схватки начались в два часа ночи, к семи утра все было позади, теперь она чувствует себя великолепно, температура нормальная… Девочка крепенькая, упитанная и здоровая, такой, будем надеяться, и останется. Глаза и волосы мамины, да и вообще похожа на Терезу. Тереза думает, что я больше хотел мальчика, но мне это совершенно безразлично, по крайней мере до тех необозримых пор, пока из девочки получится женщина, этот период, конечно, достаточно сложен, потому что женщине у нас куда труднее добыть себе пропитание, чем мужчине. Но меня-то это не заботит, напротив, я рад, что как раз первый ребенок оказался девочкой… Никто не воспрепятствует мне воспитать ее так, как сам захочу! Все, что я могу и хочу сделать для счастья существа, которое сам же и породил на свет, состоит в том, чтобы сообщить ему истинные понятия и представления и оградить его от предрассудков, заблуждений, неправды, ложных выводов, научить его отличать существенное от несущественного…
Вильна же сама — это глухая польская провинция, которую можно сравнить только с понтийскими болотами у Горация. Об этом, кстати, предупреждал его и император Иосиф, когда годом раньше Форстер нанес ему визит в Вене. Из Германии они должны были выписывать все книги, даже Гомера, Тереза же — каждую мелочь, вплоть до ниток и спиц для вязанья.
Конечно, и здесь было вдоволь священников и игровых столов, пивных компаний и прочего праздного удовольствия, но они все же предпочитали оставаться дома. Юная, двадцатидвухлетняя жена его с трудом могла к этому привыкнуть, как он замечал, но она держалась с большим терпением, ободряемая его любовью и тем обстоятельством, что должна была вскоре стать матерью. В те зимние месяцы, когда обнаружилась ее беременность, царил жуткий холод, до тридцати градусов мороза. Случилось это во время одного из развлечений, о которых она сама просила, — во время катанья на санях. На сей раз их пригласили ректор университета с супругой. Под копытами коней позванивал лед. В замерзших, покрытых белым саваном лесах выли волки. Кучер вдруг в ужасе бросил поводья, съежившись в своей шубе. Лошади растерялись, повозка грозила остановиться или даже перевернуться.
Форстер подхватил поводья, перевесившись всем телом через борт.
Рядом, почти вплотную с собой, он увидел оскаленные волчьи зубы, с которых сбегала слюна. Тереза закричала. Ректор осенил себя крестным знамением, а жена его сложила пухлые ручки для молитвы. Наконец, впереди они завидели первые низенькие избы.
Укрощенные лошади повиновались его руке. Он остановил сани возле домика перед университетом, в котором они жили. Тереза, вся дрожа от пережитого ужаса, опиралась о него. Она вдруг почувствовала слабость. Он на руках поднял ее по лестнице и положил на диван. Сейчас приготовлю горячего кофе, сказал он, нам обоим это будет весьма кстати. Но она взглянула на него своими широко распахнутыми темными глазами и сказала: «Георг, прошу тебя… Сделай так, чтобы на мою долю больше не выпадало таких приключений. Если, конечно, хочешь, чтобы у тебя родился здоровый ребенок».
Он обнял и поцеловал ее. А на кухне надрывался кофейник, и вода залила всю плиту. А он думал: какая будет прекрасная жизнь. Это еще больше сплотит нас, и до скончания века мы будем неразлучны…
И вот он лежал на своей одинокой койке в Париже. И предавался воспоминаниям, которые терзали душу. Нет, нельзя им поддаваться, надо встать, выбраться из этого склепа и выйти на улицу.
Но не прошел он и сотни шагов до улицы Терезы, как ощутил ужасную слабость во всех членах. Оперся, чтобы не упасть, о стену. Подобрал его Хаупт, старый ворчун, отец одного клубиста из Майнца. Он как раз шел к нему и помог добраться до своей комнаты.
«Очевидно, артрит, дорогой профессор. От него помогают только камфора, опиум и специальный бальзам из Мекки. Боли, наверное, очень чувствительные, не так ли? Попробуйте для начала камфору, очень рекомендую…»
Да, да, конечно, спасибо. Он и сам знал, что боли чувствительные. Левая рука болела так, что он готов был кричать от отчаяния. К чему эти мудреные проповеди с ученым видом? К чему лекции по фармакологии? Что он, сам, что ли, не знает? Хаупт, педант и всезнайка, на какую бы тему ни зашла речь, мог подолгу вытряхивать короба своих знаний и сведений. Так было и несколько дней назад, когда он помогал Форстеру перевести на французский статью о Швейцарии. Такие люди вечно бегают целый день с озабоченным видом, а толку от них мало.
Нет, этого пустомелю он не намерен больше терпеть.
«Послушайте, Хаупт, — сказал Форстер, — я бы хотел остаться один».
«Конечно, конечно. Только повторяю, артрит — серьезная штука. От него ужасные длительные боли…»
«Да. Никто не знает этого лучше меня».
«Вам надо считаться с этим, профессор, и в корне изменить свою жизнь. Нужно думать о болезни, то есть — о выздоровлении. А для этого требуется умеренность во всем. И что касается вина, и что касается революции. Волноваться нельзя совершенно. И очень рекомендую бальзам из Мекки. Приняв его, вы поймете, что все противоречия мира, в сущности, — одна сплошная гармония…»
Ну уж нет! Он не пьяница! И не бродяга перекати-поле.
«Подите вы прочь! — закричал он. — Прочь! Вот дверь. От вас я могу разболеться еще больше».
Насмерть перепуганный Хаупт выкатился с такой миной на лице, которая говорила: ну вот, этого и следовало ожидать.
И все же о нем говорили в Германии неправду, утверждая, будто он грубиян и задира, что-то вроде Робинзона, что длительное путешествие с Куком отучило его от хороших манер, сделало нечутким и неделикатным. Нет, просто он не выносил болтунов, шептунов, всякую придворную мразь, напудренную, да напомаженную, да распускающую хвост как павлины, все эти лизоблюды всегда были ему противны, еще и до путешествий, но, конечно, в походах он только укрепился в своем идеале естественного поведения. Потому-то, естественности и последовательности мышления ради, перессорился он под конец со всеми, кто был прежде ему близок, — с Кампе и Спенером, со своими издателями, и до сих пор он жалеет о том, что спустил тогда Гёте, когда тот стал хвастать своими познаниями в области естественных наук. И Каролина Бёмер его потом в этом упрекнула. Ведь он был единственным, кто бы мог сорвать с олимпийца его лавровый венок — листик за листиком. Вместо того и он, как и все прочие, только трусливо молчал.
Конечно, его сиятельство был противником куда более искушенным, чем только что Хаупт, но в своем упорстве относительно придуманных им схем в теории цвета, как и в противоборстве с Ньютоном, он был смешон не менее Хаупта, когда тот снисходительно рассуждал о Швейцарии или вот только что об этом бальзаме из Мекки…
Гёте тогда прибыл из Веймара в экипаже своего покровителя. От Гумбольдта, Шиллера и других он знал, что в Майнце есть дом, в котором собираются каждый вечер, чтобы испить хорошего вина и обсудить самые разнообразные духовные темы. Потому-то он объявился однажды у Форстеров, прежде успев побывать, конечно, у курфюрста и архиепископа, богатейшего христианского прелата и его метрессы, у знатных французских эмигрантов, у княгини из Монако, любовницы герцога Орлеанского.
Гёте прислал лакея в ливрее с изысканным букетом красных роз и безупречного слога запиской. Тереза приняла все это с надлежащей учтивостью, и с этого момента покой оставил ее: раскрасневшаяся, с лихорадочно блестящими глазами, она носилась по комнатам, отдавала распоряжения, мыла и скоблила там и тут сама, шпыняла даже и Губера, который в конце концов пристроился помогать на кухне.
Вот тогда-то впервые возникло у Форстера не слишком лестное мнение о своем госте, действительном тайном советнике, министре. Конечно, в Веймаре, куда они заезжали с Терезой во время свадебного путешествия, он их очаровал почтительным радушием, но ведь с тех пор прошло уже семь лет. Но даже и тогда в глубине души он отдал свои симпатии в значительно большей степени простому и честному Гердеру, чем закутавшемуся в свой шелковый кафтан, как в мантию пророка, автору «Вертера». А уж когда теперь они читали недавние его произведения, то единодушно пришли к выводу: упаси нас бог так вознестись, что уже и не замечаешь собственной пошлости.
С необыкновенной щедростью, будто в великий праздник, был накрыт стол. Форстер не протестовал. Пришли Ведекинды, Земмеринг со своей юной женой, уроженкой Франкфурта, которая знала мать Гёте и услаждала слух поэта родными звуками гессенского диалекта, Фердинанд Губер, конечно, и Каролина. Все были крайне напряжены в ожидании чего-то небывалого. И разве мог Форстер портить им такое настроение. Нет, он и не думал об этом, он только надеялся, что князь поэтов представляет себе ситуацию и постарается не разочаровать своих поклонников. Форстер поддался уговорам Терезы и согласился украсить комнаты и коридоры чучелами животных и гербариями, экзотическими коллекциями, привезенными из дальних странствий. Гёте, по слухам, был выдающимся знатоком естествознания, так что надо его порадовать.
Тот, однако, обнаружил столько приблизительности в своих познаниях, что Форстера это просто потрясло. Ну как вмешиваться, к примеру, в область физики, при том, что математика вызывает в тебе только раздражение и ты уничижительно именуешь ее «цифирней»? Ни о чем другом, кроме камней, костей и растений, гость вообще не пожелал разговаривать. Темы революции, например, бушевавшей в непосредственной близости отсюда, он старательно избегал, делая сразу недовольное и даже несколько испуганное лицо. Попросить его прочитать какие-либо новые стихотворения, коих он был все же мастер, также никто не решился. Губер попытался выдавить из себя имя, Шиллера да похвалить его отношение к философии Канта, но удостоился за это лишь ледяного взгляда Вот чужеземная флора и фауна, нашел гость, заслуживает куда больше интереса, чем это препирательство слов и оружия, которое ныне захлестнуло Европу. Ибо естествознание дает человеку действительное проникновение в замысел божий. С этими словами он согнулся над орхидеей, привлекшей его внимание, Dendrobium densiflorum. Форстер объяснил ему, что женщины на Яве делают из них венки на голову, на руки и шею.
«О, это должно быть красиво, — воскликнул Гёте, — это разжигает воображение мужчины. Представляю, каково увидеть такой цветок в темных волосах хорошенькой женщины».
Он несколько оживился и стал кокетливо поглядывать на Терезу.
Но разве он не заметил, что она блондинка?
И тогда — или это было на другой день? — он преподнес свою теорию желтого и голубого цвета, которые он объявил главными и основными цветами. Голубое — это тьма в первоначальной ипостаси, то есть черное, лишь просветленное светом, желтое — это сам свет, белое, омраченное тьмой. Смесь желтого и синего дает зеленое, усиленное темным тоном желтое дает оранжевое, которое переходит в красное, как синее переходит в фиолетовое. Вот — гармоничная схема цвета, завершенная и законченная, как круг, не то что пресловутый спектр Ньютона, согласно которому белый — это механическая смесь всех прочих цветов. Он просто шарлатан, этот Баль Исаак. С помощью простенькой призмы — подумать только! — то есть с помощью простенького кусочка стекла он хочет судить о таких феноменах, как свет и тьма, то есть судить о мудрости творения. «Если взять все мои художественные произведения, то они и в сумме своей ничто в сравнении с той удачей, которая выпала мне в виде возможности исправить Ньютона».
Оставался бы уж он в своей собственной сфере, думал меж тем Форстер, слушая разглагольствования Гёте о голубом и фиолетовом и не в силах скрыть легкую улыбку. Лучше бы уж обратился он снова к стихам, ибо там по крайней мере от него можно ждать действительно великого.
И Ведекинду, заметно, было не по себе от такого выступления. Он хоть и воздерживался от прямого спора, но все время норовил свернуть разговор на что-нибудь другое. Делал он это подчас не очень ловко; так, ни с того ни с сего обратился вдруг к Земмерингу с вопросами по сравнительной анатомии — очевидно, в надежде, что это может заинтересовать Гёте, раз уж тот открыл в свое время os intermaxillare, межчелюстную кость в человеке. Но не имел успеха и он.
Форстеру хотелось как-то поддержать своих друзей, врачей. И тут, видно, бес слегка попутал его.
«А знаете, ваше превосходительство, — обратился он с совершенно невинным видом к Гёте, — что в своей борьбе против Ньютона вы оказались в довольно-таки сатанинской компании?»
«В самом деле? Вы дразните мое любопытство, Форстер». Гёте, казалось, был рад, что хоть кого-то искренне заинтересовало то, о чем он говорил. «Как, впрочем, и все в вашем доме».
Вероятно, тут нужно было поблагодарить за комплимент? Он так и сделал и продолжал: «Еще во время поездки по Фландрии и Франции в руки мне попалась книга, титул которой гласил — „Открытие света“».
«А имя сочинителя?»
«Как, я разве не назвал? Самый неистовый из якобинцев — к сожалению. Чудовище Марат».
Гёте, более всего не переносивший иронию, особенно когда она была направлена против него, был заметно обескуражен. Он почувствовал, что его обвели вокруг пальца, что над ним насмехаются, а этого он не прощал. И по сей день, как сообщали Форстеру из Германии, Гёте старался отомстить ему, печатно обвиняя его в разном: в ослеплении, в непоследовательности, в неумении различать свет и тьму, в дурном характере.
Мысли его отвлеклись от Гёте. Марат, l' Ami du peuple, Друг Народа, был убит. Но что же такого ужасного он совершил, что его имя до сих пор звучит в мире пугалом, а такие люди, как Гёте, Гейне, его отец, да и Тереза с Губером, произносят его с отвращением, будто он воплощение зла, сам дьявол, при виде которого нужно креститься? Ну да, он призвал к уничтожению жирондистов, той партии, которая стремилась нагреть руки на революции. Погибло при этом немало. Но ведь то был всякий сброд, и прежде всего дворяне. И с их исчезновением поубавилось зла в мире. Понятно еще, когда Марата ненавидят при дворах августейших величеств. Ах, если б он был жив. Но ничего, до тех пор, пока едины Робеспьер и Дантон[43], они сумеют оградить революцию от врагов и предателей.
Он растер грудь вытяжкой из исландского мха и выпил чаю с медом. На всякий пустяк ему требовались часы, если приходилось обслуживать себя самому.
В Вильне за ним ухаживала Тереза, когда он болел, и ее участие и любовь, да одно только ее присутствие действовали лучше всяких лекарств. Может ли он еще надеяться, что она когда-нибудь снова будет рядом и он обратится за помощью к ней?
Нет, пожалуй, надеяться на это он больше не вправе.
В Травере, в последний вечер Губер сказал ему с заметным облегчением оттого, что все неприятности скоро будут позади: «Сегодня, на прощание, угощаю я, как угощали вы при встрече. Прошу вас без стеснения заказывать любые блюда и напитки».
Они сидели в скудно освещенном зале ресторана. В камине потрескивали поленья. За окном свистели холодные ветры, прилетавшие с окрестных гор.
Тереза долго ничего не пила и не ела. От детей, которых она уложила спать, она вернулась с заплаканными глазами. Слезы, казалось, до сих пор блестели еще в ее ресницах.
Губер не знал, как ее утешить. Брал ее за руку и беспомощно бормотал: «Ну что случилось… Ну полно… Ведь никто не умер… Мы расстаемся не навсегда..»
Форстер же приналег не столько на еду, сколько на вино. Сидел как сыч и молчал. Хрустел зубами и пальцами, отбивал какой-то мотив кончиком сапога — и молчал.
«В Понтарлье, — говорил меж тем Губер, — Георг, как и уговорено, предпримет все необходимое для развода, и потом мы сможем последовать за ним в Париж».
Это было обещание, и оно до сих пор слово в слово звучало в ушах Форстера.
Глава девятая
Надеюсь через две недели стать
человеком, пока же я только абстракция.
27.12В последнем письме своем к Каролине он написал: я простил судьбе тот удар, после которого отравленным оказалось все, даже память о прошлом.
Это было в воскресенье, а сегодня — среда. Несмотря на все усилия, он не мог оторваться от койки. Он ощущал подагру и в левой руке, и в кишках, и в желудке. Его непрерывно рвало, и все, что бы он ни ел и ни пил, даже молоко с медом, организм немедленно извергал, и его мощное, как у медведя, тело постепенно становилось скелетом. Петр Малишевский привел трех врачей. Они особенно призывали его бороться с душевным недугом, с депрессией. И разве они не правы? Он ощущал депрессию все больше и больше. Пока не будет покончено с этим браком, я не вылечусь — так заключил он письмо.
Но он хотел жить. Должен был жить. Терпение, только терпение! Так он говорил себе и другим. Только бы продержаться эту зиму. Потом будет легче. Может, боли и бессонница останутся, но опасность минует.
Начиная с лета Каролина писала ему из Луки, деревни под Альтенбургом. В ноябре она разрешилась сыном, отцом которого был некий Крансе, молоденький лейтенантик, адъютант генерала Дуаре. Он вспомнил его. Год назад они были с Каролиной в гостях у Форстера. Та настаивала, чтобы он не прекращал свои приемные «чайные» часы и хотя бы на рождество собрал гостей. Через неделю, в новогоднюю ночь, перед дворцом бежавшего курфюрста, и котором Кюстин устроил бал для немецких якобинцев и французских офицеров, был разожжен огромный костер, в котором население жгло обширный архив из бумаг и актов, кои скрепляли их закрепощение. Кругом был пьяный гвалт. Он, Форстер, выпил мало. До самых последних часов уходящего года он все еще работал над своей речью, которую хотел произнести в качестве нового президента клуба. Братья! Вы собрались сюда ради истины!.. Вы чувствуете высокое достоинство человека, вы поклялись до последнего вздоха защищать его свободу, его на разуме основанное право и его равенство с другими людьми…
Небо стало голубым и холодным, вытряхнув вчера весь свой снежный запас на землю, укутанную теперь пухлыми хлопьями. Площадь была черным-черна от народа. Тысячи мужчин и женщин. От их горячего дыхания, казалось, таял снег, капало с крыш соборов и домов. Маленьким и невзрачным казалось только дерево свободы, посаженное на площади еще осенью. Оно простерло в холодном воздухе свои голые ветви, как паутину. Не слишком-то удачный символ, подумалось ему. Красная фригийская шапочка па макушке дерева уже полиняла и грозила вот-вот свалиться. Но толпу это мало смущало. Кто-то предложил посадить новое, и вот уже откуда-то взялся могучий дуб, грозно возвысившийся над площадью. Да здравствует свобода! Да здравствует народ! Да здравствует республика! Мощное эхо перекатывалось по площади. Когда же запылал костер, в него полетели дворянские грамоты и свидетельства о привилегиях, а вслед за ними и сама имперская конституция.
Отсалютовали пушки. Загремела музыка. Толпа пела «Са ира» и «Марсельезу», новый революционный гимн. Костер горел до позднего вечера. Как на каком-нибудь развеселом карнавале, французы и немцы братались до поздней ночи и танцевали карманьолу.
Танцевала и Каролина вместе со всеми.
Она была на редкость оживлена и раскованна. В свои темные волосы вплела трехцветные банты. Он отвел ее домой, она повисла на нем. Когда же он привел ее в спальню, которую ей завещала Тереза, она закрыла дверь изнутри, а ключ спрятала в постели. Тут только он заметил, что, как ни была она пьяна, цель свою из головы не выпускала. Зардевшись, как пунцовый мак, она раздевалась перед ним. Без преувеличенного стыда, будто само собой разумеется. Сегодня — видимо, по какой-то ассоциации — ему вспомнилось, как бонвиван Гёте признался однажды в том, что совершенно нагую женщину он увидел только в тридцать пять лет, и было это где-то в Швейцарии, где он специально заплатил за это удовольствие.
После напряжения последних дней ему было как-то не до этого… Но он был мужчина и изголодался не меньше, чем она.
Потом он все же нашел, что лучше было этого не делать. Может быть, он недооценил Каролину, хотел ее только использовать, не спрашивая о том, что заставило ее удовлетворить свою страсть именно с ним.
Ревность к Терезе вряд ли могла быть причиной. Жорж, призналась она, я ни о ком не мечтала столько, как о тебе, — со дня нашей первой встречи, ты помнишь? Мне тогда было пятнадцать. Ты еще накинул мне на плечи какую-то ткань, привезенную с Гаити. И с тех пор я никого не любила, кроме тебя, ни о ком не думала, только о тебе, — а ты так мало обращал на меня внимания…
Почему он не соединился с ней? Он не сомневался, что она-то последовала бы за ним и в Париж. Майнц, революция, первая немецкая республика… Ему было не до того. Он работал как вол, день и ночь. Она помогала. Она не бежала, как Тереза. Слушала наброски его статей и речей. Переписывала его рукописи. Ей страшно хотелось быть для него всем, значить для него все. А он? Как он к ней относился? И в конце концов — это случилось в феврале — она сошлась с лейтенантом Крансе.
Прошлогоднее рождество. В его доме. Он сам и познакомил их.
Форстер позвал Тадеуша.
Грудь опять теснило. Он не мог пошевельнуться. Тадеуш!
Он неподвижно смотрел на канделябры в своей комнате и вдруг увидел своих детей, как они сидят при свечах, в Вильне или Майнце, около елки. Что-то они поделывают сейчас, в своем далеке, без него? Еще год назад, когда они были в Страсбурге, он просил Каролину купить и послать им игрушек к Новому году. А о ее дочке от брака с Бёмером он даже не вспомнил. Он относился к Каролине как к своего рода домработнице, оставленной ему Терезой.
Вошел Тадеуш, он уже забыл, зачем позвал его. Поправить подушки? Заварить чай? Не стал просить ни о том, ни о другом, а попросил съездить на Ля Виллетт и привезти заказанные там сапоги.
Пусть это будет подарком, подумал он, подарком мне самому, чтобы я не промочил ноги, когда снова выйду куда-нибудь…
Картина эта приобретала в его горячечном сознании чудовищные масштабы — вот он, нет, уже не он, а кто-то другой в его образе шагает исполинскими шагами по миру, а на ногах — новые сапоги. Как Свифтов Гулливер в стране лилипутов. Под ним, где-то далеко внизу, тянулись ущелья и горы, холмы и равнины. Весь, до боли знакомый, горный массив Юры превратился в крохотный бугорок, который он мог поднять на ладони. Океан едва доставал ему до отворотов сапог. От его шагов в этой луже поднимались бури, кораблики раскачивались, ломали мачты, тонули в водоворотах. И снова очам его представилась Индия. От шагов его началось наводнение в Ганге и Брамапутре, города по берегам этих рек заливало водой, в бурном потоке гибли люди и животные, в том числе и священные коровы. Или то всего-навсего ручей, в который он ступил, чтобы спасти бумажные кораблики для Розочки и Клер? Или Элтон, Золотое озеро, Алтан-нор по-калмыкски, виденный им, когда он десятилетним мальчиком спустился со своим отцом по Волге от Нижнего Новгорода до Астрахани? Восемь речек впадали в озеро глубиной не более трех английских футов. Он опускал в него свои руки и смачивал лицо, а жаркое солнце пустыни в мгновение ока превращало влагу на его лице и платье в сухую натянутую корку, белую, как свежий снег. Может, тогда-то и возникло в нем впервые желание исследовать весь мир до самых последних закоулков? А может, и еще раньше, в бедном пасторском домике, где отец вел такую томительно однообразную жизнь и не скрывал от сына, что с тоской и завистью заглядывается на океанские суда, когда случается ему бывать в данцигском порту? Когда-то уже значительно позже, в английском городе Уоррингтоне, городе с узкими улицами и мрачными мануфактурами, он, как и здесь, в Париже, промочил ноги, разгуливая в рваных башмаках. Но тогда это принесло ему счастье. Посреди лужи, в которую он залез, он увидел золотую монету, гинею. То было добрым знаком судьбы, он смог расплатиться наконец с булочником, которому так задолжал. А на оставшиеся от долга двадцать шиллингов он купил поношенные сапоги себе и золотой наперсток своей сестре Вильгельмине. Теперь вот, расхаживая гулливеровыми шагами по крохотной земле, он почему-то вспомнил обо всем этом. Вспомнилась мать, вечно занятая, озабоченная, как одеть и чем накормить семерых своих детей, но не унывающая, твердая в своей вере. Отец — человек мрачноватый, конечно, но только вследствие многочисленных несправедливостей по отношению к нему со стороны начальства, человек, каждому желавший божьего благословения, но только не дождавшийся его сам… Георг, его старший сын, был в отца. Странно было, что, разгуливая так, гулливеровыми шагами, по миру, он не слыхал своего эха. Молчали и горы, Швейцарии. Океан простирался перед ним, и дальше ничего не было. Жуткая тишина обступила его. Он кричал, но голоса своего не слышал. Никто не отвечал ему, великану. Было такое чувство, что он уже не на земле, а где-то далеко-далеко за ее пределами. Словно на какой-то далекой звезде. И будто всякий крик его порождает лишь мигание других звезд, и больше ничего.
Не завладевала ли эта космическая пустота и им самим?
Найдет ли он когда-нибудь в своей жизни еще кусочек золота?
Вильгельмину, любимую свою сестру, он в последний раз видел, когда был в Галле. Сколько же прошло с тех пор? Пять лет. То есть еще до штурма Бастилии, когда Европа лежала в цепях, а короли и князья могли не опасаться за прочность своих тронов. Вскоре после отъезда из Галле карета их перевернулась, он очутился в канаве и с трудом выбрался из-под обломков. Вильгельмина к тому времени давно уже была женой Шпренгеля, профессора истории и географии. Но за шитьем по-прежнему надевала золотой наперсток, тот самый. Он, признавалась Вильгельмина, будто сохранился из какой-то детской сказки, был чем-то вроде золушкиной туфельки или белоснежкиного зеркальца. Но почему же и Вильгельмина ни разу не написала ему, не заверила, что она не заодно с проклявшим его отцом?
Тесть, обожествлявший монархию, по-прусски обругал его во всеуслышание. Обвинил в недостатке ума и проницательности. Сослался на более чуткого Шиллера, бывшего некогда почетным гражданином Французской республики — это когда еще легко было с ней заигрывать, — а теперь называвшего ее госпожой Люцифер. То была и кличка Каролины, маленькой, темпераментной, это правда, женщины, но вовсе не способной на какое-либо дьявольское злодейство. Ее травили так, будто она, а не Тереза была его женой. Подруга моя, приветствую тебя, где бы ты ни была теперь. Они втоптали тебя в грязь, потому что, жалкие душонки, должны были найти хоть какое-то объяснение его решению. И что же им еще оставалось, как не рыться в чужом белье?
А он шагал и шагал — шагами великана.
Пусть клевещут. Пусть забрасывают грязью друзей. Каролина, если уж воздать каждому по справедливости, помогла ему в самый важный и ответственный период его жизни, Тереза — предала его. Гейне, пойми же это наконец! Во время свадебного путешествия на пути в Вильну они остановились у родителей в Галле, в частности и затем, чтобы он мог защитить магистерскую диссертацию в тамошнем университете. В доме на Штейнштрассе, под мощной, круто вздымавшейся кверху крышей они в течение целой недели были долгожданными и желанными гостями. Жена его всем понравилась. Их обоих баловала вся семья. Отец не мог нахвалиться выбором своего сына, а матушка особенно была рада, что он, проплыв по сотням морей в обоих полушариях, наконец-то завернул в брачную гавань. Дни были счастливые, что правда, то правда.
Собственно говоря, они только ночевали дома на Штейнштрассе. Однажды всей семьей отправились на два дня в горы, к романтической Заале, овеянной легендами реке, на берегу которой стоял трактир Карла Фридриха Бардта, которому запрещено было преподавать в университетах — и он открыл харчевню. Стояло роскошное золотое бабье лето. Они сидели на траве. Скалы с мрачными соснами отсюда только угадывались. Лес уходил на запад, туда, где родился Лютер и умер Мюнцер. Шпренгелю как историку, должно быть, особенно дорог этот ландшафт, думал он. Но Шпренгель молчал. Его жена, Вильгельмина, тоже молчала и что-то шила, на пальце ее сверкал золотой наперсток. Терезе запах прелой листвы казался куда более возбуждающим, чем всякие разговоры. Помалкивал против обыкновения и его отец, мнением которого он привык дорожить, начиная с совместного пребывания в Петербурге и кончая совместным плаванием под началом Кука.
Отец был полон тогда прямо-таки якобинских идей. Теперь он понимал это. В галльской газете Форстер-старший опубликовал статью, в которой призывал организовать общественный фонд, из которого можно было бы помогать неимущим и нищим, облегчая жалкую участь бедняков. Он написал это в том же духе, что и свою памятную записку о положении немецких колонистов под Саратовом, которую подал в свое время императрице Екатерине, бывшей принцессе Ангальт-Цербстской. Во всем виноваты обстоятельства. А раз так, нужно эти обстоятельства изменить.
Карл Бардт встал и начал нервно прохаживаться по двору. Он хотел большего, много большего. Человечество должно вспомнить наконец о своем ratio и найти такую форму общественного бытия, которая основывалась бы на разуме. Кто сказал, что власть королей вечна? Может, народ давно уже готов к тому, чтобы самому править.
Вот тут отец его вздрогнул. А он прислушался. Что же тут, если вдуматься, невозможного? Взять Россию или Англию, Кассель или Вильну — всюду, где они были, князья помыкали своими слугами, а не наоборот.
Вешать. На виселицах и фонарях. Так говорил Бардт. Он уже целиком был настроен на одно только слово: Революция. А Форстера это слово еще смущало. Лишь позднее, с жизненным опытом он прислушивался к нему все внимательнее и внимательнее. А за словом должно было последовать и дело.
Вот за это и проклинали его теперь в Германии. Гейне, его отец. А может быть, и Тереза?
В письме, посланном ей вдогонку из Майнца, он писал: ты, как я вижу, ни на чем не можешь остановиться полностью. По мне, так уж лучше бы ты становилась роялисткой, чем ни тем ни сем… Нужно быть или за абсолютную свободу, или за абсолютную тиранию. Третьего не дано.
Тадеуш принес ему сапоги. Он сразу взял их в руки и принялся разглядывать, придвинув светильник поближе к кровати. Красно-бурая мягкая кожа со свежим запахом дегтя. Работа превосходная, без сомнения. И голенища не слишком высоки, и отвороты соразмерны. И прошивка кажется крепкой, хоть он теперь и не может ее испытать. Подошва и каблуки такие, что любая мостовая им нипочем.
Он кивнул удовлетворенно. Что ж, теперь было в чем вернуться на землю.
Глава десятая
Революция — что ураган, кто ж способен
сдержать ее?.. Что происходит, должно
произойти. Уляжется буря, и оставшиеся в
живых смогут отдохнуть и насладиться покоем.
28.12Нанес визит ему в эти дни и Мерлин де Тионвилль, в связи с тем, что по старому летосчислению год 1793 истекал. Он только что вернулся из Вандеи, и хотя прическа и борода его выглядели так же лихо, как в тот день, когда они играли в жмурки у него на квартире, виски его заметно поседели.
Первая седина пробилась в них, когда Тионвилля призвали к ответу перед Конвентом за то, что он сдал Майнц пруссакам и австрийцам. Он тогда решительно заявил: это произошло в безвыходной ситуации и с единственной целью — спасти наши войска, теперь же либо мы положим к вашим ногам девять голов контрреволюционной гидры на западе нашего отечества, либо можете отправить на гильотину мою. В Лемане, где были особенно жестокие схватки с восставшими, он храбро сражался во время уличных боев, доходивших до рукопашной; победив здесь, он участвовал в преследовании остатков католической и королевской армии вплоть до устья Луары, откуда и привез известие о победе.
Он ворвался в комнату, сбросил плащ и шляпу, не дав себе труда поискать для них крючок, и прежде чем Форстер успел опомниться, он очутился в объятьях этого силача, крепко стиснувшего его больную грудь.
«Победа! Победа! Жорж, Тулон тоже наш! Наконец-то! Но что я вижу? Что это вы себе позволяете? Валяться в постели теперь, когда на нашу улицу пришел праздник?»
Мощный кашель потряс тело Форстера. Черт бы его побрал. Мерлин прав — этой минуты и он ждал с нетерпением. И вот — радость причиняет не меньшую боль, чем хворь. Ему всегда нравился этот живой, темпераментный комиссар, но сегодня он был в него просто влюблен. Он был вестником счастья. Новости прямо как в сказке: Вандея побеждена, а Тулон — благодаря младшему брату Робеспьера и какому-то артиллерийскому офицеру, по имени Бонапарт, которого никто не знал, отнят у англичан.
В шутку он просил Мерлина не задушить его. Он еще хочет жить и даже попытается немедленно встать с постели.
Политика Комитета общественного спасения оправдывалась — в этом не было сомнений. И все же в дебатах Конвента в последнее время появились какие-то новые, беспокоившие его мотивы. На столе лежали газеты, в которых сообщалось об этом. Когда он читал, у него не оставалось сомнений, что Гора расколота пополам, что противоречия между умеренным ее крылом и неистовым нарастают. Он еще отчетливо помнил тезисы Робеспьера, которыми тот обосновывал необходимость диктатуры до заключения мира: конституционное правительство имеет целью сохранение Республики, революционное правительство — создание ее основ. Революция — это война свободы против ее врагов; конституция — это режим победившей и мирной свободы… Революционное правительство берет на себя долг защиты всей нации, но это его долг перед народом, врагам которого оно не должно ничего, кроме смерти… И еще: революционное правительство должно проскочить между двух скал, между нерешительностью и безрассудством, чтобы невинность не превратилась в импотенцию, а пышущее здоровье не кончилось апоплексическим ударом. И перелет и недолет — все одно бьют мимо цели… И еще: тактика наших врагов состоит в том, чтобы расколоть нас, они добиваются того, чтобы мы уничтожали друг друга собственными руками…
Эти тезисы давно уже стали его собственным убеждением, потому-то так легко ему было беседовать с Сен-Жюстом. Но кого имел в виду Неподкупный поименно? Фабра д’Эглантена, которого упрекали в том, что он поживился на акциях Индийской компании? А может, его могучего друга и покровителя — Дантона? А с другой стороны? Эбера?
Он попытался встать. Простыни и подушки были в темных пятнах от пота. Мерлин меж тем поднял свой форменный плащ с пола, чтобы его куда-нибудь повесить. Как вдруг он издал возглас изумления — на полу у шкафа увидел новые сапоги.
Тут же подхватил один из них, стал мять кожу и разглядывать подошву. «Великолепный экземпляр! Понимаю теперь, Жорж, почему вы тогда отвергли мое предложение. В таких сапогах я мог бы прошагать и через Ла-Манш и добраться до самого Питта»[44].
Он заразительно рассмеялся.
Форстер стал наивно объяснять: «Как нетрудно видеть, я их даже не обновил. Заказал на Ля Виллетт — с разрешения властей».
«Да, дружище, такие сапоги, должно быть, не только стоили немалых денег, но и потребовали высокого покровительства».
«Покровителем был Сен-Жюст — перед тем, как уехать в Эльзас».
Лишь потом он реконструировал в памяти несколько странную реакцию — лица, глаз, всего поведения — Мерлина на это имя; пока же ему было недосуг обращать на это внимание.
Вошел Тадеуш. «Вы позволите, профессор?»
«Разумеется, друг мой».
Хотелось бы добавить: ты как раз вовремя, чтобы помочь мне одеться…
Но тут молодой поляк выпалил: «Вайсенбургская линия прорвана! Пруссаки и австрийцы бегут. Генерал Гош и Сен-Жюст преследуют их, направляясь к Ландау!»
Что за день! Что это — слабость или радость заколотилась в висках, так что в глазах у него мгновенно потемнело, и он схватился руками за стол, чтобы не упасть? Просто не умещалось в голове. Хондшут и Дюнкерк на севере — ну это еще куда ни шло. Но затем и Вандея на западе. Тулон на юге. А теперь и Эльзас на востоке? Республика всюду громила своих врагов.
От прилива бодрости он даже оделся достаточно быстро.
Мерлин наблюдал за ним с непривычной для него неподвижностью. «Что я могу сделать для вас, Жорж? Подыскать вам какое-нибудь место, приличествующее вашим заслугам перед человечеством и перед революцией? Странно, что Комитет общественного спасения до сих пор не позаботился об этом. Или, может быть, вам нужна помощь, чтобы переправить жену и детей в Париж?»
А Губер? Форстер испугался. Почему он ничего не сказал о Губере? Или Мерлин ничего не знал о нем?
Как раз незадолго перед тем, как пришел к нему комиссар, он писал Терезе: если меня смущает что-либо в вашем здесь пребывании, то вовсе не наши будущие отношения. Я бы хотел иметь возможность полностью заботиться о тебе и детях, чтобы вы ни в чем не нуждались. И как же мучает меня теперь мысль, что далеко не все мне в этих планах может удаться, такие мысли всегда приходят с возрастом, и тогда начинаешь думать, что мог бы построить свою жизнь совершенно иначе…
В этих словах не было лжи. Но ему все чаще казалось, что те мечты и надежды, которые в нем жили после Травера, рассеиваются как дым перед лицом суровой действительности. А потому незаконченное еще письмо его и содержало неполную правду.
Что ответить Мерлину? Тот молча ждал, нервно перебирая пальцами.
«Антуан, прошу вас — не надо. Революция сейчас в той стадии, когда каждый должен отдать ей все и когда не до устройства личных дел».
«Вы на самом деле так думаете?»
«Да. И так я думал всегда. Теперь же — после всех этих сообщений о наших победах — особенно».
«Только бы вы не ошиблись, Жорж. Потому что ошибки в таком деле смертельны».
Над этим ответом он долго думал и после того, как Мерлин ушел. Конечно, как и многое в эти дни, он звучал предостережением. Читал ли он газету Демулена, слушал ли речи Эбера, подчинялся ли беспрекословно Комитету общественного спасения — всегда он выбирал для себя какой-то определенный вариант отношения частного лица к общему делу, санкюлота — к санкюлотизму, якобинца — к революции. Даже если отправляться от того немногого, что в профильтрованном через чужие мнения виде поступало в его комнату, то и тогда можно было заключить, что общественная жизнь в Париже стала еще напряженнее, накаленнее, лихорадочнее, чем та, которую он знал. Победные реляции с фронтов в такой обстановке могли явиться зажженным фитилем, поднесенным к пороховой бочке. От каждого в такой обстановке требовалось сделать личный выбор. Но разве впервые возникает такой период в революции? Кто бы мог подумать еще два года назад, что во Франции будет свергнута монархия, год назад — что король взойдет на эшафот, а это уже случилось. И почему вдруг такой выбор может оказаться смертельным? Смертельным для кого?
Он чувствовал, в каком направлении следует развивать эти мысли, и сожалел, что от усталости не может положить их на бумагу. Так бывает, когда варишь пиво, в момент брожения уже трудно отличить пену от цимеса. Человек, которого революция заставляет действовать, совершает подчас поступки, от которых потомки содрогаются в ужасе. Потому что точка зрения справедливости поднята революцией слишком высоко для простых смертных. Мы же целиком полагаемся только на свой разум, на свое суждение о теперешнем моменте. За кого и против кого? Вот самый разумный и самый справедливый из всех вопросов.
Перед его внутренним взором пылали слова: «Мир хижинам, война дворцам». Перед глазами стояли санкюлоты вокруг Марата, бедняки предместий, все те забитые и униженные, которых он встречал когда-либо на жизненном пути, — и Шридде с Тиной, и те бедняки из бедняков, едва прикрытые жалкими набедренными повязками, аборигены на островах… О господи, как путаются мысли. Если бы только он мог противостоять этому сонному забытью. Продержаться бы еще неделю, а там, он надеялся, придет исцеление. Отец как-то заметил — и его повелитель, прусский король, попомнил эту шутку, — что видел в своей жизни и диких, и обузданных монархов и не заметил между ними разницы. Конечно, то было неосторожным легкомыслием, но как я гордился тобой тогда, старина! Император в Вене, князь в Дессау. Леопольду Третьему он подарил свои коллекции. Ему и его супруге Луизе, принцессе прусской, с которой чуть было не подружился. И вот окажись они сейчас перед трибуналом, а он среди судей — послал бы он их на гильотину?
Вёрлицкий парк, разбитый по английскому образцу. De plantis esculentis insularum Oceani australis. «О съедобных растениях Тихого океана». Так называлась его диссертация. Во время путешествия с Куком он собирал и зарисовывал амфибий, морских животных и птиц, цветы и травы. Pagodroma nivea, буранная птица, которую до него не описал никто из ученых, предвестница бесконечных снежных пустынь. Он нарисовал ее парящей высоко в небе, а внизу маленький кораблик — «Решение». И Dendrobium densiflorum, а также Phalaenopsis amabilis он тоже зарисовал — оба вида орхидей. Ах, как очаровательно выглядели они в темных волосах юных островитянок. Лиловые, белые. Знак готовности к любви. Пушистые, роскошные, млеющие и манящие цветы, пухлые и свежие, как девичьи губы. Раскрытый навстречу нежный желобок. Желтый шафран в красных, как капельки крови, пятнышках…
«Ах, Антуан, — сказал он, когда Тадеуш помог ему одеться и он, обессиленный, опустился в кресло против Мерлина, — ничто не может быть смертельнее, чем утрата мужества».
Мерлин молча глядел на него, продолжая нервно перебирать пальцами шнурки своей гусарской формы.
«Оставим это…» И он опять попытался пошутить. «Давеча, когда вы ворвались как буря в мою комнату, выкрикивая „Тулон! Тулон!“, вы мне показались волшебником из какой-нибудь сказки. А теперь мне кажется, что вы происходите от брака черта с девственницей и рождены, чтобы сеять сомнения среди людей. Антуан, вы не святой. Я тоже. Мы можем, следовательно, заблуждаться. Я надеюсь все же, что в нужный день наша революционная последовательность и стойкость перевесят наши ошибки».
Ему вспомнилась беседа с императором. Не прошло и десяти лет с тех пор, но с каким пиететом входил он тогда в венский Бельведер и насколько же чувствовал себя польщенным! Нет сомнений, что, как бы он ни заблуждался теперь, любые его заблуждения не идут ни в какое сравнение с теми, которые он питал тогда, когда наивно верил в венценосцев Европы, будто они действительно помазанники божии.
Иосиф пригласил его к себе. После путешествия с Куком и особенно после книги об этом, куда бы Форстер ни приехал, он всюду был зван, всюду предшествовала ему экзотическая слава, немедленно вносившая его в список приглашенных ко двору — не столько для отличий, сколько для развлечений. Ибо кто еще им не наскучил? Упустишь эту возможность и поди дожидайся другой, пока явится некто, кто объехал весь свет, кто побывал на другой стороне глобуса. Как там, есть ли тоже короли и князья и преданные им подданные? В Вене было как и везде. Два часа он дожидался перед священной дверью дворца, в которую входили и выходили министры. Наконец он был принят.
«Ваше величество приказывали мне явиться…»
«Вы едете в Польшу?»
«Да, в Вильну».
«Там будто бы есть университет».
«Да, ваше величество. Старинный университет, которому требуется новое пополнение».
«И что же вы хотите там делать?»
«Преподавать естествознание».
«Так, так… Я думаю, что вместо наук их прежде стоило бы поучить алфавиту».
Все время аудиенции он стоял. Сесть ему не предложили. Император сидел за белым столом, пышно украшенным золотым орнаментом, изогнутость которого выдавала шенбруннский стиль, и пристально разглядывал его с головы до ног. Маленькие карие глазки его все время бегали, в то время как круглая голова с сизым, несмотря на пудру, носом неподвижно застыла, как у манекена, что призвано было, очевидно, выражать сознание собственного достоинства. Подставкой голове служили узенькие плечики. Об Иосифе говорили, что он воплощает в себе лучшие черты просвещенного монарха. Ведь как-никак он позволил себе пикироваться с самим папой относительно некоторых догм католической церкви и освободил от крепостной неволи собственных крестьян. Потом он задавал какие-то вопросы, но у Форстера уже сложилось твердое убеждение, что император интересуется им не более, чем каким-нибудь попугаем из Новой Зеландии.
Он попытался было слегка возразить монарху: «Ваше величество, исследование природы знакомит нас с вещами, которые только и могут дать нам разнообразные понятия. Если мы знаем реальные вещи, то можем с уверенностью сравнивать и комбинировать их в сознании, избегая тем самым заблуждений и предрассудков».
Император взглянул на него с неудовольствием и поспешил перевести разговор на другое, спросив о Куке. Что ото был за человек, и сколько народу погибло во время плавания.
Форстер исправно доложил все как было.
Император же, как завороженный, вновь и вновь возвращался к Польше. Неудивительно, думал теперь Форстер, он, верно, тогда уже договаривался с Екатериной и Фридрихом о первом разделе Польши.
«Я был бы рад, ваше величество, если бы обнаружил там таких же добрых и кротких людей, как на Гаити».
«Ну уж этого не ждите! Поляки упрямы и тупы».
Вот как! И разве он не прокомментировал это заявление в своем письме к Земмерингу? Иосиф, сын Марии Терезии, брат Марии Антуанетты, был человеком, о котором можно было сказать именно то, что он сказал о своих восточных соседях. Венграм он навязал немецкий в качестве языка, на котором велось делопроизводство. Захватив Константинополь, он хотел основать империю, которая поделила бы с Россией весь мир. На Западе его политика давно уже была совершенно бесплодной, а сражаясь против турок, он пролил реки крови, так ничего и не достигнув. Упрям, туп.
Поклон, и он вышел за дверь. Аудиенция длилась не больше пятнадцати минут. Он еще вовремя успеет к обеду.
Но все же одним опытом в его жизни больше, хотя этот опыт пригодится ему значительно позже. В свой гербарий, таким образом, нанизал он и Иосифа Второго, божией милостью помазанного императора Священной Римской империи. Послал бы он его на гильотину, как отправили на нее французы его деверя и сестру? Да уж, непростой случай, санкюлоты, enfants de la partie! Император распинался всегда в своем желании быть поближе к народу. Вот и надо помочь ему в этом. Уважить. Пусть поработает в каменоломне, как Петер Шридде.
Мерлин снова разомкнул уста. Но уже было ясно зачем — чтобы не согласиться с Форстером.
«Довольно, вам надо успокоиться, Жорж. От врачей я слышал, что ваша болезнь отчасти и душевного происхождения. Потому-то я и предложил вам свою помощь по воссоединению с семьей».
«Это делает вам честь. Но сейчас не совсем подходящий момент для этого».
Форстер славился своей наблюдательностью, выпестованной в процессе долгих занятий естественными науками. И его было трудно провести на мякине. Уже слово «успокоиться» в устах такого беса звучало подозрительно. К тому же от его внимания не ускользнуло, что стоило только произнести имя Робеспьера или Сен-Жюста, как посетитель — опять пришло на ум сравнение из области зоологии — точно окутывался защитным облаком наподобие каракатицы. Он мог истолковать это следующим образом: борьба фракций внутри якобинского клуба приняла такие размеры, что за ней не могли угнаться и газеты. На чьей же стороне стоял Мерлин де Тионвилль? Можно ли прямо, без обиняков спросить его об этом?
Форстер предпочел — каких усилий это ему ни стоило — изложить свою позицию и уже по реакциям Мерлина определить, как он к ней относится. Он заговорил об общественном мнении, о народной правде. Здесь, в Париже, ее можно изучать, как под микроскопом. Она и является движущей силой масс, одержимых стремлением к свободе, вкус которой они, прежде забитые и униженные, ощутили во время штурма Бастилии. Ах, Антуан! Свет Парижа разливается по всей Европе! Такое солнце, я убежден, будет светить еще много веков. Конечно, огорчает всякое несовершенство нашего идеала, всякий гран несправедливости, которого не может избежать и самое справедливое на свете правительство. Но что же в природе, спрошу я вас, совершенно? Все, что пробивает себе дорогу впервые, неизбежно отягчено недостатками — уже потому только, что перед ним нет образцов, которым оно могло бы следовать. О ценности или негодности этого нового можно судить только по общему результату, в который вливаются и народная воля, и мудрость народных представителей. Все это требует жертв, Антуан. То, что происходит здесь, во Франции, имеет значение не только для французов, но в не меньшей мере для всей Европы. Революция — самое великое, важное и поразительное событие на пути нравственного совершенствования человечества. Она — спасение от жадности, корысти, стяжательства. В ней исполинский масштаб. У меня давно бы уже иссякла воля к жизни, поверьте мне, Антуан, если бы я не был убежден, что революция принесет избавление нашим внукам и правнукам — да что там, даже и детям нашим. Эти чувства и надежды разделяют со мной миллионы. Несмотря на все различия в духовном развитии отдельных людей, составляющих эти миллионы. Это-то и вдохновляет меня. Только в Париже по меньшей мере полмиллиона человек пристально следит за образом мыслей каждого человека, за тем, остается ли в рамках своих полномочий тот или иной чиновник или превышает их. Против народа, против общественного мнения никто не решается выступить в открытую. А стоит кому-либо противопоставить себя ему, как этот человек обречен на смерть. Революция не зависит от отдельных имен. Даже Робеспьер, Дантон, Эбер — кем бы они были, если бы санкюлотизм не вознес их туда, где они теперь? Вот в этом и состоят для меня суверенные права народа. В заключение могу сказать вам, Антуан, что вижу в нашей революции зарю нового мира, грандиозную арену борьбы за нового человека, и не вина революции, если отдельные участники этой борьбы не всегда оказываются на высоте.
Мерлин вновь окутал себя чернильным облаком, никак не проявляя своего отношения к услышанному — ни согласным кивком, ни отрицательным покачиванием головы. Выслушал, встал и простился. Тщательно застегнул плащ на все пуговицы, надел свой колпак и ушел.
Форстер так и не вывел его из равновесия. И куда отправился Мерлин, он тоже не знал.
С трудом добрался он до секретера. Там лежало незаконченное письмо Терезе. Почта будет только завтра, так что он может приписать еще пару строк. Ах, кабы вернулось здоровье! Через силу написал несколько слов. Потом перо выпало из его рук.
Глава последняя
Осталось спасти меня самого…
Во всем прочем мы одержали
невероятные победы.
4.1.1794Он таял.
Считал часы и дни, проведенные им безвылазно в этой дыре, в комнате на улице Мулен. В последний раз он проехался по Парижу в карете, а от Онфроя пришел пешком, нет, и после того выходил однажды, прошел шагов сто до перекрестка, где подобрал его Хаупт. С тех пор минуло уже три недели болезни.
По ночам, когда не мог сомкнуть глаз, он чувствовал ужасное стеснение в груди и испытывал давящий страх, что это конец, что ему уже не подняться, не выбраться отсюда. Потом опять собирал в кулак всю свою волю, заставлял себя добраться до секретера, чтобы написать хоть несколько слов своим детям, послать весточку, что он еще жив…
Но потом и этого он уже не мог.
Наблюдал себя. Он достаточно разбирался в медицине, чтобы по отдельным симптомам понять, лучше ему или хуже. Временами казалось, болезнь вот-вот оставит. По совету врачей он делал сложные компрессы из воска, масла, муки и толченых испанских мушек: считалось, что яд этих насекомых действует благотворно. И в самом деле, он чувствовал себя лучше. Прошу вас, Губер, не волнуйте Терезу. Я и вправду довольно болен, но серьезной опасности никакой.
Он попросил Малишевского достать ему шубу и повесить ее на шкаф, чтобы она призывала его поскорее встать и отправиться на прогулку. Подле нее стояли новые роскошные сапоги из лучшей кожи, какая только бывает на свете.
Когда-то он сможет в них прогуляться? По Парижу, по всем его сорока восьми районам, по его предместьям, вдоль Марны и Сены, где свечами застыли тополя, по Версалю или Фонтенбло, в зеркалах которого отражались теперь физиономии простого люда. Когда-то сможет он отправиться к Рейну, на фронт. Зима, как ни пуржила она за окном, какими черными дождями ни поливала землю, с такой шубой и с такими сапогами была ему не страшна. Ах, если бы он был здоров! Зашагал бы Гулливером по земле. Пришел бы в Конвент или в Якобинский клуб, который находился всего в десяти минутах ходьбы от его дома, повстречал бы там Камилла Демулена и Эбера и напрямую расспросил их обо всем.
Если только вы не заблуждаетесь, Жорж. Ибо это могло бы оказаться смертельным…
Стоило вспомнить эти слова, как настроение его снова портилось.
Ему, задавленному одиночеством, как горой, единственной отдушиной и отрадой были письма Терезы. Они были для него все одно что золото, драгоценные камни, жемчуг, протянутый единственным человеком, который, может быть, его еще любил. К этим страницам прикасалась ее рука! Ах, как ему хотелось домой. Одна Тереза писала ему из Германии — хотя какое там! Ведь и она тоже должна была бежать и скрываться в Швейцарии. Но ему по-прежнему представлялось, что она еще в Гёттингене или в Майнце. Он, она, дети при свечах вокруг елки. Тереза написала ему, что Розочка и Клер к рождеству выучили по собственному почину рождественскую сценку из детского альманаха, изданного Кампе. Он знал эту сценку, находил ее ужасно скучной, сентиментальной, фальшивой. Но какое это имело значение! Ведь речь там идет о любви к родителям. Розочка все время спрашивала: «А что же наш папа? Где он?» Она все верила, что он вот-вот приедет в карете, как тогда, в Травере. Когда же этого не произошло, она разревелась.
И у него слезы выступили на глазах, когда он читал письмо. Поцелуй их от меня, написал он Терезе.
Петр Малишевский сам дежурил теперь по ночам у его постели. Если я снова приду в себя, думал Форстер, снова смогу сидеть у секретера или камина, держа перед собой дразнящий лист белой бумаги, жаждущий, чтобы я покрыл его своими словами, я непременно напишу о нем, о Петре, и его родине. Он заслужил это. Ему нет и тридцати. Глубокая печаль в темных глазах на бледном лице, обрамленном светлыми волосами. Но в том, что касается революции, он по темпераменту не уступит любому французу. Он уже обдумывал, как ему присоединиться к генералу Костюшко, который, как недавно стало известно, сплотил вокруг себя патриотов, чтобы бороться за независимость своего отечества, против позора раздела, навязанного Польше ее могучими соседями — Пруссией, Австрией, Россией, против немецкого монархического сброда, поскольку на всех трех тронах восседали монархи немецкого происхождения.
Сходился ли он с ним?
Во всем абсолютно.
Раз Малишевский спросил: «Послушайте, Форстер, не обидел ли я вас давеча? Коли так, прошу простить меня, я этого вовсе не хотел. Ненависть моя не слепа, национальная гордость далека от несправедливости. Напротив. Вот вы — пруссак, а я глубоко преклоняюсь перед вами. Не только потому, что вы родились близ Данцига, учили в Вильне моих земляков и поэтому понимаете нас. Нет. Но потому, что вы добились такого, что заставляет померкнуть память о грабительских походах ваших королей: вы завоевали с Куком неизведанные области для человечества, вооруженные одним своим мужеством…»
Форстер сделал слабый жест протеста, рука повиновалась ему с трудом.
«Или вы вовсе не чувствуете себя пруссаком?»
Не в первый раз спрашивали его об этом. Он вспомнил Фосса, своего издателя. «Если вы хотите спросить, Петр, желаю ли я всем пруссакам добра, то в этом смысле да, я пруссак, точно так же, как я турок, поляк, русский, китаец, марокканец и так далее. А если же вы спрашиваете, могу ли я пожертвовать своими убеждениями ради национальных чувств, то нет — я не пруссак. Моя цель — свободная конституция для всех народов. И я, конечно, предпочту быть свободным с французами, чем по-прежнему быть в ярме со своими разлюбезными соотечественниками. Сделай я иной выбор, я бы себя презирал. Если быть пруссаком означает жить согласно принципам, которые никогда не были моими и никогда не были таковыми для жителей Пруссии, а исповедовались только прусским двором, правительством и королем, то я не пруссак, и, будь я таковым, меня бы следовало вздернуть на фонарь…» Он тяжело дышал, задыхался, ужасно устал, но все-таки продолжал: «Нет в мире привязанностей — говорю это как перед богом, — которые заставили бы меня стать предателем Парижа и его революции».
А потом, четвертого января, то есть пятнадцатого нивоза, Малишевский, выйдя на улицу, внезапно вернулся, взбежал по лестнице, влетел в его комнату и закричал: «Ландау освобожден!»
Потом он рассказал, каким образом это стало известно так быстро. Некий французский инженер по имени Шаппе изобрел что-то именующееся телеграфом. Такие особые столбы, по которым сигналы передаются с быстротой летящей птицы.
Эта новость наполнила Форстера радостью небывалой. Он порывисто обнял Малишевского. Петр, Петр, не забудем же никогда, откуда мы начали свой путь и куда его держим…
Они разговаривали долго, пока хватило его сил. Конвент издал новый декрет. Вводилось обязательное всеобщее и бесплатное обучение. Готовился новый декрет, по которому получат свободу все рабы на территориях, бывших французскими колониями.
Он сказал: для меня это — исполнение самых желанных грез. Путешествие мое было не напрасным.
Сапоги… Вот они стоят и ждут, когда он их наденет. Он попросил подать карту Индии. В шубе ему не страшен и холод Антарктиды, в сапогах нипочем любой океан. Он еще раз, по поручению революционного правительства, объедет весь мир по всем направлениям розы ветров и всюду возвестит об освобождении человечества.
По временам, когда болезнь вновь одолевала его, он опять видел перед собой массивные горы Юры, видел, как они грозят обвалиться и погрести его под собой. И тогда он напрягал все свои силы для борьбы с ними, чтобы выстоять, выжить. И чувствовал себя великаном, взобравшимся на высокую звезду, откуда он смеясь смотрит на Германию, на Францию, на Европу.
Но не ныла ли рана Травера в нем? Тот кинжальный удар в грудь, который он получил при расставании?
На маленькой площади перед гостиницей все происходило быстро. Дилижанс, державший путь из Невшателя в Понтарлье, остановился прямо у ступенек гостиницы. Из него выглядывало несколько любопытных лиц, тех, кому предстояло стать его попутчиками. Форстер терпеть не мог демонстрировать свои чувства перед другими, даже и перед друзьями, не говоря уже о чужих.
Но разве они все сказали друг другу за эти три дня? Форстер сомневался. Чем ближе становился отъезд, тем скупее на слова становилась Тереза, а в последние минуты она и вовсе замолчала. Губер стоял в стороне, скрываясь от моросившего дождя под грубоватой колоннадой. Розочка плакала, потому что многое уже понимала, а Клер плакала потому, что брала пример со своей старшей сестры. Он и сам сдерживался изо всех сил, чтобы не зарыдать. Сердце его обливалось кровью. Дети, дети мои! Я провел счастливые часы с вами, вы это знаете. Предстоящие недели и месяцы будут трудны, быть может — ужасны. Память об утраченном счастье, и чувство моего теперешнего бессилия, и ваши слезы, и наше общее страдание — от этого мне не уйти. Но я сделаю все, чтобы справиться, чтобы все опять было хорошо, вы мне верьте. Только не забывайте меня, как я никогда вас не забуду! Радость общения с моими детьми — вот за что я буду вечно благодарен судьбе.
После завтрака, который прошел принужденно и при полном отсутствии аппетита, он еще раз отвел жену в сторону, чтобы поговорить с ней.
«Ты уверена, что мы — мы двое — никогда уже не сможем начать все сначала?»
Она молчала. Как и вечером накануне. Как и вечером позавчера. Но тогда она хоть отрицательно качала головой, а не опускала глаза при его вопросе.
«Но почему, Тереза? Что я сделал не так?»
«Не ты, Жорж, — написала она потом в письме, — просто нас развело время».
Конечно, принудить ее он не мог и не хотел. Но хотел ли он еще за нее бороться? Он подаст на развод и все еще будет надеяться на жизнь втроем… Нет! Впятером. Потому что расставаться с детьми он не хотел.
Боли в желудке опять поутихли. Он был убежден, что это признак улучшения, выход из кризиса. Вот только цинготные выделения в слюне продолжали его беспокоить.
Малишевский вытер ему губы сухой тряпкой. Ему было неловко, но сам он был слишком слаб и для этого.
На коленях его лежала карта Индии. Вдруг — нет, скорее, не вдруг, а после того, как он долго-долго смотрел на нее, — ему показалось, что она заскользила к краю одеяла, грозя упасть на пол. Он хотел поднять руку, чтобы удержать ее, — и не мог. Боль в груди и позвоночнике от этого усилия обострилась. Чувство было как при качке, когда океан по одному борту вдруг пропадает куда-то вниз, а по другому — круто взмывает вверх. Он хотел что-то крикнуть. Петр Малишевский нагнулся к нему, приблизил ухо к его губам. Жорж, вы о чем, я не слышу, Форстер, Форстер…
Он видел, как в комнату вошел врач-француз. Кроме того, в углу комнаты сидел уже какой-то немец. Лицо его казалось ему знакомым, но вспомнить его он не мог.
Малишевский влажной тряпкой охладил ему лоб.
Сколько же он так пролежал? Ему было ясно, что это лихорадка. Не сегодня ли отправляют почту? Какое сегодня вообще число? Десятое января, ответил чей-то голос, как из подземелья. Он кивнул. Стало быть, надо написать детям… Только не сдаваться. Ибо это может оказаться смертельным… Интересно, как реагирует на наши победы общественное мнение по ту сторону Рейна, ведь правду скрыть невозможно.
Он услыхал, как карта упала все-таки на пол. Ужасно упала. С громовым грохотом. С грохотом волн, бьющих в бурю по палубе. Индия развалилась на куски. Горы Швейцарии взорвались и обрушили на него свой камнепад. Чувство было такое, будто вся боль мира сосредоточилась у него в груди.
Врач помог ему приподняться, взбил подушки под спиной. Откройте окна и двери. Ему нечем дышать.
Не могу продолжить письмо, не могу…
Малишевский держал его на руках. Вытирал платком слюну.
Наконец буря улеглась.
К нему подошла Розочка. Папа, пап, звала она, где ты?
Не беспокойся, дитя мое, ответил он, ты ведь видишь, волны уже улеглись. Все проходит. Пусть не надеются на вечность и господа. Они изворачиваются и лгут, они надеются вновь загнать освобожденный народ под свое ярмо. Им не удастся. Париж — это наш козырь, они же проиграли навсегда.
Корабль отплывал.
Георг Форстер отправлялся в новое путешествие — измерять землю великаньими шагами. Кто это там машет ему, стоя на берегу в толпе народа? Сен-Жюст и Каролина? Но в чем он был уверен, так это в том, что обе дочки сопровождают его. Розочка забралась от радости на мачту. Волосы ее развевались на ветру, и она кричала: ау, папа! Небо сияло чистой голубизной. Страна, в которую он направлялся, страна, в которой человек счастлив и свободен, в которой он может думать и действовать, была невдалеке.
Некий немец, так и оставшийся неизвестным, закрыл ему глаза.
Петер Хакс
Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гёте
Действующие лица:
Госпожа фон Штейн
Господин фон Штейн
Действие происходит в октябре 1786 года
I
Супруги Штейн. Госпожа фон Штейн в белом платье. Господин фон Штейн в домашнем сюртуке и сапогах для верховой езды сидит в кресле. Он курит трубку. Это чучело.
Госпожа фон Штейн. Хорошо, Штейн, я готова нас выслушать. Вы порицаете меня, и, признаюсь, не вы один. Вы утверждаете, что руководствуетесь только собственным суждением. Но у вас нет никакого собственного суждения, а если бы и было, Иосиас, вы едва ли рискнули бы противопоставить его моему, не разделяй этого вашего суждения весь Веймар.
То, что вы представляете это чисто семейным делом, свидетельствует о непривычной для вас деликатности. Но подобное снисхождение тут уже не поможет. Вы думаете, что вчера, на балу, я не почувствовала, как ко мне относятся? Я же стояла почти одна, как отверженная. Посмотрим правде в глаза. Мое теперешнее отношение к Гёте осуждают все, не только вы. Я забыла свой долг. Я изменница. Я нанесла урон репутации герцогства. Весь свет так думает.
Что ж, факты трудно отрицать, и я — вы меня знаете — первая осудила бы себя, если б могла смотреть на это столь же поверхностно, как весь свет.
Говорите же, коль собрались говорить. Я готова оправдать любое мое действие, даже если мной недовольны двор, или герцог, или, что меня всего более огорчает, герцогиня[45].
Это правда, Штейн. Я отвергла Гёте. Я прекратила отношения с ним после десяти лет, проведенных в полном согласии. Стало быть, я причиной тому, что он покинул нас тайно, спешно, неожиданно, не попрощавшись, не испросив дозволения. Государство оказалось без министра, двор без потешника, театр без директора, страна без своего гения.
Никто не знает, где он. Но я, причина его отсутствия, я — здесь, и бремя ответственности лежит на мне. Мне слишком понятно, почему я навлекла на себя столь неумолимый гнев. Все чувствуют то же, что и я. Каждый рад избавиться от этого человека. Каждого отталкивает его дерзкая манера притязать на привилегии — как на те, которые он заслужил, так и на те, которые ему дают, потому что он на них притязает. Сам герцог, который по избранности своего жребия, уж наверное, не уступит господину фон Гёте, нарушал ли он когда-нибудь в такой степени правила приличия? Герцог оскорбляет своими эскападами, Гёте — уже тем, что он есть. Но в то же время все знают: он неизбежен и необходим. Без него мы ничто. Веймар — это Гёте. У нас не хватает духу ненавидеть его, и тем усерднее мы его прославляем. Я отважилась совершить то, чего желал каждый в этом городе, оттого меня так беспощадно преследуют.
Веймару можно позавидовать. Сбылись его самые сокровенные мечты, досадная помеха устранена, и есть на кого свалить вину за возникшие затруднения.
Да, Штейн, кажется, мне и в самом деле приятно, что вы проявили неожиданную деликатность, выдавая публичное порицание за ваше собственное мнение. Я несу перед вами ответственность, муж мой, как и подобает супруге, знающей свой долг. Мы — слуги двора, вы и я. Я подвергаю опасности ваше положение при дворе, как и мое. Каждый ваш упрек заслуживает внимания; я прошу вас не оставлять невысказанным ни одного: вы имеете право на откровенный разговор.
Однако ж я приготовилась к ответу. Я вошла в роль обвиняемой и вооружилась документами. Вот они, эти письма. (Вынимает стопку, перевязанную красивой лентой.) Все до единого. Самым давним почти десять лет. Странно вдруг снова их увидеть. Я буду время от времени читать их вам в доказательство моей чистосердечности.
Одно предположение, надеюсь, мне позволено будет сразу отстранить, а именно предположение, что между Гёте и мною существовало нечто, заслуживающее названия любви. Разумеется, все считают это очевидным. Разумеется, это нелепость. Когда Гёте приехал сюда, он был мальчишкой, а я зрелой женщиной. Теперь он зрелый мужчина, а я постарела. Хорошо, это не доказательство, допускаю, что это ничего не значит. В отдельных случаях возможна даже любовь между дамой из общества и человеком незаурядных личных достоинств, хотя такого рода несоответствия, как показывает опыт, обычно мстят за себя, ибо простые жизненные истины умеют по-своему позаботиться о том, чтобы о них не забывали. Но это все соображения, которые, право же, ко мне не имеют никакого касательства. Даже если я и глупа, от одной глупости — любить — господь меня избавил. Вы мой супруг, Штейн, — этим все сказано.
Между Гёте и Шарлоттой Штейн не было романа. Было выполнение некой миссии и присочиненный роман.
Вы знаете, о какой миссии я говорю. Герцог подобрал способного молодого человека, и проницательность его не обманула; к несчастью, этот новый любимчик, кроме своих дарований, не имел ничего, что делает мужчину способным к продвижению. Он знал университеты и, к сожалению, пропитался их безнравственностью, как конюший запахом лошадей. Он знал все науки и все искусства — и не знал ничего о свете.
Он нуждался в воспитателе, и невысказанный выбор двора, естественно, пал на меня. Говоря так, я не грешу против скромности. Я всегда имела самое строгое понятие о своих придворных обязанностях, и я добилась той небрежной легкости, той спокойной открытости в обращении, какой достигаешь лишь тогда, когда обязанности входят в плоть и кровь. Я была подходящим человеком, чтобы руководить Гёте, и, стало быть, призвана к тому. А что такое благородство, как не врожденная склонность служить своему суверену, даже когда это не слишком приятно?
Итак, эти письма должны доказать вам, что я не пренебрегла велением долга, а если и проиграла, то причиной тому отнюдь не слабость моей воли.
Но надобны ли здесь доказательства? Вы прекрасно знаете, что я неспособна солгать, даже если бы и поставила перед собой такую цель.
Я страдаю необычайной стыдливостью. Для меня нет ничего ужаснее, чем быть уличенной. Не во лжи — это невозможно, но в каких-то промахах или вещах, которые я намеревалась сохранить в тайне. Я тотчас прихожу в замешательство. У меня, как говорится, заплетается язык. Я застреваю на щекотливом слове и начинаю повторяться. Мне приходится ронять вещь, которую я в этот момент держу в руках, чтобы поднять ее или убрать осколки и успокоиться, прежде чем я смогу продолжать, откровенно признав свою ошибку. Пусть меня назовут сверхчувствительной или жеманной, но лучше я останусь такой, чем совершенно отвыкну от стыда, как, например, наш Гёте.
Так что я собиралась сказать?
Ах да! Гёте приехал в Веймар и повел себя бесцеремонно, и герцог, который обожал бесцеремонность со всем упрямством своего отроческого возраста, вбил себе в голову, что души в нем не чает. Еще бы, тот был так знаменит, как только можно желать, знаменит и бесцеремонен — похоже, он был самым знаменитым грубияном в немецких землях.
Я помню, что в те времена у него были, собственно, только две манеры изъясняться: он ругался, если не хныкал, а если не ругался, то хныкал. Он был точно так же невыносим, как современные молодые люди в наше время всеобщего недовольства, — справедливости ради я должна сказать: все молодые люди невыносимы точь-в-точь как Гёте. Ибо печальная истина заключается в том, что он сам изобрел обе эти безобразные привычки.
Он кощунствовал, он оскорблял все устои, а через минуту он уже мог нарушить плавное течение беседы на веселом пикнике и уединиться ото всех, чтобы расточать горчайшие слезы над замшелой расселиной в скале или полоской тумана. И то и другое было невежливо, но этого он и хотел. Мир, созданный творцом, был для него, видите ли, недостаточно совершенен. Он вознамерился в вопросах мироздания предложить более быстрый темп, чем создатель.
Да, этот недоросль был недорослем из философских соображений. Нынче ведь принято считать философией то, что не имеет никакого смысла и тщится единственно опорочить установления творца. Из философских соображений он выбивал окна в домах почтенных бюргеров и из тех же соображений устроил кошачий концерт одному бедному чиновнику. Он валялся на голой земле в назидание тем, кто скользит по натертому паркету; это, правда, не произвело на меня особого впечатления. Я уже знала об этом от моего пуделя. Мой Лулуш тоже валяется на земле, без всякой философии.
Но когда я напоминала Гёте о приличиях, он преображался в Ореста, рвал на себе волосы и заклинал меня избавить его от фурий, которых Тартар, если я верно поняла, наслал на него, не уволив ни одной от этой тягостной обязанности. Вот, для ясности, одно из моих писем. Я считаю его весьма поучительным, и вообще в этой связке мало найдется таких, в которых не содержалось бы той или иной житейской мудрости; письмо датировано четырнадцатым апреля тысяча семьсот семьдесят шестого года.
Вот что я ему тогда написала:
«Вы ведь не просто хотите быть невоспитанным, друг мой, вы хотите непременно играть трагедию. Выражение „черт меня дери“ вы употребляете потому, что вас не устраивает наш век; вы врываетесь ко мне как безумствующий герой — „черт меня дери“ на устах и змеи в полосах. Будьте благоразумны: какая же здесь связь? Век может нравиться или не нравиться, но разве это причина ходить растрепанным? И что вы там наговорили мне о естественности? Если я позволю вам, в чем не уверена, нанести мне визит на следующей неделе, я попрошу вас разъяснить, почему „Доброе утро“ менее естественно, чем „Разрази меня гром!“»
И сколько же таких предупреждений я делала своему подопечному! Вот еще одно, от первого мая тысяча семьсот семьдесят шестого года, пополудни.
«Вы чересчур смело полагаетесь на то, что ваши громы и молнии, как нечто необычное и своеобразное, должны импонировать всем и каждому; позвольте же вас предостеречь. Бесспорно, в неотесанности есть своя прелесть. Но только тогда, когда мы извиняем недостаток образования как неизбежный: неотесанность простительна детям, простолюдинам или дикарям — иными словами, в условиях бедности. Пристало ли нам, коль скоро мы уже несколько пообтесались, все еще позволять, чтобы нас воспитывали топором? Нет ничего нелепее, чем зрелый и развитый дух, который непременно тщится пренебрегать тем, что ему прекрасно известно, стремясь предстать грубым чурбаном».
Считалось, что мое влияние имело успех. Я заслужила одобрение общества, признательность герцогини. Мне одной известно, сколь горькое поражение я потерпела.
Я совсем было поверила, что достигла цели. Гёте увидел, что не может переделать мир согласно своим представлениям. Стало быть, пришла пора ему переделывать себя, но, к моему удивлению, он ни секунды и не помышлял об этом. Он предоставил миру оставаться миром, а сам остался тем, кем был. Он так никогда и не научился соглашаться с создателем. Все, чему он научился, — это молчать по поводу несовершенства творения.
Тем самым его пресловутая многоликость оказывается одним и тем же лицом, а его знаменитые превращения просто не имели места. Пока он не перебесился, он выводил для себя право на необузданность попросту из того, что он поэт.
Я отнюдь не склонна осуждать сочинительство, оно, признаться, у меня у самой в крови. Я вообще считаю, что женщины, будь у них время, могли бы писать ничуть не хуже и, уж во всяком случае, не так грубо. Эти авторы — уж я-то на них насмотрелась — гребут деньги лопатой, и, если наш запущенный Кохберг будет и впредь приносить так мало дохода, я не премину, пожалуй, потягаться с Гёте.
Это между прочим. Я далека от того, чтобы недооценивать ремесло сочинителя, но меня всегда раздражало абсурдное, преувеличенное мнение Гёте об этом предмете.
Однажды мне пришлось сказать ему, что его считают высокомерным. «Мокрицы наверняка так же судили о фениксе», — возразил он.
Это мы, стало быть, мокрицы, а он феникс. Он хотел своим пением сразу перенести нас в золотой век и был крайне раздосадован тем, что мы вполне сносно чувствовали себя в том сплаве, из которого отлиты.
Не удивительно поэтому, что время от времени он бросал всякое сочинительство, провозглашал афоризмы о том, что наш век не создан для поэзии, и обращался к новейшему способу пробивать лбом стену: к политике. За игрой в поэта следовала игра в министра[46]. Это означало, что, хотя мы недостойны его стихов, он все-таки нас жалеет. Он отворачивался от нас, правда, без ненависти. Он приносил нам себя в жертву, хотя и презирал нас; он все еще был готов спасать нас, хоть мы вовсе не желали быть спасенными.
Скоро, однако, все поняли, что и эта другая причуда давно ему наскучила. Он занимался делами спустя рукава, с недовольной миной. Часто ли его видели в совете? И так же, как он некогда метал громы и молнии против литературы, будто она ни на что не годна, он брюзжал теперь по адресу всех дворов и кабинетов и терзал друзей зрелищем полипообразных инфузорий, чтением вслух Гумбольдтовой таблицы пальм[47] и запахом настоящего слонового черепа. Наука приобщает его наконец к истине, не требуя обременительного обходного пути через нас, грешных. Узнав людей, он полюбил скелеты.
Я уже говорила: он остался тем, кем он был. Я повторяю это утверждение, настаиваю на нем. Гёте после всех моих увещеваний остался прежним беспардонным мечтателем и лодырем. Так как же, позвольте вас спросить, можно упрекать меня в том, что я погубила карьеру человека, чье продвижение вообще было сплошным маскарадом?
Скажут: кому в этом мире удалось так быстро пробиться наверх, как ему? Те, кто так говорит, не знают его. Он, видите ли, сам — целый мир. Когда он накропал свои первые стансы в мою честь, он принес их мне со словами: «Вот видите, дорогая, теперь и немцы умеют слагать стансы».
Непосредственность, с которой он намекает на свою посмертную славу, настолько же возмутительна, насколько смешна. Он обращается с Сократом как с придворным советником Виландом. Хуже того, он обращается с Сократами девятнадцатого и двадцатого веков, теми Сократами, которые придут после нас, как с придворным советником Виландом. Они его закадычные, ближайшие друзья: все они для него придворные советники виланды.
И, обращаясь запросто с этими героями прошлого и будущего, он в то же время дает нам понять, что мы-то — не герои. Если ему нужно появиться при дворе, он уже заранее испытывает утомление. Весь цвет аристократии для него только сборище любопытных уродцев. Еще бы: ведь ни единое их слово не задевает в нем ни одной струны. И не то чтобы он был плохо настроен, — нет, это они все фальшивят. К сожалению, мы были настолько запуганы, что извиняли такого рода капризы.
У нас вошло в привычку терпеть, что он уединяется от общества и рисует акварели, и мы внушили себе, что попросту обязаны уже загодя ставить для него краски на стол. Пусть только у него будет занятие, если мы ему наскучим. Нам-то, грешным, можно и поскучать. Никто не задавался вопросом: почему он не развлекает нас? Кто освободил его от всех светских обязанностей? Если ему не приходит в голову ничего забавного — так же, как и нам, — это просто человеческая слабость, и мы бы с готовностью ее простили, но ведь ему нужды нет что-нибудь придумывать. И вот мы сидим без акварелей и чувствуем, что виноваты, что обременяем душу бессмертного.
Вот видите, Штейн, чего я достигла своим смягчающим влиянием. Ценой огромных, нечеловеческих усилий я устранила самые броские, самые скандальные неприличия: он больше не топает на нас ногами. Но распущенность, лежащую в основе этого, — его самомнение, глубоко оскорбляющее всякое мужское и особенно женское сердце, — я не смогла устранить. Сегодня, как и десять лет назад, Гёте напоминает мне спесивого индюка. Он был бродягой — я его воспитала; теперь мы имеем воспитанного бродягу: гения.
Нет, Штейн, не такой конец я имела в виду. И десять лет неуспеха, я думаю, достаточный срок, чтобы человек, питавший даже самые радужные надежды, понял, что он переоценил свои возможности.
Я хотела завоевать Гёте не для себя.
Я хотела завоевать его для Веймара и для всего цивилизованного мира. Оказалось, что его нельзя заполучить, и вот теперь скрепя сердце я с полным основанием говорю: пусть он останется там, где он есть. О нем не стоит слишком жалеть.
Я убираю эти свидетельства тщетных усилий. Вряд ли у меня когда-нибудь будет повод снова прочесть их вам. Но в заключение еще одно письмо. Оно от тридцатого октября семьдесят седьмого года и, я бы сказала, заключает в себе суть всей этой переписки.
«Когда же наконец, Гёте, вы научитесь различать, что идет, а что не идет в счет на этой земле? Наше жалкое, в высшей степени бренное существование определяется действительными причинами, такими, как болезнь, нехватка денег, суждение света, и лучшее, чего нам позволено желать, — это здоровье, материальное благополучие и признание со стороны людей, занимающих известное положение в обществе. Те цели, которые рисует перед вашим взором ваше непостижимое высокомерие, слишком нескромны и напоминают призрачные клубы тумана, плывущие по воле ветра и неспособные поколебать ни единой травинки. О, как мимолетны всплески буйного воображения, как быстротечны чувственные страдания и радости! И эта так называемая любовь…» — но это уже сюда не относится — «…так называемая любовь вообще не имеет значения. Все обыкновенные люди совершенно точно знают, что любовь…» — я закончу, раз уж начала: «…это просто вымысел поэтов, и, право, я не настолько простодушна, чтобы поверить именно поэту… именно поэту… именно поэту…» — ну вот, я опять заговариваюсь… (роняет письмо, медленно поднимает его с пола; заканчивает фразу из письма) «…поверить именно поэту, что он любит меня».
II
Госпожа фон Штейн (продолжает). Вот видите, как быстро проходит время за болтовней. Слово за слово, слово за слово, и не успеешь оглянуться, как уже пора пить кофе. (Звонит. Нежно.) Сознаюсь, Иосиас, я не хотела об этом упоминать. Об исчезнувших, как и об умерших, нельзя говорить дурно, они ведь никогда не смогут вернуться, чтобы защитить себя. Но раз уж его прегрешение стало известно… Да, Иосиас, Гёте любил меня. Он любил меня свыше всякой разумной меры, и я постараюсь объяснить вам, почему в течение многих лет я терпела эту непозволительную склонность, я изложу вам причины, которые заставили меня через десять лет пресечь ее окончательно. И то и другое было нелегко; только теперь, когда я переболела этой историей, я вижу, что она не стоит выеденного яйца. Посторонним хорошо говорить. Как вы думаете, что сказал бы сейчас Гёте, услышав о кофе?
«— Так вы пропустили мимо ушей мой совет относительно кофе?
— Но уверяю вас, он творит чудеса.
— Сударыня, такая диета в высшей степени губительна[48] для нашего здоровья.»
«В высшей степени губительна» — так и слышишь, как он это говорит, правда? Я бы не смеялась над его франкфуртским диалектом, если бы сам он не набрался дерзости объявить наше веймарское произношение самым неблагозвучным во всей Германии. А оно, по моему глубокому убеждению, настолько же чисто саксонское, как любое лейпцигское или мейнингенское. «В высшей степени губительна», стало быть.
«— Вы повышаете тон, становитесь резкой и язвительной и придаете излишнее значение мелочам.
— Такие упреки, сударь? Только из-за того, что я, подкрепившись этим напитком мусульман, несколько теряю свою сдержанность, на которую вы так часто жалуетесь?
— Я прошу всего лишь об откровенности, обожаемая Шарлотта. А несдержанность вам не пристала».
Гёте пьет свое рейнское вино, ничуть не заботясь, пристало ли это ему. Его щеки краснеют, на них становятся заметны некрасивые прожилки, глаза заплывают, лицо отекает, покрывается уродливыми складками, и он заплетающимся языком изрекает глубокие истины. Глубокие истины — пусть так, но они говорятся заплетающимся языком и без малейшего изящества. Пристало это ему? И не дозволено ли мне то, что дозволено ему? Нет. Я, видите ли, женщина. Если мужчина пренебрегает приличиями, ему остаются его заслуги; у женщины нет иной заслуги, кроме как озарять нашу пошлую обыденность, являя собой образец совершенства. Раз я подобна Леоноре или Ифигении[49], то мне нельзя пить кофе. (Подойдя к двери.) Рике, мой кофе, где мой кофе? Заснула ты там над своими ложками?.. Да, так почему же я не отказала ему от дома?
Я не отказала Гёте от дома, поскольку он насильно заставлял меня терпеть его. Я говорю: насильно, и именно так обстояло дело. Могла ли меня чем-нибудь привлечь любовь человека, который сам был всегда так непривлекателен в моих глазах?
В его комплиментах с самого начала было что-то отталкивающее, потому что он не мог не сдабривать их издевательствами над всеми прочими людьми, словно я к ним не принадлежала. Он почитал меня исключением, а я не хотела быть исключением. Уверяет, бывало, что, когда видит меня в зале, может выстоять весь маскарад, не падая в обморок. Неужели он не чувствует, что тем самым только ухудшает впечатление от своих непристойных выходок — ведь его обмороки не что иное, как непристойная выходка? Я-то ведь люблю маскарады. Я-то ведь знаю, что он презирал бы меня точно так же, как всех прочих в обществе, не вбей он себе в голову, что я — воплощение выдуманной им придворной дамы будущего. Он любит не меня, но свой вымысел, а я лишь суррогат некой воображаемой телесной оболочки. И за это я должна благодарить? Благодарю покорно.
Он предпочитает пойти ко мне, а не на концерт к герцогине — и я должна этому радоваться? В этом городе его ничто не удерживает, кроме меня, и это должно льстить моему чувству? Этим обожествлением он ведь намекает на то, что я, в сущности, тяну его вниз, разве что он соблаговолит возвысить меня до роли своей музы. Он делает из меня мраморную статую, то есть стыдится меня такой, какова я есть. Я принадлежу к обыкновенным людям, и если он хочет меня любить, то уж пусть любит и всех обыкновенных людей.
Это я и дала ему понять, но чего уж ему было не занимать стать, так это хитрости. Поскольку мне не нравилось быть его идолом, он вынудил меня к этому своим поклонением.
На мои возражения он отвечал покорностью: если я говорила, он замолкал; если я бралась за оружие, он сдавался.
Этот человек, перед которым все дрожат, представал передо мной во всеоружии своей слабости. Ему никто не мил, — но из-за меня он безумствует. Он нужен всем — ему нужна я. Я не могу защищать своих позиций, не нанося ему ран, глубоких ран в самое сердце — ведь правда? Я его жизненный якорь: если я его не удержу, ему больше не за что ухватиться.
Быть любимой таким образом — значит встретить своего смертного врага.
Вы, Штейн, рассуждаете в точности как потомство, то есть, я хочу сказать, Гёте всегда объяснял мне, что потомство неизбежно будет рассуждать именно так. Гёте незаменим — для Веймара, говорите вы, для человечества, говорит он. Следовательно, мой долг его приручить, успокоить, избавить от дурных настроений. А почему, собственно, мой?
Пусть Веймар избавляет его от дурных настроений, если Гёте ему так нужен. Пусть потомство его и любит.
А я, например, заменима? У меня тоже только одна душа. Если я позволю ее разрушить в угоду этому вдохновенному шантажисту, я также не найду себе замены, как он — себе. Я не гений, а потому могу спокойно принести себя в жертву? Именно потому, что я не гений, я отвергаю эту претензию. Жертва имеет свою прелесть только для тех, кому уготовано место среди звезд или на страницах хрестоматий. В отличие от Гёте я живу, только пока живу. У меня есть, обязанности перед самой собой, перед детьми, перед родственниками. Затем следуют обязанности перед требованиями хорошего тона и перед всеми учреждениями, которые делают этот мир сносным для земных людей. Только когда эти требования выполнены, всякие посланцы бессмертия могут выставлять свои — пожалуйста.
И никто, в том числе и мой супруг, не имеет права удивляться, если в один прекрасный день я скажу: хватит.
Стук в дверь.
Ведь я же приказала не беспокоить меня! Что? Подай сюда. (Идет к двери, забирает кофе.) Я пересчитаю сахар, Рике, можешь быть уверена.
Какая растяпа! Я ее рассчитаю, но этим делу не поможешь: низшие сословия неисправимы. Я всегда утверждала, что обожать всех этих Гретхен и Клерхен[50] столь же нелепо, сколь и неприлично. Даже тот, кто желает им всяческого добра, должен признать, что у самых совестливых из них никогда нет настолько преданности и честности, чтобы продержаться у меня дольше двух недель. А видит бог, я немногого требую.
Кстати, эту чашку разрисовал мне Гёте. Это сразу видно, даже если и не знать. Любой мастер с фарфорового завода в Ильменау сделал бы аккуратнее, да ведь у Гёте не найдется, пожалуй, ни одной пьесы, способной выдержать сравнение с самой проходной драмой господина фон Коцебу[51]. Гёте — весьма своеобразный талант.
Он мастер на все руки, если отвлечься от того, что он не мастер ни в одном ремесле. Иными словами, он не умеет ничего, но это, во всяком случае, он умеет превосходно. Даже его манера ухаживать за женщиной так порочна, что и в самом деле способна смутить душу. Я не хочу ничего приуменьшать и сглаживать. Гёте вряд ли заслуживает похвал, но он отнюдь не безопасен.
Это говорю я, хотя из всех женщин в мире я, вероятно, самым основательным образом ограждена от посягательств сильного пола. Я знаю мужчин лучше, чем кто бы то ни было, ибо не помню ни одного дня в своей жизни, когда бы я не дрожала перед ними. Страх сделал меня прозорливой. И я заметила, что для мужчин характерны три качества.
Мужчина силен. Он не обращает против нас своей физической силы, но его глупый и грубый способ притязать на нас ежечасно напоминает нам, что мужчина может обходиться с нами, как ему угодно.
Мужчина заражен бешенством преследования. Он преследует какую-то цель и забывает обо всем прочем: о себе самом и (что он тем самым считает оправданным) о любом другом человеке. Это чудовище носит шоры.
Мозг мужчины работает так же, как мозг сумасшедшего. Он способен говорить о чем-то выдуманном, будь то в шутку или всерьез, так, словно оно существует на самом деле. И если такого человека охватывает безумие, если он, покорный ему, преследует свою цель, не оглядываясь ни направо, ни налево, и, не колеблясь, использует всю свою силу, — разве не похож он тогда на гигантского жука — лупоглазого, шумного и дурно пахнущего жука, с жужжанием несущегося к цели, которой никто не может понять, — и разве не способен он с разлету удариться о мою голову или о сердце, словно меня тут и нет?
Отец был готов прикончить меня палкой, вы, Иосиас, — родами.
За девять лет, пока вы окончательно не отвернулись от меня и не обратились к своим породистым жеребцам, вы семь раз покушались убить меня. Любой чесотке в вашей конюшне вы уделяли больше внимания, чем всем болезням и всем страданиям в вашем собственном доме; вы проявляли больше нежности к жеребым кобылам, чем ко мне во время беременности. Вы мужчина, Иосиас. Мужчина — это человек, который убивает.
Нас, женщин, винят в кокетстве за то, что мы делаем вид, будто боимся того, чего, в сущности, хотим: любви мужчин. Но если мы и заслуживаем порицания, нам следовало бы поставить в упрек, что мы делаем вид, будто желаем того, чего боимся. Ведь мы же не хотим, мы вынуждены хотеть. Разве у нас есть выбор? Чем были бы мы в своих глазах и глазах света, если б не достигали той отвратительной цели, которую не мы себе поставили? Краб пожирает свою самку после спаривания: их бракосочетание — это церемония похорон; вероятно, супруга краба должна сказать, что в этом розовая мечта ее жизни.
Я ни в чем вас не упрекаю, Иосиас. Вы помогли мне увидеть вещи такими, каковы они есть. И поскольку в области чувства я гораздо проницательнее, чем это вообще свойственно моему полу, меня не так-то просто застращать какому-то заезжему поклоннику муз.
Трудность с Гёте, как я уже говорила, состояла в том, что он был самым беспомощным поклонником муз, какие мне когда-либо встречались. Всякий кавалер, обладающий хоть малой толикой любезности, рано или поздно говорит мне: «Ах, Шарлотта, недаром ваша фамилия означает „камень“, у вас и сердце из камня»; на это я обычно отвечаю: «Разумеется, сударь, мое сердце — пробный камень вашей искренности». Получается каждый раз такая легкая, деликатная пикировка. И что же? Гёте, называющий себя поэтом, когда-нибудь додумался до этого? Раз я спрашиваю, вы уже догадались, каков ответ. Он не додумался. Согласитесь, что вы считали бы такое невозможным.
Как и всякий человек, я испытываю невинное желание использовать те скромные возможности, которыми располагаю. Я люблю такие изящные поединки. Я нападаю, я обороняюсь. Я ценю разнообразие впечатлений. Но Гёте — неинтересный собеседник. Я ничего не имею против томных взглядов, нежного лепета. Они хороши для начала, для сближения, но когда-то должно же последовать серьезное объяснение. Если разговоры о сердечных делах — детство, а беседы о городских новостях — зрелость, то за десять лет знакомства мы не вышли за рамки болтовни, достойной подростков. Вряд ли есть что-нибудь более безвкусное, чем мямлить о любви, не умея сказать ничего лучшего.
Тогда же, когда он пытается говорить серьезно, он говорит не со мной, а лишь адресуясь ко мне. Вы знаете, как он выражается. И, к сожалению, он считает правильным наедине с женщиной произносить те же нелепости, от которых клонит в сон гостей, собирающихся на чай у герцогини-матери. Эта манера всем известна, остается лишь терпеть и пропускать их мимо ушей. Я помню только одно дельное соображение, услышанное от него. Он сказал однажды: «Вы не находите, моя дорогая, что вязаный ридикюль госпожи Гехгаузен[52] слишком зелен?» Это замечание я никогда не забуду. Единственное разумное высказывание Гёте за десять лет.
Таким образом, вся тяжесть беседы лежала на мне. Он охотно предоставлял мне слово. Но если я говорила нечто остроумное, он со слезами на глазах хвалил волшебный звук моего голоса. Часто я ловила его на том, что он меня вообще не слушает. А если мне с помощью всяческих ухищрений удавалось втянуть его в разговор, он парировал мои выпады легко, но без всякого интереса, а его оживление (и это было совершенно ясно) служило не для того, чтобы продолжить приятный разговор, а чтобы свести его на нет. Я дарила ему тему, а он не находил ничего лучшего, как ее исчерпать. Я чувствую, что говорю путано. Это не моя вина. Неясность свойственна той особе, о которой идет речь. Чтобы помочь себе, я повторю некоторые из наших бесед слово в слово. Он передает мне печать с выгравированной надписью: «Все ради любви». Я говорю:
«— На вашей печати очень глупый девиз, я, конечно, в жизни не возьму ее в руки. Как, вы плачете?
— Даже ребенку позволяется плакать, если его бранят за проявление доброй воли.
— Вы недобрый ребенок, Гёте. Я приказываю вам оставить ваши причуды.
— Что с вами, моя дражайшая подруга? Вы несчастны?
— Я несчастна? С чего вы взяли?
— Но я предоставляю вам две возможности любить меня: мой подарок и мои слезы, а вы их упускаете».
Или, скажем, он все пытается перейти со мной на «ты».
«— Если вы станете обращаться ко мне на „ты“, мне будет почти так же неприятно, как если бы вы касались меня.
— Вы холодны, дорогая моя.
— Что же тогда удерживает вас у меня, милостливый государь?»
И Гёте отвечает:
«— О, я ценю холодность в женщинах, она заменяет им самостоятельность мышления».
Как можно продолжать такой разговор?
Поймите, я сержусь на Гёте не за его находчивость. Он не находчив, ничуть. Он часто не знает, что ответить на самое простое замечание. Я была бы счастлива, будь он находчив: с находчивыми людьми легче всего справиться. Ты говоришь одно, он говорит нечто прямо противоположное, ты утверждаешь обратное, тем все и кончается.
Нет, эта колкость Гёте была почти искренней. Он в самом деле ценит холодность.
У этого человека нет характера. Ни единой привычки, к которой можно было бы придраться, ни единого принципа, который можно было бы уязвить. Пока нащупываешь у него слабое место, обнаруживаешь, что у него и сильного-то ни одного нет, и чувствуешь, что сама теряешь почву под ногами. Начинаешь обдумывать следующий шаг, делаешь ошибки, уступаешь там, где следовало бы проявить твердость, отталкиваешь там, где хотелось бы привлечь. И неожиданно оказываешься лицом к лицу уже не с его слабостями, а со своими собственными.
Мужчина — это постулат. Женщина — это совокупность всех возможных опровержений данного постулата.
Гёте — это совокупность всех возможных постулатов, в том числе и их опровержений.
Он сама неопределенность, и все же он не есть никто. Он всегда есть он, в этом нет ни малейшего сомнения. «Как? — спросите вы. — Он всегда он, и в то же время он не постулат? Тогда кто же он?»
Я вам скажу, ибо он достаточно часто давал мне это понять. Он бог, ничуть не меньше. Он и притязает на права бога, то есть на безграничное себялюбие. Например, он много спит. Представьте себе следующую сцену. Я читаю ему нотацию. Он впадает в неописуемое возбуждение, скрипит зубами, катается по земле, хуже, он приводит в беспорядок свою прическу — вы знаете, что мне по крайней мере удавалось заставлять его держать волосы в порядке. И посреди всего этого он вытаскивает из жилета часы, заводит репетир и заявляет: «Прошу прощения, сударыня, перенесем нашу беседу на другой раз, завтра я должен закончить главу „Вильгельма Мейстера“[53], и мне необходимо вздремнуть, чтобы несколько освежиться».
Разумеется, я не пускаю его. Он должен остаться, но он хочет уйти; через полчаса, ну через час, он добивается своего. Я и сейчас краснею, когда вспоминаю об этом. Сознаюсь вам — только через десять лет я поняла, что этот час промедления он заранее предусматривал, рассчитывая время своего ухода.
Может статься, что Гёте десять долгих лет, днем и ночью, страдал из-за меня. Но я готова прозакладывать душу, что он не потерял из-за меня и десяти минут сна.
Сколько может женщина выносить такое? Кого из смертных не ожидает работа? Какой человек в момент, когда должны пролиться слезы отчаяния, дерзнет ссылаться на свою потребность в отдыхе? Если ты в отчаянии, что значит для тебя усталость? А Гёте именно таков, ибо он — бог. Разве возможно, чтобы божество не выспалось к утру? Да тогда солнце не взойдет!
Есть только одно различие. Боги бросают свою тень на наш мир, но благое чувство гармонии запрещает им обретаться среди нас. Мы почитаем их, поелику их недосягаемость смягчена забвением или удаленностью, — чтобы жить с нами, им просто не хватает манер.
Я допускаю, что мои нападки иногда теряли тонкость и часто опускались до уровня бессмысленных оскорблений, наносимых мимо цели. Но как целить в то, что не имеет сущности? Где у бога ахиллесова пята?
Слабость, которую люди скрывают всего старательнее, — страх — он обнаруживает всего охотнее.
«— Я боюсь этого большого света, ваших глаз, вашего пуделя». И как он в этом признается? С самодовольной миной, как другие признаются, что выиграли битву. Я начинаю браниться:
«— Вы отнюдь не боитесь приглашать меня, хотя в контрдансе являете собой весьма жалкое зрелище.
— Мой страх остаться без вас был сильнее».
Я говорю первое, что приходит в голову:
«— A propos, вы и верхом почти не умеете ездить.
— Совершенно не умею, и я серьезно собираюсь бросить это занятие».
Бросить это занятие! Верховую езду! Снова увильнул в неуловимый парадокс. Есть ли на свете хоть один-единственный мужчина, который не был бы болен глупой уверенностью, что он держится на лошади лучше и изящнее всех? Я имею право говорить так вам — ведь вы, как всеми признано, лучший наездник в герцогстве. Мужчина, который не ездит верхом, все равно что женщина, которая не вышивает. Между прочим, Гёте недурно вышивает, весьма недурно.
Мне остается только сказать:
«— Не лгите, я знаю вас.
— Откуда?
— Я знаю мужчин.
— Всех, моя дорогая?
— Всех.
— Но на это не хватит целой жизни.
— Я знаю моего отца, я знаю Штейна, я знаю герцога. Вы полагаете, что может найтись мужчина, который обладал бы столь противоположными свойствами?
— Вы правы, такого нет.
— А, так вы согласны со мной?
— Но я не мужчина, Лотта. Я Гёте.»
Это была роковая правда. У меня словно пелена упала с глаз. Гёте был не мужчина, так как он не считал себя обязанным быть таковым, и, стало быть, я, закаленная разумом и опытом против любви к мужчине, полюбила… полюбила… полюбила… (Роняет чашку, собирает осколки.)
Да, это была любовь, Иосиас, самая чистая, самая благородная, самая беззаветная любовь. Но тем из нас, кто любил, была исключительно я.
III
Госпожа фон Штейн (продолжает). Гёте — так считают многие — приехал в Веймар и через несколько дней без памяти влюбился в меня. На самом деле все было иначе. Гёте приехал в Веймар с твердым намерением иметь со мной связь.
Не надо забывать — этот честолюбивый молодой адвокат и скандальный поэт впервые попал в порядочное общество. Он задался целью завести роман с придворной дамой, и доктор Циммерман обратил его внимание на меня. Не удивительно, что он быстро огляделся, все прикинул, нашел, что я вполне соответствую его планам, и начал уверять меня, что его сердце принадлежит мне навечно. Вполне обычная чепуха, но при чем здесь любовь? Я отнюдь не приписываю себе достоинств, способных вызвать любовь такого человека, как Гёте. Но разве он не мог хотя бы раз взглянуть на меня, прежде чем решительно объявить меня предметом своей вселенской страсти? Можете упрекать меня в тщеславии: я желала, чтобы моя особа — какой бы незначительной она ни была — принимала во всем этом участие.
Но устроить это было нелегко. Я быстро поняла, что я не та и что дело не во мне. Любая оказалась бы не той. В сердце — в этом счастливейшем достоянии — боги ему отказали. Он неспособен ни на какую искреннюю склонность. Ему неизвестно никакое чувство, поскольку ни одно из них ему не чуждо; он пылает по здравом размышлении, ибо он никогда не пылает. Гёте — холостяк. А холостяк — если опыт чему-нибудь научил меня — это мужчина, который не может любить. В душе неженатого мужчины старше тридцати вы непременно обнаружите плесень, грозящую затянуть всю душу. Как знать, Иосиас, может быть, брак именно с той точки зрения, с которой его заключают, то есть с точки зрения любви, не что иное, как обман. Однако ни один человек с честным сердцем не проявляет предусмотрительности в этом главном деле жизни. Гёте не любил даже Лулуша.
Впрочем, однажды он подарил ему голубой бант и весьма наслаждался своим триумфом. Потом ему пришлось увидеть, как я повязываю Лулушу лиловый и серебряный бантики. Это его ужасно разозлило.
Холостяки хотят внушить нам, будто избегают тягот брака потому, что рождены для любви. На самом деле они избегают тягот любви.
Каких только жертв я не приносила ради своей любви! Я выкраивала для Гёте время, несмотря на мой совершенно заполненный день. В самые ранние утренние часы мне приходилось являться перед ним в полном туалете, несмотря на многочисленные домашние дела. Мне приходилось соглашаться на доверительный тон наших отношений вопреки требованиям внешних приличий, не говоря уже о требованиях, которые предъявляет внутренний голос нравственности. От Гёте не требовалось ответных жертв. Он мог на досуге в свое удовольствие строчить оды и завиваться, а что до его репутации, то неосмотрительность только упрочила бы ее.
Вот какова цена пресловутому любвеобилию холостяков. Они наслаждаются мгновеньями счастья, а потом бегут отдыхать в свою каморку. И если даже я в какой-то момент предавалась глупой иллюзии, что Гёте может полюбить меня, то уж он-то сделал все возможное, чтобы быстро эту иллюзию развеять. При первой же встрече он поспешил сообщить мне, что имеет твердое намерение остаться холостяком. Он специально сочинил пьесу, в коей было сказано, что он женился бы на мне, будь я, во-первых, на двадцать лет моложе, а во-вторых, приходись я ему сестрой. Вот уж воистину лестно было прочесть такое.
Когда доктор Циммерман[54] вырезал для него мой силуэт, он написал под ним: «Сетями побеждает». Сетями? Я? О Гёте, какая же ты бесстыжая баба!
Вы вправе спросить меня, Штейн, как же было возможно, чтобы этот мужчина, или человек, или кто бы он там ни был, чье равнодушие я разглядела в один момент, привлек меня с такой неотразимой силой? Что ж, мой милый, он привлек меня именно равнодушием. Знаете ли вы, что мы, женщины, вынуждены любить, когда не можем победить?
Власть Гёте надо мной основывалась на его безграничном себялюбии. А тайна его себялюбия была в том, что оно не уменьшалось за счет любви ни к одному другому человеку. В остальном, если признаться честно, немногое говорило в его пользу. Он любил себя, не имея на то особых оснований, и несоответствие между той высотой, на которой он себя мнил, и недостатком действительных успехов — это формула, которая его объясняет.
В общем, он терпел неудачу во всем, за что брался. Ему не удалось освоить ни одной профессии. Всем известно, что он лез из кожи вон, чтобы стать художником, и что этого он не добился. В конце концов он вернулся к сочинительству, то есть не стал ничем. Тоже мне профессия — сочинитель.
С женщинами ему всегда не везло, а насколько жалки его победы, свидетельствует то, что он никогда не упускал случая напомнить о них. В одном письме из Швейцарии он писал, что посетил всех, и уверял, что все сердечно привязаны к нему; кстати, он расписывал их достоинства, чтобы подчеркнуть отсутствие таковых у меня. Список достаточно нелеп. Одна — до сих пор не испорченная пастушка по имени Фредерика, другая — бодрая резвушка по имени Лили и еще, если послушать его, Бранкони[55], та самая кокотка. Слов нет: такого рода добродетелями я не обладаю. У меня с его мимолетными пассиями общее только одно — я благодарю судьбу, наконец-то освободившую меня от него.
Скажите, разве сегодня не ожидается почта? Это не имеет никакого отношения к делу, я просто так спросила.
Его политические цели, слава богу, опровергали одна другую. Мне совершенно ясно, что они с герцогом надумали было осчастливить нас, дворян, почетным бременем налогов. Однако герцог наш вовремя сообразил, что его казна — а она у него полней других — быстро опустеет, если он отправит в долговую тюрьму именно тех преданных людей, которые готовы защищать эту казну от завистливой черни.
Но самое большое разочарование доставило Гёте его дурацкое честолюбие касательно человеческого рода вообще. Уж как он спешил обратить его к гуманности, а человечество отнюдь не торопилось следовать за ним. Господин фон Коцебу отпустил очень меткое замечание на сей счет. «Прежде, — сказал он, — мы, немцы, вполне обходились нашей чувствительной душой, теперь всем непременно подавай гуманность». Гуманность — что это еще за зверь такой? Если бы эту вещь можно было почувствовать, зачем бы ей иметь латинское название? А я сказала Гёте: «Терпение, мой юный друг, прогресс наступит непременно, но что до меня, то я чрезвычайно рада жить там, где он не наступит».
Итак, сколько у Гёте было намерений, столько у него было и оснований для недовольства собой. И вот, чтобы не подвергать опасности собственное себялюбие, он придумал причину для этого недовольства: погоду.
Среди всех его бранных слов самое страшное — «погода». Он способен снисходительно говорить о черте, но не о погоде. Погода у него всегда ужасная, или невыносимая, или веймарская, но в этих устрашающих эпитетах даже и нет нужды — словом «погода» сказано все. Хуже его только одно, еще более смертельное проклятие — «время года». Этот безбожник, не верящий в дьявола, верит вместо дьявола в погоду, и тут нет никакой разницы: он решил, что погода должна быть виновата во всем. Небо Веймара — его ад. Барометр — его распятие, перед ним он творит молитву.
В ноябре погода пасмурная, в декабре ненастная, в январе жесткая, в феврале влажная, в марте промозглая, в апреле капризная и так далее. Бывало, он скажет: «Вы же знаете, дорогая, в такую погоду я редко чувствую себя хорошо», и я давай натапливать комнату, как печь в харчевне, — а на дворе июнь! Или целый вечер докучает мне своей кислой миной: «Пожалейте меня, Лотта, в такие месяцы при такой погоде я неспособен ни на какие благие дела» — речь идет об июле или августе, на небе сияет солнце, а я изволь жалеть его.
Я больная женщина, а Гёте здоровый мужчина, который в жизни ничем не болел. Даже я при всех моих недомоганиях не позволила бы себе без конца сваливать все на изморось или духоту. Это свидетельствует о невероятно слабой выдержке, это более чем недопустимая распущенность. Это проявление души, не созревшей для внутренней гармонии, скрывающей от самой себя истинный источник своей хандры, отчего эта хандра сплошь и рядом — и тем необузданнее — прорывается в другой форме. Как однажды остроумно заметила наша любезная Гехгаузен: «Он думает, что его настроение зависит от погоды. Истина же состоит, разумеется, в том, что погода зависит от его настроения».
Да, Штейн, так уж он был создан, а я любила это чудовище всей душой. Он был пуст сердцем, развращен умом, все его устремления были разрушительны.
Я хотела удержать его при себе. Я хотела, чтобы он был моим, пока я этого желала, и чтобы я первая сказала: «Прощай». Как случилось, что мне это удалось? Как я ухитрилась совершить это чудо? Что ж, я знаю объяснение. Меня спасло отвращение к его полу. Страх помог мне одержать над ним верх; мое бегство оказалось единственно неотразимой атакой.
Если б я доверилась Гёте, он сожрал бы меня и выплюнул. Я отвергла его и увидела, как в этом человеке, не умевшем любить, вдруг вспыхнуло желание завладеть мною.
Помолчите минуточку — по-моему, я слышу почтовый рожок. Нет? Стало быть, мне померещилось?
Да, с тех пор у меня было достаточно возможностей разработать систему приемов, благодаря которым можно посадить мужчину на цепь. Поскольку он неспособен ни на какое ощущение, кроме самых низменных влечений, женщина должна стать для него задачей. Задаче он не может противостоять. Его мужская природа повелевает ему ее решить — иначе он рискует потерять уважение к себе. Если женщина проявляет стойкость, мужчина страдает: не от любовной муки, отнюдь, но от сознания собственного бессилия. Через некоторое время его вообще занимает уже не женщина, а исключительно он сам. Он любит не женщину, которая ему сопротивляется, но страдание, которое она ему причиняет, а любовь к страданию — это единственный род продолжительной любви.
Еще в самом начале Гёте послал мне одно из своих стихотворений. Кстати, он тем временем его опубликовал, и не без успеха.
Ты, что в горной вышине Горе ведаешь земное (И страдающим вдвойне Облегченье шлешь двойное!) Я устал от смены вечной, То восторг, то боль в груди, Мир сердечный, О, сойди ко мне, сойди![56]Я читала это не один раз: видите, я помню его наизусть. Разумеется, к писателям в принципе не следует прислушиваться. Они говорят, что хотят. Скажут ли они правду или нет, они выразятся равно удачно; из их речей ничего нельзя извлечь.
Но в этом стихотворении — я сразу почувствовала — была правда. Оно-то вылилось из самого сердца. Этот любимец богов, у которого, казалось, было все, чем может обладать человек, все же нуждался в одном: в душевном покое, а мое решение было неколебимым: не давать его никогда.
Я не более тщеславна, чем подобает женщине, но этим открытием я имею основания гордиться по сей день. Это было подобно наитию или озарению. Все, что я делала, руководствуясь только чувством, вдруг обрело ясность и смысл. Мне открылась вдруг вся жизнь сердца, и я как бы с высоты увидела то, о чем вам только что говорила и чего прежде — до того знаменательного дня — не могла бы выразить.
Гёте привык, что женщины не дают ему прохода. То есть он имел дело с дамами такого сорта, которым преподносил свою страсть и которые отвечали столь жалким «нет», что ему оставалось лишь выждать, пока они рано или поздно со столько же жалким «да» не кинутся ему на шею.
А я вот сказала сначала «да», а потом «нет», и это его озадачило.
Я написала ему письмо, где уверяла, что жизнь, потерявшая для меня всякую привлекательность, снова стала прекрасной, прекрасной благодаря ему, что полгода назад я была готова умереть, а теперь снова живу.
Я дала ему время переварить это — и уехала в Кохберг с Ленцем, его собратом по профессии, которого он очень боялся из-за его таланта.
Понимаете теперь, что значит сделаться задачей мужчины? Дальше мне оставалось только позаботиться, чтобы он не совершенно отчаялся и, чего доброго, не отказался от своей цели как от недостижимой. Но для этого достаточно (если дело начато удачно) нескольких поощрительных намеков, настолько туманных, что ни один разумный человек не стал бы возлагать на них ни малейших надежд.
Я думаю, моим самым большим удовольствием было упрекать его в том, что он меня не любит. Как ни справедливо это утверждение, в его представлении оно было жестокой несправедливостью. И кроме того, он мог считать его обещанием, что я, приложи он только достаточно стараний, дам ему явные доказательства моей любви, чего я, однако же, отнюдь не имела в виду и не обещала ни единым словом — в этом как раз и заключался мой ход.
Слышен очень далекий звук почтового рожка.
Вот и почта. Значит, я тогда не ослышалась. Слух женщины тоньше, чем слух мужчины, как, впрочем, и все другие чувства. Через пять минут почтовая карета остановится у замка. О чем это мы говорили? Ах да, о любви.
Чтобы мужчина действительно потерял уверенность в себе, его надо заставить почувствовать, как много он проигрывает при более близком знакомстве, — таково правило, которое можно было бы вывести из данного случая. Значит, надо сделать вид, что первое впечатление от него нас просто потрясло. Когда потом наш восторг ослабевает, он из кожи вон лезет, чтобы снова оказать на нас действие, о котором он и сам не подозревал.
«Я вас презираю» — это не смутит ни одного мужчину. Но «Я, кажется, переоценила вас, милостивый государь» — этого орешка ему вовек не разгрызть.
Разумеется, наше разочарование в мужчине не должно распространяться на те качества, которых у него нет, но лишь на те, которыми он обладает. А уж с Гёте особенно — его можно было припереть к стене, играя только на его достоинствах, но никак не на недостатках. Он научился скрывать свои слабости под панцирем себялюбия, но его добродетели были совершенно беззащитны. Он никогда в них не сомневался.
Добродетели Гёте — особого рода. Он верен своим замыслам. Он искренен перед грядущими поколениями. Он справедлив в своих литературных сочинениях. Когда он верен, искренен и справедлив по отношению к нам — а он таков, — это всегда только крохи. Именно это обстоятельство, глубоко оскорбительное для нас, дает ему основание непомерно гордиться упомянутыми свойствами. И достаточно хоть чуть-чуть усомниться в его безупречности, чтобы повергнуть его в мучения и тем самым воспламенить.
Когда он писал мне письма дюжинами, я обвиняла его в том, что он пренебрегает мною. Когда я заставляла его ждать, я же бранила его за опоздание. Когда он посылал мне ранние примулы, персики или спаржу, я дарила их первым попавшимся людям и одновременно заявляла, что он вовсе обо мне не думает. Я сама часто удивлялась, чего только он не терпел от меня.
Однако мужчины склонны взваливать вину за свои неудачи в любви скорее на себя, чем на возлюбленную, — наверное потому, что тщеславие требует от них скорее иметь безупречную возлюбленную, чем самому быть безупречным. Значит, наши несправедливые обвинения могут заходить как угодно далеко. В этом отношении Гёте был просто помешан. Я могла упрекать его в чем угодно. Он предпочитал счесть себя последним глупцом, чем допустить, что его кумир — привередливая ведьма. Он верил, что давал мне поводы к ложным подозрениям, и с непоколебимым упорством тщился доказывать обратное, какие бы глупости я ни вытворяла.
Лучшими доказательствами он считал произведения своего искусства, он просто заваливал меня ими. И постоянно приходил в отчаяние, что я их не читала.
Такое обыкновенное пренебрежение было наверняка не самым худшим из моих маневров. Казалось бы, это очень просто. Ведь каждый знает, чего стоят поэтические сочинения. Говорят, что поэты — это люди, которые умеют высказать то, что другие люди чувствуют. Определение хорошее, но слишком краткое. Полное определение звучит так: поэты высказывают то, что чувствуют все люди, кроме них самих. Тем не менее, уверяю вас, мне пришлось весьма основательно все обдумать и оценить, чтобы прийти к этой мысли.
Только не говорите, что вы его тоже не читали. Конечно, вы его не читали, Штейн, но это совсем другое дело: в конце концов, у вас не было к тому ни малейших оснований. Впрочем, даже мне это не стоило особых усилий. Сколько я могу судить по тому, что перелистала, это все вещи холодные, очень скучные, очень заумные и очень бесстыдные. Но важно-то было не то, что я их не читала, а то, что я в этом сознавалась.
Нет ничего легче, чем заставить автора поверить, что его знают. Если господь отказал моему полу в способности что-нибудь понимать, он все же даровал нам талант выглядеть так, словно мы понимаем все. В беседе с автором ты вскользь упоминаешь какой-либо предмет, он пускается в разглагольствования о своих воплощенных замыслах; ты зачарованно смотришь на него и вздыхаешь: я тоже это чувствовала, но не могла выразить; любой автор сочтет тебя тончайшим знатоком своих писаний.
Я отказалась от этой повинности. Я не изображала почтительного восхищения. Я говорила: «К чему мне ваши искусственные рифмы, мой друг; для меня вы — Гёте, а не знаменитый поэт.
— Но Гёте — поэт».
А я возражала: «Увы, друг мой! Как бы я желала, чтобы вы были просто придворный садовник Мейер».
Понимаете, Штейн? Одна простая фраза — и Самсон лишается волос[57].
Я воспользуюсь этим примером, чтобы показать вам, каково бы мне пришлось, если б я клюнула на его стишки. Это само по себе — целая история.
Прежде всего: почему я должна позволять ему пользоваться своим ремеслом, которое и так доставляет ему достаточно привилегий, как будто у других людей нет никаких дел и как будто мне не приходится вести дом и управлять имением, которое дышит на ладан, — почему я должна позволять ему пользоваться ремеслом, чтобы извлекать из него еще и выгоды для своей любви?
Неужели недостаточно, что он изо дня в день извлекает из любви выгоды для своего ремесла?
Я позволяю ему поцелуй. Поцелуй приводит его в восторг. Этот восторг он перечеканивает в стихотворение. За это стихотворение, то есть в конечном счете за мой поцелуй, он берет деньги; на этом, казалось бы, сделка закончена. Неужели я должна еще и вознаграждать его поцелуями за мои же поцелуи?
Хотите — верьте, хотите — нет: он требует именно этого. Мое равнодушие его оскорбляет. Он каждую строку сочиняет якобы только ради меня. Прекрасно. Но для кого же тогда он отдает ее в печать?
Он говорит, что создал «Тассо» и таврическую Ифигению, чтобы все знали, как он любит меня. Разумеется, все наоборот: он любит меня, чтобы сочинять этого Тассо и эту Ифигению. Я для него — чернильный прибор, мне место на его письменном столе.
Самое возмутительное, что, сидя над этими своими драматическими сочинениями, он испытывает чувства, на которые он имел бы право лишь в том случае, если бы я позволила ему сидеть подле меня. Он внушил себе, что мы любим друг друга; он пишет историю нашей любви, не спрашивая меня. Он любит за себя и за меня. Как прикажете мне защищаться? Я, сколько могла, мешала ему работать и возвращала к суровой действительности. О да, тогда он страдал. Но позволю себе заметить, что страдал он не без удовольствия. В страдании он становился таким красноречивым, выражал свои поучения с такой бесстыдной откровенностью, что я всегда чуяла за этим тайное наслаждение. У меня есть некоторые основания сомневаться в том, что человек на дыбе замолкает: насколько мне известно, он кричит. А вот Гёте — тут он сказал правду — сочиняет стихи.
Поэт страдает больше, чем мы? Но и зонт чаще попадает под дождь.
Он любил страдать, потому что не умел страдать, так же как он любил любить, потому что любить был не в состоянии. Я убеждена, что в тот момент, когда он перестал бы получать от этого поэтические проценты, он отложил бы в сторону все свои несчастья, как мокрый зонт. А я, женщина с обыкновенными чувствами, как всякая другая, почему я должна удовлетворять любопытство этого неуязвимого человека и показывать ему, каково, например, приходится тому, кто страдает? Я это называю — вести со мной игру.
Горе той несчастной, которая решится любить поэта. В самом деле, я и по сей день не могу сказать, кто из нас кого терзал. Гёте — о, уж он-то, конечно, называл меня жестокой! Любой мужчина считает женщину капризной, если она хочет привязать его, и неверной, если она добивается от него постоянства. Они любят предавать нас и весьма не любят, чтобы предавали их.
А теперь весь свет сговорился упрекать меня в жестокости, и вы, Иосиас, выясняете со мной отношения и намекаете, что это я прогнала Гёте своей жестокостью: моя жестокость, видите ли, причина того, что он теперь в отсутствии. А я скажу вам вот что: если и была причина его присутствия здесь в течение бесконечных десяти лет, то этой причиной была моя жестокость. Не спрашивайте меня, почему Гёте уехал. Спросите лучше, почему он оставался здесь так невероятно долго.
И тогда я вам отвечу: потому что я любила его, и любила так, как ему это было надо. Ведь и богам для их всевластия нужны страдания.
Ведь мы цепляемся за жизнь со всеми ее неурядицами и огорчениями именно благодаря этой ее жестокости. Мы дорожим жизнью, ибо каждый удар, который она нам наносит, заставляет нас еще яростней доказывать, что мы можем вырвать у нее также и счастье. Да, Штейн, человек любит жизнь, потому что она его не любит.
Почтовый рожок.
Почта! Позвольте, я подойду к окну; правда, я не знаю, кто бы мог в настоящий момент писать нам… Сейчас покажется кучер.
Почтовый рожок.
Как? Карета проехала прямо к почте? Значит, я опять была права. Я же говорила, что мы не ждем письма, и вот пожалуйста — письма нет.
Я хочу быть искренней, Иосиас. Допустим, Гёте набрался бы наглости обеспокоить меня письмом, умоляя о прощении, — я бы не простила. Что бы ни судили обо мне вы и весь Веймар, десять лет прошло, и десяти лет — довольно. Я по горло сыта этой вечной заботой, этой мукой безответного чувства, когда все тяготы выпадают на долю любящей, а все наслаждения — на долю любимого. Никто меня не осудит. Я все это перенесла и все позабыла. Глядите-ка — Зейдель[58]! Ах так! Он послал письмо на адрес своего слуги. Поскольку письмо у Зейделя, кучер, конечно, и не мог принести его.
Нет, любимый, я знала. Ты еще вернешься в эти объятия, ты еще упадешь мне на грудь. Мне на грудь. (Уходит.)
Занавес.
IV
Господин фон Штейн лежит на кушетке. Госпожа фон Штейн входит с посылкой.
Госпожа фон Штейн. На чем мы остановились? Я, кажется, говорила что-то о своих объятиях? Тем лучше. А вы, вместо того чтобы убеждать меня, набрались бы терпения и выслушали — осталось сказать несколько слов. Я намерена объясниться до конца.
Но не ждите сюрпризов. Ничего нового я не скажу.
Гёте любил меня, это я уже говорила. Я говорила также, что я любила Гёте. Любой школьник сообразит, что мы любили друг друга.
Это не просто письмо. Это даже посылка. Из Рима, из Италии. Зачем его туда понесло? (Открывает посылку.)
Вы полагаете, что мне лучше знать? И я знаю. Он снова бросает вызов судьбе. Как все недовольные собою люди, наш общий друг испытывает непреодолимое желание уехать — чем дальше, тем лучше. Разумеется, это бессмысленно. Если б ему удалось уехать с этого света — он и на Луне не избавился бы от самого себя. Попади он на Венеру — он и там станет проклинать чаепития, рецензентов и погоду. Он болен сам собой, а единственный человек, способный его излечить, — это я. Видите, вот и письмо. (Кладет письмо на круглый столик.)
Посмотрим, что там еще. (Вынимает из ящика копию Геракла Фарнезе.) Ага, произведение искусства. Гипсовое. (Ставит Геракла на письмо.)
Почему я не распечатываю письмо? Чем дольше вы будете засыпать меня вопросами, Иосиас, тем дольше вам придется ждать ответа. Надо ли мне узнавать цвет его сердца по чернилам? Разве не знакома мне эта искусственная затемненность смысла, эти сбивающие с толку сопоставления и головокружительные обещания? Мне нет нужды распечатывать письмо — впрочем, это уже стало для меня чем-то вроде привычки.
Я часто оставляла его письма нераспечатанными, так что он обычно видел их, приходя с визитом. Можете себе представить, как это вредило его представлению о собственном совершенстве.
«— Как, вы не читали моего письма?
— У меня не нашлось времени, дорогой.
— Не нашлось времени на мое письмо?
— А это так спешно?
— Я вскочил ночью с постели, чтобы написать его, пожертвовал своим драгоценным утренним сном, чтобы отослать его, а у вас хватило духу оставить его на целый день нераспечатанным!
— На день?
— Ну почти.
— На три дня, дорогой: это позавчерашнее письмо; сегодняшнее, если оно, как вы говорите, существует, наверняка отыщется в передней».
Поэт, Иосиас, — это человек более высокого ранга, чем многие из наших дворян. Для вас непостижима такая иерархия, основанная на благородстве чувств. Вы стали бы взвешивать гений на весах, как породистого кабана, и в случае Гёте жестоко ошиблись бы: ибо он чем больше любил, тем сильнее худел. Ваша бесчувственность служит вам извинением, вот почему я готова молчаливо выслушивать ваши бесконечные упреки. Еще только одно слово — и можете продолжать. Вокруг души поэта — да разве вам это втолкуешь! — вращается вселенная. Действительность не подчиняет его, он подчиняет себе действительность, располагает ее вокруг себя: поэт — всегда средоточие. Повергнуть в пламя средоточие мира, Иосиас, — это согревает. Полагаю, что Нерон не испытывал озноба во время пожара Рима, по крайней мере в этот единственный раз.
Мы любили друг друга иначе и сильнее, чем любят прочие люди, и наш восторг нельзя было сравнить с восторгом смертных.
Рука об руку шли мы берегом Ильма, и старые ивы доверчиво кивали нам, шумела вода у запруды, луна же наполняла эту прелестную долину, даже лучше сказать: долы и холмы, сиянием тумана. Гёте положил свою крепкую руку на мою и говорил тихо и очень хорошо, и все, что я видела, умел облечь в слова и истолковать таким образом, что это всегда имело отношение к чувству, пронизывавшему наши сердца. Ах, и я таяла от его слов и поцелуев! Моя беспомощность исчезала, я забывала о своем ничтожестве и о том, что я всего лишь слабая женщина; я чувствовала, что имею право вечно быть лишь его служанкой и все же — ибо любовью своей он возвысил меня — равной ему. Объятие, которому предшествовали эти часы…
Предвижу ваше удивление, когда вы узнаете, что наше блаженство отнюдь не означало отказа от наслаждений плоти и нервов. Между тем я решилась ничего не утаивать от вас. Тем самым я иду навстречу вашим настойчивым просьбам. Это произошло в ночь на десятое октября восьмидесятого года.
Гёте сопровождал герцога в поездке по княжеству; на обратном пути они заехали в Кохберг, он страдал от тумана и полнолуния, его измучили ветер и верховая езда, и он хотел как можно скорее лечь спать. Я поняла это и проводила его через парк до его комнаты: я же знала, что он не откажет себе в удовольствии проводить меня обратно в замок. Так он и сделал, и ему пришлось присоединиться к собравшимся и выпить со всеми. Вы, Штейн, находились тогда в Хильдбургхаузене, принимая там меры против повального падежа скота.
Вы были рады оставить меня хоть в каком-то обществе; впрочем, вы твердо рассчитывали на мое отвращение к механическому соединению с мужчинами — вы знали по себе, как невыносимы мне их жесты, гримасы, самый их запах. Эти предметы менее всего подобает затрагивать в супружеских беседах. Но, в конце концов, мы живем в просвещенный век. Аналитический дух несет с собой нечто освобождающее, если ему не дозволяется проникать в головы простолюдинов. Так что я буду откровенна.
Я вполне способна выносить то физическое неудобство, которое так украшает женщин в ваших глазах, поскольку внушает вам чувство силы. Знаю, что повергну вас в удивление, супруг мой, но для меня нет ничего проще, чем его испытать. Порой мне бывает трудно подавить его, когда я еду верхом или когда ночная рубашка запутается между бедер. Мне было чрезвычайно легко подавлять его, в то время как вы при моем посредстве производили на свет или прямиком отправляли на небо наших семерых детей.
Конечно, это приятное неудобство, и именно потому оно заслуживает отвращения. Оно чуждо мне, его мне навязывают, да еще таким гадким и унизительным образом. Похоть, которая должна удостоверить мою подчиненность, — вот что от меня требуется.
Вы были столь наивны, что пытались научить меня этому возбуждению, — это при вашей-то ловкости! От вас я научилась лишь тому, что любовный акт, как его называют мужчины, — это такая вещь, которой по возможности следует избегать или на худой конец как можно скорее с нею разделываться. Мое безразличие часто вас раздражало; это ли не доказательство, что мужчине нужно только одно: утвердить свое господство над женщиной также и в ночные часы? Почему мужчина сразу же падает духом, если я не изъявляю восторга? Если он так любит это отталкивающее отправление, какая ему разница, испускаю я стоны или нет? Мои стоны для его слуха — такой же привычный шум, как мои просьбы о деньгах каждое утро.
Мою холодность, в которую вам приходилось верить в интересах вашего самодовольства, вы всегда объясняли отсутствием у меня тучных форм. Да найдется ли еще хоть один такой неискушенный развратник? Эти визгливые жирные бабы, которых вы считаете чувственными, — они-то как раз никогда ничего не ощущают. Известно вам это? Нет, неизвестно, потому что все мужчины путают свой аппетит с желанием женщины. Если женщина привлекает их, они считают себя привлекательными.
Так вот, говорю вам, что именно мое сложение и формы способны даровать наслаждения страсти, а если вы полагаете обратное, то судите по себе о Гёте.
Я сама чуть было не впала в такую же ошибку. Я тоже полагала, что Гёте сделан из того же теста, что и вы, и, пока я пребывала в этом заблуждении, вы оставались правы: я была неспособна вкусить блаженство, которое меня ожидало. Четыре года — и скольких они стоили слез! — боролся Гёте, и вместе с ним все благосклонные божества, против уроков, внушенных мне вами. Четыре года я упрямо не хотела признаваться себе, что не любить гения невозможно.
Итак, вы проследовали за нами в зеленую гостиную, Иосиас. Вот теперь и потерпите там, пока уж я не закончу свой рассказ.
Герцог долго не шел спать; когда он наконец удалился, у Гёте сна не было ни в одном глазу, он находился в состоянии крайней взвинченности, да и к вину перед тем приложился основательно. Он просто накинулся на меня. Он безумствовал в опьянении, которое не могло исходить из его земного существа, и он увлек меня, все еще против моей воли. Блаженство мое росло, я познала вихрь его алчущей страсти, бурю его восторженных восклицаний, гром его карих глаз. В моей и его плоти не было ничего пошлого. Наша страсть, наше упоение были не от мира сего, они вознесли нас к тем духовным высотам, которые лежат меж нами и вечностью и к низшей из которых нам, возможно, дозволено будет приблизиться после смерти. Да, Штейн, с этим мужчиной, с этим человеком, с этим поэтом в ту ночь на десятое октября восьмидесятого года впервые в моей жизни я испытала истинное убиение… то есть убоение… Иосиас Штейн, я оговорилась. Я хочу сказать, с этим германским гением в ночь на десятое октября восьмидесятого года я испытала истинное упоение… (Задевает статуэтку, статуэтка чуть не опрокидывается.) Не бойтесь, я ничего не опрокину. Это Геракл, он покачнулся было, но, видите, опять стоит спокойно. Его нужно только придержать за палицу.
Геракл падает.
(Начинает собирать осколки.) Что ж, я, кажется, обязана дать вам кое-какие объяснения.
V
Госпожа фон Штейн (продолжает). Дабы соблюсти предельную точность, я должна была бы сразу сообщить, что к тому времени наше общее счастье после четырех безмятежных лет испытало своего рода кризис. Я устала от напряжения. Я теряла силы, нужные мне, чтобы отказывать Гёте.
Вы можете отсюда понять: поддержание любви — это работа, в которой тщательность решает все, и любящая женщина не имеет права ничего предоставлять воле случая. Любимый мужчина любит по-настоящему, лишь пока его заставляют действовать. И право, беспрерывно занимать человека — занятие достаточно хлопотное.
Я предпочтительно использовала один ход, хотя, в сущности, до сих пор не могу понять, в чем его эффективность. Я знаю, его возможности неисчерпаемы; я уверена в его успехе; но в глубине души я ровно ничего не понимаю. Мой ход заключался просто в том, что я не признавалась Гёте в любви.
Я не имею в виду отказа от каких-либо действий, имеющих непосредственное касательство к любви: я говорю только об отказе употреблять само слово. Просто уму непостижимо, какое действие оказывает на мужчину эта чистая формальность. Я могу объяснить это разве что тем преувеличенным значением, какое мужчины придают правилам игры, договорам и прочим несущественным вещам. «Я тебя люблю» — говорят это или не говорят, что из того? Что изменишь, если не скажешь этого? Что исправишь, если это скажешь?
Но Гёте, казалось, считал мое молчание мощным оборонным валом, за которым располагались неисчислимые армии мятежа, отряды сопротивления и тайные резервы тылов. А за этим не было ничего, кроме крупицы женского разума.
Ни одно средство, как я сказала, не было столь мощным и ни одно не стоило мне так мало усилий.
«— Ты меня любишь, Лотта?
— Нет, мой любимый.
— Коварная! Любимый — это человек, который любим.
— Разве?
— Да, если слова имеют логику.
— Что ж, логика на вашей стороне, будьте же довольны».
В таких освежающих беседах пролетали наши дни. Но у каждой любви бывает время, которое кажется нам самым радостным, ибо настоящие трудности еще впереди. Я часто спрашиваю себя, что побудило меня уступить настояниям Гёте, признаться ему в любви и выпустить из рук узду.
Нет, дело не в его угрозах. Пока мужчина угрожает, он страдает — и все идет как надо. В угрозах Гёте был неистощимо изобретателен.
Самыми забавными были его попытки внушить мне ревность. Для этой цели он пользовался дамами определенного сорта, он именовал их своими пассиями, и тут ему было все едино — что мадам фон Кальб, что эта Вертерн, что какие-нибудь тифуртские крестьянки или театральная потаскушка Шретер[59], — лишь бы она носила юбку и была готова терпеть его фокусы дольше пяти минут. Кстати, он додумался поручить именно этой Шретер все роли, написанные, как он утверждал, с мыслью обо мне. Это началось с Ифигении, когда сам он представлял Ореста. Мне ничего не оставалось, как не пойти на спектакль, и я основательно испортила ему вечер.
Нет, все это ничего не значило. Меня бы это только успокоило, не будь в этом все же некоторой бестактности.
Конечно, он угрожал мне и самоубийством, что означало всего лишь, что он решил на некоторое время смотреть волком в моем обществе. Это было уже хлопотней, но тут все можно было развеять одним словом; и — успеть тотчас же отказаться от этого слова.
Однако же его главной угрозой было покинуть меня. Он советует мне не полагаться на его самообладание; он заявляет, что его терпение иссякло, он уверяет, что в один прекрасный день взбунтуется, даже прибегнет к действиям. Он даже пишет под горячую руку недурную пьесу, в которой изображает, как он от меня бежит, а я, терзаемая раскаянием, преследую его на какой-то высокой горе. Дурой он меня считает, что ли? Мужчина, выдержки которого в чем бы то ни было не хватало дольше чем на пять дней, хочет заставить меня бояться того часа, когда он действительно на что-либо решится.
На самом деле мою твердость поколебало совершенно иное. Я заметила в нем признаки согласия с миром, настроения довольства, переходящие за дозволенные мною границы. В его письмах вместо сетований появились бесконечные описания горных гряд, сторожевых башен, бело-зелено-сероватой дымки над скалами и ледниками и тому подобных достопримечательностей, и он имел бесстыдство надиктовать все это Филиппу Зейделю и потребовать, чтобы я — у меня язык не поворачивается произнести это — просмотрела рукопись для издателя. Это были дурные признаки. Его равнодушие уже не было лицемерием, эти оскорбления не содержали в себе ничего явно наигранного.
Да, мне довелось пережить — переждать — и такую полосу в наших отношениях. Любовь, Штейн, — это нож, который держат двое: стоило мне только сказать «да» — и он уже держал рукоятку, а я — лезвие. Но женщине, как говорит этот англичанин, имя — ничтожество. О той своей поездке в Тюрингию он больше ничего не хотел написать мне — разве что еще об обводнении лугов. Я была так растеряна, что утратила трезвость суждения. Я совершила роковую ошибку: я призналась, что люблю его, и в тот же момент поняла, что тут-то и порезалась.
Возникло как бы некое соглашение, на которое он отныне мог ссылаться, на основании которого он получил теперь право судить о моих поступках. «Ведь ты меня любишь, Лотта, почему же ты тогда не хочешь…» Рассуждая здраво, не надо было принимать этого всерьез. Но в моем тогдашнем состоянии растерянности с этой глупостью — признанием в любви — связалось ощущение того, что мой долг — отдаться ему.
В ту самую ночь — на десятое октября восьмидесятого года — я испытала глубочайшее унижение и потом — благодаря чуду, о котором я уже упоминала, — высочайший, неповторимый триумф. Гёте получил свой шанс — и упустил его. Я не сразу осознала все драгоценные преимущества такого оборота дела. Мне сначала казалось, говорю вам со всей откровенностью, что меня просто одурачили. Вся его прежняя покорность не имела, значит, никакой другой причины, кроме этой? То, что я принимала сперва за юношескую застенчивость, потом за послушание и, наконец, за добродетельное отречение, было не больше чем только это? Значит, я все внушила себе сама? Хуже: он внушил мне все — все мои победы, — а я немало их ставила себе в заслугу.
Прошел целый день, прежде чем я смогла собраться с мыслями. И тут начали приходить письма.
Сначала он пытался дерзить. Первая писулька прилетела сразу после полудня, сейчас я ее найду — ведь, когда слышишь такое, не веришь своим ушам, это надо еще и увидеть. Я ее точно сохранила. Но куда я ее засунула? Вот сюда, что ли? Нет, тут от Эйнзиделя[60]. (Вытаскивает шляпную коробку.) Вот, тут уж наверняка Гётевы. Я очень аккуратна. Дело не в том, кто как поддерживает порядок: порядок — это когда находишь то, что ищешь.
От десятого октября восьмидесятого года.
(Читает.) «Бесценная, посылаю с Филиппом ваш белоснежный носовой платок, который Вы соблаговолили одолжить мне. Он высушен под утренним солнцем, отглажен и спрыснут лавандой; я долго любовался искусной отделкой, пока мне наконец не пришлось расстаться с ним. Я должен все потерять, чтобы вы могли все сохранить. И еще раз спасибо за лексикон, который для меня как раз теперь совершенно незаменим. Ужасная октябрьская погода делает меня достойным всяческого милосердия. На обед в среду я пригласил госпожу Шретер».
Не правда ли, прекрасное послание? Интересно, включит ли он его когда-нибудь в собрание своих сочинений? Если человек способен написать такое, где уж ему понять, что этого нельзя печатать? Прочие письма более обычны. Извинения, самобичевание, жалобы на человеческую слабость. Разумеется, все еще сдобренные уколами в мой адрес и всякими непристойностями об этой Шретер. Я их, можно сказать, уже и не читала: я не девочка — я вышла из игры.
Да, Иосиас, моя единственная неудача помогла мне достигнуть величайшего успеха — может быть, это награда, которую бог посылает тем, кто идет прямой дорогой, не заботясь о хуле и хвале. Если ты человек порядочный, даже твое заблуждение оборачивается для тебя благом. Вы поняли, в чем заключалась отныне новизна положения?
Я отказывала Гёте в том, чем не обладала и чего Гёте совсем не хотел. Такая связь и в самом деле нерасторжима.
Теперь понадобилось всего каких-нибудь полгода, чтобы я заключила с ним формальный договор, согласно которому я обменивала свою нерушимую дружбу на нерушимое обещание его пристойного поведения. Я знала, он не может его нарушить. И он знал, что я это знала. Вот, собственно, причина того, Иосиас, что я с таким равнодушием оставляю нераспечатанным это итальянское письмо. Я знаю его содержание, строчка в строчку. А вы? Вы все еще не угадываете?
Гёте оставалось принять последнее решение, и о том, что он его принял, свидетельствуют романтические обстоятельства его отъезда и чрезмерная удаленность его теперешнего прибежища. Что ж, я тоже решилась. Вместе с разгадкой я скажу вам и загадку, ибо вижу, что вы ничего не поняли. Я выйду за него замуж, Иосиас.
Да, супруг мой, я не могу избавить вас от тягостных перипетий развода. Ничто не говорит против вас, но слишком многое говорит за такое предложение. Спокойствие — говорю это не для того, чтобы польстить, — я найду и с вами, но брак с Гёте будет нескончаемой цепью знаков внимания, деликатных забот, предупредительных поступков. Ничего подобного я не смогла бы потребовать ни от какого другого мужчины. На такое самоотречение способен только тот, кто ощущает свою несостоятельность, кто неспособен нарушить супружескую верность и вечно живет под гнетом вины.
Тема нашей беседы исчерпана. Мы должны принять решение. Вы приказали мне позаботиться о том, чтобы сохранить для нас Гёте. Будь по-вашему, Штейн, он останется с нами, но я не останусь с вами. Ваш приказ будет исполнен, но иначе, чем вы хотели. Если вы собираетесь продолжать свои упреки, вы должны упрекать меня в другом. Я совершу провинность перед своим сословием, я знаю это. И я говорю вам: на этот раз мнение наблюдателей будет на моей стороне. (Берет письмо.)
Я сделала Гёте тем, что он есть. Государственным деятелем, умело выполняющим свои общественные обязанности, мыслителем, которому, хотя его и редко читают, никто не любит противоречить, и, не в последнюю очередь, мужчиной, который, хоть женщины всегда и останутся ему чуждыми, все-таки может оглянуться на десять лет, полных истинной любви. (Распечатывает письмо.) Кто помешает Шарлотте фон Штейн сделать последний шаг, спуститься до имени Шарлотты фон Гёте?
Итак, послушаем. Ответ нам уже известен. (Пробегает письмо, скороговоркой бормоча про себя несущественное, и со все возрастающим изумлением цитирует следующие места.)
«Я чувствую себя превосходно, здесь прекрасная погода, все здесь делает меня счастливым… Здесь всякая погода прекрасна… Погода продолжает оставаться невыразимо прекрасной…»
Еще бы — там, разумеется, тепло.
Эта зависимость от погоды, должна сказать, свидетельствует о невероятно слабой выдержке, это более чем недопустимая распущенность. Это проявление души, не созревшей для внутренней гармонии, скрывающей от себя самой истинный источник своей хандры, отчего эта хандра сплошь и рядом — и тем необузданней — прорывается в другой форме. Или, как остроумно обронила однажды наша любезная Гехгаузен: «Он думает, что его настроение зависит от погоды. Истина же состоит, разумеется, в том, что погода зависит… погода зависит…» (Ее рука с письмом бессильно опускается.)
О господи, ну почему только всем нам так тяжело, так ужасно, невыносимо тяжело?!
Занавес
Герхард Вольф
Бедный Гёльдерлин
Глубочайшая пропасть пролегла между ним
и остальным человечеством.
Вильгельм Вайблингер, 1827 г.Он оказался выразителем той немногочисленной
части немецкой молодежи, которая должна была
умереть на фантастическом посту, так как никаких
путей приспособления к буржуазной Германии,
оформившейся в наполеоновский период, у нее
не было…
Даже нормальные люди, поставленные в такие
тяжелые условия, становятся больными и
полунормальными…
Они гибнут, но при этом поют чýдные песни о
своей гибели и этим самым отмечают разрыв
между передовыми слоями общественности
и действительностью.
Анатолий Луначарский, 1929 г.Многие тщетно пытались выразить высшую радость
Радостно. Здесь наконец в скорби открылась она[61].
Гёльдерлин1
По узким каменным ступеням мы спускаемся к Неккару и отыскиваем тесный закоулок, упирающийся в добротный дом. Столярный инструмент, выставленный возле дверей, подтверждает: мы у цели.
Входим в дом и поднимаемся по лестнице. Очаровательная девушка встречает нас, дочь столяра. Осведомившись о господине библиотекаре, мы подходим к небольшой двери. За нею слышны громкие голоса, впечатление такое, будто в комнате собралось несколько человек. Однако столяр, добрый малый, уверяет, что он теперь один и разговаривает сам с собою, дни и ночи напролет.
В ответ на наш стук раздается энергичное и громкое: Прошу! Открываем дверь — перед нами полукруглая выбеленная комнатка с очень скромным убранством, посреди комнаты в глубоком поклоне склонился человек и без умолку сыплет учтивостями: Ваше королевское высочество! Ваше святейшество! Досточтимый святой отец! И прочая в таком же роде… Правая рука его покоится на сундуке, что стоит возле двери, левая засунута в карман панталон, мокрая от пота рубашка болтается на исхудалом теле.
Это он, шепчет девушка.
Потрясенные, мы роняем несколько незначительных фраз, после чего он вновь сгибается в изысканнейшем поклоне и обрушивает на нас невнятный поток слов, в котором временами проскальзывают французские предложения.
— Я, сударь, не существую более под прежним именем. Отныне меня зовут Киллалузимено. Oui, Ваше Величество, вы сами это произнесли, вы сами так утверждаете. Со мной ничего уже не случится! Со мной ничего уже не случится!
В глазах, обращенных на нас, по-прежнему светится живая мысль.
2
Бедный Гёльдерлин, говорит не чуждый музам надворный советник Гернинг, теперь вот он библиотекарь при дворе, но по-прежнему в такой меланхолии, бедняга.
Но ведь у каждого из людей — своя радость, и кому достанет сил пренебречь ею вовсе?
Не слишком увлекайтесь назиданием, ваша милость, говорит Гёльдерлин, вежливо возвращая надворному советнику исписанный листок бумаги, в остальном же я могу только приветствовать вашу затею живописать стихами таунусские целебные источники.
Что говорит в нем сейчас — разум или безумие?
Люди замечают, что он разговаривает сам с собой, на улицах, на проселочных дорогах, где появляется время от времени, впрочем не часто. Он обращается только к себе, ничего вокруг не замечает и не слышит, пренебрегает своей внешностью, вызывая отвращение у посторонних; везде и всюду на него обращают внимание. Он и сам чувствует это, весь подбирается, злится. А людям того только и надо. Дети бегут за ним следом, что-то кричат ему в спину. Тогда он приходит в неистовство. И сам восстанавливает против себя обитателей Хомбурга. Именно он, а не наступающие французы — главный предмет городских толков.
Теперь он живет у шорника Латнера, вполне порядочная семья, приличные люди, добросовестно исполняющие свой долг, — они уважают его, хотя и совсем не понимают. Слегка раздражает их только фортепиано, за которым он порою просиживает часами, снова и снова повторяя одну и ту же мелодию, при этом он колотит по клавишам как одержимый, терзает бедный, ни в чем не повинный инструмент.
А знаешь, в чем таится корень зла? Люди испытывают страх друг перед другом, вот почему охотно поделятся они едою и питьем, но никогда не поделятся тем, что питает душу: они не могут допустить, чтоб сказанное или содеянное ими однажды преобразилось в ином человеке в пламя.
С кем это он говорит?
Каждый день я вновь призываю ушедших богов. Мысль моя обращается к великим мужам древности. Они жили в великие времена и, пылая священным огнем, зажигали весь мир вкруг себя, как сухую солому. А рядом с ними я, нынешний, чуть тлеющая лампада, одиноко брожу я среди людей, вымаливая себе хоть каплю масла, чтоб и дальше светить в ночи, — и тогда ужас пронзает все мои члены, и я выкликаю страшные слова: живой мертвец!
Лирический персонаж — так называет его господин надворный советник — всегда немного не в себе, голова вечно забита древними греками, форменный грекоман, в который раз уже перепахивает Пиндара. Не от мира сего.
Начало высочайшей доблести, Владычица Правда, не споткни мою речь о жестокую ложь[62]…Такие вот стихи.
Сам он истолковывает их так: страх перед правдой, страх от наслаждения ею, ваша милость, — то есть первое, живое восприятие правды живым разумом, подвержено, как и любое чистое чувство, расстройству или замешательству. Таким образом, человек заблуждается не по своей вине, но во имя предмета более высокого, для постижения которого разума уже недостаточно…
Вот и понимай как знаешь. И вечно он твердит: «живое», «жизненность», «правда». Сбивается и тогда начинает обращаться к самому себе, а ведь если подумать, то к кому же еще?
Поди ничего уж больше и не пишет. Даже писем.
Любезнейший мой сын! Ужель отказано мне ныне в счастии получить в ответ на все мои бесчисленные просьбы хотя бы несколько строк от тебя, дорогой мой…
Матушка посылает ему связанные собственными руками фуфайки и шерстяные чулки. Носи на здоровье, не береги. Да смилуется бог над нами и нашей несчастной страной, да подарит снова нам и всем на свете людям блаженный мир…
И это письмо без ответа.
Синклер, мой Синклер[63], зачем ты уехал из Хомбурга.
Шмид[64], с которым он общался еще совсем недавно, теперь далеко. Говорят, его отвезли, невменяемого, в монастырь Хайна, чтобы там вновь сделать полезным членом общества, а еще говорят, что все это устроил собственный его отец.
Холодный мир. Сумерки души. Все возвышенное обесценено, стало разменной монетой.
Зекендорф выслан из страны[65]. Буонапарте в Вюртемберге. Курфюрст теперь коронован[66]. Выборные представители сословий разогнаны. Бац, вернувшийся из заключения, — сломленный человек.
В такие времена человек теряется, не помнит уже ни себя, ни бога.
Ибо крайняя граница страдания есть всего лишь обусловленность временем или пространством. Здесь теряется человек.
В каком же времени живет он сам, в каком пространстве, сколько несчитанных шагов сделано им уже между взлетами и падениями, между жаром и холодом душевным.
Вокруг него так тихо. Он этого не выносит. Прислушивается к звукам за дверью, ловит обрывки фраз из раскрытого окна. Неужели кто-то идет к нему? По-прежнему никого. Не схвачен ли Синклер?
Фортепиано издает одни и те же звуки, ничего нового.
Он поднимает деревянную крышку. Рвет струны, до крови расцарапывает себе руки, потом долго с остановившимся взглядом стоит в дверях; добрейшие хозяева в ужасе отшатываются от него.
Они теперь стараются не попадаться ему на глаза. Твердят повсюду, что он повредился в уме. Достаточно только взглянуть на него: волосы спутаны, ногти длинные, да и вообще вид ужасный. Ему нельзя больше оставаться здесь. Здесь у него никакой надежды поправить здоровье.
Никто о нем не заботится, никто не пытается поговорить с ним ласково, поделиться душевным теплом.
Я для них умер давно[67], да и они — для меня. Значит, один я.
Но ведь у каждого из людей — своя радость, и кому достанет сил пренебречь ею вовсе?
Он им больше не нужен.
И будет скоро голос мой скитаться, как пес бездомный, в зное и пыли, среди садов, где обитают люди. Ведь человек есть центр мирозданья, и нынешнее время — тоже время, совсем уже немецкого оттенка.
Мрачное предчувствие, у самой пропасти.
Наступает утро одиннадцатого сентября 1806 года.
Гёльдерлину передано указание закупить книги для библиотеки ландграфа в Тюбингене.
К домику подают экипаж. Он готов отправиться в путешествие. Из экипажа выходит человек, вовсе ему не знакомый. На лицах у хозяев появляется сочувственное выражение.
Я не хочу ехать, говорит Гёльдерлин.
Человек входит в комнату. Все они что-то говорят.
Со мной ничего не случится? — спрашивает Гёльдерлин. Правда?
И еще: Я готов с чистой совестью предстать перед моим всемилостивейшим курфюрстом.
Его провожают до экипажа. И тут он начинает сопротивляться. Дерется и царапается своими длинными, острыми ногтями. У незнакомца все лицо в крови. И сам он тоже перепачкан кровью. В конце концов его одолевают. Высунувшись из экипажа, он из последних сил кричит, что его увозят курфюрстовы ищейки. У людей, стоящих вокруг, долго звенит в ушах этот крик.
«Le pauvre Holterling»[68], — напишет о событиях этого дня известная своим мягкосердечием супруга ландграфа Каролина в письме к дочери.
Можете себе представить, сколь глубоко все это огорчает меня, писал Синклер матери Гёльдерлина, но любому чувству должно подчиняться необходимости, а в наши дни мы весьма часто подобное подчинение испытываем. Ведь дальнейшее пребывание его на свободе грозило опасностью окружающим людям, и, кроме того, вы знаете, что в нашем краю нет сходных лечебных заведений.
Гёльдерлина доставляют в клинику профессора Аутенрита в Тюбингене. Он в неистовстве: буйствует, кричит, мешая извинения с проклятиями.
На этот случай, однако, в клинике имеется специальная маска, изобретенная главой заведения для борьбы с криками пациентов. Маска изготовляется из кожи, идущей обыкновенно на подметки, и дугой охватывает подбородок снизу. На внутренней ее стороне против рта находится мягкое утолщение из более тонкой кожи. Предусмотрены также отверстия для глаз и носа. Двумя ремешками, проходящими под и над ухом, маска крепится на затылке, одновременно третий, более широкий ремень, продернутый через боковые петли, стягивает челюсти и зашнуровывается на темени. Таким образом исключается широкое раскрытие рта. Губы пациента спереди прижаты утолщением из мягкой кожи. А чтобы больной не мог сорвать маску, руки ему связывают за спиной. В этом положении пациенты проводили иногда по нескольку часов, и, если верить профессору Аутенриту, впоследствии они уже не кричали даже после снятия маски. Но этот Гёльдерлин настоящий безумец.
3
Весна приходит. Все, что живет, опять В цвету. Но он далеко: уже не здесь. Не в меру добры боги: ныне Глух его путь, и беседа — с небом[69].Следы изнурительной болезни легли у него на щеках и вокруг рта. От конвульсий, берущих начало на лице, внезапно дергаются плечи, мелко дрожат руки, пальцы.
Он вздрагивает от малейшего шороха, даже от самого легкого стука.
Когда он приходит в ярость — а прежде это случалось всякий раз, лишь стоило ему завидеть кого-нибудь из клиники, — жесты его делаются столь порывисты, столь резки, будто в теле у него вовсе нет суставов.
В таких случаях лучше оставить его одного. Он сам выпроваживает посетителей за руку, произнося при этом: «Как прикажет Ваше величество!»
И все-таки заблуждением было бы полагать, будто он в самом деле одержим навязчивой идеей и искренне убежден, что общается исключительно с королями, римским папой и прочими благородными господами; ничего не доказывает и то обстоятельство, что любого, даже своего хозяина столяра Циммера, он наделяет высокими титулами.
Вот уж действительно надежное средство, говорит Циммер по-швабски прямодушно, послать всех от себя подальше, только так и можно еще в наши дни остаться свободным человеком, который не позволит никому совать нос в свои дела.
Когда ему надоедает сидеть дома и он хочет выйти на улицу, а я говорю: «Побудьте еще немного с нами, господин библиотекарь», он тотчас хватается за шляпу, отвешивает глубокий поклон и отвечает: «Их высочество повелели мне уйти!»
Вот так он будто и соглашается с окружающими, но в то же время остается самим собою, у него словно охранная грамота появляется благодаря этому изысканному титулованию.
Учтивость не стоит ему ни малейшего труда. Ныне он лишь чрезмерно преувеличивает ее, превращает в пустую церемонию. Не надо забывать, что он находился при дворе, когда столь внезапно и с такой силой поразило его душевное расстройство. К тому же явно сказывается и врожденная гордость, умение держать любого человека на расстоянии.
Невозможно даже на миг допустить мысль, будто он в самом деле верит, что общается с королями. Он не идиот. Скорее всего, просто пребывает сейчас в состоянии полного упадка душевных сил.
И поскольку живет он в отъединении от людей, то привыкает к мысли, что ему никто не нужен. Отныне он спокоен: он создал себе замкнутый мир из «я» и «не-я», из первого и второго лица, из человека и вселенной, из высокого и возвышенного.
Дни его текут просто, без затей. По утрам, особенно летом, он поднимается до восхода солнца и сразу же отправляется на прогулку в тюбингенскую крепость, к старым деревьям. Он гуляет по четыре, по пять часов, пока не устанет. Прямо под окном его башни шумит река. На противоположном берегу раскинулись луга, простирающиеся до самой Штайнлахской долины, уходящей к подножию Швабского Альба, этого отдаленного горного хребта. Ласковый, умиротворяющий пейзаж.
Он развлекается тем, что бьет носовым платком по кольям забора, выдирает с корнем цветы и травы, развеивает их по ветру. Что бы он ни нашел — ржавый кусок железа или обрезок кожи, — все тащит в дом.
Он постоянно беседует сам с собой. Задает вопросы и сам же на них отвечает. Иногда ответ бывает утвердительный. Иногда — отрицательный. Чаще и то и другое вместе.
Ибо он любит отрицать.
4
О сделай так, чтоб вечно был я верен
правде…
Здесь стихи обрываются. Отказало не перо, отказала мысль. А бывает наоборот: все мешается, все стремительно катится вниз — люди, события, лица, всевозможные происшествия, друзья и враги. Слишком много для одного человека. Не укладывается в стихотворный размер.
Строф уже нет, лишь обрывки, в лучшем случае наброски, прекрасные видения. Зато позже все это обращается в тихую гармонию, нечто связное, размеренное, что можно рифмовать и рифмовать бесконечно, нечто раз и навсегда данное, цельное — и это оборотная сторона беспорядочной, поспешной жизни.
Никогда, пребывая в несчастье, не позволять, чтоб в словах было только несчастье…И все же оставаться верным правде! Кому под силу такое. Да и с чего начать? Как?
Друг небезызвестного Синклера, магистр Гёльдерлин из Нюртингена пребывает в Хомбурге с июля прошлого года, о чем ландграф Гессен-Хомбургский Людвиг V официально ставит в известность курфюрста Вюртембергского.
С недавнего времени поименованное выше лицо впало в чрезвычайно подавленное состояние духа, так что с ним в самом деле приходится обращаться как с безумцем. Почти беспрерывно выкрикивает он одно и то же: Я не хочу быть якобинцем!
Ландграф обращается к курфюрсту с просьбой избежать по возможности ареста этого человека — в случае если в материалах проводимого следствия речь идет действительно о нем. Если же тем не менее препровождение этого несчастного в распоряжение курфюрста будет сочтено необходимым, ему надлежит выехать со всем имуществом и навсегда, ибо в позднейшем возвращении в Хомбург ему будет отказано.
В таком вот духе. Писано 4 марта 1805 года.
Бедный Гёльдерлин, говорит Синклер, они дошли до того, что даже мои отношения с ним припутали к предъявленному мне обвинению. Обвинению в подготовке заговора с целью убийства ненавистного всем курфюрста Фридриха II Вюртембергского.
Только смерть или смена правителя спасет отечество.
Фраза эта облетает улицы Штутгарта, ее передают друг другу те, кто лишь на миг выступает из мрака истории, называет свое имя и вновь растворяется во тьме.
Кто-то произносит эти слова во время ужина у бургомистра Баца в Людвигсбурге. Бац, ныне уже несколько лет томящийся в крепости на горе Хоэнасперг, харкал тогда кровью от волнения, недаром он зазвал Синклера на этот дружеский разговор за неприхотливым столом с бутылкой вина.
Вместе с Синклером явился некий Бланкенштейн, молчаливый, настороженный человек, который еще скажет после свое слово. Здесь и Зекендорф, правительственный чиновник из Вюртемберга; он образован и человечен — так говорит о нем Гёльдерлин, сочиняет стихи и комедии, состоит в переписке со многими учеными людьми своего времени, вплоть до самого Веймара.
Нынче за рюмкой вина у Баца царит приподнятое настроение. Разговор идет о политике.
Вот уже несколько дней упорно держится слух о готовящемся государственном перевороте.
Ландтаг выделил значительные средства находящемуся в изгнании курпринцу Вильгельму[70], дабы тот обеспечил наконец соответствующие конституционные гарантии, возглавив оппозицию против деспотичного своего курфюрста-отца, повсюду чующего измену и в нарушение всех конституционных прав учиняющего допросы выборным представителям от сословий. Ландтаг выразил по этому поводу протест. Уже отправлены курьеры к курпринцу, ожидающему своего часа в ставке Наполеона. Все висит на волоске.
Синклер, порывистый и возбужденный, рассказывает за столом новую шутку сочинителя эпиграмм Хауга[71], секретаря правительственного кабинета при дворе. Один тайный советник шепчет другому: Их высочество курфюрст кое-что задумали. На что другой отвечает: Он, кажется, планирует новое развлечение. Быть может, развильгельмение? — добавляет третий. Взбудораженные вином, все смеются веселой игре слов.
И тут произнесена та самая фраза.
Дальше — больше. Синклер и Бац уже обсуждают детали. Насильственный государственный переворот, так это называется, а ведь они решительные люди, в свое время члены майнцского республиканского клуба. Называются имена, среди них Хофакер и Хауф, это круг единомышленников и свободных людей, все они понимают друг друга с полуслова.
Синклер и Бац подружились еще в дни Раштаттского конгресса, тогда эти сыны свободы всерьез мечтали о революции в Швабии, о самостоятельной южнонемецкой республике по швейцарскому образцу — так сформулирует это впоследствии Бланкенштейн. А еще он в точности передаст слова, произнесенные Бацем в тот вечер: Лишь скорейшая смена правительства может спасти ландтаг; мы больше не можем рассчитывать на французского посланника, этого высокомерного бонапартиста Дидло.
Синклер того же мнения.
А вместе с Синклером из Нюртингена в Штутгарт прибыл Гёльдерлин. Прямо из тихого дома матушки, оберегавшей его необычные душевные порывы, эту находившую на него временами вспыльчивость, перемежавшуюся тоскливой апатией, которую матушка называет слабостью духа.
Гёльдерлин собирается занять место библиотекаря при дворе ландграфа, эту должность выхлопотал для него Синклер, первый чиновник Гессен-Хомбурга; жалованье двести гульденов в год, эту сумму друг Синклер будет выплачивать из собственных доходов.
За день до их отъезда из Штутгарта курфюрст Фридрих II распускает вюртембергский ландтаг, все чиновники временно освобождены от занимаемых должностей, члены комитета схвачены и доставлены в темницу на горе Хоэнасперг, среди них одна женщина, жена Штокмайера-младшего: она скрывала у себя компрометирующие бумаги.
Повсюду только об этом и говорят.
Гёльдерлин делает набросок будущего стихотворения, называет его «Князю»:
…ведь боги смерти того, кто не верит солнцу, не внемлет шуму родной листвы, невзлюбили[72]…Мысль обрывается.
Изучение отечества, внутренних его отношений и сословий есть процесс бесконечный и в то же время непрерывно обновляющийся, пишет он Зекендорфу и делает решительный вывод: невзгоды, доставляемые врагами отечества, заставляют накапливать мужество, способное уберечь нас от того, что нам не подобает.
В Швабии вновь беззаконие. Наполеон скрепит сей факт своей печатью. Мы признаем поражение, не сопротивляясь, в который раз добровольно отдаем себя во власть нужды и произвола, так говорят в народе.
В эти дни Гёльдерлин вместе с Синклером выезжает через Хейльбронн и Ансбах по направлению к Хомбургу. В Вюрцбурге они навещают Шеллинга[73], который находит Гёльдерлина в состоянии лучшем, нежели год назад, хотя по-прежнему сильно расстроенным душевно.
Вид у Гёльдерлина отсутствующий, на посторонних он производит странное впечатление.
Нам не подобает, то и дело повторяет он, и еще: Никогда, пребывая в несчастье… чтоб в словах было только несчастье…
Нет, говорит Синклер, то, что воспринимается окружающими как душевная болезнь, есть на самом деле хорошо продуманная манера поведения, имеющая свои внутренние причины. Еще человек шесть-семь, кроме меня, из числа тех немногих, кто хорошо его знает, придерживаются того же мнения.
В июле 1804 года они прибывают в Хомбург. Бланкенштейн по-прежнему с ними.
Синклер, занятый государственными делами, спешно уезжает в Париж, друга он оставляет одного.
Гёльдерлин снимает комнату у часовщика Каламе.
У меня нет ничего, кроме моих четырех стен, пишет он, и да будут они для меня той доброй мелодией, что всегда дарит прибежище от злых духов.
Покой, однако, обманчив.
Хомбург-фор-дер-Хоэ в окружении прелестных таунусских вершин, четыре сотни дворов, около двух тысяч жителей, в округе полдюжины деревень. Карликовое государство. Грустно смотреть на этих людей: они ведь не могут не чувствовать, сколь жалко их существование, и потому любой приезжий способен внушить им робость — такое впечатление вынес проезжавший эти места господин фон Гёте.
Страна приходит в упадок, французские войска сделали свое дело, «князем-оборванцем» называют богатые франкфуртские банкиры покровительствующего изящным искусствам, нерешительного ландграфа Фридриха-Людвига.
Вот тут-то и должен объявиться некто вроде нашего доброго Бланкенштейна. Человек множества талантов, с прекрасными манерами, он вращался при лучших дворах Европы и всюду был, что называется, comme il faut[74], теперь он возникает удивительно кстати, и движет им одна-единственная благородная цель — поправить пошатнувшиеся финансовые дела Гессен-Хомбурга. Для этого он учреждает государственную лотерею.
В конце концов выясняется, что предприятие это — обычная афера, сам же Бланкенштейн просто авантюрист и мошенник.
Банальная, в общем-то, история.
Синклер, слепо доверявший Бланкенштейну, видит теперь обман. Но Бланкенштейн их опережает.
Отныне он делает ставку на их высочайшую светлость, курфюрста Фридриха II Вюртембергского. Вот что он ему пишет:
Как истинный немец, я почитаю своим долгом расстроить злодейский умысел нескольких негодяев. Называет имена Синклера, Баца и Зекендорфа. Предостерегает: под благим предлогом сопровождения его высочайшей светлости принца Луи в Париж отправился с поручением от немецких якобинцев некто Синклер, и у меня есть все основания предполагать, что коварные планы этого человека близки к осуществлению.
И поскольку лишь совесть моя и долг, ни в коей мере не корысть, диктуют мне сей шаг, я…
И так далее, в стиле посланий такого рода.
Доносчики всюду ко двору. Курфюрст поручает своему министру графу фон Винтцингероде провести дознание, требует еще имен и подробностей, тотчас с усердием поставляемых Бланкенштейном:
Незадолго до отъезда своего в Штутгарт Синклер привез из Нюртингена некоего Гёльдерлина. Сопровождая обоих в Хомбург, я имел возможность удостовериться, что Гёльдерлин также посвящен в планы Синклера.
Дух тьмы высвобожден. Год на исходе. О, этих зимних ночей межвременье.
Гёльдерлин просиживает часами в хомбургской библиотеке, которая вообще-то не хранит никаких иных следов его деятельности. Мысли его далеко. Он читает. Читает о путешествиях в дальние страны, об удивительных приключениях. Читает о героических странствиях, о флибустьерах.
Стать решив одним из героев… я избрал бы судьбу морехода.Читает о далеких райских островках вроде Тиниана в Тихом океане.
Как это славно — блуждать среди первозданной природы…Его дни спокойны и просты. Есть свой кусок хлеба. Потребности у него скромны.
И вновь, еще раз, великий образ — Греция.
Но повседневность чудесно добра к человеку…
Он уже смешивает в полубреду любимые свои ландшафты — Альпы и Авиньон, никогда не виданные им Виндзорские сады и ровную гладь океана под солнцем. Вновь, еще раз.
Слухи всегда подползают коварно и быстро. Вернувшийся из Парижа Синклер предостерегает друзей, ходатайствует за всех перед благосклонным к нему ландграфом. В итоге одному из дворцовых интриганов, некоему профессору Пильгеру официально предложено покинуть пределы ландграфства; впрочем, размеры этого государства таковы, что Пильгеру требуется всего час пути, чтоб попасть за границу, где можно беспрепятственно распространять Бланкенштейнову клевету.
Гёльдерлин в ужасе, он больше не владеет собой.
Пребывает в несчастье. И верен правде. Да есть ли еще разница между ними? Он без конца повторяет, что невиновен. В сердцах даже проклинает друга.
Это не притворство. Это отчаяние.
…едва лишь свет моих нижайших дней стал светом сердца твоего, о мой курфюрст! и вот уже отвергнут я тобой, а край родимый…Бедный Гёльдерлин.
В ночь с 25 на 26 февраля 1805 года случилась одна из самых ужасных бурь на памяти людской. Повелитель ветров Эол проникал, казалось, во все щели, ураган грозил сорвать с домов крыши. В ту ночь между часом и двумя, как и полагается в таких случаях, после пятнадцати минут непрерывного стука в дверь был арестован именем Вюртембергского курфюрста Исаак Синклер, государственный чиновник земли Гессен-Хомбург; нерешительный ландграф бросил на произвол судьбы своего первого приближенного.
Охранники курфюрста произвели в доме основательный обыск, а затем увезли арестованного в Людвигсбург; собравшаяся толпа наблюдала за всем этим с любопытством и не без злорадства.
Перед спешно созванным высочайшим трибуналом предстали Синклер, Бац и Зекендорф, главным свидетелем обвинения выступал Бланкенштейн. Их содержат в одиночных камерах, то и дело вызывают на допросы, устраивают очные ставки, так продолжается несколько месяцев.
У Синклера находят семь писем Гёльдерлина, которые до поры до времени держат в секрете. Следственная комиссия требует экспертизы подозреваемого. По поручению ландграфа ее срочно проводит надворный советник из Хомбурга доктор Мюллер; толком не вникая в обвинения следственной комиссии, он констатирует полную невменяемость Гёльдерлина, отмечает, что речь его, наполовину состоящая из немецких, наполовину из греческих и латинских слов, совершенно невразумительна. Такое заключение эксперта спасает Гёльдерлина от ареста.
Но он все равно повторяет на каждом шагу, во всеуслышание:
Я не якобинец. Я не хочу быть якобинцем. Подальше от этих якобинцев. Vive le roi! Да здравствует король!
5
Плащ мой здесь по ветру веет,
И пытает дух меня:
Что душа в себе лелеет
Вплоть до рокового дня?[75]
Еду приносят ему в комнату, и он поглощает ее с большим аппетитом. Весьма привержен он также вину и готов потреблять его в неограниченных количествах.
Покончив с едой, он ни мгновения лишнего не терпит присутствия в комнате грязной посуды. Тотчас же выставляет ее за порог. Непременно желает он иметь в комнате лишь то, что принадлежит ему действительно.
Оставшееся время дня протекает в беседах с собою. Когда нечто зарождается в его сознании — воспоминание или просто мысль, навеянная каким-либо предметом, — он, лишенный внутреннего покоя, уже не в силах более удержать призраком мелькнувший образ. Он хотел бы утверждать. Но поскольку дело для него не в истине, которая является продуктом лишь упорядоченного мышления, он в тот же миг энергично отрицает сказанное.
Он постулирует: люди счастливы; однако затем ему уже недостает ясности задать вопрос, отчего и каким образом.
Тогда он отвергает собственный постулат и заключает: люди несчастливы, и вновь он не в состоянии спросить себя, отчего и каким образом.
Нет! Нет! Нет! — кричит он, чтобы избавиться от лжи. Но припадок от этого только усиливается, теперь его речь вовсе утрачивает смысл, словно дух его, измученный непомерными усилиями, отдыхает, пока уста произносят одну за другой бессвязные фразы.
Вся жизнь его теперь внутри, в нем самом.
Из своего окна он видит, как медленно наступает весна, за нею лето, как бредут по мостику через реку овцы.
Природа, о чем свидетельствует его поведение под открытым небом, действует на него в высшей степени благотворно. Та самая живая природа, которую он некогда воспевал и которая является для него источником новых образов даже теперь, когда разумная мысль навеки канула в ужасающий хаос.
В час, когда меня пленяет Луговой зеленый скат, Кроткостъ душу утешает, Раны больше не болят.[76]В принадлежащем Концам саду, куда его время от времени выводят погулять, он тут же принимается рвать цветы, составляет из них большой букет, потом развеивает его по ветру. Поэта Конца он знает[77] еще по Тюбингену; будучи тогда репетитором, Конц не уставал напоминать своим юным друзьям-стихотворцам, сколь важна в поэзии мысль, облеченная в здоровую, целостную форму. Конц, ныне профессор литературы, ежедневно таскающий свое отяжелевшее тело почти до самых Хиршауэрских ворот, прогуливается по саду с неизменной трубкой в зубах и декламирует нараспев Эсхиловы строфы.
Завидев в руках у Конца книгу, он подходит ближе, принимается судорожно листать страницы, пробует читать, а потом говорит Концу с вымученной улыбкой:
Не пойму я этого! Какая-то абракадабрщина.
Это одна из его теперешних привычек, он любит образовывать новые слова. Конц, добрый и мягкосердечный человек, чьи оды явственно демонстрируют следы напряженнейших филологических усилий, пытается как-то ободрить друга, вспоминает былое, говорит:
Господин надворный советник Хауг, которого вы наверняка знаете, написал недавно одно прекрасное стихотворение.
С отсутствующим видом его собеседник спрашивает: Неужели только одно?
Конц, совершенно сбитый с толку, не может удержать улыбку.
На прощание он почтительно целует Концу руку.
Природа, прогулки, свежий воздух — все это оказывает на него умиротворяющее воздействие. Способствует появлению в его поэзии по-прежнему ясных, реальных образов. Стихи он пишет до сих пор. И вдруг такая страшная, точная фраза:
Лишь теперь я могу понять человечество, ибо я от него далеко — и одинок.
О том, что некогда сильно занимало его и было таким важным, о своих стихах, он не говорит теперь ни слова, сколь бы настойчиво его ни расспрашивали.
Он не любит вспоминать былую жизнь, приведшую к болезни.
А случись ему все же задуматься о прошлом, он впадает в страшное беспокойство, бродит по дому ночи напролет, теряет остатки разума, буйствует — до тех пор пока истощенная его плоть не возьмет свое. Тогда он избирает для себя пространство даже меньшее, чем комната, в которой для него и так весь мир, ищет убежища более надежного и безопасного, где можно остаться наедине со своей болью.
Он укладывается в постель.
6
В январе 1801 года Гёльдерлин отправляется в горы.
До Тюбингена его провожает Ландауэр, а дальше он уже один бредет вверх по заснеженной Штайнлахской долине, минует бесснежный Цоллерн, перебирается трудными горными тропинками через перевал и спускается к Боденскому озеру.
Мне невыносима мысль, что когда-нибудь и я стану столь же холодным и рассудочным, замкнутым в себе, как многие ныне, говорит он, расставаясь со штутгартскими друзьями — Ландауэром[78], ироничным Хаугом, издателем Штайнкопфом. А в Нюртингене остается вечно встревоженная матушка, которой больше всего хотелось бы видеть сына сельским пастором.
Мы всегда будем вместе, говорит Гёльдерлин.
В себе я ощущаю необъятные силы души и оттого бесстрашно вглядываюсь в оставшуюся половину жизни.
Открытая дорога, открытый мир.
За пять часов он преодолевает расстояние от Констанца до Хауптвиля, неподалеку от Санкт-Галлена, и вступает наконец на порог дома швейцарского льноторговца Гонценбаха — снова в качестве домашнего учителя.
Здесь я и живу, а под моим окном в саду, на берегу прозрачного пруда, высятся ивы и тополя, плеск воды так хорошо слушать по ночам, когда все вокруг спит и только я один смотрю на ясное небо, пишу стихи, размышляю.
Альпы словно чудесная сага времен героической молодости нашей матери Земли: они напоминают об изначальном созидающем хаосе.
Все это его собственные слова.
Покоя жаждет он и тишины. За три года впервые весна, дарящая свободу душе и свежесть чувствам.
Как услаждают взор окрестные холмы, ручьи и озера. Они наполняют сердце верой, что все в мире еще будет хорошо. В тихой и безгрешной жизни здесь, у подножия серебристых Альп, мне должно наконец-то полегчать на душе.
Все празднуют Люневильский мир[79], уповают на прекращение военных кампаний, верят в Наполеона-миротворца.
Я полагаю, что с войной и революцией неизбежно улягутся и ледяные ветры души, этот Борей зависти и злобы, произносит Гёльдерлин, точно рассуждая сам с собою. И тогда вызреет новое, прекрасное человеческое сообщество, кончится железный бюргерский век.
Ведь в конце концов очевидная истина, что, чем меньше человек соприкасается с государством, чем меньше он его замечает, тем свободнее он в своих действиях. Всеобщее необходимое зло — существование принудительных законов, а также тех, кто приводит их в исполнение.
Он говорит так, будто беседует с друзьями.
Все на свете споры сводятся к одному: что важнее — целое или же единичное? Этот спор разрешает конкретная деятельность, ибо тот, кто в самом деле руководствуется интересами целого, неизбежно действует во имя всеобщего мира и тем самым уважает также и единичное.
Неужели, чтобы жить в мире с окружающим и любить всех вкруг меня, я должен смирить себя, склонить перед ними голову? Неужели, чтобы стать для них чем-то, я должен пожертвовать собственной свободой?
Чем увереннее человек в себе и чем сосредоточеннее он в лучших своих помыслах, тем проницательней должен быть его взгляд, тем шире раскрыто должно быть сердце его всему, что в этом мире дано его душе на счастье или на горе, что полно для него величия или любви.
Речь несвязна моя[80]. Но это от радости.
Супруги Гонценбах, люди основательные и рассудительные, принимают в нем некоторое участие, впрочем ровно настолько, чтобы не создавать себе лишних хлопот. Той же весной они отказывают домашнему учителю, у которого мысли временами столь причудливо путаются, от места.
В соответствии с высказанным господином магистром Гёльдерлином пожеланием я настоящей бумагой подтверждаю, что вышеозначенный господин, пребывая в качестве учителя и гувернера в моем доме, завоевал глубочайшее мое расположение и мне остается лишь сожалеть, что непредвиденные обстоятельства разлучают нас столь быстро. С неизменным глубочайшим уважением.
И все, что полагается писать в подобного рода аттестациях.
О одиночество, на которое обречен я своею природой и в которое оказываюсь ввергнутым все более неодолимо! — пишет Гёльдерлин Ландауэру.
Без средств возвращается он в мае в Нюртинген, в этот тихий городишко у реки, вдоль которой растут тополя, за плечами у него горный альпийский воздух, воды Рейна, героический ландшафт его стихов. Скрытый трепет сердец может ли выразить речь?[81] Он снова живет дома у своей немощной матушки, дни которой полны теперь одной-единственной заботы: она мечтает, чтобы консистория определила его викарием к какому-нибудь сельскому священнику — извечный кошмар его жизни. Остаются письма.
Досточтимейший! — пишет он Шиллеру. Что, если мне перебраться в Иену и попытаться употребить здесь бóльшую часть моего времени на чтение лекций. Уже много лет я постоянно обращаюсь в занятиях своих к греческой литературе и вправе полагать, что сумею быть полезен молодому поколению, открывая ему удивительную точность древних в обхождении со словом, проистекающую из огромного их духовного богатства.
Я искренне прошу Вас об этом, досточтимейший! Надеюсь, что Вы отнесетесь к некоторому неизбежному моему самовосхвалению с обычной Вашей снисходительностью. И еще пребываю в надежде, что Вы не отвергнете открывающуюся перед Вами возможность озарить новым светом дальнейший мой жизненный путь.
И все в таком приниженно-вычурном стиле, отчаянный крик о помощи, оставленный Шиллером без ответа. Тем самым Шиллером, что как раз в марте 1801 года пишет Гёте: столь много развелось в наше время людей широко образованных, кои удовлетвориться могут лишь самым прекрасным и возвышенным, при этом, однако, сами оказываются бессильны создать нечто хотя бы просто хорошее. Им заказан путь от субъекта к объекту, между тем я полагаю, что именно этот шаг делает подлинного поэта.
И Гёте отвечает: Что касается больших ожиданий, прилагаемых ныне к поэтам, то и я склонен держаться того же мнения — не так-то легко рождаются из них поэты настоящие. Чему, к сожалению, мы столь часто становимся свидетелями в наши дни.
Что ж, и ты устремился бы ввысь, когда бы любовь не смирила тебя, не согнуло в отчаянье горе… —пишет Гёльдерлин, он пишет без конца, гимны и элегии.
Совсем недавно я слышал Чей-то глас в вышине: Пусть, как ласточки, будут свободны поэты![82]Лишенный покоя, он странствует между Нюртингеном и Штутгартом (я должен отправиться в независимую жизнь[83], вновь решается он покинуть отечество (остается надеяться, что я встречу еще добрых людей), в декабре он отправляется во Францию, туда, где в далеком Бордо, в доме консула Майера, ожидает его место домашнего учителя и проповедника (уж лучше мне находиться по ту сторону границы); он радуется заранее тому, что увидит море и солнце Прованса (я делаю, что я могу, и так, как могу); грех и безумие — искать такого пути, что не грозил бы никакими случайностями, ибо все мы едино порастем травой.
Впрочем, я хочу и должен оставаться немцем хоть на Таити, если меня загонят туда сердечная тоска и потребность в куске хлеба.
Но я им не нужен.
Ни перед чем не испытывать страха и уметь выносить многое — так он пишет.
Долгий путь из Страсбурга в Лион, большей частью пешком, дорога тяжелая, к тому же нередки задержки из-за разливов рек. Наводящие ужас снежные вершины Оверни, непогода и глухомань, пронизывающая холодом ночь и заряженный пистолет возле грубой постели.
Такое впечатление, будто спуск в долину длится уже месяцы.
Мощная стихия, небесный огонь[84] и покой в душе живущих здесь людей, их довольство и неприхотливость. Последние дни я шел уже через весну. Светлая Гаронна и сады Бордо. Вы будете счастливы, сказал мне мой консул. Печальная, пустынная земля. Бедные хижины юга Франции. Изредка красивый пейзаж. Когда в стране олив, в прекрасной дали пылает солнце. Мужчины и женщины, взращенные в страхе перед патриотическими распрями и голодом; в местностях, граничащих с Вандеей, полное запустение. Фонтаны у дорог, травой поросших, не ведающие ничего деревья средь пустыни. А во дворе смоковница растет. И сердце земли распахнулось, Гаронна во всю свою ширь. Что-то атлетическое есть в жителях юга, сохранившееся на развалинах античного духа.
Но где мои друзья?
Нехорошо жить мыслями бездумными людскими. Иные боятся добираться до истоков; исток же всякого богатства в море. Разверзлись окна в небе, и дух тьмы высвобожден, он всю страну уже оплел словами на многих языках, теперь неукротимых, во прах он обратил ее, но пробил час.
Жаркий полуденный час в июне 1802 года, сонный Нюртинген — и вдруг он, сломленный уже духовно и физически, появляется в материнском доме, выставляет в необъяснимом приступе ярости за дверь всех обитателей, уставившихся на него в полном недоумении, — так повествует об этом его биограф Кохер; другой биограф, Шваб, описывает внезапное его появление в комнате поэта Матиссона: изможденный человек с глубоко запавшими глазами и безумным взглядом, с длинными нечесаными волосами, заросший бородой и одетый как нищий подходит прямо к поэту и, поскольку тот не узнает его, произносит тусклым, бесцветным голосом: Гёльдерлин. Господин поэт долго не может оправиться от потрясения, вызванного этим визитом.
Что произошло с ним на самом деле, неизвестно.
Известно только, что он, назвавшийся на границе homme des lettres[85] еще на пути в Страсбург был заподозрен в якобинских пристрастиях и задержан на две недели, после чего ему, как сообщает он сам, настоятельно было рекомендовано воздержаться от дороги через Париж.
Внезапный отъезд из Бордо, города, где, по его словам, он был «сражен Аполлоном», возвращение домой, пешком, по только-только установившейся жаре, снова через Страсбург, — все это так подрывает его силы, что он едва владеет рассудком.
Состояние его делается более спокойным, и я убежден, что вскорости он поправится совершенно, сообщает семье из Штутгарта Ландауэр, у которого Гёльдерлин на время нашел пристанище.
Пока он не получил еще страшного известия.
Сюзетта уже выходила в сад, сидела с друзьями, на ней было сиреневое с белым платье. Я получил известие в тот день, когда ты последний раз был у меня. На другой день она почувствовала себя настолько хорошо, что даже прогулялась вечером к деревьям у воды. В прекрасном самочувствии улеглась в постель, в три часа ночи проснулась, попросила стакан воды, а заодно и теплый платок на всякий случай, потом снова заснула и проснулась рано утром. На вопрос, как она себя чувствует, ответила: лучше. Но, едва выговорив это, упала наземь и забилась в жесточайших судорогах, ничто уже не могло ей помочь, и в четыре часа пополудни она скончалась.
Как раз в те дни, когда Гёльдерлин возвращался домой.
Всего лишь письмо.
Но я не могу допустить — хоть в этом случае и ничтожна любая помощь, — чтобы ты узнал эту горькую весть случайно…
Письмо пришло от Синклера.
Я не знаю подходящих слов утешения…
Ты верил в ее бессмертие, еще когда она была жива…
Что может быть возвышеннее и благороднее столь чистого сердца…
Собери свое мужество…
До последней минуты она оставалась такой, как всегда. Ее смерть была как ее жизнь. Я пишу эти строки, и слезы льются у меня из глаз.
Гёльдерлин в отчаянии, он вновь возвращается в Нюртинген, не хочет никого видеть, живет как во сне.
В доме пустынно теперь. Нет, это не просто утрата. Вырвали око мое. С ней потерял я себя. Вот и блуждаю с тех пор, существую, как тень существует. Опостылело мне все остальное давно.[86]7
Что способно занять его на долгие дни, так это «Гиперион». Нередко, подходя к дому, еще с улицы слышишь громкое чтение вслух.
Кое-что он зачитывает и гостям, с великим пафосом. Когда ему открывается смысл какого-нибудь отрывка, он тотчас принимается жестикулировать, восклицая: как это прекрасно, как прекрасно, Ваше Величество!
Однажды, прервав себя посреди строки, он неожиданно добавил: Вы только взгляните, милостивый государь, запятая!
Перед ним раскрытая книга, и, когда слушаешь это место, к горлу подступает комок:
Величие древних, как буря, заставляло меня склонять голову, срывало цвет юности с моих щек, и я не раз лежал не видимый никем, утопая в слезах, точно поваленная ель, что лежит у ручья, уронив в воду свою увядшую крону. С какой радостью заплатил бы я кровью за то, чтоб хоть один единый миг жить жизнью великого человека[87].
Несколько раз ему пытались сообщить, что «Гиперион» выдержал еще одно издание, что готовится полное собрание его стихов, однако ответом всегда был один только низкий поклон:
Вы очень милостивы ко мне, сударь… Премного вам обязан.
Порою, когда таким вот образом он прекращает любые расспросы, от него пытаются силой добиться разумного ответа, но в результате лишь движения его становятся все более порывисты и беспорядочны да из уст вырывается ужасающе бессмысленный поток слов.
Библиотека его состоит из произведений Клопштока, Глейма, Кронека и других старых поэтов, среди них еще Гагедорн и Цахариэ.
Оды Клопштока он читает часто.
Как-то ему хотели предложить другие книги, например Гомера, которого он до сих пор хорошо помнит и мог бы прочесть с удовольствием. Однако он не принимает перевод. Причиной тут не гордость, но страх заронить новое беспокойство в душу, столкнувшись с чем-то неведомым. Лишь привычное, хорошо известное дарует ему душевный покой — «Гиперион» и его покрытые пылью десятилетий поэты. Тому уж много лет, как Гомер стал ему чужд.
Полными любви, ума и надежд выходят из немецкого народа юные питомцы муз; но взгляни на них лет через семь: они бродят как тени, безмолвные и холодные, они похожи на ниву, которую враг усеял солью, чтобы на ней никогда не взросло ни былинки; а когда они говорят — горе тому, кто их поймет, кто в этой бурно восстающей титанической силе, равно как и в их протеевых превращениях, увидит лишь отчаянную борьбу скованного прекрасного духа против варваров, с которыми ему приходится иметь дело.
Это из «Гипериона».
Получив бумагу для письма, он садится за стол и сочиняет стихи, иногда рифмованные. В алкеевых строфах одной из од так пронзительно и странно звучит голос возлюбленной, словно из писем былого времени.
О Диотиме, о Греции он вообще отказывается говорить, если же его без обиняков спрашивают, давно ли он в последний раз был во Франкфурте, он неизменно отвечает:
Oui, Monsieur[88], вы же сами говорите.
8
Когда сквозь дали, нас разделившие, Твоим глазам я зрима… Тогда скажи, как милая ждет тебя?[89]Ранним утром Гёльдерлин покидает Хомбург и выходит на франкфуртский тракт, немногим позже он уже возле Адлерфлюхтского хутора, что у Эшенхаймских ворот, — прекрасная утопающая в садах усадьба с видом на горы.
Что сейчас — весна? Или лето?
Когда городские часы бьют десять, он стоит перед низенькой живой изгородью, рядом с тополями, растущими вокруг дома; посох закинут теперь на плечо. В одном из верхних окошек появляется белый платок, ее знак. Он медленно идет к воротам, затем, крадучись, — к маленькой беседке неподалеку, осторожно оглядывается по сторонам. Слышен шорох. Рука, незаметно раздвигающая хитросплетения вьюнов, письмо, ее фигура по ту сторону кустарника, он едва успевает взглянуть ей в лицо, и вот уже быстрые шаги удаляются, хрустит песок под ногами.
В иные дни даже без письма. Она просто подходит к окну, всматривается в его лицо среди зелени: он прислоняется к дереву.
— Неужели это ты, любимый? Природа пуста и молчалива, когда тебя нет. А в душе так много страха…
— Любимая, скажи, что лучше — молчать о том, что таится в наших сердцах, или хоть иногда видеть друг друга?..
— Не знаю, мне страшно, я так боюсь, вдруг нас предадут. Отчего ты бледен? Я знаю, ты живешь только ради меня. Так не отказывай себе в радости. Твои письма я все переплела, словно книгу. Никто не сможет любить тебя так, как я. И ты тоже не смей никого любить так, как меня. Прости мне эту корысть…
— Я долго убеждал себя, что смогу примириться со всем. Как часто запрещал я себе даже думать, даже мечтать о тебе, я твердил, что мы сможем жить, друг от друга отрекшись, будто бы отреченье само наделит нас силой. Вот почему я не писал…
— Я все равно была не одна. Как это мучительно — носить в себе такую тяжесть. Ты ведь придешь опять через восемь дней, правда? Мне показалось однажды, что твоя тень мелькнула в аллее. А может, это в самом деле был ты?..
Настало лето. Вот уж год миновал с тех пор, как Гёльдерлин покинул дом Гонтаров. Тайно обмениваются они письмами, встречи их редки и мимолетны.
В садах ли тех, где в годы безвременья И мрака мы нашли друг друга?[90]Игра фантазии. Встречи, словно в мире теней. И словно в мире теней — объятия. Так говорят они сами.
И снова мы переносимся в май. Троица, прекрасная разубранная ива у подножия Рёдерберга, они живут в гуще зелени, в саду среди лугов, вокруг множество каштанов, все в цвету. Гёльдерлин, домашний учитель, играет на флейте, Мари, экономка, подыгрывает ему на гитаре: не капризничай, дружочек, ведь часы бегут. Самая настоящая пастораль, да еще дети резвятся кругом.
Первые дружеские беседы в цветущем саду, в ее кабинете. Голоса природы, музыка и их собственные голоса.
Когда на свете только мы, и друг для друга, о безмятежные часы. Гёльдерлин читает ей стихи, отрывки из «Гипериона», говорит: Есть на свете одно существо…[91]
Дом Сюзетты Гонтар «У белого оленя» расположен вблизи Оленьего пруда, всего в нескольких шагах от родительского дома Гёте. Якоб Фридрих Гонтар, банковские операции, торговая экспедиция и посреднические услуги в оптовых закупках шерсти и хлопка. Les affaires avant tout. Дела прежде всего.
Людской поток, некогда лениво текший по улицам, превратился в полноводную реку. Именитые гости и всевозможные торговые компании, тщеславие и роскошь, выставляемые напоказ вместо разумного употребления во всеобщее благо, — так записывает в своем дневнике некий господин Церледер из Берна, проезжая через Франкфурт.
Франкфурт — это новый мир.
В последний день 1795 года Гёльдерлин представляется своему работодателю согласно рекомендации доктора Эбеля.
Биржевой курс — тут я как рыба в воде, весело говорит глава семьи, а вот как воспитывать детей и чему их учить — это уж ваше дело.
Ему отводят комнатушку на чердаке. Дети почтительно здороваются с ним. Анри называет его «мой милый Гёльдер». Он всем приходится по душе. Со своим воспитанником он должен заниматься лишь в первой половине дня, жалованья ему положено четыреста гульденов в год, все остальное время он свободен. На деньги, которые благодаря этому удастся сэкономить, его брат сможет получить образование.
В первой половине дня госпожа Сюзетта почти не показывается. Она избегает веселых и шумных сборищ, где мужчины тотчас принимаются ухаживать за дамами. Она больше любит слушать, нежели говорить. Только в кругу домашних испытывает она подлинную радость, там она ласкова и доверчива.
Она стояла предо мной с улыбкой, в красе непреходящей совершенства.
Гёльдерлин говорит, что счастлив, как орел в полете. Он называет ее Диотимой.
— О, если бы у ног твоих я мог со временем стать настоящим художником, в этой тишине и свободе. И чтобы мы всегда были вот так рядом…
— Тебе это необходимо — раскрывать окружающим душу и говорить прямо из глубин сердца. Если порою ты бываешь мрачен и угрюм, то потому лишь, что кто-то не понял тебя, и вот ты уже не веришь в себя и не заглядываешь в глубины свои.
…Неслышно время текло. Душа Во мне молчала, словно придавлена Нещадной правдою разлуки.[92]Быть может, мне и удастся вдруг по неведомому счастливому наитию обрисовать хоть одну сторону ее существа? Это Гёльдерлин пишет Нейферу. Ты поймешь, что сейчас мне больше, чем когда-либо, хочется писать стихи. Впрочем, не столь уж важно, будет ли в Шиллеровом альманахе одним нашим стихотворением больше или меньше. Мы все равно станем тем, чем должны стать.
Как жизнь прекрасна! ты живешь…
Несколько дней он проводит у Синклера в Хомбурге, это в трех часах пути. Надворный советник Юнг и Лёйтвайн, Андреас Хан, священник, распевающий перед своими прихожанами французские песни о свободе, — люди, достойные внимания.
История рода человеческого, говорит Юнг, есть не что иное, как свидетельство медленного, но неуклонного его развития, распространения все более истинных представлений об извечных наших правах и потребностях, о подлинной морали.
Знаменательные слова.
Французская армия переправляется теперь через Рейн, говорит Лёйтвайн.
Если французы добьются хотя бы незначительного перевеса над противником, думаю, что и немцы поднимутся тогда все, как один! — восклицает Синклер.
Вслух зачитываются письма фон Кэмпфа, ведущего в Париже переговоры с Директорией от имени вюртембергских сословий, того самого Кэмпфа, который в свое время был отстранен ландграфом от должности как ярый якобинец. По кругу идет листок рейнской прокламации.
Республиканцы! Мы говорим вам: «Добро пожаловать!» Вы хотите разбить оковы, терзающие нашу плоть. Мы достойны вашего участия, мы созрели для благословенной революции! О битва за отечество, о разгорающаяся кровавая заря свободы…
Нам предстоит организовать республиканские клубы, запастись кокардами, говорит один из них, вспоминая девяносто третий год, свержение тирана. Уменьшение налогов. Создание нового государственного аппарата. Политическое возрождение. Восторженные голоса.
Улучшить мир — дело не шуточное[93]. Кто это сказал? Гёльдерлин? Победные шаги республиканцев. Войска Журдана[94] приближаются к Франкфурту.
Намного легче ведь просто слушать рассказы о знаменитых греческих катапультах, градом камней засыпавших тысячелетия назад бегущих из Аттики персов, нежели видеть, как столь же беспощадная гроза приближается к твоему собственному дому.
Как раз сегодня я прочел в газете, что генерал Сен-Сир, преследуя отступающих австрийцев, идет через Тюбинген и Блаубойрен, — вот почему я испытываю тревогу при мысли о нашей любимой сестре, а еще мне тревожно потому, что до сих пор по нашей земле бродят остатки корпуса принца Конде, эти недобитые эмигранты, эти чудовища.
Гёльдерлин в пути вместе с семейством Гонтар: они бегут в Кассель, подальше от войны, их преследует канонада французских орудий. Путь лежит через Вестфалию, по живописной долине Везера, потом по горам, где почти ничего не растет; неописуемо грязные, нищие деревни и еще более грязные, ухабистые дороги, и вот наконец лежащий в стороне от всего захолустный Дрибург, где они регулярно посещают местную купальню и наслаждаются целебными источниками.
Воистину счастливые дни.
Ограда, на которую она оперлась[95], была довольна низка. Поэтому я отважился поддержать ее, мои руки горели, как раскаленные угли, когда я ее коснулся. Все, что делали и думали люди на протяжении тысячелетий, — что все это перед единым мгновением любви?
Господин Гейнзе, создатель известного романа «Ардингелло», тоже путешествует с нами. Гейнзе, восхищенный чистым и прекрасным, подлинно тициановским ликом госпожи Гонтар.
Гёльдерлин сидит над «Гиперионом».
Он предпочитает не вдаваться в рассуждения о политике, говорит, что с недавних пор научился держать язык за зубами и не высказывать свое мнение по поводу происходящего.
Синклер в Хомбурге, он ведет переговоры с французскими комиссарами об уменьшении размеров контрибуции. Армия, которая столь замечательно воюет, начинает мародерствовать при первой же возможности, не составляют исключения и офицеры: им ведь тоже нерегулярно выплачивают жалованье. По-прежнему воодушевленный идеей революции, Синклер говорит генералу Журдану, что желал бы внести свою скромную лепту в великую битву за благороднейшее дело в мире.
Журдан спокойно оглядывает его с головы до ног.
Он расспрашивает генерала о днях якобинского террора, об ужасах, слухи о которых повергли его тогда в меланхолию и на которые теперь, спустя время, надлежит взирать без отвращения, подобно хирургу, спокойно врачующему увечья и нарывы.
Журдан отвечает: Как все французские солдаты, я думал тогда лишь о благе моего отечества. И не знал, останусь ли жив на следующий день.
Синклер умолкает.
Всем поклонникам свободы в Швабии генерал Моро[96] хладнокровно велит передать, что им надлежит уважать существующую конституцию. Никто не потерпит революции у себя в тылу. Это приказ.
Ты найдешь меня при встрече в состоянии куда менее революционном, чем прежде, пишет Гёльдерлин брату. Тебе непременно следует изучать философию, даже в том случае, если средств твоих будет едва хватать на покупку одной лишь лампады и масла к ней и если времени у тебя на это будет лишь от полуночи до рассвета.
Это почти уже за пределами человеческих сил — видеть кругом неприкрытую грязную реальность и сохранять при этом душевное здоровье.
Все пропало, Диотима[97]! Наши солдаты устроили грабеж и резню, убивали всех без разбору…
— Об этом не думай, любимый. Я никогда не сказала бы тебе так много, если бы не знала тебя, не знала, как легко увлекают тебя фантазии на путь заблуждений, как быстро начинаешь ты видеть вещи иными, нежели они существуют на самом деле…
— Мы уже не знаем боле, что мы есть в реальности и чем мы еще располагаем, мы едва знаем самих себя; о эта вечная борьба в нас самих, вечное противоречие…
Со мной он ожил, прекрасный юноша… Дней светлых череда — так скоро Тусклые сумерки их сменили.[98]Вечерами Гёльдерлин гуляет под ее окнами. Свет лампы выделяет его из темноты, но только для нее, больше его никто не замечает. А еще он тайком пробирается иногда в дом, через заднюю дверь, быстро и легко взбегает по лестнице, пользуясь тем, что его не видят, влетает в ее комнату, чтобы хоть мгновение побыть с нею наедине.
— Но скажи, ведь мы виделись с тобой не в последний раз, правда?..
— Сколько слез уже пролито из-за того, что мы не можем дарить друг друга радостью, которую способны дать…
Ничего предосудительного нет в том, что люди, вот уже третий год живущие под одной крышей, проводят ежедневно полчаса в обществе друг друга. Им, однако, это запрещено.
Она говорит:
— Неужели та святая любовь, которой мы полюбили, исчезнет как дым, растворится в пространстве, не оставив следа?
Он говорит:
— Ужасно, что мы оба, в расцвете наших лучших сил, должны томиться и гибнуть из-за того, что нам недостает друг друга.
Жизнь моя! Ты больна.
Они ловят тающий образ, мечтают друг о друге. Мечтать, вечно только мечтать; но ведь это самоуничтожение. Слова, которые они произносят, взгляды, которыми они обмениваются, письма в течение нескольких лет, так что теряется ощущение времени.
Тогда было будущее. Теперь будет прошлое. Но где же настоящее?
В последние сентябрьские дни 1798 года Гёльдерлин покидает дом Гонтаров.
Весь этот год почти сплошь празднества, визиты, великосветское франкфуртское общество с его скудостью ума и сердца. При этом моей скромной персоне приходится весьма худо, ведь домашний учитель — всегда и везде последняя спица в колеснице, и тем не менее приличия ради должен присутствовать при всем этом. Презрительная заносчивость, ежедневно возводимая хула на всякую науку и образование, намеки, что-де домашние учителя тоже из разряда прислуги, — все это глубоко оскорбляло меня, как ни старался я не принимать это близко к сердцу.
Я хотел бы жить искусством, к которому тяготеет все мое существо, а вместо этого принужден расточать себя среди тех, от кого чувствую непомерную душевную усталость.
Почему так?
Осенние дни действуют на него благотворно. Вместе со своим воспитанником Анри он один в садовом домике. Вся семья по случаю ярмарки переехала в город. Прозрачный свежий воздух и ясное небо, отдыхающая земля, темная зелень, уже тронутая умиранием, плоды, просвечивающие сквозь листву дерев, облака, туман, ясные звездные ночи.
Приезжает Нейфер[99]. Гёльдерлин говорит: мой разум словно ходит к ней на выучку, моя расколотая душа оживает вновь, и в том, что я нынче пишу, куда больше жизни и формы.
Нейфер читает его стихи. Жизнь, из смерти рожденная, и в хаосе гармония высокая возникнет. Они беседуют, как в былые дни, ведь даже в письме, отсылаемом другу, нет места для многих прекрасных слов. Должны же когда-то осуществиться надежды.
Понимать самих себя! Вот что нас возвышает. Бесстрашно продираться сквозь старый хлам, преграждающий нам путь. Я прекрасно понимаю, что пока ничто, говорит Гёльдерлин. Но разве это лишает меня веры? Я лучше скажу, что недостаточно понял себя, если мне в этом мире не удалось еще создать ничего достойного.
Во Франкфурте, за исключением нескольких подлинных людей, сплошь чудовищные карикатуры. На большинство из них богатство действует так, как на крестьянина молодое вино. До какой степени наиболее состоятельные купцы ожесточены нынешними обстоятельствами и как они вымещают свою ожесточенность на любом зависимом от них. В обществе подобных людей приучаешься держать язык за зубами, а это уже немало.
Гёльдерлин докладывает господину Гонтару, что будущее предназначение заставляет его на время предпочесть независимое существование. От дальнейших объяснений на этот счет он отказывается. Они расстаются вполне вежливо.
— Надо, поняли мы, надо расстаться. Что ж, разлучившись, кричим: «Это убийство, смерть!»?
— Я уж пожалела, что когда-то посоветовала тебе отказаться от места. В мыслях у меня была лишь твоя будущая свобода и независимость. Как многое из того, что касается будущего, мы могли бы еще обсудить с тобой…
В доме Гонтаров предпочитают не говорить о происшедшем, в письмах лишь косвенные намеки, разве что эффектная сцена в записках какого-нибудь биографа.
С госпожой Сюзеттой все очень милы, каждый день приносит ей новые подарки и светские удовольствия.
— Однако необходимость принимать услуги — пусть даже самые пустяковые — от человека, не пощадившего сердца, которому навсегда отдано мое, действует на меня подобно яду…
Я не могу перенести твоего отъезда, милый Гёльдер, пишет ему воспитанник Анри; отец как-то справлялся о тебе за столом. Матушка здорова, она собирается еще раз повторить с нами то, чему ты нас учил. Я сегодня был у господина Гегеля, он сказал, что ты давно уже намеревался так поступить.
Гёльдерлин нанимает квартиру у стекольщика Вагнера в Хомбурге, тихие комнаты, под окнами деревья; обед обходится ему в день в шестнадцать крейцеров, уборка квартиры и стирка белья в семьдесят гульденов в год. Он давно уже привык довольствоваться по вечерам лишь чаем да фруктами.
Благодаря нескольким опубликованным стихам, а также экономному ведению хозяйства я скопил пятьсот гульденов, так что по крайней мере на год я с материальной стороны обеспечен.
Живое в поэзии — вот что сейчас больше всего занимает мысли мои и чувства. Ах, еще в ранней молодости внешний мир отпугнул мою душу, и от этого я страдаю до сих пор.
Мне куда чаще недостает легкости, а не силы, нюансов, а не общих идей, тени, а не света, и все по одной причине: я слишком боюсь расхожего и привычного в обыденной жизни.
Под окнами его в долине расстилаются луга, за ними вдали прохладные горные вершины с открывающимся оттуда видом на Франкфурт, чуть меньше трех часов пути.
Каштаны в цвету, молодая зелень кустарника. Тополевая аллея, живая изгородь вокруг Адлерфлюхтского хутора.
…Часто мы вечером Сходились здесь, вели беседу, Молча глядели мы друг на друга.[100]Убеждать себя, что ты по-прежнему моя. Я ощущаю это всеми чувствами своими. И часа свидания достаточно.
Кому же еще если не тебе.— Вот наш «Гиперион», прости, что Диотима умирает, я полагал, что это необходимо вытекает из общего замысла. Ты помнишь, мы и прежде не могли прийти к согласию на сей счет.
— Чтение подвигается плохо. Чтобы серьезно размышлять, душа должна быть совсем спокойна. Странно, что ты называешь «Гиперион» романом, мне все время кажется, что это поэма…
Она рассказывает ему о своей жизни, о комнатке наверху, где она работает, шьет и вяжет, о шумных детях, окружающих ее, об Анри, которому нравится уже изображать из себя хозяина. Я так хочу, чтобы ради его же собственного блага он уехал отсюда: здесь все слишком стараются ему угодить и льстят непрерывно. Она хотела бы узнать его мнение в этой связи.
Воспитателем у них теперь некий господин Хадерман, уныло бубнящий религиозные тексты.
— Но, быть может, в будущем молодые люди еще будут стремиться к тебе как к учителю?..
Ей так хочется сказать еще несколько слов о его предназначении: Ты должен вернуть миру то, что просветленно открывается тебе в возвышенных образах.
Немногие подобны тебе!
Следующей весною мы вновь встретимся здесь, и да будет первая песнь жаворонка для нас знаком близкого свидания.
Наступает осень.
Снят урожай с виноградной лозы, и роща желтеет.
— Я пишу в темноте, солнце, его лучи уже скрылись от глаз моих. Многое, верно, останется тьмою сокрыто, пока не воссияет солнце вновь…
Гёльдерлин пишет:
Зайди, о солнце, скройся, мой ясный свет!Он пишет свою элегию.
Жить я снова хочу! Зеленеют тропы земные Ярче и ярче горят солнца младого лучи… Да пребудут с нами обеты богам вдохновенья, Юные гении, те, кто всем любящим — друг. Не покидайте же нас, покуда в жилище блаженных… И опять оживет год нашей юной любви.[101]Невидимые отношения продолжаются.
Через два дня после твоего отъезда я еще раз зашла в твою комнату, чтобы там наконец выплакаться. Я раскрыла твое бюро, нашла там несколько листков бумаги, немного сургуча, маленькую белую пуговицу и засохший кусок черного хлеба. Словно реликвии, отнесла я все это к себе. В ящике комода сломался замок, и я не смогла его открыть.
Ее белый платок в окне. Его тень, прислонившаяся к дереву.
В первые майские дни нового столетия они виделись в последний раз.
«В прекрасном мире я одинок!» — всегда Твердишь ты мне, возлюбленный мой. Но ты О том не знаешь…[102]9
Когда ему говорят, что его Диотима была, как видно, удивительно благородным существом, он отвечает взволнованно:
— Ах, моя Диотима! Не говорите мне о моей Диотиме! Тринадцать сыновей она мне родила: один теперь — папа римский, другой — султан, третий — русский царь…
А знаете, что было дальше?
Безумной стала она, безумной, безумной, безумной.
10
Как сочувствую я тебе во всем, в печали твоей и в твоих одиноких часах. Подруга моя, которую я любил и которая помогала мне искать дорогу в жизнь, умерла. Неужели и все мои друзья так вот покинут меня?
О, в мире, лишенном любви, как любовь одинока!
Да, отвечает Гёльдерлин, у нас одна судьба, милый Бёлендорф[103]. Я живу пока в родном городе. После потрясений, тронувших сердце, мне потребно было на время это твердое пристанище. Напиши как можно скорее. Мне так необходим чистый тон твоих писем. Душа, окруженная друзьями, рождение мысли в беседе, в письмах — без этого не может быть художник. Как славно с друзьями вести беседу сердечную, слушать рассказы о днях любви и о делах минувших.
Синклер написал к нему в Нюртинген. Бёлендорф, оказывается, в Берлине, он просит материал для своего «Поэтического календаря», тут же небольшая записка от него самого.
Бёлендорф. Гёльдерлин взволнован. Я долго не писал тебе, а между тем я побывал во Франции и о себе могу сказать, что был там сражен Аполлоном.
Он видит друга перед собой, вместе с Мурбеком тот входит в комнату, они только что приехали из Швейцарии, все это происходит еще в Хомбурге, они много говорят в тот день. Дорога узкая ведет нас в темный дол, ее туда измена проложила…
Неужели это Бёлендорф?
У нас одна судьба, говорит Гёльдерлин.
Бёлендорф теперь личный секретарь у Вольтмана в Берлине, тот занимается историей и политикой, издает свой журнал при книжном магазине Унгера; кроме того, Бёлендорф еще редактор в «Фоссише цайтунг», редакция расположена возле Егерского моста, а сам он живет сразу за углом, Моренштрассе, 22, против Жандармского рынка, и жизнь ему не в радость.
Он не способен объективно воспринимать окружающее, так говорят о нем, не способен выйти из собственной скорлупы, даже когда это необходимо. Все больше фантазии, а не что-нибудь разумное — такой приговор уже вынесла ему госпожа Унгер; на других дам из ее салона он тоже не произвел благоприятного впечатления; следовало бы напомнить ему, чтоб чаще брился и не являлся в обществе с засунутой в карман трубкой, будто какой-нибудь нищий студент из Галле. Вся эта пестрая ярмарка тщеславия, где подлинное счастье невозможно, не в состоянии уже завлечь меня, говорит он, в крайнем случае она лишь вносит на время какое-то разнообразие; в спорах он нередко становится жертвой собственного честолюбия, всегда говорит опрометчиво, необдуманно, превозносит иенских романтиков, ругает последними словами Коцебу, в ярости даже опрокидывает бокал. Помилуйте, какой же это редактор!
Ему хочется быть любимым или хотя бы просто нравиться публике, говорят о нем друзья. Его история Гельветической республики занимает почти полных два номера вольтмановского журнала; в журнале «Ирэне» опубликованы стихи: И это темное пространство — мир? Да еще отрывки из новой исторической пьесы, а теперь вот «Поэтический календарь» на 1803 год — в соавторстве с Грамбергом. Он говорит, что окружающим хотелось бы видеть его кротким и смиренным, но он докажет им, что у него есть характер.
Жизнь человеческая должна быть цельной и во всем: в поступках, речах, раздумьях, стихах — должна быть возвышенной, свободной, правдивой, но в то же время прекрасной! — в противном случае она ничего не стоит, и человек даже не превращается в раба, он уже рожден им. Такие вот максимы. И конечно же, пьесы его в театре не ставят.
Отзвук «Валленштейна» словно из пустой бочки — такими словами разделался с ним Гёте. Для Шиллера его пьеса — лишний пример того, как даже самые пустые головы в момент, когда литература достигла определенных высот, дерзают вообразить, будто тоже способны создать нечто значительное, на деле же они всего лишь повторяют расхожие фразы. Их мнения совпали и на этот раз.
Ты на верном пути, говорит Гёльдерлин, который его понимает. Но свое отечественное должно осваивать столь же хорошо, сколь и чужое. Потому-то нам не обойтись без древних греков. Однако в том, что касается нашего, национального, мы не станем следовать их примеру, ибо известно, что самое трудное — это свободное обращение с собственным наследием.
Мы останемся вместе, друг, отвечает Бёлендорф. Я ведь вытащил греков лишь затем, чтобы вновь вознести этот мир, противопоставить его тому вялому, ленивому бытию, что окружает меня.
Он пишет свои «Авантюрные письма», которые Вильмане публикует у себя в альманахе.
Однажды с вершины Гримзеля я глядел на горы, отделявшие меня от Италии. Небо по ту сторону гор казалось синее, и я все пытался вообразить себе родину богов, где некогда расцвело и повзрослело человечество. Я стоял там, средь шершавых валунов, извергнутых безотрадными горами, средь ледников, что спускаются далеко в долину, — я стоял, и в мертвой глуши не слышно было ни единого звука, кроме зова сердца, отдававшегося во мне живым эхом: преобрази сей дикий край! Фантазия моя подхватила этот зов, и тотчас предо мною развернулся во всю ширь прекрасный цветущий ландшафт… О, если б меня окружали всегда хорошие люди. Нам следует держаться себе подобных.
Успех друзей — добрый знак и для меня, говорит ему Гёльдерлин. У нас одна судьба. И если один продвинется вперед, то и другой не останется стоять на месте. Лишь самые именитые, те, чье участие могло бы служить мне, несчастному, надежным щитом, — лишь они бросали меня в пути.
Ты это знаешь.
Фосс рассказывает, что, когда он читал вслух перевод Гёльдерлина из Софокла, Шиллер смеялся как безумный. Шиллер, который сам не читал по-древнегречески.
Дорогой мой, говорит Гёльдерлин Бёлендорфу, я думаю, в будущем нам не придется комментировать всех поэтов вплоть до нашего времени — изменится сама песенная манера стиха, ведь потому мы и не стали до сих пор на ноги, что со времен древних греков лишь начинаем писать по-новому, писать естественно и самобытно, в нашем национальном духе и поистине неповторимо.
Они возмечтали Царство искусства создать, При этом забыв об отчизне. И пала прекрасная Греция, Жалкую участь изведав…[104]Чем больше я изучаю родную природу, тем сильнее она захватывает меня, и философическое сияние вкруг моего окошка составляет теперь главную мою радость; о, если бы мне дано было сохранить в стихах само движение к познанию!
Напиши мне поскорее. Будь здоров.
Однако Бёлендорф — у него недавно умерла возлюбленная — очень одинок на этой земле.
Берлин пошел мне на пользу, говорит он, но только самым подлым образом. Полный старания укрепиться в новом своем буржуазном бытии, для которого так мало пригоден, он невольно оказывается втянутым в самую гущу литературных споров.
Этот господин Бёлендорф испортил мне все удовольствие. Остальные соавторы давали то, что надо, самую соль, и только он один — сплошную воду, в которой все они должны были плавать. Такими вот словами один из рецензентов, некто Меркель[105], ругает «Поэтический календарь» Бёлендорфа — статья помещена в «Шпенерше цайтунг», конкурирующей газете, написана она в форме писем, адресованных никому не ведомой особе и трактующих важнейшие явления современной беллетристики; Меркель говорит об отдельных не додуманных до конца мыслях и о бессмысленности подобного издания вообще, в конце же, чтобы нанести удар по всей иенской школе, рассуждает об изысканном сумасшествии этих романтиков. Бёлендорф, обиженный столь резкими суждениями, без обиняков заявляет протест, но ему ли тягаться с завсегдатаями салонов — его осыпают насмешками, порой даже оскорбляют, все от него отворачиваются; в конце концов, уже в совершеннейшем отчаянии, он помещает в «Фоссише цайтунг» следующее объявление: Многозначительные намеки некоторых газет вынуждают меня заявить, что именно мне принадлежат следующие литературные опыты. Затем он по порядку перечисляет все свои произведения. В салонах по этому поводу опять раздаются смешки.
Ты спрашиваешь меня, что я сделал?
Мало, очень мало, после всех этих меркелевских наветов, которые предварили известие о смерти моей бременской подруги, полученное мною с большим опозданием и совершенно случайно. Известие это постепенно привело в полный упадок мои душевные силы, я и сам не знаю каким образом. Я ведь ни на миг не прерывал работу, многое сделал для Вольтмана, это меня хоть как-то отвлекло на время, да только все равно уже не так, как прежде.
Завтра песнь мою развеют… Убитое критикой стихотворение. В июне 1803 года Бёлендорф покидает Берлин, навсегда ожесточившись против его жителей: они ведь умеют лишь резонерствовать, но никогда не поднимаются до подлинной философии, у них нет характера, и весь свой талант они стремятся употребить лишь в своих узкоберлинских интересах, я не обрел здесь ни одного друга, и судьба моя нависает надо мной еще более мрачно, чем прежде. С тех пор он уж не находит больше пристанища и сам говорит о себе: я на пороге добровольной гибели. И мое искусство тоже, потому что все идет ко дну…
Я знаю лишь свои ощущения. Истоки мне недоступны. Куда я отсюда направлюсь, неизвестно.
Место, где я мог бы работать, одиночество, смерть — вот все мои желания. Не забывайте меня.
Мне хочется спокойно жить в тиши, но буря по пятам идет за мною.У них одна судьба.
Тою же весной Гёльдерлин, влекомый неведомым инстинктом, прямо через поля отправляется пешком в монастырь Мурхард, чтобы там увидеться с Шеллингом. Свидание, как скажет потом Шеллинг, было грустным, ибо очень скоро я удостоверился, что этот тончайший инструмент расстроен — и навсегда. Однако на его примере я убедился, сколь велика сила врожденного, изначального обаяния. За те тридцать шесть часов, что мы провели вместе, он не сделал и не произнес ничего недостойного, ничего, что противоречило бы его прежнему благородному и в высшей степени добропорядочному облику.
Так: но милое? Солнца луч На земле мы видим, в тонкой пыли, И глубокие тени лесов…[106]Он по-прежнему прекрасно и звучно читает стихи. Все остальное создадут поэты.
В том же году Бёлендорф возвращается к себе на родину, в Курляндию. Получает должность домашнего учителя в Риге, уже через несколько дней отказывается от нее, беспокойно переезжает с места на место, стремясь туда, где его никто не знает. Грех и безумие — искать такого пути, что не грозил бы никакими случайностями, ибо все мы едино порастем травой.
Поклон нашему Мурбеку. Он-то наверняка продержится. Прости мне мою неблагодарность. Я хорошо разглядел всех за это время, но все-таки в затемненные очки. Что-то будет с тобой дальше, мой Бёлендорф?
В Варшаве беспаспортного бродягу задерживают и препровождают как арестанта обратно в Митаву[107]. С тех пор он скитается по своей Курляндии от одного пасторского дома к другому — больше двадцати лет; одетый в жалкие лохмотья, он всюду не ко двору. Однако распевает песни. Пишет стихи.
В митавской газете, издаваемой местными просвещенными кругами, он предлагает к изданию ранние свои стихи. Просит, в силу экономической несостоятельности, о заемном письме, но это пустое дело. У бедняги нет будущего, он и сам не раз желал себе смерти, но потом вновь и вновь оказывался в пути, среди цветущих лугов, с песней на устах:
Навсегда впишу надежду в черный лист, он засверкает бледным серебром надгробным — в ночь ее потом опустят.[108]В 1817 году он направляется в Россию. Поэт Жуковский, живший тогда в Дерпте[109], дает ему письмо к А. И. Тургеневу:
Посылаю тебе чудака, поэта, бродягу, ребенка, старика. Он бродит по свету и описывает в стихах свои похождения. У него никогда нет гроша: вся его гардероба (два сюртука, два жилета и, вероятно, двое штанов, с большою трубкою в кармане) всегда на нем. Все его сочинения всегда у него за пазухою; те, которые не могут уложиться, сожигаются.
Он хочет в нынешнем году выдать по подписке свои песни; подписная цена 1 рубль серебром. Постарайся собрать ему несколько подписчиков, чтоб было что есть в Петербурге. Вообще в его стихах много хорошего, хотя и много беспорядочного. Сам же он необыкновенное явление в свете.
До сих пор еще не начинал он думать о завтрашнем дне. В 15 лет исходил он около 20 000 верст пешком. В Петербурге пробудет две недели; где он остановится, я не знаю. Но если в Петербурге случится ему в чем-нибудь нужда, помоги ему.
Бёлендорф.
Где же нам жить? На скалах — мы будем пасти, Влагу вкушать и пить будем яства сухие. Кто крова захочет, пусть у порога живет или в хижине, рухнуть готовой. Ищи приют на воде. Тебе дано наконец Вздохнуть свободно…[110]В последний раз его видели в имении Маргграфов у арендатора Редлиха. Он воспитывает его детей в немецком духе, преподает им языки, сам сочиняет для них молитвы; утверждает даже, что, готовясь к уроку, посвященному Вергилию, перевел всю «Энеиду».
Он собирается напечатать две рукописи: «Марионетки», сборник стихов, публикация за счет автора, и «Журнал куртизанок и мод, дневник невинного, писан в 6341 году, место издания — городок Горация под землей».
На пасху он обращается с письмом к его величеству королю Пруссии Фридриху Вильгельму III.
Сир! Ребенок обладает большим достоинством, чем я. Молю Ваше Величество о дозволении получить еще немного подобающих мне мужских почестей от господина профессора Хербарта в Кёнигсберге, которому однажды Берлин благосклонно оказывал свое гостеприимство в течение всего 1803 года. Нижайше прошу высочайшего Вашего соизволения посвятить Вам старую пьесу Шиллера «Разбойники», заново переложенную мною в ямбах, с опубликованием оной в Кёнигсберге.
Сир! Достоинство каждого мужчины — это подобающая мужчине смерть.
Бёлендорф. А теперь прощай, мой бесценный. Сейчас я полон разлукой. Если соберешься мне написать, адресуй письма на имя купца Ландауэра в Штутгарте. И напиши мне свой адрес.
Бёлендорф выстрелил в себя из пистолета 10 апреля 1825 года в шесть часов утра. Когда Редлих воскликнул: Бёлендорф, что же ты наделал? — несчастный ответил:
Я не хотел. Я точно знаю, что я люблю, но я не вправе назвать это.
Он скончался в тот же день.
Как ты столь одиноким остался в туманах восточной ночи? Твоя любовь умерла, ты скитаешься спутником грезы вдоль побережья, чибис кружится над брегом пустынным, горе выплакивает свое: Охотник похитил мое дитя…[111]11
Вот уж много лет бродит он по своей комнате из угла в угол. Ночью он часто встает и расхаживает по всему дому, выбирается и на улицу, но рано поутру неизменно возвращается домой.
Как-то раз столяр Циммер передал ему книгу, присланную матушкой. Он взял ее в руки, равнодушно полистал, прочитал на титульном листе имя Бёлендорфа и сказал: Ах, мой милый, как рано он умер. Он был родом из Курляндии. Я познакомился с ним в Хомбурге. Это был мой довольно близкий друг.
12
Нежные души легко разрушимы.
Рост шесть футов, волосы каштановые, лоб высокий, глаза карие, нос прямой, свежий цвет лица, губы тонкие, каштановая бородка, удлиненный овал лица, округлый подбородок, плечи широкие, физических изъянов нет, возраст 32 года.
Настоящим свидетельством высшее представительство герцога Вюртембергского в Нюртингене предписывает всем соответствующим гражданским и военным властям обеспечить беспрепятственный проезд, также и в обратном направлении, предъявителю сего господину магистру Гёльдерлину, родом из Лауфена, имеющему намерение проследовать 29 сентября 1802 года из Нюртингена через Блаубойрен и Ульм в Регенсбург.
В Регенсбург на заседание Высшей имперской комиссии, где Синклер, взявший его с собой, ведет переговоры о статусе ландграфства Гессен-Хомбург — впрочем, без особого успеха.
Временами Гёльдерлин оживлен и общителен, потом вдруг снова замкнут и мрачен, люди, застающие его в таком расположении духа, чуждаются его.
Это всего лишь симптомы, которые не вправе оценивать тот, кто не знает совокупности причин, ввергнувших его в подобное состояние, говорит Синклер.
С немецкими представителями почти не удается обменяться доверительным словом. Французы держатся чопорно или подчеркнуто дипломатично. Все хотят денег, и только денег.
Из числа знакомых со времен Раштаттского конгресса они встречают Хорна[112], теперь он делегат от вольного города Бремена. Хорн по-настоящему образованный, тонко чувствующий человек, он любит слушать отрывки из трагедий Софокла, над переводами которых работает ныне Гёльдерлин.
Люди города родного! Все смотрите: в путь последний ухожу, сиянье солнца вижу я в последний раз…[113]
Весь ход событий в «Антигоне» — это, по сути, нарастающий мятеж, взволнованно говорит Гёльдерлин, весь смысл в том, что, поскольку речь идет о судьбах родины, каждый оказывается затронут неким бесконечным круговоротом событий и, потрясенный, находится словно в замкнутом кругу, в каковом и переживает это бесконечное потрясение. При подобных изменениях даже самые необходимые вещи неизбежно рассматриваются с точки зрения той или иной позиции по отношению к самим происходящим изменениям. Та форма сознания, которая вырастает при этом из трагического, оказывается политической по самой своей сути, точнее, республиканской, ибо… В растерянности он умолкает.
Друзья свободы в Вюртемберге, как, например, асессор Бац, по-прежнему томятся под домашним арестом; элементарнейшие правовые понятия, принципы и нормы попираются. Герцог, который обращался со своими подданными, как с неграми на британском невольничьем рынке, теперь вот заигрывает с французами, и этого деспота увенчали уже титулом курфюрста: человечнее, чем со своею страной, обращается этот Фридрих II с собственной дичью.
Для чего ж — родные боги! — надо мною, неумершей, издеваться! — кричит Антигона. Неоплакана, без близких, не изведавшая брака, ухожу я, злополучная, в предназначенный мне путь.
Я не допускаю мысли, говорит Синклер, что у моего бесценного, любимейшего друга и вправду помрачение сознания; Синклер оказался, пожалуй, единственным, кто не согласился с приговором местных врачей. Я могу с чистой совестью утверждать, что никогда прежде не доводилось мне наблюдать у него такой полноты мыслей и чувств, как в те дни. Впрочем, я верю, что он действительно глубоко страдает, столкнувшись с подобным мнением о себе. Ведь он и в самом деле создание столь тонко чувствующее, что ему не составляет труда прочесть даже самый ужасный приговор в глубинах окружающих сердец. И как же должен задеть его такой приговор.
Из друзей былых времен они ни с кем не видятся. Юнг[114], по слухам, оставил службу в Майнце. Кэмпф вернулся в Эслинген, он теперь санитар при монастырской больнице, и его подтачивает изнутри тихое, но горькое чувство собственного позора.
В Регенсбурге Гёльдерлин встречает ландграфа Людвига Гессен-Хомбургского, тот приглашает его к себе. В этот раз он сближается с ним, как никогда прежде. Недавно ландграф как раз заказал Клопштоку возвышенную духовную оду, в которой откровения библейских текстов должны быть еще раз противопоставлены холодной и рассудочной религии эпохи. Гёльдерлин посвящает ландграфу гимн «Патмос», одно из наиболее странных и бессвязных своих стихотворений, где так мощно бьется пульс мысли и в то же время слова будто замирают на устах; он переписывает его снова и снова.
А если некто, возревновав, Когда я странствую, печальный и беззащитный, Нападет на меня, чтобы раб изумленный Создал образ — подобье бога?[115]Зима, что нас разлучила, пролетит быстро, пишет Синклер Гёльдерлину из Хомбурга в Нюртинген, где тот снова живет в родном доме, среди робких, боязливых женщин, которые не в силах отвлечь его от мрачных мыслей или хотя бы немного развеселить, ни с кем он не поддерживает общения, несмотря на самые настоятельные приглашения; предоставлен самому себе, нередко работа отнимает все его силы, к тому же он мало двигается; стихи, которые он сейчас пишет, названы им «Ночные песни».
Иль тебе не сродни все здесь живущее? Жизнь тебе, как ковер, под ноги стелется.[116]Он пишет то «мужество поэта», то «поэтическое мужество».
Провозглашает: мы, поэты, в чести. С нами любовь людей.
Провозглашает: сердце певца настежь распахнуто всем живым.
Забрасывает оду «Мужество поэта». Пишет оду «Неразумие». Так он называет страх и тоску, пронизывающие временами все его существо, он точно пытается подбодрить себя столь странным способом, отныне в его стихах то и дело появляются «если» и «но», он словно противоречит сам себе.
Мы добры, и судьбой щедро мы взысканы, Небожителей мы радуем песнями, А награда нам — кубок, Нам, чьи пальцы так льнут к струне.[117]Любое соприкосновение с посторонним человеком или предметом тут же начинает слишком сильно занимать меня, и приходится тратить немало усилий, чтоб освободиться от наваждения и устремиться мыслями к чему-то иному. Я получаю от тебя письмо, и оно звучит во мне до тех пор, пока хитростью или усилием воли я не склоню себя к другому предмету; как все швабы, я очень тяжел на подъем.
Так он пишет человеку, которого называет «брат мой милый» и от которого больше не приходит писем.
Ибо в том же самом ноябре человек этот выбрасывается из окна вюрцбургской лечебницы святого Юлиуса; еще живого, его вновь водворяют на больничную койку, но он отказывается от пищи и умирает в том же месяце, семнадцатого числа. Фридрих Эмерих[118], не доживший и до тридцати лет. Архенхольц[119] сообщает об этом в своей «Минерве».
Хотя и очень дружески, но ты упрекнул меня в том, что я не написал тебе до сих пор, брат мой милый, и посему прошу тебя отныне и навсегда не истолковывать мое молчание превратно.
Впервые они встречаются в Майнце, в июньские дни, Гёльдерлин только что приехал из Хомбурга. Их знакомит Юнг, в то время начальник канцелярии при французском муниципальном управлении.
Эмерих, сын адвоката из судебной палаты Вецлара, молодой юрист, который отнюдь не стреляется, подобно несчастному Вертеру, из-за юношеской любви, но уже в девяносто шестом году покидает родину вместе с войсками генерала Журдана, примыкает к республиканцам, выступает в составе инженерного корпуса под командованием генерала Гоша против Второй коалиции, а затем, уже в качестве секретаря при штабе генерала Леваля, прибывает в якобинский Майнц.
Все читают его «Письма из Марселя», говорит Юнг, а еще он пишет стихи; они становятся друзьями.
В самом деле, дорогой мой, ты должен, если, конечно, перед тобой не откроется карьера более значительная, заняться поэзией всерьез, говорит ему Гёльдерлин.
Он даже пытается привнести в одно из стихотворений — из числа тех, что печатает Нейфер в своем «Женском календаре», — чуть больше простоты и гармонии. Гёльдерлин очень близок младшему своему собрату, в его стихах он видит полноту поэтической силы и обилие материала, а еще особое художническое чутье, служащее автору надежным помощником. Но, увы, мелодии его лиры, с одной стороны, недостаточно разнообразны, с другой — недостаточно объединены в одно нерасторжимое целое. В той или иной степени это судьба многих видных поэтов нашего времени. Мне кажется, ты пока не совсем уверен в собственном искусстве, разве нет? Ты обязательно должен заняться поэзией всерьез.
Он посылает ему своего «Гипериона».
Каждый делает свое дело[120], скажешь ты, да и я это говорю. Но человек должен делать свое дело с душой, не заглушать в себе все другие способности; относясь к своему делу взыскательно и с любовью, он должен быть тем, что он есть. Однако же твои немцы в своей деятельности охотно подчиняются требованию насущной необходимости, вот почему среди них так много бездарных кропателей и в их произведениях так мало свободного, истинно радостного.
Я не могу представить себе народ более разобщенный, чем немцы. Ты видишь ремесленников, но не людей; мыслителей, но не людей…
Эмерих, растроганный, отвечает, что его привела в восторг вторая часть «Гипериона». Однако приговор немцам — он так и говорит «приговор» — глубоко его возмутил.
Он же видит, что творится сейчас в Майнце: вопиющая несправедливость и произвол, одна лишь жажда обогащения при полном равнодушии народа, — и все это под трехцветным знаменем республики. Одно это должно отпугивать людей, еще не успевших разобраться в своих правах, сеять в них недоверие. Он хочет взглянуть в глаза самоуверенной судьбе, слагает с себя должность в муниципальном управлении, начинает писать для журналов.
Счастье мое было в том, пробует подбодрить его Гёльдерлин, что я всегда понимал, где я нахожусь, и уже в соответствии с этим отбирал и выстраивал собственный материал. В оправдание могу сказать, что при всей кажущейся опрометчивости мысли, отличающей прежние мои работы, я всегда крайне осмотрительно подходил к делу, и ни я, ни ограниченность новейших наших вкусов не виноваты, что порою я в самом деле впадал в гнев и действовал несколько даже революционно.
Но от Эмериха писем больше не приходит.
Он не хочет удовлетвориться одними только стихами, о безыскусная песнь виноградной лозы, он-то как раз делает свое дело с душой, а не как трусливый скаред, и ответ его неизменно гласит:
Все, что я говорю, правда. Я ничего не боюсь. Ваш несчастный Эмерих.
Начиная с осени 1801 года в издаваемой Коттой «Альгемайне цайтунг», в «Европейских анналах» и, наконец, даже в архенхольцевской «Минерве» появляются статьи неизвестного, посвященные современному состоянию немецко-французских рейнских департаментов, письма, вскрывающие мерзости, творимые мелкими чиновниками вкупе с их высокими покровителями.
Форма правления во французских рейнских землях консульская. Скипетр в настоящее время в руках у Жолливе, нотариуса по образованию, его сердце радостно трепещет всякий раз, как он слышит свое имя в сочетании с титулом государственного советника или генерального комиссара. По сути, он обыкновенный делец, камералист[121] с ограниченным взглядом на мир, с мелочными подозрениями и мелочными средствами.
Вайтцель попросил у него разрешения на выпуск своего журнала. Жолливе на это ответил: По мне, так пишите хоть по роману в день. Но я не допущу, чтоб во вверенных мне четырех департаментах печатался этот ваш листок.
Еще несколько лет назад подобный ответ, полученный из уст немецкого князя, стал бы набатом и поднял на борьбу всех журналистов до единого, пишет Эмерих и добавляет: В наше время уже ни один голос не поднимется столь легко против многочисленных утеснений. Ибо революция оставила после себя множество имен, само упоминание которых оправдывает террор. Одного из них люди и поныне называют сорвиголовой, террористом, заклятым врагом любого правительства. Он как раз собирается, будучи английским наемником, поработать над созданием немецкой республики, дабы тем самым ввергнуть в беспокойство весь континент… В ужасе я откладываю перо.
Едва были опубликованы первые письма Эмериха, как в Майнце начались розыски их автора: вся корреспонденция вскрывалась, подозрительных допрашивали.
Неустрашимый Эмерих между тем смело бичует угнетающие народ высокие таможенные пошлины (ни одна газета не отражает истинных настроений в народе и в правительстве), яркими красками рисует контрабандную торговлю, ведущуюся через Рейн (жаль, что у нас так мало карикатуристов), осуждает высокие налоги, ложащиеся тяжким бременем на плечи народа, и ежедневные распродажи имущества неплатежеспособных: теперь из Пфальца, где республика всегда имела наиболее горячих своих приверженцев, эмигрируют крестьяне.
Архенхольц слегка порицает Эмериха за грубоватую манеру изложения, но не сомневается в правдивости его материалов, французским властям он предлагает выступить с опровержением. Вместо этого на распространение его газеты в рейнских департаментах налагается запрет.
Эмериха, давно уже ходившего под подозрением, арестовывают, его бумаги опечатывают; Юнг, один из комиссаров полиции в Майнце, ничем не может помочь другу, ему остается разве что подать в отставку.
До следствия дело, однако, не доходит. Французский министр полиции Фуше покрывает своих подчиненных и, недолго думая, приказывает депортировать этого причиняющего столько беспокойства журналиста через Рейнский мост в Кастель: он, дескать, британский агент.
Вы только представьте себе положение человека, говорит Архенхольц, который всю жизнь истово преклонялся перед первым консулом Бонапартом, и вот теперь, не выслушав и не определив степень вины, его попросту выдворяют из нового отечества.
Но тот, кто в оковах, лишь очищается гневом…
Бушующего Эмериха тут же сажают под замок, а он неистовствует, как душевнобольной. Они готовы расстрелять меня по законам военного времени, кричит он.
Выпущенный на свободу, он в панике бежит к Рейнскому мосту, и, стоит кому-нибудь из прохожих задержать на нем взгляд, ему уже кажется, будто за ним следят. Его отвозят в Вецлар к отцу, затем в лечебницу в Вюрцбург. Он умирает мучеником правды, так и не дожив до золотого века, который сам же предрекал.
Ах, больная природа. Она у края могилы! И дриада, к стволу прислонившись, рыдает; ветер северный нынче взмахнул крылами резко и мрачно.Гёльдерлин, одиноко живущий в Нюртингене, не желает никого видеть и слышать. До тех пор пока мне не будет становиться легче на душе при выказывании интереса к судьбе друзей моих и ко всему, что меня трогает, до тех пор буду я пребывать наедине с собой и — возможно, из естественного жизненного инстинкта — принимать отсутствующий вид. Ты не поверишь, сколь я мучаюсь от этого, и уже давно.
Так он писал Эмериху.
Быть может, ты работаешь все дни напролет, прихватывая даже часть ночи, и потому не подаешь о себе никаких вестей, даже не приехал ни разу, жалуется из Штутгарта Ландауэр.
Шеллинг, видевший Гёльдерлина летом 1803 года, потрясен его видом, считает, что он окончательно повредился в рассудке и на родине уже нет надежды вновь поправить его здоровье; в Иене он предлагает Гегелю вместе позаботиться о поэте.
Однако Гёльдерлин — он целыми днями бродит по окрестным полям и нередко является домой в совершенном изнеможении — почти утратил былую горячность, он больше не отвечает на письма, живет лишь своими переводами Софокла, пишет длинные стихотворения и утверждает, что любовная лирика — это в конечном итоге всего лишь усталое паренье над землей; совсем другое дело — высокое и чистое ликованье «Гимнов отечеству», он набрасывает строчки одну за другой, вписывает между ними новые, дабы пребывала земля в доброй гармонии с небесами и лучи света, являющегося особым проявлением этой гармонии, не падали бы на землю косо или же обманчиво-изыканно. Многое ведь зависит от угла видимости внутри самого произведения, а еще от того внешнего квадрата, в котором произведение это помещается.
Один из его гимнов начинается так:
Мы только знак, но невнятен смысл, Боли в нас нет, мы в изгнанье едва ль Родной язык не забыли.[122]13
Это ему еще дано — умение написать одну фразу, скажем тему будущего стиха, ясное и грамматически правильное предложение. Вот только когда приходится вести эту тему дальше, разрабатывать ее, развивать, вновь и вновь по-разному истолковывать найденную мысль — вот тогда вместо одной нити вдруг оказывается несколько, они спутываются в клубок, и концы их теряются, словно в гигантской паутине.
При встречах его с людьми часто обнажаются вдруг разнообразнейшие причины, делающие его для них недоступным и непонятным. Он злится сам на себя за то, что смущается, не может собраться с мыслями, не понимает, что ему говорят, ибо в тот момент не слушает, и в конце концов отделывается от собеседника какой-нибудь явной бессмыслицей. Однако в голове у него, как и прежде, множество возвышенных идей, и ему удалось сохранить свое особое поэтическое чутье, чувство того, что допустимо и недопустимо в стихе, ощущение самобытности. Он изъясняется темно и в высшей степени замысловато.
Блажен, кто жизнью брошен и оставлен, Кто понял безотрадной жизни хмурь. Он от таких опасностей избавлен, Как тот, кто избежал жестоких бурь.[123]Его физическое здоровье подорвано настолько, что следовало бы целиком заменить ему нервную систему, чтобы освободить дух от сковывающих его цепей.
Ему доставили необычайную радость, поставив в его комнату небольшой диванчик. Теперь он с детским восторгом сообщает об этом всем и каждому:
Взгляните-ка, милостивый государь, теперь у меня есть диван.
Летом его часто терзает непонятная тревога, так что он бродит ночами по дому.
Однажды, когда кто-то из посетителей сообщил ему, что уезжает, и в шутку пригласил составить себе компанию, он улыбнулся так любезно, как это способен сделать лишь вполне разумный человек, и ответил:
Я в настоящее время вынужден оставаться дома и не могу больше путешествовать, милостивый государь.
Когда его зовут в трактир по соседству, где хозяин торгует молодым вином, он пьет, как подобает мужчине. Еще он любит пиво и способен выпить его намного больше, чем можно предположить, в этом он находит даже известное удовольствие.
Но самую большую радость доставляет ему маленький садовый домик у вершины Эстерберга, откуда открывается прекрасный вид на город, ползущий вверх по склону Шлосберга, на излучину Неккара, мирные зеленые долины, веселые деревеньки и гряду Швабского Альба вдалеке.
На это место его непременно приводят раз в неделю. Поднявшись к себе наверх, он всякий раз склоняется на пороге в вежливом поклоне, благодаря нас за расположенность к нему и долготерпение.
А вот что доставляет ему много забот, так это пантеистический символ «единое и все», начертанный у него на стене размашистыми греческими буквами: ϲ/Eν ϰαί πãν.
Глядя на этот таинственный, многозначительный знак, он подолгу разговаривает сам с собой, однажды он произносит:
Я стал нынче ортодоксом, Ваше святейшество. Нет. Нет. В настоящее время я изучаю третий том произведений господина Канта, много занимаюсь новейшей философией.
Его спрашивают, помнит ли он Шеллинга. Он отвечает:
Да, он учился в одно время со мной.
Он часто вспоминает Матиссона, Шиллера, Лафатера, Гейнзе и многих других. Гёте — нет.
В садовом домике на вершине он всякий раз первым делом открывает окошко, садится возле него и начинает довольно вразумительно хвалить открывающийся перед ним пейзаж. Он вообще чувствует себя лучше на свежем воздухе.
Его снабжают нюхательной смесью и курительным табаком, доставляющими ему огромное наслаждение. А если ему еще и трубочку набьют и поднесут огонь, он тотчас принимается хвалить табак и вообще делается совершенно довольным, оставляет всякие разговоры и ведет себя очень смирно.
Таким он всех наиболее устраивает.
14
Теперь я наслаждаюсь весной.
Живу в домике с садом на склоне горы, что нависает над городом, отсюда хорошо видна прекрасная долина Заале. Чуть похоже на берега нашего Неккара близ Тюбингена, только здесь в горах больше величия и таинственности.
Я почти не общаюсь с людьми.
Гёльдерлин надеется хоть одно лето прожить независимо и в полном покое. За первый том моего романа Котта уплатил мне в Тюбингене 100 гульденов. Шиллер для своего альманаха предложил мне перевести стансами Овидиев «Фаэтон», в такую работу не вкладываешь столько души, сколько в собственные сочинения. Еще Шиллер интересовался, не подготовлю ли я что-нибудь для его журнала «Оры», четыре печатных листа дали бы мне возможность спокойно существовать в течение полугода.
К концу зимы я сделался совсем болен, в холода приходилось хорошо укутываться, чтобы не расходовать много дров; милая матушка — я готов сделать все, чтобы только не быть ей в тягость, и потому живу нынче весьма скромно, ем всего раз в день, тоскую за кружкой пива по прекрасному нашему неккарскому вину, по тем часам, когда оно казалось столь прекрасным. Я вступил теперь в период, который, быть может, окажется решающим для всей моей последующей жизни. Для нас настали безоблачные дни.
Гёльдерлин отказался от мучительной для него должности воспитателя у госпожи фон Кальб, он живет теперь в домике с садом на склоне горы, прямо над Иеной, к нему приезжает Синклер, он видит в нем пример для себя, образец искрящейся любезности, называет его сердечным другом.
У меня свои причины радоваться тому, что я здесь. Должен ведь я когда-то начать выбираться понемногу из сумерек и полузабытья, должен однажды разбудить — бережно, но решительно — мои уже наполовину умершие силы, с тем чтобы образовать их и развить, если не хочу я в итоге найти прибежище в унылом разочаровании, когда приходится утешать себя разве тем, что есть на свете и другие столь же незрелые и беспомощные, как ты, — они предоставляют все естественному ходу событий и лишь влекутся по течению к новым падениям и взлетам правды и справедливости, к расцвету или, напротив, увяданию искусства, к жизни и смерти; тогда человек лишь бесстрастно наблюдает происходящее из своего угла, и, если ему вдруг становится невмоготу, он противопоставляет ожиданиям, которые возлагает на него грядущее человечество, свои несуществующие добродетели. Уж лучше смерть, чем такое состояние.
Фихте стал нынче душой Иены.
Каждый день слушает он его лекции. Поначалу я весьма подозревал его в почти догматической трактовке абсолютного «я», включающего в себя любую реальность, впрочем, и у него сознание без объекта немыслимо.
Есть в человеке исконное стремление к бесконечному, которое прямо-таки безудержно влечет его вперед, не позволяя топтаться на месте. Некоторые ограничения, впрочем, необходимы существу, обладающему разумом, в противном случае стремление к бесконечности стало бы абсолютом и, кроме него, ничего бы уже не было, не было бы сознания как такового. Понятно ли я изъясняюсь?
Шиллер воистину по-отечески принимает во мне участие, однажды он сказал: Нужно попытаться устроить так, чтобы Вы по возможности меньше обременяли свою семью.
Тот самый Шиллер, что рекомендует гёльдерлиновского «Гипериона» издателю Котте; он говорит, что ожидает в будущем от Гёльдерлина многого, ибо тот трудолюбив и таланта ему достанет, чтоб сказать однажды в литературе свое подлинное, весомое слово.
А что, если следующей осенью, коли буду еще здесь, попробовать сдать экзамен? Это единственное условие, выполнение которого даст мне возможность читать лекции в университете. Я открываю теперь, что можно быть чрезвычайно счастливым и в обстоятельствах весьма скромных, да ведь и живем мы не для того, чтобы блистать, — мы живем, чтобы приносить окружающим благо. Дорогой мой, всем бедам мира не удастся свернуть нас с пути, предначертанного нашей природой. Если б мы только могли навсегда остаться молодыми, Нейфер, брат мой любимый, и ты еще спрашиваешь моего мнения на сей счет. Девушки здесь совершенно меня не трогают. В Вальтерсхаузене, в доме госпожи фон Кальб, у меня была подруга, молодая вдова из Дрездена, теперь она служит гувернанткой в Майнингене, это на редкость отзывчивая женщина, добрая и твердых правил.
Речь идет о Марианне Кирмс[124]. В июле того же 1795 года у нее родится дочь, отца она назвать отказывается, через год ребенок умирает. О дальнейшей судьбе этой женщины ничего не известно.
Дама редчайшего ума и сердца, хорошо говорит по-французски и по-английски, недавно она попросила у меня почитать последнюю книгу Канта. Кстати, у нее очень интересная внешность. Странно, но я, наверное, никогда не смогу полюбить, кроме как в мечтах.
До сих пор ведь именно так и было, разве нет?
Нейфер, дорогой, твоя чудесная, добрая девушка, как же это! Я до сих пор не могу осознать ее смерть. Я бреду по миру на ощупь, словно впотьмах, и при этом я должен еще пролить в душу страждущего брата моего свет, способный рассеять мрак. Оба мы ныне влачимся по жизни нищие, у нас ничего нет, кроме нас самих, кроме мира иного, лучшего, в нас и над нами.
Я скоро приеду.
Живу в домике с садом.
Чуть похоже на берега нашего Неккара близ Тюбингена. Прекрасные часы. Если б мы только могли навсегда остаться молодыми. Рейнское было в изобилии. Они пели песни.
Шиллерово «К радости» они приберегли для пунша. Нейфер уже задремал, когда Магенау вошел наконец с дымящейся чашей. Гёльдерлин стоит в углу и курит. Вот-вот должна грянуть песня, но Гёльдерлин требует, чтоб сначала они очистились от грехов у Кастальского источника — так он называет родник в излучине Неккара. Они проходят через сад, омывают в источнике лицо и руки, Нейфер прямо священнодействует, а Гёльдерлин говорит: Песнь Шиллера не смеет исполнять тот, кто не чист душой и телом! Все, что дышит, Радость пьет![125] Из окна он вздымает руку с бокалом к небу и провозглашает: Чару эту — за добрых духов! Да так громогласно, что вся долина Неккара отдается эхом.
Тюбинген равнодушен к поэтическим напевам, нередко искусство становилось здесь посмешищем. Лишь великое и благородное упорство способно проложить себе путь через осиный рой человеческой глупости. По четвергам, раз в неделю, за кружкой пива или бокалом вина собираются друзья — Магенау, Гёльдерлин, Нейфер, каждый обязан прочесть по стиху, сложенному на досуге; в погожие дни они встречаются в саду у овечьего загона, хозяин живет тут же, в небольшом аккуратном домике у подножия Эстерберга, отсюда прекрасный вид на город, расположившийся на склонах Шлосберга.
Наше сердце не возвысилось бы до любви к человечеству в целом, не будь отдельных людей, которых оно могло бы любить. Как часто говорили мы друг другу, что наш союз — это союз на все времена!
Это было вечерами, когда мы собирались для задушевных бесед на одном из прохладных, мхом поросших холмов Ванкенхаймской долины, а вокруг нас порхал неистощимый на песни народец соседнего перелеска или же когда мы в лунном сиянии бросались в зеркальные воды Неккара.
Кто измерит радость, что их окрыляла?
То здесь, то там в загоне раздаются тяжелые шаги поэта Хольца, его Пегас хромает: трудно очень зарифмовать громоздкое «проклятье»…
В «загоне», большом спальном покое на пятом этаже августинского монастыря в Тюбингене, обитает монастырский воспитанник Гёльдерлин, друзья называют его Хольцем, он живет в одной комнате с Гегелем и Шеллингом.
Сначала он серьезно и основательно продумывает материал будущих стихов и лишь потом берется за перо. Фантазия его не лишена огня, только очень уж буйная. Едва какая-нибудь мысль завладевает им, его тут же начинает кидать то в жар, то в холод.
Кто ты? Вся беспредельность мира Вокруг тебя добычею лежит.[126]Дорогой Гегель, стихотворение «Гений отваги», которое ты, быть может, еще припоминаешь, я переработал и вместе с некоторыми другими стихами отдал в «Талию», Шиллер отнесся ко мне с большим участием.
Вспоминал ли ты меня с тех пор, как мы — провозгласив своим девизом «Царство Божие!»— расстались? И сохранился ли наш знак ϲ/Eν ϰαί πãν у тебя в альбоме?
Снять покров с бытия в его целостности, объяснить то, что невозможно объяснить, — неделимое, данное в ощущениях самых непосредственных, элементарное.
Философские тетради Фихте[127] — он стал нынче душой Иены — тебя непременно заинтересуют. Прекрасно и очень важно, что ты занялся сейчас религиозными понятиями. Мне кажется, что понятие провидения у тебя вполне согласуется с кантовской телеологией; его соотнесение внутренних механизмов природы (а следовательно, и человеческой судьбы) с высшей целесообразностью представляется мне необходимо вытекающим из общего духа его системы.
Кант и древние греки вновь составляют единственное мое чтение. Человек должен всегда поступать так, чтобы убеждения, согласно которым он действует, могли бы считаться всеобщим законом.
Я почти не общаюсь с людьми.
Мы должны время от времени напоминать себе, что нам даны большие права друг на друга. Ты так часто был моим добрым гением.
В тюбингенскую обитель философию господина Канта допускают с явным неудовольствием. От всего этого лишь голова идет кругом, кафедра сотрясается от таких понятий, как время, пространство и тому подобные немыслимые вещи. Но Гёльдерлин и Гегель уже бродят в райских кущах духа, освобождающегося от суеверий и пустых фантазий, в проповедях своих они поднимают нравственные проблемы в соответствии с кантовскими принципами, у них слава одержимых бесом.
Герцог Карл Евгений[128] прибывает в Тюбинген собственной высочайшей персоной лишь затем, чтобы сделать стипендиатам строжайшее внушение. Одного из них, пришедшего на беседу неаккуратно причесанным, он тотчас же отсылает к парикмахеру. Двое стипендиатов вообще не явились на высочайший смотр, заперлись в своей каморке. Герцог ударом ноги вышибает дверь, застает обоих юных господ за курением, вырывает у них из рук трубки, швыряет в бешенстве за окно, туда, где им быть надлежит. Эти двое молодых людей приехали из французского графства Мёмпельгард, они первыми занесли в обитель дух революции.
Шеллингу, который, по слухам, перевел «Марсельезу», герцог тычет листком под нос: Тут во Франции сочинили одну гнусную песенку, интересно, вы ее знаете? И Шеллинг отвечает: Ваша светлость, все мы много согрешаем[129].
Мы должны служить примером отечеству и миру, говорит Гёльдерлин, мы должны доказать, что нами нельзя играть по собственному произволу.
Когда под бурею священной, Мой дух, тюрьма твоя падет — В безвестный мир, в простор вселенной Направь свободный свой полет.[130]До чего же богатый материал для дерзких, вершащих судьбы мира поэтических произведений дает дух времени! Эти слова принадлежат Штейдлину[131], он первым печатает стихи Гёльдерлина в своем «Альманахе муз», считает его гимны весьма многообещающими, рекомендует своего друга Шиллеру на место воспитателя в доме госпожи фон Кальб, за чистоту его сердца и помыслов он ручается; это поистине замечательный человек, говорит Гёльдерлин о Готхольде Фридрихе Штейдлине, которого очень скоро уже высылают из страны, и, не находя больше средств к существованию, он в 1796 году, в совершеннейшем отчаянии, бросается в Рейн — тот самый Штейдлин, восторженный поклонник французской свободы, позволявший себе еще во времена, когда в Германии необходима была чрезвычайная осторожность, такие выпады и сердечные излияния, которые, даже пройдя свирепую цензуру, все равно казались в высшей степени странными. Злоупотребление княжеской властью станет со временем еще более жестоким, говорит Гёльдерлин. Поверь мне и молись за французов, отстаивающих права человека.
У Гегеля слава закоренелого якобинца, Гёльдерлин тоже им симпатизирует, и симпатии его растут по мере того, как все более ограничивается свободное развитие воспитанников в рамках института. В один из воскресных дней — это было прекрасное весеннее утро — вместе с друзьями выбираются они на большой луг за городской чертой и водружают там «древо свободы».
Мы не из тех, кого можно вот так просто лишить необходимых прав, мы ведь не проповедуем произвол и насилие, не совершаем ничего противозаконного, говорит он. И вовсе не исключено, что скоро и у нас произойдут некоторые перемены.
Так прочь! Тиранам — нет пощады, Вечная месть палачам отчизны.[132]Гегель, брат мой милый, я убежден, время от времени ты вспоминаешь меня, вспоминаешь тот незабываемый вечер, когда я читал стихи и Матиссон заключил меня в объятия за моего «Гения отваги»; быть может, ты сохранил в памяти его строки?
Да, сила юная героя Вступала и с природою в борьбу.[133]Гегель первым из друзей покидает тюбингенскую обитель, он получает место домашнего учителя, годами не видится с Гёльдерлином, который пишет ему из Иены, слушает Фихте и все больше углубляется в космополитические идеи. Разум и свобода остаются нашим девизом, а пунктом, в котором все мы едины, — невидимая церковь. Царство Божие грядет, и в ожидании его мы не должны сидеть сложа руки.
Никогда отныне не кинем мы на народ презрительного взгляда, никогда более не затрепещет он слепо пред мудрецами своими и проповедниками. Никакие силы не будут подавляться, и всеобщая свобода и равенство духа воцарятся в мире. Единичное и всеобщее. Совершенствование рода человеческого — вот цель, которой мы в земном нашем бытии, возможно, так и не достигнем в полной мере, но это та цель, которой безусловно достигнут наши потомки.
Из Тюбингена Гёльдерлин внимательно следит за событиями в Париже. Судьба Франции на волоске, именно в этот час решается, погибнет ли она или, напротив, станет великой державой. Он говорит: Я с восторгом приемлю род человеческий грядущих столетий. Когда-нибудь наступит век свободы, и под ее святыми, теплыми лучами расцветут великие человеческие достоинства, расцветут много пышнее, нежели в ледяных пространствах деспотизма. Мы живем в такое время, когда все стремится к будущим лучшим дням.
Ушла Аркадия в былое И ныне жизни лучший плод Лишь та, кем рождены герои, — Необходимость создает.[134]Я все время надеюсь на тот благостный час, когда я вдруг вновь смогу выразить целиком и себя, и все те маленькие сопутствующие судьбы, что постоянно поддерживают меня в движении.
Теперь я наслаждаюсь весной.
Близость истинно великих душ то повергает меня во прах, то вновь возносит под небеса.
Гердер в Веймаре также принял меня весьма сердечно, пожал мне руку, однако довольно скоро превратился в человека великосветского и говорил по большей части иносказаниями. У Шиллера в первый раз удача мне сопутствовала не слишком. Я вошел, был дружески встречен и почти не обратил внимания на незнакомца в глубине комнаты, к тому же он никак не проявил себя в течение всего разговора — ни звуком, ни каким-нибудь особым выражением лица. Шиллер представил меня ему, потом назвал его имя, которое я, однако, не расслышал. Равнодушно, едва взглянув на него, я протянул руку, все мои помыслы, как высказанные, так и оставшиеся в душе, были всецело обращены к Шиллеру.
Незнакомец довольно долго молчал.
Шиллер принес «Талию», где был напечатан фрагмент из моего «Гипериона» и стихотворение «Судьба».
Потом он исчез на мгновение, а незнакомец взял со стола журнал, полистал, сидя рядом со мною, страницы с напечатанным фрагментом, но не произнес ни слова.
Я почувствовал, что заливаюсь краской.
Потом он обратился ко мне с вопросом, как себя чувствует госпожа фон Кальб. Я отвечал крайне односложно, что мне вообще-то не свойственно. Но это был мой недобрый час. Шиллер вернулся, мы поговорили о веймарском театре, незнакомец тоже обронил несколько слов, достаточно основательных для того, чтобы посеять во мне кое-какие догадки. Но я по-прежнему ничего не подозревал.
Появился еще Мейер, художник из Веймара. Незнакомец побеседовал с ним о разных вещах. И вновь я ничего не понял. Затем я откланялся. В тот же день я узнал, как ты думаешь, что?
Что в то утро у Шиллера был Гёте.
Он его не узнал.
Позднее Гёльдерлин еще раз увидит Гёте в Веймаре, скажет, как много человечности при таком величии, но так и не сблизится с ним.
Еще раз, смущаясь до крайности, он представится ему во Франкфурте, где тайный советник благосклонно примет его, но так и не вспомнит по-настоящему. При этом он отметит его подавленный, болезненный вид, впрочем, также и благовоспитанность вкупе с подобающей скромностью, скорее даже застенчивостью; в одном из писем к Шиллеру Гёте назовет его Гёльтерляйном. Посоветуй этому Гёльтерляйну писать небольшие стихи, избирая для каждого из них предмет, интересный в общечеловеческом плане. Умный советчик.
Сгубить хотите мстителей в неволе? Уму, рожденному повелевать, Велите вы смириться с рабской долей…[135]А мы с упорством выдержим все, не так ли, Нейфер, дорогой? Когда-то мы ощущали себя этакими молодыми рысаками и, отправляясь вместе в дальний путь, воистину летели или по крайней мере воображали, что летим, теперь же нам частенько потребны шпоры и кнут. Все дело в том, что слишком часто кормили нас пустой соломой.
К Шиллеру я по-прежнему иногда заглядываю. А вообще я почти не общаюсь с людьми.
Он называет его досточтимейшим, величает господином надворным советником, говорит об искренней своей привязанности, которая до сих пор не оставила его, не оставила и в более поздние годы, хотя столь часто пытался он противиться ей, грозившей перерасти в страсть, но тщетно.
У меня достаточно мужества и способности к собственному суждению, чтоб сделать меня независимым от любых критиков и мастеров. Я пытаюсь забыть Вас, благороднейший человек, дабы не опасаться ничего в собственном творчестве. Ибо я убежден, что подобные опасения и страх для искусства гибельны, и более всего в тот момент, когда тебе кажется, что мастерски сделанная вещь уже совсем близко, меньше — когда художник остается один на один с живым окружающим миром. Неужели Вы изменили обо мне свое мнение?
Пока я стоял перед Вами, сердце мое казалось слишком тесным, чтоб вместить обуревавшие меня чувства, а уходя, я был уже не в состоянии держать его в узде. Я пред Вами словно цветок, который наконец-то посадили в подходящую для него почву. В полдень его обязательно нужно чем-нибудь прикрывать. Вы можете надо мной посмеяться, но я говорю правду.
Он посылает Шиллеру свои стихи.
Вы сами мертвецы! Так хороните Вы мертвецов и лейте яд и мед. Во мне же по сердечному наитью Природа вечно юная живет.[136]Шиллер — он называет Гёльдерлина милым другом — советует ему по возможности избегать философского материала, ближе держаться мира чувственного, только так возможно не потерять за восторженностью трезвости суждения.
Вот почему я рекомендую Вам мудрую бережливость в обращении со словом, тщательный отбор наиболее важного и значительного, а затем ясное, прозрачное изложение такового. Старайтесь придерживаться наиболее прекрасных образцов.
Он делает немало исправлений в гёльдерлиновском стихотворении «Умным советчикам», заменяет «мстителей» на «мечтателей», кое-что вычеркивает, смягчает, убивает коротким, разумным советом и лишь немногие стихи Гёльдерлина допускает в свой альманах.
Гёльдерлин говорит: Все-таки мы станем тем, чем должны стать. Подлинный поэт никогда не покинет сам себя, он может лишь подняться над собой — насколько захочет. В высоту тоже можно падать, как и в бездну.
Чувство — это и есть, по сути, разум художника, конечно, если оно подлинное и страстное, ясное и сильное. Оно есть и узда, и шпоры духа.
А мне — мне не советуйте смиреньем снискать лакеев ваших похвалу.
Я живу теперь в домике с садом, над городом, над рекой. Существует ли на земле некая всеобщая мера? Я полагаю, что нет. Хотел бы я быть кометой? Думаю, что да. Ибо они летят с быстротою птиц, расцветают огнем и чисты, словно дети.
Недовольство самим собой и тем, что меня окружает, загнало меня в дебри абстракции. Сейчас пытаюсь разобраться в идее бесконечного прогресса в философии. Тем самым поэзия словно обретает новое, еще более высокое достоинство, в итоге она становится тем, чем была изначально, — наставницей человечества.
Я провозглашаю это. И я это пишу.
Где? Где вы все?
Будь счастлив, Нейфер, брат, и терпеливо сноси великую боль, что всегда сопутствует великой радости.
Досточтимейший Шиллер, меня всегда преследовало искушение повидать Вас, и я поддавался ему для того лишь, чтобы вновь почувствовать, что я для Вас ничто и вряд ли смогу когда-нибудь это изменить. Вы в самом деле уверены, что я недостоин Вашей близости? Любезнейший Гегель, всякое блаженное единение, бытие в подлинном смысле этого слова для нас потеряно: мы должны были потерять этот дар, ибо всякий раз устремлялись к нему помыслами и готовились завоевать. Мы освобождаемся от мирного ϲ/Eν ϰαί πãν, от единства отдельного и всеобщего, дабы вновь восстановить его, на этот раз собственными усилиями. Мы больше не составляем единства с природой, и то, что некогда, как можно предположить, было целостным, пребывает ныне в противоречивом соотношении частей, причем каждая из них поочередно занимает то господствующее, то подчиненное положение. Нам часто кажется, будто мир — это все, мы же сами — ничто, однако часто бывает и наоборот, словно мы — это все, мир же вокруг — ничто.
Положить конец данному спору нашего «я» с миром, заключить вечный мир всех наших чувств, мир, что превыше всякого здравого смысла, объединить человечество с природой в единое бесконечное целое — вот главная цель всех наших усилий, хотим мы это признавать или нет.
Всего несколько недель весны 1795 года живет Гёльдерлин в домике с садом на склоне горы, возвышающейся над Иеной. Заводит дружбу с Синклером. Слушает лекции Фихте. Наносит визиты Шиллеру, отправляется пешком в Веймар. Он пишет письма Нейферу в Штутгарт и Гегелю в Швейцарию. В доме профессора Нитхаммера он встречается с Фридрихом фон Харденбергом, которому еще предстоит войти в историю литературы под именем Новалиса. Они беседуют о религии и священных откровениях, сходятся на том, что для философов здесь остается покуда много неясного.
В начале лета Гёльдерлин неожиданно отправляется в родные края, решительно и навсегда расстается он с Шиллером — не без ущерба для собственной души, конечно. Больше в Иену он не возвращается.
Годом позже он напоминает Шиллеру о себе, посылает стихотворение «Умным советчикам», которое тот редактирует, но не публикует.
Там есть такие строки:
Безумцев окрестив ареопагом, Вы гений предали суду молвы, Глумитесь дерзко вы над высшим благом, А из червей — господ творите вы.[137]15
Глубочайшая пропасть пролегла между ним и остальным человечеством.
Он решительно сделал этот последний шаг, ничто больше не привязывает его к людям, кроме разве воспоминаний, привычек, естественных потребностей и неистребимого инстинкта.
Однажды он до крайности испугался, увидев у раскрытого окна ребенка, который каждую минуту грозил сорваться вниз. Он кинулся к окну и подхватил дитя.
Детей он любит безмерно. Однако они боятся его и убегают прочь.
Эта человеческая участливость осталась в нем от былых времен, от некогда столь раскрытого людям горячего сердца. Но никаких иных порывов нет и в помине. Его ничуть не тронуло бы известие о том, что, скажем, греческий род истреблен весь, до последнего колена, — он вообще не стал бы вникать в подобное сообщение, даже не задумался бы: все это слишком далеко от него. Он решительно не в состоянии больше думать о других.
Музыка еще не совсем его покинула.
Раз ему сказали, что вечером состоится концерт, мы уж давно подумывали, как доставить ему такое удовольствие. Правда, решиться на это было трудно: и музыка могла подействовать на него чересчур сильно, да и дурно воспитанных людей следовало опасаться.
Как бы там ни было, мы вместе выходим из дома. Он углублен в себя, за всю дорогу не произносит ни звука. И только уже в городе, словно пробудившись ото сна, говорит: Концерт.
Несомненно, он все время думал об этом.
До сих пор он играет на фортепиано, однако в высшей степени странно.
Обратившись к этому занятию, он способен просидеть за фортепиано целый день, снова и снова воспроизводя одну и ту же мелодию, по-детски незамысловатую, он способен повторять ее сотни раз, без изменений, так что окружающим становится невмоготу. Прибавьте сюда еще конвульсивные вздрагивания, вынуждающие его время от времени с быстротой молнии пробегать пальцами по всем октавам, да неприятный стук по клавишам его длинных ногтей.
Если он играет достаточно долго, то мало-помалу впадает в какое-то особо размягченное душевное состояние, глаза его опускаются долу, голова тянется вверх — он словно тает в экстазе и начинает петь.
На каком языке он поет, разобрать невозможно, сколько ни слушай. Меланхолия и печаль — вот самая сущность этого пения. Похоже, некогда у него был приятный тенор.
16
Вы, наверное, посмеетесь надо мной, но мне хотелось бы еще раз от сердца поблагодарить Вас за прекрасные часы, полные музыки. Ее благостные звуки покоятся ныне в глубинах души, они еще оживут, и не раз, когда мир воцарится во мне и в том, что меня окружает.
Счастливый Штутгарт. Ты ведь, я знаю, всегда любил мелодию флейты, радость всегда ты готов в сердце поэта вселить.
Друг мой! Скорее, на волю!
От берега Неккара мимо виноградников и фруктовых садов они поднимаются на вершину холма, где находится принадлежащая Ландауэру давильня, чтобы там под высокие речи вином окропить эту землю, славно отведав даров щедрого здешнего края. Они ведут долгие беседы. С ними Шефауэр, скульптор, да любезнейший Хауг, секретарь при дворе, он с удовольствием читает вслух эпиграммы собственного сочинения; сейчас он занят экспромтом, это гимн во славу пирующей компании:
Пусть молчат, кто воду пьет,— Нет в ней совершенства! Вакх один нам принесет Полное блаженство…[138]Все смеются, дружно сдвигают чарки, подпевают сочинителю, потом пьют здоровье Губера, издателя популярного календаря для женщин, славят солнце и вино.
На душе у Гёльдерлина легко и ясно.
В доме купца Кристиана Ландауэра он нашел жилье и самый дружеский прием, давние друзья отнеслись к нему столь доброжелательно, что у него даже появилась надежда продолжить без помех свои дневные труды; тяжелый, отмеченный болезнью год остался позади. Он вновь пишет стихи: в твоих долинах, Неккар, под плеск волны проснулось к жизни сердце в груди моей — это из его оды к Неккару; я бы хотел всегда сыном зваться твоим, песню тебе сложить — ода Гейдельбергу, городу на неккарских берегах.
Друзья, правда, опасаются за него: ведь после возвращения из Хомбурга от него осталась только тень. Он легко раздражается — достаточно случайного, вполне безобидного слова, чтобы он тотчас покинул общество. Тогда умолкают и остальные, молча поднимают они бокал за друзей, что до сих пор томятся на горе Хоэнасперг и не могут ответить на их приветствие.
Гёльдерлин говорит: у вас я впервые познал истинный покой, тот, что проникает до самых глубин души, и его уже нельзя спутать ни с чем другим. Тогда держишься за жизнь увереннее и крепче, особенно в кругу тех, кто тебе дорог.
Минула грозная сушь, и счастье опять улыбнулось, испепеляющий свет больше растенья не жжет…
Он называет Ландауэра своим верным другом; предусмотрительно направляет прошение на имя герцога Вюртембергского, чтобы иметь возможность остаться воспитателем в доме торговца сукном: это позволило бы ему не обращаться в консисторию. Он наконец-то доволен жизнью — как давно он не испытывал этого чувства! — говорит, что праздные свои часы проводит ежедневно в отменно доброжелательном обществе, что самый главный его труд продвигается теперь, как ему кажется, намного быстрее. И найдено слово, и сердце взмывает к вершинам…
…Сбудься, живой душой Преисполненный мир! Стань, о язык любви, Всенародным глаголом И законы даруй земле![139]Он пишет. Через радость ты должен постигать чистоту мира в целом, людей и все другие существа, должен раскрывать одно за другим все отношения внутри этого мира, пока вновь непосредственное, живое созерцание не проступит объективно во всех твоих размышлениях, вырастая из радости, упреждающей печаль; познание же, в основе которого только печаль, всегда оказывается односторонним и искаженным.
Наберитесь нынче терпения ко мне, милая матушка! Упорства, доброй воли и подобающей умеренности в собственных потребностях мне теперь не занимать. Но не смогли бы Вы в ближайшее время помочь мне немного деньгами, дабы я смог наконец стать на ноги?
И поскольку мне очень хочется доставлять всем окружающим, и в особенности моим близким, одну только радость, меня не может не огорчать то обстоятельство, что я по сей день вынужден больше брать, нежели отдавать.
Теперь я продвигаюсь в работе своей чуть медленнее, пишет он сестре, с которой более откровенен, чем с другими, нередко я провожу долгие прекрасные часы в ленивых размышлениях, и тогда мне не следует прерывать себя чаще, чем того требуют обстоятельства. Подобные размышления придают мне силы. Он пишет большую элегию о Штутгарте, которую посвящает далекому Шмиду.
Воздух звенит ликованьем, а город и шумные рощи…
Они выбираются на простор, за городские ворота, туда, где стол уже приготовил гостям мудрейший хозяин, стол для освящения дома; Гёльдерлин рад вновь подтянуть друзьям:
Мы, как могли, свое сделали дело.
Он завершает элегию «Скиталец» и оду «Жизненный путь», дабы не упустить времени, которое уже на исходе; вместо низких речей слагаю я гимн, человек — в мире высшая ценность, гимн Матери-Земле.
Я в самом деле жил! И если это не гордыня и не самообольщение, то я, наверное, вправе утверждать, что на всех отрезках жизни моей я постепенно, исподволь, благодаря испытаниям, выпадавшим мне на долю, становился тверже и сильнее.
Он живет — словно воскрешая мысли и чувства тех дней — большим стихотворением о Греции, мысленно бродит он по островам Делос, Крит и Саламин, по Калаврии, некогда здесь обитал бог Солнца — но что это я вспомнил об этом? — главное, год подходит к своему концу!
Дух мой, словно пловец… …пускай постигает Вечный закон изменений; когда кровожадное время, Смертную жизнь потрясая глухим равнодушием смертных, Слишком жестоко теснить меня будет нуждой и безумьем, Дай тишины мне вкусить в твоих полноводных глубинах.[140]Это «Архипелаг».
Нынешняя дивная осень в высшей степени благотворно сказывается на моем здоровье, пишет он сестре, я будто смотрю на мир новыми глазами, и у меня опять появляется надежда еще какое-то время вершить среди людей то, к чему я призван.
Он живет в доме Ландауэра, по соседству с частной гимназией, против городской стражи. Живет в семье, у которой многочисленный круг друзей и знакомых, вместе с ними переживает тяготы французского постоя: войска под командованием генерала Моро расположились в Швабии основательно. Но люди надеются, что наступит мир и все наконец утрясется.
Главное — не то, что какая-то определенная форма, определенное мнение или идея одержит победу, главное — что человеческий эгоизм во всех своих обличьях падет ниц пред светлым торжеством добра и любви, единый всеобщий дух объединит всех и вся — вот тогда в прекрасной атмосфере в благословенном новом мире воспарят ввысь немецкие сердца, раскрывая все свои тайные, далеко идущие возможности.
Я предполагаю это. Я вижу это. И я верю в это.
Верю, что близится наше время.
Ах, Гёльдерлин.
Они сидят за праздничным столом. Ландауэру исполнился тридцать один год, по этому случаю он созвал гостей — ровно по числу прожитых лет, дом звенит веселым эхом. Все чествуют примерного главу семейства, желают ему счастья и благополучия. Гёльдерлин, мыслями уже в ином, написал по этому случаю рифмованное стихотворение. Твой путь — в средине золотой… К словам быстро подобрали мелодию, и вот все уже с восторгом осаждают Гёльдерлина, упрашивают его остаться, ибо он теперь уже за пределами их круга.
Мне невыносима мысль, говорит поэт, что и я, подобно многим, находясь в том критическом возрасте, когда вокруг внутренней нашей сути более, чем даже в юности, скапливается гнетущая тревога, должен буду, чтобы вырваться из нее, стать столь же рассудительным и замкнутым в себе. Он не способен жить в «средине золотой». Об этом — последняя строфа песни, которую все, не сговариваясь, повторяют дважды:
И вот сквозь радость проглянуло горе, Как грустный хмель, мы радость песни пьем; Окончен светлый путь, и каждый вскоре Пойдет один своим путем.[141]Порой я чувствую себя холодным как лед и понимаю, что это необходимо до тех пор, пока у меня не будет тихого, спокойного пристанища, где все, что затрагивает меня непосредственно, не потрясало бы каждый раз так сильно мою душу. Друзья мои прямо-таки немилосердно уговаривали меня остаться, делали мне разнообразнейшие предложения касательно домашних уроков. А мне сейчас больше всего на свете нужна тишина, ты даже не можешь себе представить. Он не хочет оставаться на родине.
Не хочет участвовать в житейской суете.
Я не могу иначе.
В лице Ландауэра ты найдешь человека, который заменит тебе брата в мое отсутствие, пишет он сестре. Делая то, что мне надлежит, я выполню предназначение свое на этой земле, каких бы сил мне это ни стоило. Вторая половина жизни, и открытая дорога, и открытый мир…
Он отправляется в горы. Не может больше слышать о Диотиме. Все дальше отходит с тяжестью на сердце от друзей. В одном из его стихов есть такие строки:
…Но покуда, мнится, отрадней Тихо уснуть мне, чем так, все без товарища, жить. Ждать, но чего? И есть ли смысл в деянье иль слове, Скрыто от нас, и к чему скудному веку певцы. Так; но подобны они, ты скажешь, жрецам Винобога, Что из края в край странствуют в темной ночи.[142]Всю зиму Гёльдерлин пишет, пишет для грядущих времен. «Хлеб и вино». Элегия, о которой после скажут: в ней вся жизнь человеческая, весь человек с его тоской по утраченному совершенству, вся неосознанная красота природы.
Кто способен тому помешать, запрещая нам радость? Вы, наверное, посмеетесь надо мной…
17
У него благородное сердце и возвышенная душа, говорит столяр Циммер. Наружности он исключительно приятной, хорошо сложен, ни у кого до сих пор я не видел столь прекрасных глаз.
За все время, что он у меня живет, ни разу не хворал.
До сих пор он пишет письма своей престарелой матушке, правда, приходится всякий раз напоминать ему об этом.
Нельзя сказать, что письма эти вовсе лишены смысла. Он старается, и в итоге они получаются даже понятными, впрочем, лишь в том, что касается стиля.
Одно из них гласит:
Простите мне, милая матушка, если мне не надлежит выразиться языком, доступным Вам.
Повторяю Вам вновь с почтением, что мог уже иметь честь сказать. Я молю милосердного нашего господа, чтобы он, ибо я изъясняюсь как ученый человек, поддерживал Вас во всех Ваших начинаниях и во мне.
Проявите во мне участие. Время требует точности в каждом слоге и всепрощения.
18
Точности в каждом слоге.
А что теперь? Ибо нигде нет дома. И ничто не держит. Смещены концы все и начала.
Начинается год девяносто девятый; тяжелый, отмеченный болезнью год, он откроет новую эпоху, так говорит Синклер.
Поверь же, не самомнение говорит ныне во мне, но глубокое осознание собственного несовершенства и грустные воспоминания прошлого, поверь, сколь часто и сколь многое желал я написать тебе кровью сердца, оглядываясь на ушедшее мое время, половина которого растрачена была в печали, в блужданиях души.
Нас всегда удивительно трогает, когда кто-то прокладывает себе дорогу в жизни тяжким трудом и сквозь настоящую нужду.
Гёльдерлин отодвигает листок бумаги в сторону.
Но как же быть с той возможностью, что перерастает в действительность, тогда как любая другая действительность исчезает?
Теперь, когда жертвы уж пали, о други! теперь!
Новая действительность, та, которой назначено было исчезнуть и которая в самом деле исчезала, оказалась ныне возможна; но и исчезновение это было необходимо, и неповторимость его была в том, что протекало оно на грани бытия и небытия.
Несколько шагов в сторону окна, нагие деревья — как часто видит он их перед собою. Ведь как раз на грани бытия и небытия, пишет далее Гёльдерлин, возможность становится действительностью, а действительность — идеалом… И добавляет: в свободном волеизъявлении искусства это ужасный, но поистине божественный сон.
Он живет на Хайнгассе, в доме стекольщика Вагнера.
Небольшие уютные комнаты, стены одной из них он украсил картами четырех частей света; в столовой, которая одновременно служит ему спальней, большой стол, его собственность, здесь же солидный комод.
В кабинете небольшое бюро, где хранятся все его наличные средства, стол, на котором разложены книги и бумаги; еще один маленький столик у окна, за которым я, собственно, и работаю. Стулья для нескольких добрых друзей у меня тоже найдутся.
И как лишь тот умеет наслаждаться покоем в четырех стенах, кто прежде долго странствовал под небесами, так и существование любого индивида немыслимо вне познания всеобщих законов бытия, без открытого миру взгляда. Так он пишет брату.
Сам по себе Хомбург, за исключением разве что немногих улиц, производит не слишком благоприятное впечатление; правда, в силу неведомого наваждения все почитают эту местность красивее, чем она есть на самом деле.
Синклер уверяет, что место это — единственное в своем роде: только здесь à proportion[143] можно встретить столько интересных людей сразу, множество пришельцев из других краев, которым не раз уже доводилось быть игрушкою судьбы. Узы государственности, призванные объединять их всех, достаточно слабы. Ландграф — прекраснейший человек, и у него доброе сердце. Это семья истинно благородных людей, которые всем строем мыслей своих и образом жизни резко выделяются из своего класса.
Гёльдерлиновский «Гиперион» имел при дворе определенный успех. Впрочем, сам он держится от двора на расстоянии.
Я делаю обязательные визиты, тем и ограничиваюсь. Из осторожности и во имя моей же собственной свободы.
Что касается расходов, то здесь все идет обычным своим чередом: одежда в избытке осталась у меня еще с Франкфурта, а кроме того, в ближайшее время я, очевидно, сумею содержать себя.
Правда, они по-прежнему пляшут вокруг своих золотых тельцов, тоскуют по былому процветанию. Однако, с другой стороны, чтение политических книг должно сказаться на них благотворно. Тем самым расширяется горизонт человека, и он, каждодневно видящий перед собою этот мир, обретает теперь к нему новый интерес.
Часы пробили двенадцать. Начинается год девяносто девятый.
Счастливого тебе года, брат мой милый, счастливого года всем нашим!
А потом уже нового, великого и счастливого столетия Германии и всему миру!
Гёльдерлин прерывает привычное свое занятие. Ночь за окном светла. Былая и нынешняя жизнь — все стало вдруг так осязаемо, так ощутимо, что сон бежит его.
— Не грусти, говорит голос Сюзетты, у нас святой долг перед миром. Я знаю, страдание пойдет нам во благо, соединит нас узами еще более чистыми и неразрывными. Так наберись же мужества…
Шмид говорит, что как раз читает «Гипериона». Синклер видит в этой книге новое нравственное учение, воплощенное в главных героях. Что еще увидят в ней другие?
И как хорошо, что теперь, помимо тебя, помимо духа твоего, Синклер, я могу призвать еще и других, просить их свидетельствовать в споре с моим собственным, сомневающимся сердцем, которое иногда порывается принять сторону ни во что не верующей черни. Мыслимо ли — отринуть бога, что пребывает во всех нас?
Этот мир сотрет нас всех во прах, если мы будем допускать каждую обиду прямо в сердце, и лучших из нас решительно ждет погибель, ежели не осознают они вовремя, что любые злые поступки, совершаемые людьми по слабости сердечной и духовной, а может быть, просто из нужды, дóлжно воспринимать спокойным рассудком, но не добрым сердцем. Поверь мне. Мы вообще куда меньше боимся ударов, которые судьба наносит нам, нежели тех, что она обрушивает на дорогих нашему сердцу людей. И если царство тьмы силою подчинит себе все окружающее, то мы отбросим в сторону перо и во имя господа бога отправимся туда, где нужда особенно тяжка, а значит, мы всего нужнее!
Всего несколько недель, как Гёльдерлин воротился в Хомбург. Мне сильно прибавилось веры и мужества с тех пор, как я вернулся из Раштатта, говорит он; я повидал множество новых лиц, познакомился со множеством новых обычаев и наречий, это достаточно, чтобы начать ориентироваться в этом мире, чтобы глаза привыкли к нему.
Раштатт: здесь господа немецкие посланники, в изящно расшитых золотом придворных кафтанах, специально для этой цели выписанных из Лиона, в пудреных париках с косицами, ведут переговоры с республиканцами, одетыми в скромные черные сюртуки и круглые шляпы. Взоры всей Европы устремлены сейчас на этот городок.
Раштатт лежит в широкой долине, простирающейся до самого Мангейма. Если стать на вершине Шлосберга, то по левую руку, на западе, будет Рейн, в ясные дни виден даже шпиль большого собора в Страсбурге; по правую — узкая теснина, в которой змеится Мург, на юге горы Бадена — словом, красоты на любой вкус, природа и ласковая, и суровая.
В замке расположились дипломатические миссии. Наделенные неограниченными полномочиями императорские представители и французы в левом крыле, представители от Майнца и австрийские посланники — в правом. Все очень хотят понравиться друг другу, стараются произвести благоприятное впечатление, дабы потом по возможности извлечь из этого политическую выгоду.
Не очень-то откровенно здесь высказываются, говорит Гёльдерлин, жаль, что дипломатическая осторожность сковывает не только выражение лиц, но и умы.
Конгресс похож на торговую биржу. Французский министр Робержо увесил свой кабинет картами отдельных областей Германии, где все, что только возможно, отмечено крохотными бумажками с номерами. Всем, кто к нему заходит, он говорит: вот эту область, вот эту епархию, это аббатство мы отдадим тому, а это — другому. Словно все давно уже поделено между алчущими, особенно в Швабии.
Торговцы человеками, разделяющие государства и народы по собственному произволу.
Подлинное наше приобретение здесь, говорит Гёльдерлин, — это несколько молодых людей, наделенных умом и возвышенными помыслами. Мурбек, родом из Померании[144], всю свою неугомонную душу вкладывает в чрезвычайно смелый философский трактат, сейчас он только что из Швейцарии. Хорн, посольский секретарь из Пруссии, светлая голова, он тонко чувствует прекрасное, хорошо понимает искусство. Синклер, представляющий на конгрессе Гессен-Хомбург, знакомит их друг с другом.
Бац тоже здесь, человек широкого сердца, он называет князей узурпаторами нации, на конгрессе он представляет южнонемецкие сословия; Гёльдерлин знает его сочинение, требующее права на петицию для граждан Вюртемберга.
Мы живем ради того, чтоб год от года становиться благороднее, счастливее и мудрее, в противном случае мы живем напрасно. И пусть неизменный прогресс всего, что в основе своей прекрасно, подлинно и совершенно, явит высшее назначение нашего рода.
Да, говорит Гёльдерлин, мы должны держаться все вместе в горестях наших и помыслах, дабы с елико возможной проницательностью и бережностию наблюдать и, не щадя сил, бороться за то, чтобы все человеческое в нас самих и в тех, кто нас окружает, раскрывалось в общей своей взаимосвязанности все более свободно и органично.
Тайком они встречаются дома друг у друга, а еще в книжном магазине Деккера, где на прилавке разложены новейшие поступления из Франции, в кафе Конгресса.
Из нас не получится ни фогтов, ни вице-посланников, ни верноподданных герцогских лейтенантов; мы хотим быть просто гражданами государства, в котором правит законность, а не произвол. Законность, обеспеченная равным распределением власти между всеми гражданами. И защищенная специально для этого созданной народной гвардией!
Они основывают вюртембергский комитет, выступающий от имени свободных сословий, от имени народа — не от имени правителя; втайне они уже ведут переговоры через посланника Теремина, которого Бац называет братом, с Директорией в Париже: южнонемецкая республика по швейцарскому образцу, красно-желто-голубые кокарды — вот что такое революция.
Дух времени похож ныне на поток, все увлекающий с собою. Мечта о лучших, более справедливых временах живо укоренилась в душах людей, и тоска по существованию более светлому, более свободному завладела умами, посеяв в них неприятие действительности.
Гегель, с которым Гёльдерлин виделся еще во Франкфурте, написал обращение к населению Вюртемберга, список этот ходит по рукам у друзей свободы.
Но как же быть с возможностью, что перерастает в действительность, тогда как любая другая действительность исчезает?
В столь изменчивые времена даже то, что диктуется простой необходимостью, вызывает в свой черед новые перемены.
Сейчас нужно пробиваться руками и ногами, кричит Синклер, нельзя упустить момент кризиса, кто знает, когда он повторится снова? Он вспоминает девяносто шестой год. Гигантские шаги республиканцев.
Я нахожу тебя более твердым и более разумным с тех пор, как могу связать тебя в мыслях моих с нашими новыми друзьями, говорит ему Гёльдерлин. В таких случаях любовь не должна бояться познания. Мне сильно прибавилось веры и мужества, Синклер. Скажи им это, твоим друзьям и моим.
…Так знаменьями и вселенскими деяниями Воспламенена душа поэтов снова. То, что прежде свершилось, Но еще не изведано, Открывается ныне: Теперь мы знаем: наши нивы пахали В рабском образе, улыбаясь, Боги живые, бессмертные.[145]Гёльдерлин — из окна своей комнатушки в Хомбурге он смотрит на окрестные поля, в общем-то он здоров, но нервы сильно расшатаны, он работает.
Работает над стихами: ибо во мне всегда присутствует эта, возможно, несчастная склонность к поэзии, к этому невиннейшему из человеческих занятий, которое чтут, однако, лишь тогда, когда оно становится мастерством.
Слышал я глас вещих богов, слышал смех…
Теперь я пишу трагедию — «Эмпедокл», главный герой от роду призван быть поэтом. Однако время, когда он рос и мужал, время огромных крайностей и противоречий, не нуждалось в песнях. Не нуждалось оно, собственно, и в делах, которые хотя и оказывают влияние на ход событий, но весьма одностороннее, и это тем более, чем меньше они затрагивают всего человека.
Как же быть, коли даже в самой органичной, самой свободной деятельности своей человек зависит от чуждых влияний? И где же тогда он сам себе господин?
Комната кажется Гёльдерлину тесной. Он выходит за порог. Горы, леса, пашни простираются вокруг.
Я начал ныне готовить всех, кто внимает моим речам, к восприятию наиболее сокровенных мыслей сердца, которое я еще долго не смогу раскрыть им полностью.
Теперь нельзя говорить людям все начистоту, для этого они слишком вялы и самолюбивы, они уже не способны, словно из зачумленного города, бежать из собственного неверия и бездумья на горние выси, туда, где воздух чист, а солнце и звезды ближе и откуда всеобщее беспокойство в мире видится даже приятным, а это значит в свою очередь, что мы возвысились до ощущения божества и уже с божественных высот взираем на все, что было, что есть и что будет.
Усталый пахарь сел отдохнуть в тени. Пред ним дымится мирный очаг его… Уже ветрила движутся к гавани… Что ж я? …что же сердцу отдыха нет от терзаний?[146]Отнюдь не самолюбивое упрямство диктует мне нынешние мои занятия и мое положение.
Это моя природа и моя судьба.
Синклер, вернувшийся из Раштатта, входит с Мурбеком в комнату. Лето, проведенное вместе, откроет новую эпоху в нашей жизни, восклицает он. Картина нашего будущего станет иной, нежели в настоящем! И там, где разуму не по силам создать из хаоса справедливый миропорядок, там лезвие меча легко разрубит сей гордиев узел. Политика — это игра случая.
Они выходят на улицу. Их силуэты темным пятном выделяются на дороге, словно на старинных гравюрах, воздеты к небу их руки, издалека доносятся их голоса.
Если французам удастся еще раз вступить в Швабию, у нас будет республика.
Один из офицеров сказал: наших солдат ненавидят за мародерство и в то же время любят за провозглашаемые идеи.
Листовки весьма полезны. Проект республиканской конституции применительно к немецким условиям. Права человека не означают отсутствия у него обязанностей перед обществом. Свобода не означает распущенности. Равенство — это не то же, что грабеж.
Синклер читает: Вследствие этого в народе должно возникнуть подозрение, будто враг гнездится у него внутри. Только люди, вся страсть которых направлена на конечную цель, будущее свободное общество, способны должным образом применить средства, коими располагает государство.
Ты все-таки предоставляешь государству слишком большую власть. Оно не вправе требовать того, к чему не в силах принудить. Но то, что достигается любовью и духовным воздействием, нельзя вынудить. Так пусть государство к этому не прикасается. Клянусь, тот, кто хочет сделать государство школой морали, не ведает, какой он совершает грех. Государство всегда оттого и становилось адом, что человек хотел сделать его для себя раем.
Это написано в «Гиперионе». Итак, возможность стала действительностью, говорит Гёльдерлин, и в этой действительности растворяется уже существующее и даже то новое, что лишь идет на смену, вот только в наши ли дни? Синклер говорит, лишь опыт, опирающийся на размышление, научает народ уму-разуму, помогает ему отличать друзей от врагов. И когда-нибудь народ сам изберет тех, кто, вместо того чтоб потихоньку отнимать у него свободу, станет беззаветно достраивать здание всеобщего счастья, не давая себе ни минуты передышки, не останавливаясь перед предрассудками.
Они стоят на вершине холма, в нескольких шагах начинается прекрасная луговая долина. Ветер относит их слова.
Ты никого не можешь убедить, ты лишь уговариваешь, подкупаешь людей своими речами. Никто не допускает и тени сомнения, пока ты говоришь. А ведь кто не сомневался, того нельзя считать убежденным. Неужели это говорит Гёльдерлин? Давний спор, он длится часами, сутками. Порой мы вынуждены, говорит Гёльдерлин, избегать друг друга, дабы не допустить, чтоб беседы наши возобладали единственно.
Ибо каждому человеку необходимы для осуществления задуманного незамутненные чувства и помыслы, поскольку, даже за вычетом всего остального, любое философско-политическое учреждение заключает в себе известное неудобство, а именно: оно и в самом деле ставит людей в наиболее сущностные, диктуемые непреложной необходимостью отношения, основанные на долге и правопорядке, но много ли тогда остается на долю человеческой гармонии?
Воссозданные в строгом соответствии с оптическими законами фон, передний план и общая композиция еще далеко не образуют целостного ландшафта, хоть как-то тяготеющего к сравнению с живым творением природы. Однако даже лучшие из немцев в большинстве своем полагают и по сию пору, что если б только мир оказался аккуратным и симметричным, то все сразу пришло бы в порядок.
Он сидит над «Эмпедоклом». Его смерть, жертва, благодаря которой человек и в самом деле зримо вырастает до таких размеров, что все судьбы его времени способны найти разрешение в нем одном…
Беспокойные, бурные времена, которые, быть может, не минуют вскоре и наше отечество. Война вот-вот разгорится снова, не обойдет она стороною и наш Вюртемберг.
Сюзетта говорит:
— Страх гнездится во мне, что когда-то должны будут прекратиться наши отношения, ибо нет у меня уверенности в будущем.
Я трепещу при мысли о революционных временах, которые, быть может, уже не за горами, ведь они способны разлучить нас навсегда…
— Отправиться туда, где нужда особенно тяжка, а значит, мы всего нужнее, — говорит Гёльдерлин; чувство жизни как чувство бесконечно нового…
В случае если б французам сопутствовала удача, милая матушка, в нашем отечестве могли бы, вероятно, произойти перемены. А чтобы Вы, дражайшая матушка, не пострадали от несправедливости в случае возможных инцидентов, этим я озаботился бы изо всех сил, и, быть может, не без пользы.
Что я буду делать дальше, зависит во многом от успеха или же, напротив, неуспеха моей новой книги «Эмпедокл». Из этого трагического смешения бесконечно нового и конечного старого развивается в конце концов новая индивидуальность…
Гёльдерлин — он работает как в лихорадке, может неделями не видеться с Сюзеттой во Франкфурте, жалуется на болезнь, которая сильно досаждает ему, три недели подряд желчные колики, приходится обратиться к врачу, и тот констатирует приступ ипохондрии.
Это было и вправду неприятное состояние, говорит он, вот так праздно и бездумно проводить все дни; ведь лишь благодаря занятиям моим мне удавалось поддерживать в себе бодрое расположение духа.
К тому же он опять испытывает нехватку денег из-за сильного вздорожания дров, обращается к матери с просьбой одолжить немного.
Я искренне радуюсь, что скоро наступит май. У нас все еще стоят холодные дни. А вообще здесь довольно мирно.
Друзья, по-прежнему в спорах, все еще ждут какого-то знака. В Вюртемберг из Парижа прибыл новый посланник, он нанес первый визит двору и при этом заявил, что не уполномочен устраивать в Германии революцию.
Что скажет на это Синклер?
Все надеются, что войска Журдана перейдут в наступление, это будет сигнал к свержению существующего правительства и установлению республиканского строя; позже некий Бланкенштейн выдвинет все это в качестве обвинения против Синклера.
Однако генерал Журдан — он уже в Вюртемберге — приказывает распространить шестнадцатого числа марта месяца следующее заявление: любые революционные выступления будут незамедлительно подавляться французскими войсками: у него имеется предписание не потворствовать смутьянам.
Это все Директория в Париже, говорят друзья свободы, Талейран. Революция превратилась в жупел для осуществления их внешнеполитических целей.
Южнонемецкой республики уже не будет.
Ничего, кроме моих четырех стен, и да будут они для меня той доброй мелодией, что всегда дарит прибежище от злых духов. А что теперь?
Уже давно ты, тучей окутанный, Повелеваешь мной, гений времени. Вокруг все дико, жутко в мире: Всюду крушенье, куда ни гляну.[147]Итак, Эмпедокл должен был стать жертвой своего времени. Ему недоставало всеотрицающего духа насильственного обновления, он действовал то как религиозный реформатор, то как человек политический, и всегда с этой гордой и восторженной покорностью судьбе…
Гёльдерлин прерывает на время работу над трагедией. Он почти не выходит из комнаты, вслух декламирует стихи, часами сидит в оцепенении, избегает встреч с друзьями.
Военные новости тоже отвлекали меня, милая матушка, я все хотел дождаться дальнейшего развития событий, к тому же, понятно, я был нездоров. Я не вижу возможности приехать этой весной в Вюртемберг.
Войска Журдана, разгромленные наемниками коалиции, отходят за Рейн. Народ видит всю бесполезность выторгованного мира, теперь он отворачивается от французов — это Бац напишет своим друзьям, — бог даст, впоследствии еще отыщется возможность улучшить жизнь народа и без революции.
Многое я пытался, о многом мечтал, ныне грудь моя изранена, пишет Гёльдерлин.
А вообще красоты здешней местности составляют мое единственное наслаждение.
О, если бы мне дано было вновь увидеть радость в этих глазах, восклицает Мурбек, повстречавшись с ним; а он, утомленный работой, карабкается вверх по склону холма, усаживается на солнце и долго глядит вдаль, за Франкфурт, туда, где, как ему известно, находится Сюзетта.
— Я не знаю, как выразить переполняющее меня чувство благодарности, любимая, за то, что дивная весна еще дарит меня радостью…
— Я гуляла с детьми и высматривала у подножия горы любезный сердцу моему Хомбург с тою неведомой комнатушкой, где живешь ты; мне казалось, что в эти прекрасные весенние дни ты должен вспоминать меня так же часто, как я тебя. Я даже не умею вообразить себе то место, где ты живешь. И все же тебе там сейчас намного лучше, ты ведь знаешь, где можешь меня найти, тебе знакома каждая мелочь, что меня окружает…
Они строят планы, как встречаться в дальнейшем, считают дни и часы, большие надежды возлагают на лето, когда Сюзетта с детьми уедет из города и им, быть может, удастся встречаться тайно.
— Ради этого я готов ждать бесконечно долго, только бы время от времени узнавать от кого-то, что ты в добром здравии. Ты ведь и так будешь вечно со мною…
Гёльдерлин смотрит в сторону Франкфурта.
Эти невинные мгновения вновь придают мне силы жить и писать. Словно побывал в церкви и теперь чистым сердцем и ясным взглядом воспринимаешь окружающий свет, воздух и эту прекрасную землю. Я не могу и не хочу боле быть заносчивым, нетерпеливым и нескромным по отношению к тому, в чьих руках моя судьба. Теперь я совершенно здоров.
Наступает май.
Приехал Бёлендорф, вместе с Мурбеком он был в Швейцарии, служил домашним учителем; он говорит: «Гиперион» — это залог нашей дружбы, о, если бы вокруг меня всегда были хорошие люди; заключает в объятия Гёльдерлина и Синклера.
Они говорят о политике.
Буонапарте, рассказывает Бёлендорф, мне довелось видеть в Милане. Маленький человечек с обветренным лицом, черными растрепанными волосами, un homme qui est toujours tranquil[148], бесчувственный человек.
Он рассказывает о Гельветической республике.
Восемнадцатого фруктидора решилась ее судьба. Четвертого сентября 1797 года парижская Директория постановила вмешаться. Доктор Эбель, вы его знаете, предупреждал своих друзей в Берне, но они не вняли его предупреждениям.
Все это я запишу для потомков. Он говорит все быстрее, все отрывистее.
Когда была принята новая швейцарская конституция, французы принялись угрожать оружием. Невозможно было измыслить ни одной разумной причины, почему им хотелось силою перевести Швейцарию на другой путь. Намерения их были темны. Герой, находившийся тогда в Италии, этот всегда сохраняющий спокойствие человек, казалось, не хотел ничего, кроме дальнейшего распространения свободы.
Очевидно, им нужен был хлеб, говорит Синклер, Германия-то уже давно истощена. А еще Франции нужна была показная республика в качестве заслона от врагов, лишняя основа будущего мира.
Да, говорит Бёлендорф, так и возникла предписанная сверху швейцарская конституция. Французы уже оккупировали к тому времени страну, они требовали денег, миллионов, и швейцарцы в душе давно уже не называли их друзьями; Штек мне рассказывал, он был секретарем при новой Директории.
Швейцарцы призвали свои провинции к объединению. Вот наши штыки, заявил на это французский наместник. Французские офицеры присутствовали на заседаниях кантональных советов, решения которых не принимались ими в расчет, свобода слова была отменена.
Нашего друга Штека отстранили от должности; я уступаю штыкам, заявил он, но не перестаю взывать к чувству справедливости, присущему французской нации. Из Парижа на его место был назначен некий гражданин Окс, другие сохранили свои должности, однако им не оставалось ничего другого, как пытаться хотя бы по мере сил стыдить порок.
Но вы и сами все это знаете.
Он умолкает. Они расходятся.
Гёльдерлин говорит: мне ненавистны эгоизм и деспотизм, любое проявление враждебности в людях. А в остальном люди становятся мне все ближе. Это извечное стремление вперед, готовность пожертвовать существующим в пользу неведомого, иного, лучшего — вот что, мне кажется, лежит в основе всех людских дел и свершений.
Он сидит вместе с Бёлендорфом у себя в комнате. Тот принес ему свои стихи, приветствую тебя, герой грядущих лет… «Деяние и песнь»— это стихотворение посвящено Синклеру, республиканцу до мозга костей.
Высшая поэзия, созидание — в этом их жизнь, восклицает Бёлендорф. Из этого источника проистекает все подлинно великое, свободное, героическое; человечность лучше открывается нам через восторг.
Но там, где тебя покидает трезвый разум, там и граница твоего восторга, говорит Гёльдерлин, он рассказывает о том, над чем давно уже размышляет: искусство, при всем своем прошлом и будущем богатстве, не способно создать ничего подлинно живого, первооснова, которую оно преобразует и обрабатывает, дана изначально и не есть собственное его творенье; искусство способно лишь пробудить творческие силы, но силы эти сами по себе извечны, они дарованы человеку свыше.
Помогать живой жизни, ускорять вековечный процесс совершенствования природы, улучшать окружающий мир, переводя его в область идеального, — таково сокровеннейшее стремление человека, и все таланты его и деяния, все страсти и заблуждения проистекают отсюда.
Гёльдерлин посылает стихи Бёлендорфа Нейферу для его альманаха, пишет, что и сам подумывает начать издание поэтического ежемесячника; я полагаю, что и у меня в сердце есть некие истины, способные послужить искусству и порадовать душу.
Итак, объединение и примирение науки с жизнью, реального с идеальным, искусственного с природным.
Честность и хороший тон, не бездушная фривольность, легкая прозрачная композиция, изящная краткость целого. Надеюсь получить материалы от Гейнзе, Матиссона, Конца, Зигфрида Шмида и от тебя тоже.
Он предлагает издателю Штайнкопфу в Штутгарте назвать альманах «Идуна», по имени богини вечной молодости, не давая себе роздыху, работает над материалами для журнала, на который возлагает теперь все свои надежды, ведь от этого в известной степени зависит все его дальнейшее существование.
Время, в которое мы живем, придавило нас столь тяжким грузом впечатлений, что лишь после неоднократных, все более серьезных попыток мы сумеем воспроизвести в итоге то, что в иных обстоятельствах, возможно, вызрело бы намного раньше, но едва ли в таком совершенстве. Итак, отрекаясь от любви нашей к музам, пусть даже на время, мы приносим великую жертву необходимости.
Работа взбадривает его, наполняет энергией и покоем.
Вчера вечером в комнату ко мне зашел Мурбек.
Французы снова разбиты в Италии, сказал он. Если наши дела пойдут хорошо, сказал я ему, то и в мире все будет в порядке.
Он бросился мне на шею.
Подобные мгновения еще выпадают иногда мне на долю. Но могут ли они заменить целый мир?
Негаданно приходит лето.
На рассвете Гёльдерлин покидает Хомбург, всего три часа пути — и вот он уже в Адлерфлюхтской усадьбе.
— Сегодня день, когда ты должен прийти. Я радуюсь, что на небе ни облачка. — Так говорит она.
— О безмятежные часы, когда на свете были только мы и друг для друга. Кажется, обойди весь свет — и вряд ни найдешь подобное. С каждым днем я все глубже понимаю это. — Так говорит он.
— Не печалься, сердце мое, и доверяй людям немного больше, чем сейчас, они ведь порой и в самом деле лучше, чем мы полагаем. О, только не сомневайся в моей любви…
— Мысль моя обращается к великим мужам древности, они жили в великие времена и, пылая священным огнем, зажигали весь мир вкруг себя, все отжившее, одеревеневшее, как сухую солому. А рядом с ними я…
— Нет, любимый, нет. Ты не вправе рисковать собою. Сил твоих недостанет для этого, и ты погибнешь для мира сегодняшнего и для потомков. Останься лучше тем, что ты есть, попробуй и здесь найти выход, так будет лучше, не искушай судьбу: она ведь одолеет тебя. Будь счастлив, возлюбленный мой…
Его посещение не прошло незамеченным. У них было лишь несколько минут друг для друга. Сумеют ли они еще увидеться в будущем? И разве не будут постоянно изнурять их тревога и тысячи неведомых демонов?
Одно даруйте лето, всевластные, Даруйте осень зрелым словам моим, И пусть, внимая милой лире, Сердце мое навсегда умолкнет.[149]Небольшое мое стихотворение, дражайшая матушка, вовсе не должно было так обеспокоить Вас. Смысл его прост, а именно — сколь сильно желание мое обрести когда-нибудь покой, дабы иметь возможность исполнить то, к чему я предназначен природой.
И вообще, я должен попросить Вас, милая матушка, не принимать все так близко к сердцу. Поэт, коли он желает изобразить свой маленький мир, должен подражать мирозданию, где далеко не каждое отдельное существо совершенно, но господь проливает свою благодать и на доброе, и на злое, и на справедливое, и на несправедливое; поэту также приходится временами произносить что-то ложное и даже полное внутренних противоречий, но если брать его творчество в целом, то все однажды произнесенное оказывается преходящим, преобразуясь в окончательном итоге в правду и гармонию. Как радуга прекрасна только после грозы, так и в поэзии все подлинное и гармоничное произрастает из ложного, из заблуждений наших и страданий, становясь от этого лишь еще прекраснее и радостнее.
Касательно моего здоровья Вы можете быть совершенно спокойны.
Из Хомбурга Гёльдерлин шлет письма во всех направлениях, чтобы хоть как-то продвинуть затею с журналом. Штайнкопф, издатель, настаивает на крупных именах, таких, как Гердер, Гёте, Гумбольдт, от них в значительной степени будет зависеть успех предприятия, оно ведь должно быть удачным прежде всего в коммерческом плане, к этому он и прилагает усилия, не жалея ни времени своего, ни энергии.
На несколько дней Гёльдерлин отправляется в Майнц.
Юнг, начальник канцелярии во французском муниципальном управлении, принимает его сердечно, водит по городу. Он как раз заканчивает свой перевод Оссиана, звучание его на немецком языке теперь подчинено совершенно новой идее, свой перевод он готов предоставить Гёльдерлину для его журнала, в поэте он сразу признает компетентного судью.
Эмерих тоже здесь, секретарь муниципалитета; молодой и полный энергии, резкий, порывистый, он только что отдал в печать текст своей праздничной речи к 14 июля. Как скоро вы забыли, короли, сиянье быстрых молний, которыми еще совсем недавно разила вас свобода…
Десять лет после взятия Бастилии.
Он приносит Гёльдерлину свои стихи; мой благодарный оруженосец, говорит тот, называет его братом, говорит: ты обязательно должен заняться поэзией всерьез.
Я вижу все чаще, как мы бросаемся из одной крайности в другую: от полной анархии — к слепому подчинению старым формам и вытекающему отсюда принуждению. Но в том-то и дело, что у нас нет другого выбора; как только мы принимаемся за материал хоть сколько-нибудь современный, мы должны — я убежден в этом — отказываться от старых классических форм. И это тоже высочайшая поэзия, в которой даже непоэтичное, будучи сказано в нужный момент и в нужном месте, становится поэтичным.
Он разрабатывает новую поэтику. На столе громоздятся горы бумаг. Метода поэтического духа. О различии в поэтических жанрах. Он пишет стихи, вновь и вновь обращается к «Эмпедоклу». В мечтах своих он видит, что его читают, понимают, так что даже носит постоянно при себе большое стихотворение; яркие поэтические задатки, позволяющие надеяться на прекрасное свое осуществление, — это пишет Август Вильгельм Шлегель.
Долгие дни он проводит наедине с собой. Общается только с Синклером, которого называет «мой неугомонный друг», говорит:
Мы должны оставаться тверды, непреклонны и честны в том, что считаем истинным и прекрасным.
Но только быть из железа и стали нам не пристало, особенно поэтам.
Все его радости теперь — это прекрасная погода, яркое солнце, свежая зелень.
Лишь он способен видеть все это такими глазами.
И если я однажды стану мальчиком с седыми волосами, пусть и весна, и рассвет, и вечерняя заря день ото дня делают меня все моложе, пока наконец я не почувствую все это в последний раз и не выйду на простор, а оттуда уйду уже навсегда — в вечную юность!
Понимает ли он, что сейчас говорит?
Гёльдерлин.
Волосы у него подстрижены «по-санкюлотски» — так именует эту прическу господин фон Гёте. Республиканец душой и телом, говорит о нем Бёлендорф. Зеркало, отражающее красоту мира, — так зовет его Сюзетта. Чтобы сказать о нем все, и вправду достаточно нескольких слов…
Гёльдерлин.
У себя в Хомбурге-фор-дер-Хоэ. Суровый воздух, на который он всегда жалуется. Комната, украшенная картами четырех частей света.
Двадцать девять лет.
Вскоре друзья разлетаются в разные стороны.
Мурбек — он продолжает слать письма из Иены — останется там на всю зиму, будет слушать Шеллинга и Шлегеля, потом переедет в Грейфсвальд, после него не останется никаких трудов.
Зигфрид Шмид, этот эксцентричный, полубезумный человек — бредите, шатаясь, братья, по жизни, только в дурмане, только в чаду! — пишет пьесу, где главная героиня — женщина, это слепок с так называемой обыденной жизни, еще роман в письмах «Лотар»; он поступает кадетом в австрийскую пехоту, жаждет пережить в угаре возвышенные моменты войны, заканчивает ее ротмистром в Вене, с Гёльдерлином он встречается еще раз в его последний хомбургский год; кто знает, о чем они тогда говорят. Эмерих пишет ему письмо по поводу «Гипериона».
Бёлендорф говорит: Ужасно, что подобное расстройство души стало подлинной болезнью нашего времени. Я знаю лишь немногих, кому удалось избежать этого.
До последнего остается с ним Синклер, молодой человек, собиравшийся сделать в Германии революцию. Синклер, который публикует свои статьи под псевдонимом Кризалин; они не лишены веры и поэзии, есть даже попытки создать собственную эстетику. Еще у него есть драма о Севеннской войне, ее даже играли в Веймаре. «Правда и подобие» — философский трактат. Синклер — самый верный друг, который позже определит его библиотекарем в Хомбурге: как мыслитель, он целиком под влиянием Фихте, вместе с Наполеоном он хочет идти на Англию, потом в чине капитана появляется в штабе австрийского командования на Венском конгрессе, получает майорские эполеты, а затем, во время очередной переэкипировки, внезапно переживает сильнейший удар, но это уже тема другого рассказа. Гёльдерлин называет его Ахиллом, видит в нем прототип Алабанды, говорит, я предан ему настолько, что готов с песней на устах следовать за ним куда угодно, вплоть до самого нашего конца, до поражения. Теперь, когда жертвы уж пали, о други! теперь! Клич звучит в небесах, и земля прославляет…
Земля, неужели это единственное, что ему остается?
Что в сумрак меня укрывает, Земля! зелень твоей листвы? Зачем тревожите душу мне, зачем бередите былое во мне, вы, Всеблагие! О, пощадите меня и оставьте в покое пепелище моих отрад…[150]Наступает осень.
Мне кажется, затея с журналом обречена. Так много надежд возлагал я на него и в плане будущей моей деятельности, и в смысле улучшения финансовых дел, ведь это дало бы мне возможность находиться вблизи от тебя. Даже друзья до сих пор не ответили на мои письма. Быть может, все стесняются общаться с таким человеком, как я?
Так он пишет Сюзетте. Она собирается подойти вечером к окну, говорит:
— Если б я только могла лучше вникнуть в твои теперешние идеи. Кто знает, как все может еще обернуться, ведь пути судьбы неисповедимы…
Почти два месяца потратил я на подготовку журнала, говорит Гёльдерлин. И теперь намереваюсь употребить все время, что мне еще остается, на мою трагедию. Я написал Шиллеру, но он ответил: даже с учетом соображений выгоды, которые мы, поэты, часто не можем обойти, издание подобного журнала лишь кажется выгодным, и тем более не стоит отваживаться на это издателю, не имеющему веса в издательском мире. Желаю Вам всего наилучшего.
Имея такую судьбу, как моя, почти невозможно сохранять надлежащее мужество, говорит Гёльдерлин.
Боюсь, что горячность жизни во мне остынет, соприкоснувшись с ледяной историей наших дней, и страх этот проистекает оттого, что с времен моей юности я воспринимал все разрушительное более болезненно, нежели остальные, мне кажется, чувствительность эта имеет причиной душевную мою организацию, оказавшуюся в соприкосновении с жизненным опытом, выпавшим мне на долю, недостаточно прочной и устойчивой.
Я сам это вижу. Но что толку просто видеть?
Однажды я Музу спросил, и она ответила мне: В итоге все это обрящешь, Смертным сие постичь невозможно. О Всевышнем я умолчу. Плод запретный, как лавр, но Это всегда — отчизна. Ее же Каждый в конце обретает.[151]Дороги в таунусских горах, окрестности Хомбурга — здесь он еще иногда бывает. Разверзлись окна в небе. Когда над лозой полыхает листва и черной, как уголь, бывает в ненастье, тогда в сосудах жизни половодье.
Я предчувствую дурную зиму. Нередко у меня такая тяжелая и медленная голова. Я трачу много времени, а должен беречь его. Ведь почти невозможно жить только писательством, особенно если не хочешь быть слишком услужливым и строить состояние за счет собственной репутации.
И пусть даже все, что во мне, не найдет никогда своего по-настоящему ясного и широкого выражения, я все равно знаю, чего хотел, — я хотел большего, чем позволяют предположить по видимости ничтожные мои попытки. Дело, во имя которого я живу. Пусть станет оно целительным для людей.
Пусть существование мое не пройдет на земле бесследно.
Он много разговаривает сам с собой, ведь он и предоставлен постоянно сам себе. Боится, что тяжелое, судорожное состояние, одолевающее его с начала года, затянется; он вновь вынужден обратиться к врачу, который всегда бодр и искренне к нему расположен — настоящий врач для ипохондрика.
Пишет письма. По привычке Нейферу, хотя тот и не поспевает больше за полетом его поэтической души. Нейфер, которого некогда в Швабии подозревали в якобинстве, из-за чего он и не получил предназначавшейся для него кафедры придворного проповедника в Штутгарте, живет уже долгие годы как сельский священник в Вайльхайме под Теком, он больше не отвечает на письма, не выказывает никакой заботы о друге.
Почему республиканский дух совершенно исчез в наши дни? Почему друзья мои теперь подвергаются гонению, подобно Бацу, которого курфюрст решительно берет под подозрение? Синклеру, которого давно уже подозревают в заговоре? Сколько я могу заметить теперешнее общее настроение людей, говорит Гёльдерлин, мне кажется, что на смену великим и мощным потрясениям времени идет способ мышления, отнюдь не предназначенный высвобождать силы человеческие, расковывая их, но ведущий неизбежно к тому, что живую душу, без которой нет и не может быть в мире ничего подлинно радостного и подлинно ценного, заключат в оковы и раздавят.
Только что я узнал, что французская Директория распущена и Буонапарте стал диктатором. Доктор Эбель пишет ему из Парижа о низости тамошних людей.
Наступает зима.
Неужели прибежищем ему остается лишь искусство?
Я не понимаю, кричит он в отчаянии, почему многие прекрасные, великие в общем и целом формы оказываются бессильными что-либо излечить и чему-либо помочь — пред лицом всесильной, всеподчиняющей нужды?
Но кто еще слышит его? Кто понимает его речи?
Великий рок, что так прекрасно лепил людей основательных, тем сильнее раздирает людей слабых и беззащитных.
Потому и великие самые обязаны величием не только природе своей, но и счастливым обстоятельствам, что позволили им вступить во время свое деятельными и полными жизни.
Что ж я?
Он говорит: нужда. И если в какой-то миг она станет определяющей и более действенной, чем вся деятельность чистых, самостоятельных в поступках своих людей, тогда это может окончиться трагически и гибельно.
Когда зимой таунусские горы в окрестностях Хомбурга покрываются снегом и в ясные дни светит солнце, резкая игра теней являет собою дивное зрелище. Приезжает Ландауэр, чтобы отвезти его на родину в Швабию. Находит его сильно переменившимся. Едва начав оживленный разговор, он тут же впадает в черную меланхолию.
Читает вслух стихи.
Неожиданно задает вопрос: Какое, по-Вашему, место займет новое поколение в мире, что Вас окружает?
Но горе мне! И если я скажу: Приближен, чтоб узреть Бессмертных, Они же сами вновь низвергнут меня к живущим, Лжепроповедника, во тьму, дабы я Песнь тревоги моей внемлющим пел. Там…[152]19
Вот уже много лет ходит он взад и вперед по комнате, бормочет что-то невнятное.
Говорят, известие о войне за свободу, начавшейся в Греции, на время взбудоражило его, он с восторгом выслушивал новости, особенно когда узнал, что греки взяли Морею. Однако недолгое оживление вновь сменилось апатией, и мысли у него стали путаться.
Когда Шваб читает вслух «Гипериона», он говорит, ни к кому не обращаясь:
Не заглядывайте так часто в книгу, это же людоедство.
Ему вручают экземпляр сборника его стихов, он благодарит, перелистывает страницы, потом говорит:
Да, стихи настоящие, они в самом деле мои, а вот название неверно.
Никогда в жизни я не носил имя «Гёльдерлин», меня звали «Скарданелли», а может, «Сальватор Роза» или еще как-нибудь.
Если его просят написать несколько строк, он спрашивает: Вам о Греции, о весне или о духе времени?
И тогда этот человек, обычно сгорбленный, расправляет плечи, подходит к своей конторке, берет лист бумаги и гусиное перо, левой рукой он словно отбивает ритм каждой строки, глаза его и лоб блестят, он отворяет окно, смотрит на простор, пишет:
Когда поля укрыты бледным снегом, Равнины беспредельные блестят, Вдали нам лето чудится (иль нега Весенняя)… Но близится закат. Погода хороша, прозрачны дали, И светел лес, людей мы не видали Здесь, на глухой тропе… И только зыбко Блеснет природы зимняя улыбка.[153]* * *
Данный текст основан на документальных источниках, касающихся жизни и творчества Фридриха Гёльдерлина, он даже прямо заимствует — что довольно рискованно — отдельные пассажи из записок Вильгельма Вайблингера, опубликованных в 1831 году.
Автор надеется, что его трактовка предмета прольет на давно прошедшие события новый свет, в котором четче выявятся определенные человеческие мотивации, а это даст возможность еще раз живо и непосредственно соприкоснуться с поэтом.
Г. В.
ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
1770 — в Лауфене-на-Неккаре родился Фридрих Гёльдерлин.
1788–1793 — занятия на богословском факультете в Тюбингене вместе с Нейфером, Гегелем, Шеллингом. Восторженное отношение к Французской революции («Тюбингенские гимны»).
1795 — в Иене встреча с Шиллером, Гёте, Фихте.
1796–1798 — домашний учитель во Франкфурте-на-Майне. Любовь к Сюзетте Гонтар. Первая коалиция против революционной Франции («Гиперион»).
1798 — вместе с Синклером участвует в Раштаттском конгрессе, заводит знакомство со сторонниками революционных преобразований на юге Германии.
1799 — первое посещение Хомбурга. В марте генерал Журдан издает декрет, направленный против революционных брожений в Германии. В ноябре — государственный переворот Бонапарта («Эмпедокл», работы по эстетике, хомбургские оды, план издания журнала «Идуна»).
1800 — у Ландауэра в Штутгарте («Оды и элегии», «Хлеб и вино»).
1801 — домашний учитель в Хауптвиле (Швейцария). Люневильский мир. В декабре отправляется во Францию (стихотворение «Рейн» и др.).
1802 — домашний учитель в Бордо. В июне возвращается на родину. Смерть Сюзетты Гонтар. В сентябре вместе с Синклером отправляется на заседание имперской комиссии в Регенсбург (стихотворения «Патмос», «Праздник мира», переводы из Софокла).
1803 — в Нюртингене («Ночные песни», «Воспоминание», «Мнемозина»).
1804 — библиотекарь ландграфа Гессен-Хомбургского. В мае Наполеон провозглашен императором Франции (наброски будущих гимнов, переводы из Пиндара).
1805 — арест Синклера в Хомбурге, процесс о государственной измене в Вюртемберге.
1806 — в сентябре Гёльдерлина доставляют в клинику Аутенрита в Тюбингене. С 1807 года живет в доме столяра Циммера на берегу Неккара, где в 1822–1826 годах его посещает Вайблингер.
1843 — смерть Гёльдерлина.
Криста Вольф
Нет места нигде
Я ношу в себе сердце, как северная
почва зернышко южного фрукта. Оно
набухает, но ему не прорасти.
КлейстВот почему мне кажется иной раз,
будто я лежу в гробу, а оба моих «я»
в оцепенении глядят друг на друга.
ГюндеродеКрута тропа, по которой убегает от нас время.
Предшественники… Ноги, стертые в кровь… Взгляд — но уже без глаз, слова — но уже без уст. Облик, осанка — все бестелесно. В разлуке далеких могил вы вознеслись, восстали из мертвых и все еще должны прощать нам, многогрешным. Скорбное долготерпение, ангельский удел.
А мы все алчем вкуса слов, вкуса пепла. Мы, которым приличествует немота, все никак не умолкнем.
Пожалуйста, скажи спасибо.
Пожалуйста. Спасибо.
Хохот. Ему сотни лет. И эхо, чудовищное, на все голоса. И жуткая мысль: другого отзвука не будет, только этот. Лишь величие оправдывает отступление от нормы и примиряет виновного с собой.
Один — это Клейст. Это его терзает слишком чуткий слух, это он срывается с места по любому поводу, не ведая причин. Это он прочертил на истерзанной карте Европы нервную, ломаную линию скитаний — с виду бесцельных. Где счастье? Где нас нет.
Женщине, Гюндероде, не до странствий. Узкий круг, теснота обстоятельств. Задумчивость, провидческий дар, неподверженность суете. Служение бессмертному и решимость пожертвовать видимое незримому.
Что они якобы встретились — чаемая легенда. Винкель на Рейне, мы его видели. Подходящее место.
Июнь тысяча восемьсот четвертого.
Чьи слова?
* * *
Белые костяшки пальцев. Боль в руках — значит, мои. Так вот, раз уж я вас распознал, приказываю вам отпустить то, во что вы вцепились. Что это. Дерево, гладкое полированное дерево, приятный изгиб. Спинка кресла. Переливчатая обивка, цвет невнятный, серебристо-голубой. Мозаика паркета отсвечивает, я на нем стою. Люди непринужденно разошлись по зале, в расположении групп, как и в расстановке мебели, — небрежный порядок красоты. Тут они мастера, этого у них не отнять. Не то что у нас в Пруссии. Праздничней. Изящней. Вкус, никуда не денешься, вкус. Они называют это культурой, я — роскошью. Так, молчание и вежливость, вежливость и молчание, осталось недолго.
Решено, в этом же месяце я уезжаю, думает Клейст. Возвращаюсь. Но ни слова. Что у меня на душе — это никого не касается, меня самого тем паче. Шутка недурна, я бы гордился, если бы сам ее придумал. При случае надо припугнуть ею бедного надворного советника.
Следую за ним, как ягненок. Противоречие — знак болезни. Не перенесу дорогу? Да полноте! Впрочем, как господин доктор Ведекинд[154] скажет, так тому и быть. Но богом и чертом клянусь, я здоров! Здоров, как тот дурак на скале, Прометей. Тысячу лет живет, а то и больше. Так и тянет за язык спросить доктора — где этот орган, нарастающий сам собой, и не согласится ли он у меня этот орган вынуть, — надо же позлить стервятников. Ладно, с богами шутки плохи, особенно глупые. Неведомое блаженство — быть смертным.
Дурачиться. Здесь, в этом веселом краю, им и невдомек, что такое дурачество. Потому-то мне и не место среди них. «На чай и приятную беседу…» — написано в приглашении. Сзади стена, отлично. Этот свет. По левую руку вереница окон, прекрасный вид. Деревенские дома вдоль дороги, что катится под уклон. Приволье лугов, деревья вразброс. Потом Рейн, ленивец. А дальше остро очерченная полоска отлогих холмов. И выше — безучастная голубизна, небо.
Какая-то барышня подошла к окну и все мне заслонила.
Да, безусловная истинность природы… Слепящий свет. Прикрыв глаза ладонью, Гюндероде отходит за занавеску. «Благостна боль — быть человечества сердцем[155], сладостно биться в твоей груди, природа». Не идет из головы эта строчка. Безумный поэт. Будто я не знаю, что это значит: искать утешения у сумасшедшего. И уже подумываю: не лучше ли было в предчувствии мигрени остаться в пансионе, в зеленоватом полумраке комнаты, на узкой кровати, чем тащиться из Франкфурта в такую даль, по мучительно тряской дороге и теперь пугать людей молчаливой неприступностью. Меня оставили в покое, мою надменность терпеливо сносят — мол, очередная блажь, впрочем, другого и не требуется, все давно привыкли ждать от меня чудачеств. Но у меня раз и навсегда пропала охота потакать и прикидываться. Все, чем дорожат эти люди, теперь чуждо мне. Их цели, законы и требования света — все ложь, пустой и суетный самообман.
Тяжесть в груди не отпускает с самого утра. Опять вспомнился этот сон. Скудная, но приветливая местность. В белом ниспадающем платье она бредет среди других, со всеми вместе — и все же одна, между Савиньи[156] и Беттиной. Внезапно Савиньи вскидывает лук, тетива натянута, он уже целится. Тупой наконечник стрелы. И она видит: на опушке леса — косуля, и слышит свой сдавленный крик — как всегда, слишком поздно, стрела быстрей. Стрела вонзилась в шею, косуля упала. Беттина — она стоит рядом и смотрит во все глаза — первой замечает беду. «Лина!» — вскрикивает она в ужасе. И в тот же миг, даже не подняв руки к горлу, Гюндероде знает: это у нее из шеи торчит стрела. По белому платку Беттины расползается алое пятно, сон, а какие яркие краски. Оказывается, это так просто — истекать кровью. Тут, словно из-под земли, перед ними возникает шалаш, сгорбленный волосатый гном помешивает в горшке отвратительное дымящееся зелье. И чья-то рука — единственная, которая знает, что делать, — без содрогания опускается в месиво и смазывает этим зельем рану. Никакого ожога, только облегчение. Колдовство действует мгновенно. Она чувствует, как рана затягивается, исчезает. Просыпаясь, ощупывает шею — нежная, гладкая кожа. И это все, что оставлено ей на память: блик сна, тень мечты. Она запретила себе плакать и велела забыть и свой сон, и свою печаль.
Теперь она знает: то была рука Савиньи.
Но почему в шею? Такого уговора не было. Она точно помнит место, куда надо приставить кинжал, хирург, которого она в шутку расспрашивала, надавил пальцем чуть пониже груди, вот здесь. С тех пор стоит сосредоточиться, как она сразу ощущает это место и мгновенно успокаивается. Это просто и наверняка, надо только всегда иметь при себе оружие. К самым жутким вещам можно привыкнуть, если думать о них подолгу и часто. Мысли ведь тоже стираются — как монеты, что кочуют из рук в руки, или как образ, который то и дело вызываешь пред внутренним взором. Теперь она не дрогнув способна увидеть свой распростертый труп в любом месте, ну хотя бы вон там, у реки, на песчаной косе под ивами, на которых сейчас покоится ее взгляд. И больше нечего желать — разве только чтобы обнаружил ее человек незнакомый, умеющий владеть собой и быстро забывать. Она знает себя, знает людей и готова к тому, чтобы ее забыли. Красивых жестов она старается избегать, доколе возможно. Ей выпало несчастье быть натурой страстной и гордой, а значит, нераспознанной. И вечно держать себя в узде, что до крови врезалась в мясо. Ничего, жить можно. Страшно не это, страшно забыться, дать себя увлечь и, закусив удила, на всем скаку налететь на преграду, которую все называют просто «действительностью» и которая для нее — в чем ее напоследок еще и упрекнут — останется непостижимой загадкой.
Как это ловко устроено, что наши мысли не бегут по лбу проворной строкой. Иначе всякая встреча с ним, даже пустячная, как вот сегодня, была бы для нее убийственной. А может, мы бы научились быть выше этого и спокойно, без ненависти, созерцать свое отражение в кривых зеркалах чужих мыслей. И не стремились бы разбить зеркала. Но этого — она знает — нам не дано.
Возможно ли, чтобы у женщины такой взгляд?
От этого взгляда Клейсту не по себе. Бранденбургские барышни, его землячки, так смотреть не умеют, и саксонки, сколь ни милы они его сердцу, тоже. Не говоря уж о швейцарках — если, конечно, он верно судит о них по той девушке… И у парижанки, что силилась переспорить природу, не было такого взгляда…
Красива ли она?
Она словно в незримом круге, и переступить боязно. Комплимент не скажешь. От нее исходит достоинство и веет неприступностью, и все это не вяжется с ее юностью, как не вяжутся друг с другом голубизна ее глаз и иссиня-черные волосы. Чем дольше смотришь, тем красивей она кажется, спору нет, — эти движения, эта одухотворенность черт. Но ему ли судить о женской красоте? В молодости насмешник Виланд шутил: женщины сами и только между собой решают, кто из них чего стоит, а приговором мужчин интересуются лишь для вида, чтобы польстить мужскому самомнению. Если это верно, то барышне у окна похоже, отведена роль женщины исключительной, и среди прелестных юных дам что-то не видно охотниц с ней потягаться. Такое не по плечу даже Беттине, сестре знаменитого Клеменса Брентано; тот, к неудовольствию Клейста, едва успев поздороваться, сразу удалился в угол, к столику, и увлек за собой Софи Меро[157], свою молодую жену, и других молодоженов, чету Эзенбеков. Этот маневр, по всему видно, весьма не по вкусу и Беттине; вон она, еще почти ребенок — впрочем, если верить пересудам, ребенок дерзкий и своенравный, — устроилась на софе вместе с обеими барышнями Сервьер, однако частые взгляды в сторону окна ее выдают: она хочет быть подле подруги, но не отваживается нарушить отрешенность ее одиночества.
Не похоже, чтобы эта девушка — как же ее зовут, ведь Ведекинд их друг другу представил, правда мимоходом, и Клейст, конечно, позабыл имя, — не похоже, чтобы она купалась в роскоши. Ему вспомнились прусские ярмарки невест, все эти дочки на выданье, горе и надежда обнищалых мелкопоместных гнезд, бесприданницы, — принаряженная беззащитность беды, голодный блеск быстрых глаз, рано заострившиеся лица. Ульрика, сестра… Вот уж некстати. Ульрика — это совсем другое. Почему же другое? — слышит он свой второй голос, голос, который надо безжалостно душить, он знает, научен опытом. Таким опытом, что на всю жизнь. Так научить может только один учитель — смертный страх. Когда ты во власти сил, которым ничего не стоит тебя раздавить, ибо что-то неизъяснимое в нас, что-то, чего мы не знаем и не хотим знать, тянет к себе навстречу. В ноябре он сорвался… Жуткая зима. И эти нескончаемые, гремящие монологи, от которых раскалывалась голова. Конечно, он знает, как спастись: попросту задушить этот голос, который никак не угомонится там, внутри, а все подначивает, все нашептывает, уговаривая прикоснуться к больному месту. Но, убей он этот голос, — что тогда? Тоже смерть, только на иной манер. Откуда же такая самоуверенность, отчего он считает единоборство с этими коварными силами, что мыты во всех водах — да и в крови тоже, — своим прямым долгом и надеется в этой схватке вырвать у врага главное — имя? И откуда, если так, чувство бессилия, откуда гложущие сомнения в своем призвании? Неравный бой.
Невнятный звук срывается с его губ — похожий на смех, но слишком жуткий, чтобы быть смехом.
Кто-то тронул его за плечо. Ведекинд, доктор, он и тут неусыпно блюдет свой долг.
— Можно узнать, отчего вы так замкнуты?
Он не хозяин своим мыслям, мысли живут сами. Держать себя в руках. Пока он не овладеет этим искусством, его не признают здоровым. Но как может выздороветь тот, кто не падет пред законом, пока не пересилит закон? А перед побежденным, бессильным законом — падет во прах.
И никто ему не судья. Нет судьи.
Отгоняя наваждение, Клейст встряхнул головой. До него доходит чей-то оклик.
— Клейст! — тихо зовет доктор.
— Ничего, ничего. Пустяки. Просто подумал — мне в этом году исполнится двадцать семь.
— Разумеется. — Ведекинд удивлен. — А это имеет какое-нибудь значение?
Превосходный вопрос. Ответом будет:
— Нет.
Облагодетельствовали: думай, что говоришь, и терзайся тем, что думаешь. Лучше бы убили. И друзья, которые, как на подбор, верят тебе тем меньше, чем ближе ты к правде. Вот хотя бы прошлой осенью в Париже — господи, как давно! Пфюль. Делил с ним квартиру. Квартира вместе, отчаяние врозь. «Пфюль, я погибаю!» Видит бог, то была правда, но друг, знавший его как никто, друг, который сопровождал его всюду, можно сказать, следовал за ним по пятам, который видел — не мог не видеть! — как безнадежно бьется он над проклятым «Гискаром», — Пфюль с доводами такой правды согласиться не захотел и отказал ему в дружеской услуге: вместе покинуть эту бренную землю. Он, Пфюль, еще не готов к переселению в мир иной, всему свое время, он известит…
— Господин советник, вы «Гамлета» хорошо знаете?
— Разумеется. — Его любимое словечко. — В оригинале и в переводе Шлегеля.
Образованный человек.
— Мне как раз вспомнился спор, — продолжает Клейст. — Тогда, в Париже, поспорил с другом, Пфюлем, — помните? — Ведекинд кивает. — Рассорились на всю жизнь. А спор вышел из-за монолога. «Кто снес бы плети и глумленье века…»
— «…гнет сильного, насмешку гордеца…»[158]
Советник и впрямь осведомлен. Правда, он не станет скрывать, все это ему несколько странно: чтобы взрослые, благовоспитанные люди, к тому же друзья, и стали заклятыми врагами — из-за чего? — из-за стихов! Помилуйте, нельзя же до такой крайности преувеличивать значение словесности. Да и допустимы ли подобные посягательства на границы, отделяющие фантазии сочинителей от реальной жизни?
Вот и Пфюль о том же. Это был разрыв.
— Все-то вас тянет к абсолютному, дорогой Клейст… Ваш Шекспир, он ведь в жизни мог быть и весельчак, вы не находите?
Мысль, что врач считает его комедиантом — сегодня играем одно, завтра другое, можно и трагедию, если надо, — эта мысль заставляет Клейста содрогнуться. Пусть так, он не желает об этом знать. Он зависим от суждений света, тут уж ничего не поделаешь.
Им подавай бескровное мышление. Гармонию, умеренность, мягкость. А он, напрягаясь сверх всякой меры, никак не пробьется к сокровенной сердцевине слов. Снедаемый тоской, кружу в словесных бликах.
— Хоть печатай, — произносит он. Ведекинд в недоумении. — Отточенные фразы, господин надворный советник, это бедствие. Каждое отточенное предложение — гильотина для предыдущего.
— Клейст, — увещевает Ведекинд, — поверьте мне: не следует человеку слишком глубоко заглядывать в себя.
Мудрый совет, благодарю. Но, увы, я еще не настолько опустился, чтобы нуждаться в утешении и выслушивать укоризны. Так, а теперь любой ценой сдержаться, не схватиться за голову, прямо здесь, у всех на глазах. Какой красивый зал. И люди какие обходительные. Как умело они образуют фигуры, мне этих правил никогда не выучить и не усвоить. Бог ты мой…
— Господин фон Клейст?
— Сударыня?..
Отчего это она так разрумянилась? Ах вон что: прибыли новые гости, она хочет меня представить. Быть по сему. Господин фон Савиньи, правовед из Марбурга, и его жена, Гунда, урожденная Брентано. Похоже, бесплодие этому браку уже не грозит. Супруг, господин Савиньи, едва ли старше меня, но исполнен такого почтения к собственной персоне, о каком мне и не мечтать. Как он умеет взять барышню за руку, заглянуть в глаза, заговорить — в голосе и приятное удивление, и вопрос, и полупросьба:
— Гюндерозочка!
Теперь он вспомнил имя. Гюндероде. Прежде не слыхал. Уже забыв о нем, она вклинивается между новоприбывшими и увлекает их к остальному обществу. Завеса, скрывающая ее мир, раздвинулась лишь на миг и снова сомкнулась. Приблизилась, чтобы тут же удалиться. Несправедливо вымещать досаду на барышне. Что ж, в таком случае он будет несправедлив.
— Какой свет! — слышится чей-то возглас. — Каролина, вы должны на это взглянуть!
Клеменс. Как это на него похоже! Просто не может спокойно видеть меня подле Савиньи. Тащит, словно любимую игрушку, к окну, заставляет восхититься освещением, которое — я и так знаю — в этот час, когда лучи под определенным углом падают на равнину и водную гладь, и вправду изумительно. Как будто природе есть дело до наших восторгов, пристальных взглядов да и самого нашего присутствия!
— Вы неласковы со мной, Каролина…
Уязвленное самолюбие. Вечно одно и то же. Когда Клеменс меня уводил, Савиньи подал знак. Мол, он пришел, знает, что я его ждала, и уверен, что я себя не выдам. Он понимает — в любви я верна и самоотверженна, и пользуется этим, а я его за это только сильнее люблю. Он и это учел. И так без конца.
Приход Савиньи на мгновенье поверг Гюндероде в радостное беспамятство: сильнее забилось сердце, перестали слушаться руки — это у нее-то, которая, сколько помнит себя, всегда умела обуздать любую вспышку чувств, любой порыв. Старшая дочь, опора одинокой, глуповатой и вздорной матери, терпеливая наставница младших сестер, всегда благоразумная, рассудительная, пожизненно в плену у собственной гордыни и семейной нищеты. Первые ночи в пансионе, ей девятнадцать, крохотная каморка, узкая, жесткая кровать и распахнутое окно, к которому, едва умолкнут последние птицы, грозно и неотвратимо подступает тишина, вползая тягучей, удушливой, липкой массой и к утру заполняя собою весь мир. Она никому об этом не рассказывает. Она никогда этого не забудет. Уж как добра к ней Беттина — но даже ей невдомек, сколько боли, сколько самоотречения носит подруга в душе.
Этот Клеменс любит себя послушать.
А Клейст все смотрит.
Группа, от которой отделилась барышня Гюндероде, постепенно распалась, словно утратила центр притяжения, все разошлись по зале, присоединяясь к другим группам. Несколько кавалеров окружили Беттину, та усаживается за клавикорды. Она тут же начинает импровизировать, такого ни в каких нотах не сыщешь.
— А я с листа не умею, — доносится до него ее голос и заливистый смех, при звуках которого он просто теряется: то ли сердиться на это сумасбродство, то ли принять как есть, может, и вправду натура такая. Признаться, ему спокойней и милей, когда женщина держится в рамках, как вот Гунда или Лизетта, жены Савиньи и Эзенбека, — они устроились на диванчике под большой картиной; простой пейзаж, но как играет зеленый цвет, сколько изощреннейших оттенков — и пожалуйста, вот вам и композиция, и глубина, и живость. Смешная мысль: другой художник, встав на его место, мог бы изобразить и диванчик, и этих столь непохожих друг на друга дам, и — очень тщательно — пейзаж над их головками. Получившаяся картина могла бы украсить соседнюю стену, вон там, над этим вальяжным комодом, и вместе с предыдущей образовала бы новый сюжет, достойный кисти очередного автора. И так далее. А что, в своем роде новшество и пригодилось бы в живописи.
Ведекинд интересуется, не разочарован ли он поездкой.
— Ну, что скажете? Как вам наш край? А люди?
— Вообще-то, — отвечает Клейст осторожно, — Рейн я видел и раньше.
— Разумеется. Но солдатом. Это совсем другое дело. Когда шагаешь в мундире, не до красот.
Тут он прав. Клейст даже побаивается говорить с ним, уроженцем Майнца, о том времени, когда он, пятнадцатилетний фенрик прусского короля, осаждал этот город. Одиннадцать лет назад это было, и в другой жизни. И воспоминания бы не осталось, не закрепи он его в словах, — теперь с помощью слов он всегда может воскресить в памяти, что чувствовал, когда шел навстречу вечернему ветру, навстречу Рейну и казалось, волны воздуха и воды напевают ему вкрадчивое адажио и он слышит мелодию во всех ее переливах, во всем полнозвучии.
Именно так — надо надеяться, достоверно — он все это и поведал много позже в письме к Вильгельмине фон Ценге, впрочем вполне отдавая себе отчет, что пером его водит не столько желание открыться, сколько соблазн слов; вот почему иногда он, не задумываясь, пишет самым разным людям в одинаковых выражениях и по части искренности — он же чувствует — перед всеми в неоплатном долгу. Даже когда невесту упрекал в холодности — все взвалил на себя, обвинения, укоры, жалобы, каждым росчерком пера в себя метил. Что делать, себя не переиначишь, ей бы пришлось волей-неволей все это терпеть. Нетрудно вообразить, как судачат теперь о нем злые языки во Франкфурте. Вскружил голову честной девушке, поманил свадьбой и бросил. Почему его это так задевает? Чем объяснить паническое смятение при одной мысли о новой встрече с ней? И почему, раз чувство не выдержало испытания разлукой, все еще так силен страх: лучше умереть, чем взглянуть ей в глаза?
Почему? Да потому, что угрызения совести страшнее упреков возлюбленной. Безнравственность! Где им знать, что это такое. А он знает. Жить не ради жизни, жить не для людей, кругом в долгу — вот что это такое. Чувствовать настоящую жизнь, только когда пишешь… Полгода, что он провел в доме Ведекинда, — в глубине души он знает: это тяжкое время было блаженной передышкой. В таком состоянии и думать нечего о писательстве. Когда смерть рядом, тиски ослабевают. Живешь, чтобы жить. Как это выразишь?..
Пора подумать о другом.
Надворный советник знает: когда пациент так погружен в себя, самое время его развлечь.
— Как вам нравится общество?
— Что? Ах общество…
— Мило, не правда ли?
— Весьма.
Есть, правда, маленькое затруднение: если случится заговорить вон с той женщиной, он не знает, как к ней обратиться.
— Простите? — Ведекинд переспрашивает осторожно, главное — не выказать удивления. Значит, внимание Клейста привлекла девица Гюндероде? Что ж, этому делу помочь нетрудно. Поскольку она не замужем — кстати, она тоже подвизается на ниве поэзии, правда не под своим именем, — обращение «мадемуазель» или, на худой конец, «барышня» вполне уместно.
И все же. Что-то ему мешает, трудно сказать что. «Барышня» решительно не годится. Нужно какое-то другое слово, а вот какое, он никак не вспомнит. Беттина — та, конечно, то и дело кличет подругу просто Линой, а Лина меж тем внимательно, но безучастно внемлет Клеменсу, который лебезит перед нею в позе просителя. Другие сверстницы зовут ее Каролиной, ему это тоже не подобает. А уж прозвище, каким обласкал ее Савиньи (она прямо просияла от радости), — и подавно. Гюндерозочка.
Как она держится: неброско, но и ни от кого не таясь. Девушка. Женщина. Девочка. Дама. Нет, все эти слова с нее соскальзывают. Дева? Смешно, даже оскорбительно (а почему, собственно? — надо подумать). Юница! Дурацкое озарение. Забыть, забыть.
Едва найдя слово, Клейст гонит его от себя. Двуполость слова ему неприятна, и он не хочет знать почему. Так она сочиняет? Вот горе-то! Зачем? Неужто не знает другого способа развеять скуку?
Гюндероде спиной чувствует чей-то упорный взгляд, стряхивает его. Незнакомец, которого привел Ведекинд, все на том же месте, будто прирос к полу, и по-прежнему в одиночестве. Неужели так никто им и не займется. Почему Мертен, всегда такой безупречный хозяин, пренебрегает долгом гостеприимства? Вот он, аплодирует Беттине, глаз от нее не оторвет, позволяет водить себя за нос, будто забыл, что ему уже за сорок, что он солидный коммерсант, а она — двадцатилетняя девчонка. Бедный чудак! Знал бы, как она потом над ним же будет издеваться, а когда я попытаюсь ее образумить, только плечами передернет. «Если человеку нравится быть шутом, это его дело, — скажет она. — Я ведь сама такая». Тут она права. Впрочем, что мне до чужого гостя в чужом доме. Быть может, немного погодя выпадет случай сказать этому Клейсту, что я читала его пьесу. Хотела бы я видеть автора, который не оживится при виде читателя.
Она, конечно, не скажет, что пьесу ей дал не кто-нибудь, а именно Мертен. Его, кстати, вещь разочаровала, он прельстился названием «Семейство Шроффенштейн», думал, рыцарская драма, какие сейчас в ходу. Она не скажет и того, что прочла пьесу больше из любопытства: слишком странные слухи доходили из Майнца о молодом человеке, которого надворный советник Ведекинд подобрал едва живым и приютил на зиму. Глядя на это детское лицо, никак не скажешь, что ему ведомы душевные бури, а тем паче злодейства, которыми кишит его драма. Он еще очень молод.
Невольно она улыбается: сама-то она еще моложе.
Теперь солнце светит прямо в четыре окна, что смотрят на юго-запад. Окна распахнуты настежь, но воздух почти недвижен, лишь изредка Гюндероде ощущает слабые дуновения. Порой, лежа на кровати и задыхаясь, она думает: ей надобно вдвое больше воздуха, чем другим, ее тело требует дополнительных затрат на какие-то неведомые цели.
Стенные часы бьют три, тонко и чопорно, как клавесин. С чего бы вдруг такая тоска. Она здесь всего полчаса, а ее уже тянет прочь и где-то внутри, она чувствует, уже пополз холод, верный спутник безутешности. А Клеменс все не отстанет, он ей надоел. Как он не понимает — о некоторых вещах лучше помолчать. А она, не в силах перебороть давнего предубеждения, не желая вспоминать о том случае три года назад, вынуждена терпеть его болтовню. Она чувствует, как натянулась кожа лица, каждой клеточкой отталкивая его взгляд, который жадно ощупывает ее рот, лоб, щеки. Просто поразительно, сколько бесцеремонности способен позволить себе мужчина под видом ухаживания, а женщина не может оградить себя от этой навязчивости, не прослыв ханжой, синим чулком или недотрогой.
Что ж, раз он настаивает — об ее стихах. Она никому об этом не скажет, а уж Клеменсу тем паче не признается, что ей больно, стыдно, что она убита. А скажет вот что: она ничуть не раскаивается, что издала свои стихи, хоть по наивности и не ведала, что творит, ломая перегородку между сокровеннейшими тайниками души и внешним миром. Ни Клеменсу, ни одной живой душе не узнать, какое это было для нее потрясение, когда волей глупого и злого случая открылось подлинное имя того, кто думал скрыться под псевдонимом Тиан.
Ну а рецензия в «Прямодушном»[159]? Не станет же она уверять, что эта статейка ничуть ее не задела?
Задела? Бог ты мой… Когда отдаешь себя общественному мнению…
А критик, кажется, ее земляк, тоже из Франкфурта?
Земляк. Он, кстати, гувернер при дворе. Подписывается инициалами.
Гувернер! Клеменс слышал другое: что он сам пробовал силы в рифмоплетстве, да оскандалился и теперь не упускает случая отыграться на всяком молодом даровании, если, конечно, у дарования нет влиятельных покровителей. Зависть, да будет ей известно, побуждение невероятной силы.
Что ж из того. От прописных истин ей не легче, да и что ими можно загладить? Не загладишь даже таких пустяков, как снисходительный тон рецензента, блудливое балансирование между притворной лестью и высокомерным порицанием, отнимающее у жертвы даже право ответить на оскорбление; обрывки фраз, умело, с тонким расчетом рассыпанные по всему сочинению зацепки, впившиеся ей в мозг сотней рыболовных крючков. «Откровения прелестной, чуткой женской души», к тому же «удостоившиеся нескольких примитивных и напыщенных похвал в некоем публичном листке» — как будто тон похвал от нее зависит! Словечки вроде «корсетные излияния», «манерное шутовство». Но главный удар: некоторые стихотворцы так легко усваивают чужое, что искренне почитают его своим — и оригинальным.
Первый приступ жгучего стыда, раскаяния — зачем было выходить на люди со своими признаниями? — прошел. Перед Клеменсом, который сейчас громко возмущается, который, вероятно, и вправду возмущен, она разыгрывает безразличие. Но медленный яд тех строк проник в нее, его не вытравить, а вместе с ядом проник и новый, прежде неведомый страх. Слишком велико подчас искушение махнуть на себя рукой. Уйти, спрятаться, замкнуться навсегда в том последнем, недосягаемом убежище, где уже никто тебя не потревожит — ни друг, ни враг. Она не даст себя унизить. У нее есть средство против любого унижения, и она знает, как им воспользоваться. Жить — необязательно, какое благо.
А Клеменс разошелся вовсю: лицемерные похвалы рецензента называет вздором (подумать только!), его замечания — слащавыми подлостями, самого писаку честит «неделикатным человеком» и даже «пачкуном», а газету — жалким бульварным листком для мелких лавочников.
— Полно, Клеменс, — прерывает она наконец. — Довольно. Я просто должна писать и знаю об этом. Стремление выразить свою жизнь в законченной, отлившейся форме сильнее меня, вот и все. И среди сочувственных отзывов на мои стихи ваш, поверьте, мне всего дороже. Но не такая уж я самовлюбленная дура, чтобы не видеть, как далеко мне до цели.
Уж Клеменс, поэт, перед которым она преклоняется, должен знать: самое мучительное — это недовольство собой. Это чувство, этот стыд должен быть знаком ему лучше, чем ей.
Беттина, бросающая озабоченные взгляды. Конечно, это она уговорила брата сюда пожаловать. Войдя, Гюндероде была неприятно поражена: первый, кого она увидела, был Клеменс, а рядом с ним Софи Меро — красавица, что и говорить, — бывшая супруга иенского профессора, за которой Клеменс ухаживал так настойчиво, так пылко, что та совсем потеряла голову и, вконец запутавшись в собственных чувствах, доверилась тому из обожателей, кто был смелее и безоглядней.
Всю историю этого смятения чувств Гюндероде прочла в первом же взгляде Софи: в ее глазах застыла смесь вины, упрямства, взбалмошности и отчаяния.
— Как ваш ребенок?
— Спасибо, уже здоров, слава богу, худшее позади.
Как она рада! Гюндероде порывисто обнимает Софи, та, кажется, удивлена и обрадована. Не в первый раз Гюндероде замечает — женщинам небезразлично ее отношение, отчего бы это?
— Софи, дорогая, это же замечательно! Я бы ужасно гордилась! Что может быть важней ребенка. — И чуть не добавляет: «У меня вот никогда не будет…»
Клеменс, наблюдавший встречу обеих женщин почти с испугом, теперь вмешивается. Какая Софи молодец, и какая отчаянная: такие тяжелые роды, а она уже через две недели взбиралась с ним на самые крутые горы. И ничего ей не делается, в воде не тонет, в огне не горит.
Женщины снисходительно переглядываются: мужчины те же дети.
Клеменса распирает гордость собственника, он говорит о ребенке. Ребенок ему нравится, даже весьма. Беря дитя на руки, он всегда бывает необычайно рад.
— Рад и болтлив, милый Клеменс, — вставляет Софи.
— Возможно, — отвечает тот не без досады. — Я не решаюсь любить его всем аппаратом своих чувств. Вдруг в один прекрасный день аппарат сломается, а вместе с ним в мир иной уйдет и любовь.
— Ну вот, вы сами слышали. — Меро обращается к Гюндероде. — Ни одну живую душу он еще не отважился полюбить «всем аппаратом». Единственное, что он любит по-настоящему, это распространяться о своей любви.
— Клевета! — с притворным гневом восклицает Клеменс. Жена отвечает ему в тон, все трое смеются. Подходит Беттина, смотрит на них изучающим взором, потом говорит:
— Удивительные вы люди, на устах одно, а в глазах — совсем другое.
Брат называет ее «задавакой» и слегка дергает за волосы.
Позже Гюндероде тихо спросит Беттину: странно, не правда ли, отчего иной раз люди говорят друг другу самые серьезные, самые болезненные вещи только под личиной маскарада? И не кроется ли за всеми этими смеющимися лицами некая опасная болезнь общения?
Беттина сразу ее поняла. Она попросила только быть снисходительнее к брату — в глубине души он добр и очень несчастлив.
— Но я ничуть на него не в обиде!
Даже Беттина — и та не хочет ей поверить. Мне и самой странно, что не умею ненавидеть, что забываю нанесенные оскорбления, — но те, что нанесла сама, — никогда. Зачем только они снова и снова вынуждают меня вспоминать о злосчастном случае?
По одному пункту, правда, она подвергла себя допросу с пристрастием: нет, она не давала ему ни повода, ни тем более права так на нее набрасываться. Она знает, франкфуртские кумушки давно прозвали ее «кокеткой» — обычная зависть засидевшихся на выданье купеческих дочек, и все же… Ей слишком хорошо известны причины, по которым женщину непроизвольно тянет, толкает навстречу мужчине: неприкаянность, боязнь унизительного одиночества. А мужчина, особенно если он самовлюблен и воображает, будто неотразим, готов даже в затаенной робости видеть призыв и поощрение. Значит, на себя полагаться нельзя, особенно ей, раз она чувствует, что способна отдаться любви не раздумывая и до конца. Но что до того случая с Клеменсом — тут она уверена. Он просто обознался. Надо ему об этом сказать.
Удивительно, отвечает он, откуда у нее такое самомнение. Откуда это сознание собственной исключительности и столь необычная для слабого пола уверенность в своей правоте? Да будет ей известно: она просто высокомерна.
Этот упрек Гюндероде слышит не впервые, возражать бесполезно.
— Я знаю свои слабости, они не там, где вы их ищете.
Только не надо рассчитывать, что тебя поймут.
Несгибаемая женщина. Ей даже нет нужды быть властной. Облик ее будит в Клейсте странные воспоминания. В этот миг, когда она с примирительным смехом слегка тронула Брентано за плечо, будто задолжала ему извинение, в этот миг, когда миниатюрные, в золоченых завитушках часы на камине звякнули один раз, тонко и так тихо, что никто, кроме него, их не услышал, — именно в этот миг он вспомнил свою Вильгельмину, шпильки в ее волосах. Как сейчас, он видит себя в ее летней беседке в саду за ценгеновским домом во Франкфурте-на-Одере; заросли жимолости укрыли их от посторонних взглядов, между ними на маленьком белом столике книга, «Луиза» Фосса[160]. Вильгельмина, сама покорность, мягко склонила голову и позволяет ему играть своими волосами, распускать их; он и сейчас ощущает ее волосы на кончиках пальцев; и, как сейчас, снова чувствует — такое не забывается, — что чувствовал тогда: смущение и вину. Теперь его трогает эта картина. Почему же там, когда все было не далекой немой сценой, а настоящим свиданием, почему тогда она оставила его столь постыдно безучастным? Он, влюбленный, которому, видит бог, пристало тогда не созерцать, но действовать, и она, Вильгельмина, бедное дитя, вовсе не бесплотный вымысел живописца, как на том медальоне — медальон, впрочем, он ей вернул, так уж водится, — а близкая, земная, нежная невеста. И легкий тлен разочарования, казалось, разлитый в воздухе…
Что за врожденный порок — всегда быть мыслями в том месте, где тебя нет, или в том времени, что уже минуло или еще не настало.
Но тут, когда он усилием воли почти заставил воспоминание померкнуть, память выталкивает другое, совсем запретное: ведь это тогда в первый и последний раз в жизни он рассказал свой сон. Делиться сокровеннейшим — для него потребность, и ему пришлось — лучше не спрашивать, чего это стоило! — воздвигнуть в себе целую крепость, чтобы заточить в ней свою общительность. На людях его нередко одолевают приступы косноязычия, и ему кажется, что эти приступы — добрый подарок природы, которая хочет ему помочь, защитить его. Да, вот так, примерно так мыслит он теперь природу. Но в тот день он был столь угнетен собственной холодностью — было трудно признаться и хотелось все объяснить, — что не удержался, нарушил зарок и рассказал невесте сон, который навязчиво преследует его со времени отставки из армии и всякий раз заканчивается пробуждением в слезах.
Всегда одно и то же: какой-то косматый зверь, скорее всего вепрь, красивый, стремительный, мощный, ломится сквозь чащу, а он следом за ним, в сумасшедшем, диком галопе, — настичь, обуздать, укротить. Зверь уже рядом, совсем близко, руку протяни — и он твой, он видит бурую щетину, слышит жаркий храп — но нет, не догнать. И он уже знает — сейчас проклятое наваждение повторится снова: он, обессиленный, тяжело спешится, не сводя глаз с ускользающей добычи, всегдашний безликий недруг окажется тут как тут с услужливо протянутым оружием, и он вскинет мушкет, прицелится, выстрелит. Зверь вздыбится на бегу, рухнет, дернется, замрет.
После, помнится ему, они долго молчали, а потом он увидел: Вильгельмина плачет. Он ни о чем не спросил, только гладил ее руку и тут наконец почувствовал то, чего ему так недоставало, почувствовал, что сможет полюбить.
— Милый, — произнесла она наконец и казалась при этом очень спокойной. — Ничего у нас не получится. Никогда нам не быть мужем и женой.
Тогда, в те минуты, они и пережили все, что потом — невесть зачем — мучительно тянулось еще долгие годы.
Опять накатывает эта тщетная скорбь, которой он так боится. Нити из той давней жизни надо учиться рвать, тут Ведекинд прав. За призвание, обретенное столь поздно, надо платить дорогой ценой. Казалось бы, ясней ясного, а все равно не укладывается в голове.
Тот сон. Он недаром преследует его все эти годы. Сон, который почти не меняется и всякий раз, рассудку вопреки, снова и снова повергает его в ужас. Он может означать только одно: его по-прежнему страшит застарелый внутренний разлад. У него один выбор — если только можно назвать это выбором: либо неукоснительно, за пядью пядь, вытравить этот неутолимый жар и убить в себе лучшую часть души, либо дать этому жару вовсю разгореться и неминуемо погибнуть, расшибившись об убожество обстоятельств. Сотворить время и место по непреложному закону в себе — либо существовать по общей мерке прозябания. Прекрасный выбор, что и говорить. Эти силы, что закогтили его, — чем-чем, а презрением к слабому они его не унижают. Видно, это единственное удовлетворение, какое ему суждено изведать в жизни. Что ж, он покажет себя достойным противником. Никому, кроме себя, он не даст свершить над собой приговор. Отягченная виной рука станет карающей десницей. Такой удел ему по вкусу. Еще раз заглянуть в потаенную механику души — при одной мысли об этом его охватывает сладостная жуть. Кто пристрастился смотреть на такое, того ничем больше не проймешь и никаким зельем не заманишь. И любовью не приворожишь. И не будет в его жизни ни часа без вины. Кто играет по такой ставке, кто себя на кон бросил, тот не вправе обзаводиться ближними и не может позволить себе роскошь полной откровенности.
Клейста бросает в жар, все тело мгновенно покрывается испариной. Он чувствует, как бледнеет. Опять эта дрожь, опять подгибаются колени.
— Так присядьте же!
Господин советник. В такие минуты на него можно положиться. Как бы невзначай заслоняет он Клейста от посторонних взглядов своим тяжелым, широким торсом. Протягивает платок. Лицо его невозмутимо, они вместе учились, как действовать в таких случаях. Клейст с облегчением чувствует: приступ проходит, дрожь внутри улеглась, не успев перерасти в панический страх и угрюмую затравленность.
— Дамы, господин советник. Кто меня изумляет, так это здешние дамы.
— Ах вот вы о чем. — Что ж, тут советник готов его понять. В шутку, но не без тайной гордости хвалит он рейнский воздух, благоприятствующий произрастанию совершенно иной, нежели на песчаной почве Пруссии, флоры. Хотя он, Ведекинд, вовсе не хочет навлечь на себя подозрение, будто не ценит добродетелей, которым ни у кого так нельзя научиться, как у пруссаков: строгости, чувству долга, воздержанию.
В памяти Клейста воскресают знакомые голоса — отца, дяди.
— Полноте, — возражает он, — нельзя же доводить вежливость до такой крайности. Все это сильно преувеличено. В конце концов мы, пруссаки, тоже всего лишь люди.
Теперь только бы не рассмеяться, иначе он не сможет остановиться.
— Да, кстати, а как вам Савиньи? — как бы ненароком спрашивает Ведекинд. — Вы, конечно, его уже заметили?
Клейст понимает.
Ведекинд научил его, каким способом бороться с навязчивым представлением, будто все на тебя смотрят и втайне выискивают недостатки. Всеми чувствами, всеми фибрами души надо сосредоточиться на ком-либо из присутствующих. Тогда все твое внимание с собственной персоны переключится на другого, и скованность, которая иначе грозит перейти в черную меланхолию, как рукой снимет.
Что ж, Савиньи так Савиньи. Неудачный выбор. Не заметить его нельзя, это просто исключено. Разве можно не заметить собственную противоположность, столкнувшись с нею лицом к лицу? Человек, весь облик которого говорит: да, у природы есть любимцы и баловни. Да, некоторых избранников она одаривает сполна. Вот он, Савиньи, кузнец своего счастья. Богат, независим и сам себе хозяин. Уже смолоду знает свои возможности и, вероятно, даже их границы. Не одержим ничем, кроме выполнимых планов и достижимых целей. Призвание и стезя правоведа — а почему бы нет? Но Клейст возбраняет себе предвзятые суждения о человеке, которого привлекает долг службы.
Настроение его падает, он это чувствует. Неужели он так унизится, что станет завидовать этому Савиньи, его непринужденности и уверенности в общении с себе подобными? Завидовать его манере беседовать с дамами, которые не в силах ему противостоять? Вон даже Беттина, непоседа и шалунья Беттина, и та вдруг сделалась сама кротость и нежность, едва Савиньи взял ее под руку и что-то сказал, дружески, но внушительно. А ведь этот сердцеед, Клейст готов поклясться, совершенно к ней равнодушен.
Он для них пустое место, вот что его бесит. Еще не написана вещь, которой он ударит и по этим тоже, да так, что всех сразит, всех поставит на колени. Неужели ни одному из них предчувствие не подсказывает, кто на самом деле этот бессловесный гость, посетивший сегодня их салон? На самом деле? Или только в собственном воображении? Слухи, до них дошли слухи. Нетрудно представить, какие сплетни оживляют светские беседы в богатых домах на Рейне и Майне. То и дело Клейст чувствует на себе взгляды, от которых тошно на душе.
Наконец-то. Чай готов, просят к столу.
Чай подает служанка, совсем молоденькая девушка с удивительно свежим лицом. Беттина радостно устремляется ей навстречу — пожалуй, слишком пылко. Гюндероде успевает заметить неприязненное удивление в глазах прусского гостя. Что делать, она знает Беттину. Но ему, конечно, такое поведение кажется странным и неуместным: она берет служанку за локоток, громко называет по имени — Мари и во всеуслышанье объявляет, что песни, которые она сегодня наигрывала на клавикордах, ей напела эта девушка: народные песни, сказки, а также цветы и травы, вообще всю ботанику этого края лучше ее никто не знает. После чего, взяв с подноса две чашки, Беттина направляется к Гюндероде и Клеменсу, обещая брату несколько настоящих шедевров для его сборника народных песен — «мелодии притягивают текст будто магнитом». Брат слушает ее вполуха, и она, ни о чем не спросив, только пристально взглянув в лица обоим, отходит к большому овальному столу, за которым рассаживаются почти все остальные, Клейст в том числе. Гостей обносят печеньем в ажурных фарфоровых корзиночках. На миг воцаряется полная тишина. Гюндероде слышит вдруг биение своего сердца, и глупая, бессмысленная надежда опять просыпается в ее душе. Потом Гунда Савиньи произносит:
— Тихий ангел пролетел.
Клеменс морщится. Сентиментальность этой своей сестры он переносит с трудом. А Гюндероде не может выказать по отношению к Гунде и намека на неприязнь, она знает: дружеский союз с Савиньи возможен лишь при неукоснительном соблюдении всех пунктов и параграфов кодекса, это союз трех, и третья в нем — Гунда. Она невольно улыбается. Нет, третья в этом союзе вовсе не Гунда, третья — она, как ни стараются эти двое ее разуверить. Любовь связывает прочней всякой дружбы, ей ли этого не знать.
Чему это она смеется? Ах, Клеменс! Ну же, смелей, пусть Каролина не стесняется, он уже начинает привыкать к ее тайной издевке. Она и свой поэтический дар от него так тщательно прятала, ни строчки ему не показала — все только затем, чтобы потом над ним посмеяться, посрамить его этим томиком стихов, выпущенных, можно сказать, у него за спиной.
Зачем она здесь… Пора бы себя знать. И ни к чему играть с собой в прятки, выискивая какие-то другие причины: свободное место в мертеновском экипаже, настырные уговоры ее подружек Паулы и Шарлотты Сервьер, всегда неразлучных двойняшек, каждую из которых по отдельности просто никто не замечает. Истинная причина — теперь она ясно ее видит и понимает задним числом, почему так не хотела ехать, — истинная причина вот какая: ей нужно было повидать Савиньи. Только страсть заставляет нас поступать против воли.
А Клеменс все никак не уймется, не может себе простить, что чего-то недоглядел, не заметил в ней душевного совершенства, какое проступает в ее стихах. Он, признаться, даже плакал — вот до чего был растроган тонкостью чувств, которые пробудили в нем эти стихи. Ему, честное слово, казалось, что он слышит в ее стихах отзвуки собственных переживаний.
Только спокойствие. Неужели я так никогда и не научусь быть готовой действительно ко всему.
— Мужчине вы бы всего этого не сказали, Клеменс, — произносит она наконец. — Почему бы вам не сказать мне начистоту, что в поэзии я пытаюсь собрать себя воедино, как в зеркале, увидеть себя всю, увидеть насквозь и выйти за собственные пределы. Нам не дано знать, чего мы стоим в глазах других, в глазах потомков — тем паче, и это меня вовсе не заботит. Но все, что мы высказываем, должно быть правдой, ибо мы высказываем наши чувства. Вот вам, если угодно, мое поэтическое кредо.
А теперь довольно, уговаривает она себя, только не зарываться, поменьше взвинченности, громких слов и самомнения. Я могу обмануться и в жизни, и в поэзии, и то и другое может не получиться, но выбора у меня нет. А дружба — дружба тоже не дает мне даже видимости счастья.
— Да, — говорит вдруг Клеменс с неожиданной горечью, будто подслушав ее мысли. — Вы такая. Сдержанность и самообладание. Всегда сама строгость — к себе и другим. И само недоверие. Ты не любишь меня, Каролина, и никогда не любила.
Разве не было у них уговора: об этом больше ни слова? С нее довольно, она очень устала. Что он там еще говорит? Называет себя моим лучшим, моим единственным истинным другом. Если б он знал: я не чувствую ничего, кроме страха умереть душой и отвращения перед пустыней, что расстелется во мне, когда меня покинет молодость. Мой друг, мои друзья… Я слишком хорошо читаю в ваших взглядах. Я вам неприятна, только вы не знаете почему. А я знаю: среди вас я сама не своя. А там, где я как дома, любовь дается только ценой смерти. Одному я удивляюсь: что эта очевидная истина никому, кроме меня, неведома, и мне приходится прятать ее, будто воровскую поживу, между строчек стихов. Пусть бы кто-нибудь набрался мужества понять смысл этих стихов дословно, да так и прочесть, спокойным, ровным голосом, как читают объявления. Сразу бы узнали, что такое страх.
Вдруг — такое часто с ней бывает — она видит перед собой, отдельно от себя и от всех прочих, причудливый узор — будто на огромном листе белой бумаги запечатлелись в чертеже отношения людей, собравшихся сегодня в зале: витиеватое хитросплетение линий, извилистых, ломаных, прямых, внятных и едва различимых, нескончаемо длинных и оборванных внезапно. В этом странном рисунке — красота непреложности, будто возник он не в ее голове, а сам по себе, неведомо откуда. И она вдруг замечает точку, которую все линии старательно обходят, образуя вокруг белое пятно. Клейст. Человек, который никого, кроме своего врача, здесь не знает и ни с кем, кроме него, не общается. Есть что-то до боли трогательное в том, как он сидит, зацепив носками башмаков ножки стула, и держит перед собой чашку, которая давно пуста. Что в таких случаях предписывает вежливость? Развлечь гостя беседой или оставить его в покое, который ему, по всему видно, так дорог? Она уже несколько раз встретилась с ним глазами, и от этого пристального, непонятного взгляда ей немного не по себе.
Еще один из тех, кто принимает себя слишком всерьез.
Клейст думает: этот Брентано, похоже, заявляет на нее права. Как мой Ведекинд на меня.
Спору нет, он ему многим обязан. Ведекинд помог ему, как помогают умирающему: принял, приютил, и все это без колебаний и лишних расспросов. Очень может быть, что он его спас, но кто сказал, что спасенный всюду должен следовать за спасителем?
Стыд. Для Клейста нет чувства мучительней.
Как будто он не знает, что связывает его с Ведекиндом. Приютить больного — что ж, это, возможно, долг врача. Средства спасения — вот чего Клейст не может простить ни ему, ни себе. Пусть это верх неблагодарности — втайне упрекать врача в том, что он сумел одолеть духовное оцепенение больного единственно возможным путем: заставив его говорить, постепенно участливыми вопросами выманив признания у человека, который считал себя уничтоженным и упрямо цеплялся за свою немоту. Клейст никогда не забудет сладостной боли, благотворной и постыдной вместе, какую испытал, понемногу уступая этим мягким расспросам; не забудет, как жаждал этой боли и страшился ее. Он, конечно, понимал: из его же собственных фраз, которыми он до жути точно описывал свое состояние, советник сплетает спасительный канат, чтобы потом мало-помалу, пядь за пядью вытянуть его из смертельной бездны. Этот образ следует понять буквально. Ибо тогда, на полпути из Франции, в Майнце, где все и случилось, Клейсту казалось, что он разбился, упал в темный колодец и лежит на дне шахты; и всякий, кто не мог разделить с ним это чувство, был ему непереносим. В том числе и доктор, на лице которого написаны душевный покой и физическое здоровье. Рассудительность, умеренность, экономия сил — да, тысячу раз да! Разве здоровому понять больного? И советник отстал со своими увещеваниями, чтобы не раздражать пациента. А тот — вот ведь чудак! — немного успокоился лишь после того, как нашел сравнение, дабы точно описать, что с ним творится: он, мол, попал в шестерни огромной мельницы, которые разрывают его на куски и переламывают каждую косточку по отдельности.
Вне всяких сомнений: этот человек страдал. Врач видел, как он корчится, слышал, как он стонет, точно под пыткой. Клейст помнит: боль исторгла у него признания, вырвала слова, которыми он пытался описать свои муки. Это выше человеческих сил, доктор. Должно же это когда-нибудь кончиться, лучше уж смерть.
С тех пор Клейст знает: слова бессильны выразить душу. Он никогда больше не посмеет писать.
А потом он вдруг снова оказался на холодных, по-зимнему промозглых улицах Майнца; неприкаянный, он брел наугад, путая свою неприкаянность с душевным покоем, пока его взгляд случайно не упал на выбитого в надвратной арке каменного орла, которого он принял за прусского. Все перевернулось в его душе, и ноги сами понесли его обратно к дому Ведекинда. Доктор, представьте себе человека, с которого живьем содрали кожу и пустили бродить по свету. Его ранит всякий звук, слепит малейший отблеск света, ему нестерпимо прикосновение даже легкого ветерка. Доктор, этот человек — я. Я не преувеличиваю, поверьте мне.
«Я верю вам», — только и сказал Ведекинд, растроганный и потрясенный. И остался сидеть у постели измученного больного, который, будто стараясь удержать самого себя, изо всех сил обхватил туловище руками; голова его яростно металась по подушке, пока он наконец не уснул. Лишь недавно надворный советник дал понять гостю, что нашел в литературе и название, и симптомы, и подробное описание его болезни, но он не хочет подвергать сомнению истовость и оскорблять достоинство его страдания, переводя его на язык точных медицинских терминов; его к тому же самого снедает неуверенность: вправе ли наука, чья метода — бесстрастное, деловитое обобщение, судить о глубочайшем личном горе, ибо ей, науке, недостает в таких случаях главного — трагического опыта, который способен перевернуть всю человеческую жизнь, недостает знания простой истины: бывает боль, от которой можно умереть.
Милейший надворный советник… Ему, должно быть, давно известно: человек предпочитает гибнуть под бременем, которое взвалил на себя сам. Но такого чудака, как я, думает Клейст с неожиданной веселостью, чудака, который с дьявольской педантичностью сам вершит путь своей кончины, ему, ручаюсь, еще не доводилось видеть. Пришлось ему махнуть рукой на догму о свободной воле — а он так на эту догму полагался, — да и его детская вера, будто во всяком недуге заложено его исцеление, тоже основательно на мне подорвалась. «Что-то гложет вас, Клейст, и вы не в силах с этим совладать». Святая правда. Зависимость от уз, господин надворный советник, вот в чем несчастье. От уз, которые душат, если их терпеть, и режут, когда пробуешь освободиться. И этот недуг время не лечит, годы его только усугубляют.
Советник, который уже научился бояться гордости этого человека, тешит себя надеждой, что Клейст забыл унизительные сцены тех первых дней. Но тот, на свою беду, все помнит. И как он плакал, даже кричал, и как молил советника, чужого, в сущности, человека, о сострадании; и как в исповедальном пылу вымолвил имена, что жгут каленым железом: Ульрика, Вильгельмина. Помнит, как являл собою зрелище до того жалкое, до того был раздавлен отчаянием, виной, позором поражения, что даже Ведекинд в конце концов не выдержал и, схватив его за плечи и тряся, закричал: «Да за что же, скажите на милость, вы так себя истязаете?!» Клейст впал в неистовство, потом, обессилев, уснул и проспал целые сутки, а проснувшись, спокойно и твердо заявил: он теперь знает, как быть, — пойдет в столяры.
Клейст скрипнул зубами. Знать бы секрет, как отключить этот жуткий механизм, что работает в мозгу вместо нормальной памяти и беспрерывно, снова и снова прокручивает в одинаковой последовательности одни и те же мысли, повторяет одни и те же нескончаемые, мучительные диалоги, которые он, оправдываясь перед незримыми обвинителями, ведет сам с собою все эти бессчетные дни, ведет всегда — что бы ни делал, куда бы ни шел, где бы ни находился, и даже среди ночи или под утро, в четыре, когда внезапный толчок выбрасывает его из сна.
С ума сойти.
— Вы что-то сказали?
— Я? Нет-нет, ничего. Задумался. Глупая привычка.
Йозеф Мертен, гостеприимный хозяин. Парфюмерия и пряности, коммерческое предприятие, Франкфурт-на-Майне. Любитель искусств, поклонник науки.
— Смею надеяться, вам у нас хорошо?
— Очень хорошо. Превосходно. Весьма обязан.
Неужели и он из тех напыщенных дураков, которым для полноты счастья просто необходимо украсить свой купеческий салон двумя-тремя дворянскими титулами, пусть даже такими жиденькими… Ведекинд, правда, уверял его, что теперь — по крайней мере хоть в этом сказалась близость Франции — этот чванливый обычай не в моде. «Вот тут я вам верю!» — воскликнул Клейст. Единственное, на что еще способен этот захиревший народ, — упразднить парочку отживших обычаев…
— Клейст, поговаривают, вы ненавидите французов, возможно ли?
— Очень даже возможно. Да, я их ненавижу. — А про себя: как ненавидишь, когда слишком сильно любил.
Этот человек все еще остается для доктора загадкой, к тому же, едва здоровье его окрепло, он снова ушел в себя. Теперь, когда он говорит, уже не кажется, будто он произносит слова через силу. И в откровенности больше не пускается. Наскрести бы ему силенок побольше, хоть чуть-чуть, чтобы хватало на сарказм, — и, можно считать, дело сделано.
Однажды в доме у советника, в тихом семейном кругу, он вдруг рассказал, сохраняя непринужденный, почти игривый тон, будто говорил о чем-то забавном, какое это непростое дело — жечь бумаги, как плохо они горят, особенно если у тебя не печь, а сущее наказание — дымит, чадит, тяги никакой и золы полно. Но когда языки пламени начинают наконец лизать листы и скомканные жаром страницы вдруг вспыхивают и мгновенно чернеют, какой тогда испытываешь подъем, какое облегчение! И какую чувствуешь свободу! Невероятную свободу!
— Свободу? От чего?
Клейст смеется — вымученным, натужным смехом:
— Свободу от обязательств, которые, быть может, всего лишь самообман.
И больше от него ничего не удалось добиться. Если бы еще советник не прочел то письмо, от Виланда… Ну почему английская пуля не разорвала в клочки это письмо, а заодно и сердце! «Пусть весь Кавказский хребет, сам Атлас давит на Ваши плечи[161] — Вы должны закончить Вашего „Гискара“». Господи, стыд-то какой! Ведекинд небось думает, среди литераторов подобный тон — обычное дело. Неудивительно, что человек с подорванной психикой пал жертвой неумеренных амбиций своих друзей.
Кто я такой? Лейтенант без портупеи. Студент без штудий. Чиновник не у дел. Автор без книги.
Душевнобольной. Лучше всего свыкнуться с этим определением, еще пригодится.
Только не писать больше. Все что угодно, только не это.
Гюндероде через всю залу идет к нему, чтобы забрать пустую чашку. Какая глупость — нельзя уйти только потому, что приехала в чужом экипаже. Как тянется время, каждая минута будто вечность. Что такое? Беттине якобы что-то понадобилось в ее сумочке. Какая неловкость! Она роняет ридикюль, что-то блестящее выскальзывает оттуда и крутится на гладком паркете. Кинжал. Клейст невозмутимо поднимает его, протягивает Гюндероде.
— Несколько странная принадлежность для дамской сумочки, сударыня.
— Странная? Возможно. Я этого не нахожу.
В мгновение ока Беттина похищает у нее кинжал. Она давно хотела рассмотреть эту вещицу как следует. Подумать только, Гюндероде носит при себе оружие!
Как по команде, все поднялись. Клейст с неудовольствием слышит тихий вопрос Савиньи:
— Всегда?
И ответ Гюндероде:
— Всегда.
Савиньи укоризненно покачивает головой. Кинжал передают из рук в руки, проверяют клинок («Какой острый!»), восхищаются красивым серебряным набалдашником. Клейст только диву дается: каждый из присутствующих, похоже, что-то знает или слышал про «кинжал Гюндероде». Шарлотта и Паула Сервьер, прелестные двойняшки, тут же затевают шуточный поединок, Ведекинд поспешно становится между ними, отбирает кинжал и лишь наполовину шутливо заявляет: на правах врача он конфискует холодное оружие из-за его очевидной опасности.
— Вы этого не сделаете, — произносит Гюндероде с неожиданной серьезностью, и в наступившем молчании советник с поклоном возвращает ей кинжал. Как ни в чем не бывало Гюндероде прячет его в сумочку.
Уму непостижимо. Самое время прервать загадочную сцену: двустворчатая дверь распахивается, слуга вносит вино. Позвольте, но звали только к чаю! Мертен возражений не принимает. Вино в наших краях пьют вместо воды, его нельзя считать угощением. Кстати, это вино из его собственного виноградника, за качество он ручается. Хозяин, по всему видно, любит выпить.
Клейст заметил: сцена с кинжалом раздосадовала и огорчила Савиньи; не ускользнуло от него и другое — если, конечно, ему не показалось: Гюндероде хотела отвести Савиньи в сторону, поговорить наедине, но тот сделал вид, что не заметил ее жеста, и вот теперь, благо предлог под рукой, обращается к Клейсту:
— Говорят, вы недавно из Парижа?
Браво, Савиньи! Это ты умеешь, друг мой: уклоняться. Как меркнет свет. И я совсем одна.
Зависеть от стольких вещей, власть которых над собой она признавать не хочет, — вот что ей отвратительно. А более всего отвратительно, когда эту зависимость замечают другие. Какой позор… Савиньи и тут ее раскусил: «Наша Гюндерозочка очень мила, но такая слабенькая…» Сейчас он обстоятельно излагает Клейсту свое намерение посетить Париж с научными целями. Клейст отвечает сдержанно: Париж? Да, для настоящего ученого, возможно… На что Савиньи, конечно же: как, а разве ему, литератору, путешествие ничего не дало?
Болтовня. Если бы разом онемели все уста и заговорили мысли. Одно из тех желаний, которые Савиньи неодобрительно называет безумствами. «Манерничанье, — сказал бы он. — В известном смысле манерничанье. Пресловутая загадочность. Я хочу сказать, Гюндерозочка, что это ведь вовсе не в вашем характере — быть в глазах стольких людей экстравагантной особой».
В этом он весь. Мягкость — но в меру, мечтательность — но до известных пределов, и уж ни в коем случае не хандра. Ясность, спокойствие, твердость и при этом всегда — жизнерадостность. Что же из этого вытекает, мой милый Савиньи? А то, что Гюндерозочке не следует более надоедать тебе. Ей должно знать свое место — в сторонке; и к тому же помалкивать. Ей следует — так, во всяком случае, всем будет приятно и удобно — даже посмеиваться над собой, нашей славной Гюндерозочке, нашей кроткой овечке. Ей не следует обременять ничью совесть. И он ведь прав.
Он и сейчас, в споре с Клейстом, конечно, тоже прав, это сразу видно по лицу, сохраняющему выражение превосходства, пока противник имеет глупость горячиться. Да он заикается или что-то в этом роде! Внезапные затруднения речи плотиной перегораживают поток слов, он запинается, давится словами, наверно очень взволнован. Полно, да не послышалось ли? Неужто они спорят о Руссо?
— Руссо, — выкрикивает наконец прусский гость, — четвертое слово на устах каждого француза. Но, побывай Руссо в нынешнем Париже, скажи ему кто-нибудь: «Полюбуйтесь, вот дело ваших рук», — как бы он устыдился!
Надо было остеречь молодого человека. Пускаться с Савиньи в такой спор — безнадежная затея. Она наперед знает, каким тоном Савиньи сейчас ответит: тоном безмерного изумления.
— Как? — вопрошает тот. (Ну конечно, именно этим тоном.) — Вы искали в сегодняшней Франции следы Руссо? Его идей?
На что Клейст, теперь холодно, надменно до смешного:
— Безусловно. Для чего же еще являются на свет идеи, как не для высокой цели их осуществления?
Гюндероде просто видит, какие мысли мелькнули сейчас в красивой голове Савиньи: «Так вот ты каков. Из мечтателей». Она же помнит, сколь часто и сколь безуспешно сама пыталась противостоять его поучениям, а еще более тщетно — его снисходительной мягкости; как обжигало ее желание хотя бы раз увидеть страдания этого человека; как страдала она сама, поняв и признавшись себе, что мера участия, к которому он ее вынуждает, от нее уже не зависит, когда убедилась на горьком опыте чувства, что не участие владеет ею, а разгорающаяся страсть. И как страдала потом, когда гордость, воспитание, да и все жизненные обстоятельства повелели ей утаить от него, что творилось в душе. И это ей удалось, пожалуй, даже слишком хорошо удалось, притворяться она умеет. Однажды он даже упрекнул ее в этом — намеком, конечно, как всегда, когда речь у них заходила о главном. «Все вот говорят о „Страданиях юного Вертера“, а другим тоже случалось страдать, только о них романов не пишут». Сотни, тысячи раз перечитывала она эту фразу, и фраза не тускнеет, не стирается, смягчая горечь унижений, которым, с его помощью, она себя подвергла. «Я так рада, так рада была Вашему письму…»
Ужели это все еще правда? Или все переменилось? Возможно ли? Но если я не ищу утешения в самообмане, значит, мне уже не больно, Савиньи, почти не больно. «Я хотел вам сказать — это будет ужасно неестественно, если мы не останемся самыми близкими друзьями…»
— Вашу руку, Савиньи. Надеюсь, она уже не болит?
— Как? Прошу вас, Каролина… Я тут как раз пытаюсь указать молодому поэту границу между философией и жизнью.
— Вашу руку, Савиньи. Уже не больно, не так ли?
— Хорошо, Гюндерозочка, раз ты настаиваешь — не больно.
— Вот видите. Значит, это всего лишь дверца, вы прищемили руку дверцей кареты. Врач даже подумал, что вы обожглись, — надеюсь, не слишком сильно?
— Известное дело, врачи всегда преувеличивают. Но кое-кто, захлопнув дверцу, поверь, причинил мне невероятную боль.
— Приходится верить. Это очень красивая история — с вашей рукой. Теперь мне эта рука даже милей, чем здоровая.
— Не забывайте, Гюндерозочка, вы теперь не только мой друг, вы — наш друг.
— Что вы, Савиньи, можно ли такое забыть! Гунда и вы — вы теперь оба в моей судьбе.
Так говорят во сне. Или на прощанье, когда уже нечего терять. Клейст чувствует — он не помеха этому странному разговору, а коли так, можно и не отходить.
— Жаль, что я не ваш брат, Савиньи. Или не сестра Гунды.
— Ах, Гюндерозочка, глупышка Гюндерозочка…
Хорошо. Именно так — вперед, все дальше вперед, как сомнамбула, и не страшно сорваться. Потому и не страшно, что это возмутительно — зависеть от чего бы то ни было, возмутительно быть не свободной, не единственной и не первой в любом союзе. Неужели вы думаете, что я не найду в себе сил и мужества вырваться от вас обоих и жить собственной, отдельной и счастливой жизнью?
— Откуда такие мысли, Гюндероде, что за странные намерения? Да у вас прямо республиканские взгляды, уж не замешана ли тут французская революция? Что ж, тогда вам легко будет найти общий язык с нашим юным другом. Я ему доказываю, что наш миропорядок, строго отделивший царство мысли от сферы действия, — просто благо для человечества, а он ни в какую.
— На его месте я бы спросила, в чем же благо?
— Именно этот вопрос он мне только что и задал. И я отвечу ему и вам: благо — в свободе наших мыслей, которой мы обязаны этому мудрому мироустройству. Подумайте сами — сколь жестким ограничениям пришлось бы подвергать всякую мысль, если бы мы опасались возможности осуществления наяву наших фантазий. Но, слава богу, это не так: философию нельзя поймать на слове, жизнь нельзя поверять идеалом. Это закон.
— Остается спросить: непреложный закон? Исключений не бывает?
— Никаких. Это закон законов, Клейст, он обосновывает бытие человечества во всем его неизбежном разладе. Посягнуть на эту истину — значит стать преступником. Либо безумцем.
— Ба! — восклицает Клейст с наигранной радостью. — Вот уж спасибо! Благодаря вам я начинаю понимать Гёте.
— Вот как? Объяснитесь.
— Не сейчас, Савиньи, как-нибудь в другой раз. Итак, философия — вы сами сказали — стала беспочвенной и безосновательной. Это верно, верно в буквальном смысле: если бы вы сами побывали во Франции и повидали то, что довелось видеть мне, вы бы поняли, о чем я говорю. Философия безосновательна, потому что подменили ее основы; она беспочвенна, потому что из-под идей вырвали почву.
Разлад. Его слово в устах Савиньи. Погрузившись в молчание, Клейст в одиночестве застыл у окна; можно поручиться — он не видит того, на что смотрит, иначе этот ландшафт исторг бы из его груди возглас благодарности. Бывает так: всю жизнь перед глазами человека лишь один пейзаж, земля его родины, — сосны, покатые зеленые волны, поля ржи, картофеля, свеклы и снова сосны… Клейсту кажется, что он прямо слышит перешептывание чужих мыслей у себя за спиной. Часы бьют четыре, как медленно идет время. А те, в зале, по-прежнему легко и безупречно вершат свои передвижения, словно в беззвучном танце, где каждая фигура исполнена скрытого смысла. Здешние нравы не порицают легкости, а скорее предписывают ее, — все это Клейсту в диковину и не лишено очарования. Никто здесь меня не знает, думает он. Почти никто.
— Вы совершенно правы, — слышит он вдруг совсем рядом. — Есть слова, которых от Савиньи вовсе не ждешь.
— Однако вас следует опасаться.
— Большинство так и поступает.
А чем мы лучше большинства? Разве мы обязаны быть иными? А если и обязаны — как это сделать?
— Я как раз думал, — говорит Клейст, и в этот миг он почти уверен, что думал именно об этом, — я как раз думал, как назвать противоположность разладу.
— Единение, — отвечает Гюндероде. — Согласие.
— Вам и это известно. Надеюсь, вы не смеетесь?
— Разве можно смеяться над тем, что столь важно и так всем необходимо?
— И на что можно опереться?
— Конечно. Доколе хватит сил.
Дельфийский оракул. Клейст этого не любит. Говорить о разладе может только тот, кто на собственной шкуре испытал, что это такое. Впрочем, эта женщина наделена даром чувствовать настроение: она тут же меняет тему и — теперь уже самым заурядным тоном — задает вопрос:
— Вам уже случалось бывать в наших краях?
Что ж, извольте:
— Дважды, сударыня. Последний раз с сестрой. Я знаю эти места, видел с корабля.
Та поездка по Рейну, как и всякое длительное пребывание наедине с Ульрикой, кончилась в обидах и ссорах. Мы знаем почему, но воздержимся от объяснений. Мне мил этот край, то-то подивились бы все эти Гюндероде и Брентано, услышь они, что писал тогда бесчувственный пруссак своим друзьям, он и сейчас наизусть помнит эти письма: «Но красивейшие места Германии[162], где наш великий садовник потрудился на славу, не жалея умения и сил, легли по берегам Рейна между Майнцем и Кобленцем — мы сами в том убедились, пройдя здесь вниз по течению. Это край сбывшихся поэтических грез, и самая пышная фантазия не вообразит ничего прекрасней этой долины, которая то привольно раскинется, то спрячется между скал, то утопает в цвету, то мертвеет пустыней, то ласково смеется, то леденит душу страхом».
Даже Брентано, этот баловень счастья, которому слава далась смолоду и легко, и тот не поверил бы своим ушам, а после кинулся бы обнимать незнакомца, повторяя всем и каждому: «Да знаете ли вы, что слышали?! Помяните мое слово, со временем, когда все встанет на свои места, этот отрывок можно будет найти в любой школьной хрестоматии!» Как же легко и всякий раз сызнова мы соблазняемся этой мыслью: где-то там, нескоро, за могилой, все встанет на свои места, по истинному достоинству и праву, а не по обычаям, титулам и рангам. Пустое…
Как раз сейчас — редкостная сцена — Брентано (все трое — Клеменс, Гунда и Беттина) оказались вместе в середине залы, они улыбаются друг другу, как могут улыбаться только братья и сестры, поднимают бокалы, чокаются, пьют. Поразительное фамильное сходство, не столько в лицах, сколько в осанке, жестах. Так можно держаться, только твердо веря: без тебя в этом мире не обойтись, думает Клейст. Он посмеет даже назвать их самоуверенными — только потому, что это неумение сомневаться в себе — унаследованное качество и сами они о нем ведать не ведают. Впрочем, все трое очаровательны, каждый по-своему, и брат тоже. Глубокие черные глаза, высокие светлые лбы, вьющиеся темно-каштановые волосы. Примесь итальянской крови, Ведекинд намекнул. И самовлюбленная живость речи. Никаких тебе заиканий, никакого косноязычия. Всем взяли — ростом, лицом, статью, при всей экзальтированности сразу видно, что называется, породу, он ведь не спорит. Красивая порода.
Довольно! Хватит! Опять эта мания славы, вечно этот вздор, засоряющий мысли, когда он не в силах с ними совладать. Школьная хрестоматия! Умора, да и только!
Смутно он припоминает, как однажды пожаловался доктору: музыка в нем заглохла, и это хуже всего. Остались только пронзительные, надрывные диссонансы, прошлой осенью в Париже, в этой жуткой пустой комнате с неистребимым стылым запахом прокисшего дыма от них раскалывалась голова, боль была такая, что он готов был согласиться на что угодно, готов был весь мир перевернуть вверх тормашками, лишь бы избавиться от этой боли.
Опять! Ничего нет отвратительней литературных оборотов, никогда не осеняют они нас на вершине страдания — тут мы немы, точно бессловесная тварь, — но вкрадчиво являются после, неся с собой самолюбование и обман. Готов был согласиться! Как будто он не сам, не по своей воле и невзаправду решился перевернуть всю свою жизнь, когда его повлекло прочь из ненавистного города и он брел туманными низинами на север, к нормандским берегам, чтобы подчиниться этому дьяволу в образе человеческом, своему смертному врагу, и там, на Британских островах, под его знаменами сыскать свою гибель. Шел к Наполеону! Вместо того, чтобы бежать от него на край света.
Сумятица в голове… Клейст уже начал забывать, что повелело ему тогда сняться с места, суть тогдашних поступков и побуждений — а ведь была же суть! — ускользает от него. Теперь он всем и каждому твердит: он не ведает, что творил, события тех дней от него сокрыты, помрачение ума. Душевнобольной, спасительное словцо Ведекинда, достаточно туманное и многозначительное, чтобы всем, в том числе и ему самому, все объяснить. Ибо никому не дано долго вытерпеть мысль, что чем сильнее в человеке сопротивление злу, тем неодолимей в нем тяга этому злу подчиниться. Никому не дано долго помнить, что имена, которые мы даем злу, всегда лишь подмена, подсказанная страхом перед другими именами. Наполеон. Клейст чувствует, как набухает мерзкое слово, впитывая в себя все яды ненависти, завистливого презрения и унизительной ревности. Но в то же время он чувствует — отказываясь себе верить, — как влекутся все темные соки души к этому имени, как льстиво и жадно льнут к нему, точно к ложу соблазна.
Он никому никогда не расскажет, он сам забыл и вспоминать не хочет, что было после: как покидал он пустынное ноябрьское побережье — ибо проклятый корсиканец отказал ему даже в этой малости, даже под пули не пустил, он, видите ли, передумал, он не послал флот в Англию и попросту отнял у страждущего последнюю надежду: умереть на поле боя, — как добирался до Парижа, а оттуда — с неукоснительной подорожной, которую вручил ему прусский посланник, — в Потсдам и потом в Майнц.
— Испорченный инструмент. Починили на скорую руку, не играть — из него не извлечь ни одной ноты, — так, для вида. Ломать вроде не стоит, беречь тоже ни к чему. Что может быть лучше, доктор? Ни тебе надежд, ни тебе обязательств. Живи — не хочу!
— Клейст…
— Хотел бы я, господин надворный советник, хоть раз в жизни повстречать человека, который разрешит мне быть самим собой и втайне об этом не пожалеет.
Как вернуть его к жизни, если он даже не знает, с какой стороны к ней подступиться…
Некоторых людей природа защитила от крайностей. Непомерные деяния, непомерные мысли их отталкивают. Не без тайного удовлетворения вспоминает Клейст, как отпрянул от него доктор чуть ли не с криком «Чур меня, чур!», когда, подчиняясь бескорыстному зову профессионального любопытства, спросил у Клейста, что чувствует человек, сжигая самые сокровенные свои бумаги. На что Клейст, изменившись в лице — потом доктор даже назвал его лицо в тот момент восторженным, — без колебаний ответил: «Просто передо мной разверзлось Ничто».
Тут надворный советник оборвал разговор. И вообще оставил надежду понять пациента. А его это вполне устраивало. Он чаще стал ездить в Висбаден, днюя, а иной раз и ночуя в доме тамошнего священника, терпеливо сносил лукавые взгляды, которыми его встречал Ведекинд, и даже его игривые намеки на непревзойденную целительную силу женских чар. Он-то знал: Марианна, дочка священника, наивное дитя, и помыслить не смеет о том, что другим казалось яснее ясного. Он бродил с ней по окрестностям и рассказывал о своих странствиях. Со священником, человеком деликатным и умным, они объяснились просто: в ответ на его озабоченный взгляд Клейст только покачал головой. Он мог приходить и уходить когда вздумается, никто от него ничего не ждал и не требовал, и ему было хорошо. Однако едва заметные перемены, налет скованности в поведении девушки, его насторожили: он понял, что не может более оставаться подле нее, не внушая напрасных надежд. Старая песня.
— Я уеду, господин советник. Уже скоро.
— Разумеется, Клейст, и правильно сделаете. Но вряд ли из-за этого стоит огорчаться.
Клейст намерен рассказать ему одну притчу, это, пусть уж он не обижается, история про его собаку. Если, конечно, он не сочтет неудобным на время уединиться от остального общества.
Это уже неприкрытая издевка. До них никому и дела нет. Здесь собрались давние знакомые, у них свои разговоры, вечно одни и те же, посторонними здесь интересуются скорее из вежливости. Гюндероде заполучила наконец своего Савиньи, все хочет верить, что последнее, решающее слово еще не сказано. Хотя, она знает, все давно решено. Осталось то, что остается напоследок: яд расставания. Чего она ждет? Утоления обид? Чтобы он понял ее до конца?
Она хочет казаться язвительной.
— Чтобы снискать вашу милость, Савиньи, одной безупречности мало. Иначе вы давно были бы влюблены в меня до беспамятства. Но это не так. Я смиренно кладу к вашим ногам все свои совершенства, а вы — вы ступаете по ним, как по камням мостовой. Откройтесь же наконец — как заслужить вашу любовь?
— Разве я не умолял тебя, Гюндерозочка, никогда не носить в моем присутствии эти золотые часики на шее? И что же я вижу — они опять на тебе.
— Потому что я знаю, Савиньи, никакие золотые часики, никакие ухищрения Гюндероде вам не опасны. Но скажи, друг мой, тот чудодейственный вензель, что я вышила после твоей свадьбы у тебя на рубашке, помогает или нет?
— Ты спрашиваешь, как завоевать мою любовь? Но ты сама знаешь, что для этого нужно, помимо совершенства. Нужна соразмерность независимости и преданности.
— Я надеялась, Савиньи, услышать от вас что-нибудь пооригинальней.
— Ты же не слушаешь меня, Гюндерозочка, ты вечно твердишь свое. А я не однажды пенял тебе на недостаток доверия, на твою утрированную самостоятельность.
— Вы очень любезны. Говорите «утрированная», чтобы не сказать «дурацкая». И недвусмысленный запрет говорить вам «ты» — он тоже был достаточно красноречив, более чем красноречив. Но мне все было мало. Зато теперь получила сполна. Что ж, поделом. Ошибаясь в другом, вини себя.
Необдуманно, невыдержанно, чрезмерно, утрированно… Ах, Савиньи. Ведь то было всего лишь стихотворение. Да, согласна, жест поспешный и необдуманный. «Поцелуй во сне». Но тебе-то, за две недели до свадьбы, не все ли равно? «Тот поцелуй, вдохнувший жизнь в меня…» И еще, не в силах совладать с собою, приписала: «Это все правда. Вот какие сны снятся Гюндерозочке, и про кого? Про того, кто так добр и так всеми любим».
Ах, Савиньи, нельзя пристыдить того, кому и так стыдно. Лучше бы тебе промолчать. Лучше бы тебе смолкнуть перед болью, в которой не было притворства, это ты должен был почувствовать. Как и то, что я была не властна над собой… Неужели я так и подумала — «была»?
— Савиньи! Я только что подумала — «была»!
— Ну и что? Можно узнать, почему это тебя так радует?
— Нет, Савиньи. Нельзя. Все знать вообще не обязательно. Главное, ваша покорная слуга это знает. Впрочем, мне вспомнилась одна поучительная история, я вам ее еще не рассказывала. Это было несколько лет назад, в Саду Леонгарда. Там, на балконе, я стояла с неким молодым человеком, мы были одни, и так хотелось поговорить по душам, но волнение и, кто знает, может, даже замирание сердца мешали мне. Молодой человек тоже некоторое время молчал, но потом, посчитав, видимо, что пауза затягивается, спросил: «Кстати, а как ваш брат? Он все еще в Ханау?» Вопрос этот почему-то оказался мне крайне неприятен, он вызвал во мне чувства, каких я просто не переношу. Скажите сами, неужели тот молодой человек не мог спросить о чем-нибудь другом, гораздо более важном?
Правильно, мой друг, так меня. Савиньи заслужил. Отплати глупому Савиньи за все его глупости.
Всегда они видят только себя. Вы ведь подумали: опять эта злость, эта ирония, желание говорить гадости, не так ли? Нет бы хранить женственную кротость… А ведь я только хотела сказать: теперь я знаю, почему, столкнувшись нос к носу, мы все же разминулись, как слепые кутята, и думаю, вам тоже нелишне знать об этом…
— Не правда ли, друг мой, вы всегда немножко лавировали? Даже в дружбе. И не показывает ли мой вопрос, что все это время вы ничего не знали о вашем друге, вашей сестричке, вашей Гюндерозочке? Не показывает ли он, что вам со мной всегда было чуть-чуть не по себе, моя натура вас несколько озадачивала? И что вы не давали себе труда как следует разобраться, чему верить — собственным ли глазам или же пересудам, в которых меня выставляли то кокеткой, то святошей, то чуть ли не мужчиной в юбке, то воплощением женственности? Пересудам, которым нет дела до того, что вменяется в долг истинному другу: за всеми масками разглядеть лицо?
— Так меня, Гюндерозочка. Получай, Савиньи, по заслугам.
— Я серьезно, друг мой. Мое сердце охладело к вам, наконец-то я поняла, что собиралась тебе сегодня сказать, и, видишь сам, я даже не бледнею. У меня много дел, Савиньи. Мне читают «Историю Швейцарии» Мюллера, я Шеллинга изучаю с огромным усердием, а еще, хотя с моей стороны величайшая глупость тебе в этом признаваться, я пишу драму и всецело захвачена ею. Я до того вросла в нее душой и помыслами, что собственная жизнь кажется мне чужой. И лучшего мне не надо, слышишь, Савиньи. Гунда говорит, мой талант так скромен, что посвящать ему всю жизнь просто глупо. Что ж, может, это и порок, но мне этот порок дорог. Он, этот порок, вознаграждает меня за все мирские невзгоды. И помогает верить, что все на свете имеет свой смысл и свое назначение, в том числе и моя натура, сколь бы уязвима она ни была. Иначе я бы уже распорядилась своей жизнью, дорогой Савиньи. Вот что я давно хотела тебе сказать. И кончено. Больше об этом ни слова. Никогда.
— Какая длинная речь, друг мой. Савиньи ее не забудет.
Краем глаза Клейст видит, как оба встали. Не без удивления — или почудилось? — замечает он во взгляде Савиньи легкое замешательство, в лице Гюндероде — неожиданную твердость. Савиньи склоняется к ее руке — пауза, — потом они стремительно расходятся в разные стороны: она — к Беттине, что ждет ее в нише у окна, он — к группе мужчин, которая, то ли из вежливости, то ли из интереса, образовывается вокруг Клейста.
Половина пятого.
Ведекинд, несколько утомленный пребыванием наедине с подопечным, явно обрадован и теперь, испросив согласия Клейста, хочет поделиться оригинальным наблюдением, которое его гость, Клейст, весьма проницательно произвел над его, Ведекинда, собакой. Белло, безобидный и верный пес, с первых же дней очень привязался к Клейсту и потом неизменно сопровождал его в самых далеких прогулках. Так вот, однажды господин Клейст поставил этого пса, который, надо заметить, являет собой образец радостного послушания, между двумя противоположными приказами. С одной стороны, жена Ведекинда позвала пса из кухонного окна посторожить младшую дочурку советника, с другой же — сам господин Клейст свистнул ему с улицы, приглашая на прогулку. Бедный пес, не зная, как быть, заметался по двору между окном и воротами, и на морде его, как уверяет Клейст, было написано неподдельное горе. Ни Клейст, ни госпожа советница не отменили своих распоряжений — так сказать, ради эксперимента. И представьте, конфликт оказался псу не по силам. Глаза его подернулись дымкой — у собак это признак крайней усталости, — и, одолеваемый дремотой, он улегся точно посередке между женой советника и Клейстом и мгновенно заснул.
Изумление, смех, аплодисменты. Клейст — все взгляды направлены теперь на него — добавляет:
— Да, мы с госпожой надворной советницей тоже посмеялись вволю. Но позже, поразмыслив, я сказал себе: «Бедная тварь».
И, пока господа обсуждают услышанное, добавляет про себя: «Так бы проспать всю жизнь».
К сожалению, Ведекинд роняет неуместное замечание.
— Господин фон Клейст находит, — сообщает он с улыбкой, — что и сам в чем-то уподобился нашему славному Белло.
Все желают знать, что имеется в виду.
Больше всего на свете Клейст хотел бы сейчас промолчать. Он знает, в такие откровенности нельзя пускаться безнаказанно. А потому отвечает как можно короче: сравнение, конечно же, шутка, хотя нельзя не заметить сходства между бедственным положением животного и неразрешимыми ситуациями, в которых иной раз оказываются люди.
— Например?
Мертен, гостеприимный хозяин. Ему невероятно льстит слышать в своем доме столь глубокомысленные беседы.
Но вопрос задан.
— Например? Взять хотя бы такой случай: некто, на беду свою или на счастье, чувствует в себе неодолимую тягу или, скажем, предназначение. Однако он стеснен в средствах, жизнь за границей, где он мог бы свободно следовать своему призванию, ему не по карману, а прожить в своем отечестве, не поступая при этом на службу, тоже невозможно. Но эта служба, само искательство которой уже сопряжено для него с неимоверными унижениями, во всех смыслах претит его призванию. Voilà[163]. Вот вам пример.
Молчание. Наконец Мертен решается объявить, что имел удовольствие прочесть драму Клейста «Семейство Шроффенштейн» (он и представить себе не может, как покоробило автора это сообщение), и спрашивает Клейста, не видит ли тот возможности обеспечить себе хотя бы скромное существование продажей своих литературных трудов.
— Писать ради денег?! Ни за что! — восклицает Клейст с неожиданной горячностью. — Даже на чуждом, безразличном мне военном поприще я противился меркантильным интересам, так неужели я подчиню им свое призвание?!
Бог ты мой, кому я все это говорю!..
Клейст переживает сейчас одно из тех скорбных озарений, когда с поразительной ясностью сквозь жесты проступают мысли, сквозь поступки — тайные побуждения, а слова раскрываются в своей истинной сути; когда все вокруг, и в первую очередь он сам, предстает в убожестве наготы и душа содрогается от омерзения, а слова — его ли, чужие ли — спрыгивают с губ, точно жабы. Тем больнее трогает его за живое странная фраза Гюндероде, долетевшая от окна, где две барышни, Гюндероде и Беттина, устроились на подоконнике: «Стихи — бальзам на все наши печали».
Удивительно — эта женщина, даже беседуя с другими, говорит словно только с ним. Почему в этом призрачном многолюдстве она единственная кажется ему живой?
С неожиданной серьезностью, которая сразу располагает к нему Клейста, Брентано произносит:
— Вы правы, Клейст. В наше время писать нельзя. Можно только помогать поэзии — по мере сил. Поэт живет словно в пустыне, его терзают дикие звери — ибо всех зверей не зачаруешь песней, — и кривляки обезьяны с ужимками пританцовывают за ним по пятам.
На что Клейст, не раздумывая и тоже очень серьезно:
— В жизни все больше несуразицы и все меньше доверия.
Снова молчание, но без всякой неловкости. Гюндероде, Клейст видел, прислушивалась к разговору, и ему это приятно. Он не лишен навыков в таком косвенном общении. Что же, тогда он им скажет.
— Не однажды я зарекался возвращаться на родину, в Пруссию.
Никто не спросит почему. У них недостает воображения даже на точный вопрос. Ему это знакомо: безмятежность чела, во взглядах — ни искры понимания. Да и что, в самом деле, может гнать молодого прусского дворянина, отпрыска знатного и древнего рода, из отчего края? Края, к которому он привязан, теперь-то уж можно сказать, против воли. Которому он — всего лишь несколько лет назад! — радостно пожертвовал свою юность, чего здешним господам тоже не понять, они ведь привыкли к смене границ, к смене правителей, а вскорости, по всему видно, столь же легко привыкнут и к власти чужеземца. Он же, напротив — эта мысль только что пришла ему в голову, — жил не в людском сообществе, даже не в государстве, а в идее государства. Это еще надо обдумать, со всеми причинами и следствиями.
Когда он первый раз пересек границу, продолжает он, ему впервые довелось испытать странное чувство облегчения: родина казалась тем милей, чем больше он от нее отдалялся. Он помнит, как постепенно отпускала его тяжесть добровольного, но все же неоплатного долга перед отчизной; как под конец он освободился от этого гнета настолько, что смог даже спокойно спать по ночам и снова радоваться жизни. У него и сейчас перед глазами Вюрцбург, Дрезден, Цюрих, и тот островок на Тунском озере, и даже Веймар. Времена внутренней свободы, которую он там ощутил, в Берлине не повторятся.
Внезапно, говорит он, ему показалась естественной мысль, которая прежде просто не умещалась в голове: в жизни есть цветы счастья, и их можно срывать, когда захочется. Поняв это, он решил искать себе другую родину и никогда не забудет ту ночь…
Он вдруг смолкает — приступ немоты. Будто органы речи сами себя застопорили, думает Гюндероде, чтобы помешать этому человеку раскрыться больше допустимого. Господи, какая мука — самого себя на всем скаку останавливать. Но она испытывает интерес, а не жалость. Обычно ведь сразу видишь человека насквозь, ей это наскучило.
Та ночь, вспоминает Клейст. Был декабрь, когда я добрался до Швейцарии, чтобы вступить на землю своей новой отчизны. Сеялся тихий дождик. Я искал звезды в облаках. Близь и даль — все было так темно. Казалось, будто и впрямь пришел в другую жизнь…
Его не подгоняют, все ждут. Наконец советник, посчитав, что пауза затянулась, тихо спрашивает:
— И что же?
— И что же? — переспрашивает Клейст резко. — А вы не догадываетесь? Я нигде не нашел того, что искал.
— А что вы искали? — Это Мертен, он так просто не отстанет.
Мертен хочет помочь. Кажется, он понял, что имеется в виду. Но как может отдельный человек, обособившись от прочей массы, навязывать свои идеальные запросы целому государству, предписывать свои чрезвычайные требования всему человеческому сообществу, ведь оно должно удовлетворять интересам всех — крестьянина и коммерсанта, придворного и поэта?
Как будто сам он не размышлял над этим до умопомрачения.
— Ладно! — пылко восклицает он. — Пусть государству нет дела до меня и моих запросов. Я согласен, если меня убедят, что такое государство устраивает крестьянина или коммерсанта, что оно не принуждает всех нас жертвовать собой, нашими высокими целями ради своих, государственных интересов. «Прочая масса», вы сказали? Что же, насиловать мне себя прикажете, приноравливая свои взгляды и цели к ее меркам? А главное — кто скажет, что ей, этой «прочей массе», во благо? Вот ведь в чем вопрос, и что-то не видно охотников его решать. В Пруссии их точно нет.
— Клейст, голубчик, — вставляет Савиньи, — вам не кажется, что вы далеко заходите?
— Нет, не кажется, — отвечает Клейст. — Да, многое из того, что другие почитают святыней, мне не свято. Многое из того, что другие презирают, я не считаю возможным презирать. У меня в груди свое внутреннее предписание, против которого все внешние, будь они подписаны хоть самим королем, ничего не значат.
— Ради бога, Клейст! — восклицает Савиньи. — Что вы такое проповедуете? Чеканит, будто строевой устав! Скажите, вы не боитесь? Вам что, неведом страх?
Что на это возразишь? Еще как ведом, любезнейший. Самый страшный, безымянный страх. Мне иногда кажется, я лишь для того и живу на свете, чтобы найти ему имя. И оно уже близко, совсем рядом, во мне самом. Надо только как следует вслушаться. Представляю себе их физиономии, скажи я им, в чем мое истинное назначение: вечно охотиться за самим собой, как этот дуралей, пес советника, за собственным хвостом. Но они признают все что угодно, только не право несчастного быть несчастным.
Мертен желает высказаться. Сколько он понял, господин фон Клейст изъяснялся в том смысле, что он не может ужиться ни с какими традиционными устоями.
Клейсту уже невмочь от этой болтовни. Безусловно, соглашается он. Очень многое в нынешнем мироустройстве настолько претит его разумению, что он не считает возможным поддержанию этого мироустройства содействовать и как-либо участвовать в укреплении его основ.
Но разве в Пруссии, спрашивает Ведекинд, не искал он места в технической комиссии?
— У министра Штруэнзее, как же… Он был ко мне даже весьма благосклонен. Но вы и не представляете, насколько пропиталась армейским духом вся прусская коммерческая система. Когда министр, на службу к которому я должен был поступить, завел со мной разговор об эффекте машины, выяснилось, что подразумевает он вовсе не математический эффект, о котором я охотно бы с ним побеседовал. Нет, под эффектом машины он разумел только доход, который та может дать, только деньги, и ничего больше!
Тут уж Йозеф Мертен не может удержаться от смеха.
— Но, дорогой мой, математический эффект любой машины интересен лишь постольку, поскольку приносит эффект экономический!
Кто здесь сумасшедший? Я или они? Чего доброго, если так дальше пойдет, скоро ребятишки на улице начнут на меня пальцем показывать, как на юродивого. О таких вещах, как истина, и заикнуться боишься.
— Если все так, как вы говорите, тогда ответьте: во имя чего государство тратит миллионы на поощрение учености? Или его, государство, так волнует истина? Государству нет дела ни до какой иной выгоды, кроме той, которую можно исчислить в процентах. Истина нужна ему лишь в той мере, в какой ее можно использовать. Оно желает истину употребить. А на что? На развитие искусств, промыслов и ремесел? Но искусствами нельзя командовать как войсками на плацу. Искусству и науке никакой король не поможет, если они сами себе не помогут. Не надо в них вмешиваться — это единственное, чего они жаждут от властителей.
— Ну и суждения! — Брентано ошеломлен. — И кому же вы собираетесь все это поверить в вашем Берлине?
— Никому, — отвечает Клейст. — Ни одной живой душе. Лицемерить и хитрить я не мастер, зато науку молчания усвоил крепко. Непростая наука, но полезная. И вам рекомендую, пригодится, корсиканец у дверей.
Бестактность. Но ее сейчас сгладят. Вот, Ведекинд уже бросился спасать положение:
— Клейст, у вас только один путь: выгодная партия!
— Золотые слова. Только вот беда — наше бранденбургское дворянство почти сплошь обнищало. Что остается? Монетку бросать. Франция или Пруссия. Служба или писательство. Унижения и скромный доходец либо гол как сокол, зато душа спокойна.
Это уже легко пропустить мимо ушей. Все смеются, оживленно жестикулируют, спешат к дамам. Савиньи трогает Клейста за рукав.
— Не подумайте, будто я лезу к вам в душу, Клейст, но, сдается мне, вы сами усугубляете свои беды, расписывая их в таком безотрадном свете, чтобы тем легче покориться безысходности.
Упоение страданием? Только этого недоставало. Знали бы они, как манят его все житейские радости, как мечтает он жить среди простых людей и заниматься делом, которое кормило бы его, не губя. Но где им понять — нет, на всем белом свете нет для него этого бесхитростного счастья.
— Оставим это, — говорит он Савиньи. — А за поведение мое не взыщите. Видит бог — и, поверьте, я тоже вижу: иному человеку только и остается быть несправедливым — что к другим, что к себе. И утешаться немудреной мыслью, что так уж устроен мир.
Мягкий предвечерний свет струится в окна, все снова сходятся к большому столу.
Гюндероде тянет на волю, побродить наедине с мыслями, пришедшими на ум в разговоре с Беттиной, но тут ею завладевает Лизетта. Умна, образованна (романские языки, занятия ботаникой, страсть к поэзии) — и этот взгляд, который она буквально не спускает с бодрого, но тощего супруга, Нееса фон Эзенбека, чья болезненность — вечный предмет ее забот и угрызений.
Она с ходу выпаливает Гюндероде, что находит это верхом неприличия — так, у всех на глазах, секретничать с Беттиной.
Ревность? Слезы?
— Лизетта! А я-то всегда думала: коли есть на свете счастливая женщина, так это ты.
Да, и это так, она настаивает, — но только в том, что касается мужа. А в остальном — женщина все равно несчастна, так уж устроена жизнь. Подавленные влечения, страсти…
Что она сказала? Уж не послышалось ли? Гюндероде изумлена. Воистину, мы себя не знаем.
А Лизетта обрушивает на нее упрек за упреком: она, Гюндероде, забыла все, что их когда-то связывало. Как они проводили вечера в ее каморке, в пансионе, и как им было хорошо вдвоем; как она, Лизетта, однажды сбежала в сад, чтобы не встречаться с докучливым посетителем, и прождала ее весь вечер у задней калитки.
— Будто твоя возлюбленная, Лина, будто у нас роман. А потом, когда ты ко мне вышла, мы целовались. Было ужасно темно, только узкий серп на горизонте, и цвел жасмин.
Гюндероде ничего этого не помнит, но молчит. Сквозь годы она видит ту, иную Лизетту и сравнивает с нынешней. Ничего общего, два разных человека. Необратимость перемен, с собой она такого не допустит.
Миг откровенности уже позади. Лизетта — замужняя женщина и даже в узком кругу не может об этом не напомнить. Вот она уже проявляет преувеличенную заботу о супруге, просит закрыть окна, Неес так боится сквозняков. Тоже своего рода месть — превращать мужа в дитя малое за то, что не можешь быть собой. С ней об этом уже не поговоришь, думает Гюндероде, прежней искренности не вернуть. И Лизетта тоже скоро будет считать меня гордячкой.
Скверная привычка: оценивать друзей прощальным взглядом. Но еще скверней другая: гадать, что они будут говорить между собой о твоей скорой смерти.
Высокомерие. В глубине души, там, где она к себе беспощадна, Гюндероде знает: не такая уж напраслина этот упрек, хотя, как и большинство упреков, он не ухватывает главного. Да, она высокомерна. Ведь вот только что, когда они с Беттиной сидели в оконной нише и подруга с жаром убеждала, что нет ничего лучше чувства собственной незначительности, Гюндероде вдруг поняла, почему ей так нужна Беттина — именно для того, чтобы хоть на время избавляться от тайного ощущения своего превосходства, которое издавна отчуждает ее от других. Незначительность! Беттина и вообразить не может, как запало ей в душу это слово, когда впервые встретилось в одном из ее писем. Сейчас она задорно и не без злорадного торжества сообщает Лизетте и двойняшкам Сервьер, Гунде и Софи: Гюндероде приняла ее веру, Беттина будет ее наставницей в незначительности. Договор скреплен рукопожатием, а больше она ничего не скажет, это их тайна.
Все набрасываются на Беттину. Разумеется, мешать подруге в систематических научных занятиях куда проще, чем самой взяться за ум и всерьез подумать о пробелах своего образования. Беттина корчит презрительную гримаску, не считая нужным возражать. А Гюндероде все еще в плену этого слова — «незначительность». Как смело развеивает оно видения гордыни, разрушает затаенные мечты о собственной незаурядности, в которых Гюндероде и себе признаться не смеет. Как помогает разорвать кокон иллюзий, в котором она от себя прячется. Свои новые стихи и драматические опыты она издаст под другим псевдонимом, она последует этому зову остаться неузнанной. Слишком внятно чувствует она, как давит на нее выжидательный интерес публики, сковывая, отнимая непринужденность. А забудешь о значительности, перестанешь мнить о себе бог весть что — насколько легче и естественней жить, насколько ближе тебе все эти люди.
Что ж, этот день дал ей то, что можно было взять. Скорей бы уехать!
Клейст знает такие компании: люди собираются вместе, чтобы лишний раз убедиться в собственной правоте. Насчет женской образованности у него свои, твердые и, как ему кажется, обоснованные суждения, и была возможность проверить эти суждения на практике — дома, на сестрах, и в семействе фон Ценге. Педагогическое вожделение, он вкусил и от этой страсти. «Дóлжно ли человеку делать все, что считается правильным, или довольствоваться мыслью, что правильно только то, что он делает?»
Умственная задача. Боже милосердный! А сдавленные смешки за спиной — или ему тогда послышалось?
Что теперь? Быть не может, неужто Клеменс Брентано и впрямь вознамерился читать стихотворение? Гюндероде, поскольку речь идет об ее стихах, пытается его отговорить, но куда там. Он намерен использовать стихи в качестве улики против автора. Он все общество призывает в свидетели: поэтесса Тиан сама уличает себя в непостоянстве.
Стихотворение — диалог в поэтической форме — большинству присутствующих, похоже, известно. Действующие лица — некая Виолетта и некто, знаменательным образом названный Нарциссом. Виолетта упрекает возлюбленного в неверности, в ответ на что Нарцисс:
О, вам ли ведать, что такое верность! И вам ли о неверности судить! Кто, разделяя страсти упоенье, Не отдает всего себя забвенью И не теряет трезвой мысли нить, — Лишь тот неверен, лишь тому нет веры: Он чувство проверяет чувством меры И той же мерой мерит страсть твою. Так знайте — верность у меня другая, Та, что любви верна не рассуждая. Я в миге страсти вечность претворю!Клеменс сам чувствует — декламация обернулась против него. Что-то изменилось во всеобщем молчании. Зато Клейст встрепенулся. Осмелиться на такое, так вот запросто отдавать всю себя в чужие руки! Отчаянная женщина! И в гневе она тоже прекрасна.
— Клеменс, — отчеканивает Гюндероде, — против тупоумных рецензентов я бессильна. Но как, скажите, быть с другом, который намеренно причиняет боль?
Клеменс, пунцовый от стыда, просит прощения. Наконец-то даже в нем ничего напускного. Недоразумение вроде бы улажено. Никогда еще не случалось Клейсту видеть, чтобы люди так далеко заходили во взаимной резкости и все же не становились врагами. Может, те проблески надежды, наивные мечтанья его отрочества вовсе не вздор: доверие — не пустой звук, любовь — не фантом. Ладно, не хватает еще пуститься в сантименты. Гюндероде, которая случайно оказалась рядом, он говорит, что будущее время в последней строчке ее стихотворения представляется ему знаменательным.
— Да, верно, — отвечает она. — Мне самой это только сейчас пришло в голову.
Когда Клеменс читал ее стихи, у Гюндероде было такое же чувство, как и в тот раз, когда она, бредя вдоль болота, едва не угодила в трясину. Почва под ногами вдруг предательски подалась, будто плохо натянутый барабан. Смертельный испуг, но и жутковатая радость, все вперемешку. Друзья переполошились, вытащили ее на твердое место, корили, называли легкомысленной, а она молчала. Легкомысленна? Нет. Любопытна — это точно. Ее неудержимо влечет туда, где почва проваливается под ногами. Влечет неодолимое, непотребное любопытство, которое похуже всех смертных грехов, десять заповедей меркнут перед этим соблазном. Убить отца и мать — жуткое злодейство, но и такое можно помыслить. А вот убить себя — это противно природе. Таков ее удел — идти против совести. И каждый новый шаг дается все трудней.
Когда же, где же оно — успокоение?!
Это недостойно, думает Клейст, — позволить времени сломить тебя. Почему, ну почему мне не дано жить как все, вместе со всеми?
Бывают такие нескончаемые дни. Часы бьют пять, общество решает пройтись. В предвкушении прогулки Клейст облегченно вздыхает, но радоваться рано: у Мертена к нему разговор. Он, конечно, всего лишь скромный читатель, в литературном деле, можно сказать, профан, однако не может удержаться от совета молодому автору: его первая пьеса, «Семейство Шроффенштейн», весьма вычурна, вряд ли стоит продолжать в том же духе.
На мгновение Клейст просто теряет дар речи. Он и сам давно считает, что пьеса никуда не годится, но не говорить же об этом сейчас. И он смущенно бормочет что-то о страстях, которые правят человеческой жизнью, вовсе не заботясь о логике.
Мертен снисходительно улыбается. Но разве не в том величие нашего времени, что оно обуздало низменные страсти и владыкой над всем утвердило разум? Уж не требует ли он, вмешивается Клеменс, от изящной словесности того же порядка и ясности, что от своих бухгалтерских книг. Мертен с самым невинным видом отвечает:
— А почему бы и нет? Если правила хороши в одном деле, чем они непригодны в другом?
Клейст, уже не в силах удержаться — спорить, так по существу, — восклицает:
— Порядок? О да! Наш мир упорядочен. Но скажите, красив ли он еще, этот мир?
— Все зависит от того, как понимать красоту.
Да у него не только претензии, у него и резоны. Он — это уж против всех ожиданий, — оказывается, готов даже привести одно место из драмы «нашего дорогого гостя» в качестве примера превратного понимания красоты. Вот, извольте:
Миг после преступления порою Прекраснейший из мигов целой жизни.[164]Разве не кроется в этих словах почти что призыв к преступлению?
Клейст напряженно смотрит Мертену прямо в глаза, в серые глаза коммерсанта. Ни искры понимания. Как можно мягче он объясняет злополучную фразу, а про себя думает: да нужны ли тут оправдания?
— Любовь, — слышит он свой голос, — любовь хватается за подобные утешения.
Напрасный труд. Нет бы просто сосредоточенно и робко пройтись по этой узкой улочке вдоль приземистых крестьянских домов, перед которыми в этот час сидят тихие старушки с вязаньем и о чем-то между собой судачат. Откуда этот зуд — вечно брать верх, быть правым?
Беттина между тем заявляет, что свободное, безграничное (но не безответственное!) наслаждение жизнью — единственный закон, которому стоит подчиняться.
На это Клейст, с неприязнью: лишь тот имеет право поносить науки, кто прошел через них.
Науки? Да не они ли стремятся заковать в железный панцирь душу и разум? Не они ли готовят нам железный век, куда искусству дорога заказана, где художник навсегда обречен одиночеству?
Вечно одно и то же, как по писаному. Не хватает только, чтобы кто-нибудь заговорил о прогрессе.
Эту часть берет на себя Лизетта. Руссо, его знаменитый трактат о влиянии прогресса наук и искусств на нравственность.
Мы все всё знаем.
В этот миг Клейсту предстает видение будущего: это не эпоха деяний, это век болтовни. В бесстрастном свете этой догадки меркнет даже приветливый ландшафт. Вот мы все тут сидим, перебрасываемся, как мячиками, словесами минувшего столетия, наши ловкость и находчивость тщетно борются с утомлением и подступающей дремотой, и все мы знаем: не ради этого стоило бы жить и не за это умереть. Наша кровь прольется, а нам даже не сочтут нужным сообщить, во имя чего.
Клейст чувствует, как вскипает неистовая ярость, она страшит его, но и радует.
— Пути науки и искусства разошлись, — говорит он, пока еще почти тихо. — Таков весь ход нынешней нашей культуры: все больше отдавать рассудку и все больше отнимать у воображения. Смерть искусства можно предсказать уже с математической точностью.
Тут уж Неес фон Эзенбек не может молчать: затронута его честь естествоиспытателя. Он не говорит — он будто с кафедры вещает:
— А я целиком за то, чтобы дух времени, прогресс науки перешагнул через хотя и понятную, но все равно бесполезную меланхолию господ литераторов. Не примите на свой счет, дорогой Клейст. Что до меня, то я бы все отдал за возможность прожить еще одну жизнь лет через сто-двести и приобщиться к райским благам, которые — именно благодаря расцвету наук! — будет тогда вкушать человечество.
Ход рассуждений, основанный на ошибке; но вскрывать изъян еще не время.
— Вы исходите не из взаимосвязи вещей, а из отдельных дисциплин, — возражает Клейст. — Неужто я обязан положить все свои способности, силы, всю свою — шутка сказать! — жизнь на изучение одной разновидности насекомых или на то, чтобы определить место какого-то одного растения в ряду других явлений и вещей? Неужели столь унылый путь ведет в землю обетованную? Что-то не верится. Неужели не видно, как пагубна эта маниакальная сосредоточенность на одном, эта целеустремленность циклопов?
— Что вы предлагаете? — Голос Савиньи, чьего слова все давно ждут. — Закрыть лаборатории? Запретить совершенствование инструментов для научных исследований? Обуздать любознательность — одно из благороднейших устремлений человечества?
— У Савиньи, — вставляет вдруг Гюндероде, — у Савиньи на все есть свое «или — или». Да будет вам известно, Клейст, у него мужской ум. Ему ведома лишь одна любознательность — к тому, что неопровержимо, логически последовательно и поддается истолкованию.
Ну и женщина! Неужели она тоже провидит это противоречие, эту губительную трещину в судьбе рода людского. И похоже, чувствует в себе силы не отрицать этот недуг, а вынести его.
— Но не для того же существуют поэты, чтобы отнимать у людей надежду! — восклицает Мертен.
— Избави бог, господин Мертен, конечно, нет. Поэту вверены наши иллюзии, тут он безраздельный властелин.
Так, чего доброго, его еще сочтут язвительным. К тому все идет. В человеке заложена неистребимая воля к познанию, без этой воли человек почти животное. Но едва мы вступаем в царство знания, как плоды наших усилий будто по мановению злого волшебства оборачиваются против нас. И к чему бы мы ни пришли в конце — к просвещению или к невежеству, — наш выигрыш равен проигрышу.
— Как вас понять? — Вопрос Гюндероде.
— Человек, — отвечает Клейст, — обречен, подобно Иксиону, вечно катить в гору огромное колесо, которое срывается на полпути и летит в пропасть. Чья-то непостижимая воля правит родом человеческим. А если так — какой с человека, с этого существа, спрос даже перед богом?
Клейст, сильно взволнованный разговором — куда только девалась его сдержанность, — вдруг, повернувшись к Ведекинду, быстро заговорил, обоими кулаками бия себя в лоб:
— Да, да, да! Может быть, изъян где-то тут, внутри! Может, коварная природа, устраивая мой мозг, вознамерилась пошутить, и теперь, куда бы ни посягнул мой разум, на всяком пути его подстерегает гримаса отрицания. Ведекинд, вы же врач — вскройте этот череп! Посмотрите, что там не так! А потом возьмите ваш скальпель и твердой рукой отсеките! Как знать, может, в лицах ближних я читаю истину, может, я и вправду чудовище, безумный гений? Доктор, умоляю вас — вырежьте недуг! У вас не будет пациента благодарнее меня.
— Дорогой мой, — в голосе Ведекинда Гюндероде явственно слышит дрожь, — что за немыслимые вещи вы говорите…
На что Клейст, уже спокойно, но обессиленно:
— Что возможно помыслить — мыслимо. Разве вы так не считаете, господин советник?
Со дворов шум простых работ: стук топора, звяканье ведер. Куры на тропинке, что потянулась от околицы к прибрежным лугам. Земля под ногами, небо над головой. Уютные домики, которые под его взглядом будто чуть сдвигаются, испуганно теснясь поближе друг к дружке. Заговор вещей.
Разговоры, разговоры… Савиньи. О двусмысленности и уязвимости существования писателя. Писатель, мол, никогда не может принять себя всерьез, поскольку сам придумывает себе и свой мир, и трудности в этом мире. Иными словами, постоянно имеет дело с плодами своего воображения.
Наверно, никто из них, думает Клейст, но сказать не решается, никто из них не связан с этим миром столь прочно и не чувствует его так сильно, как я. Видимость обманчива. Вместо него, за него вдруг говорит Гюндероде:
— А по-моему, не обманывать себя — это значит искать новое в брожении времени, стараться вырвать это новое и высказать, дать ему имя. Мне кажется, если этого не делать, мир остановится.
Значит, спрашивает Савиньи, она видит время как кратер вулкана?
— Мне нравится этот образ, — отвечает Гюндероде.
Клеменс — он сейчас возглавляет шествие — оборачивается:
— Мне сегодня приснилось, что умер Гёте. Я все глаза выплакал во сне.
Что тут поднялось! Будто Клеменс не сон рассказал, будто Гёте и вправду умер. Клейст с трудом сдерживает что-то вроде ревности, словно только ему дозволено видеть Гёте во сне, чего, кстати, никогда не случалось. Даже странно.
Гюндероде — она все еще держится рядом — как раз недавно перечитывала «Тассо».
Я раздроблен до глубины костей, Живу, чтоб это чувствовать…[165]Что ж. И у него на памяти не одна строка. Соразмерность таланта и жизни, вполне уместная тема. И все же его не покидают сомнения: удалось ли автору все сказать до конца, сделать самые важные выводы из взаимоотношений персонажей?
Что он имеет в виду?
Сейчас он скажет этой женщине то, чего никому еще не говорил, и он знает почему.
— Одно мне не дает покоя: отчего раздор Тассо со двором основан всего лишь на недоразумении? А что, если бы не Тассо был несправедлив к герцогу и в особенности к Антонио, а, наоборот, они к нему? Если бы его беда была не вымышленной, а действительной и неотвратимой? Если бы его возглас —
Куда, куда направлю я шаги, Чтоб убежать от гнусного гуденья, От бездны, что лежит передо мной?[166], —если бы этот возглас был исторгнут не воспаленным воображением, а острым, нет, острейшим чувством действительной безысходности? Вы улыбаетесь?
— Продолжайте.
— Я думаю, у тайного советника нет непреложной потребности в трагедии, и мне кажется, я знаю отчего.
— Так скажите.
— Для него главное — равновесие. Он полагает, что противоборствующие силы в мире можно разделить на две ветви разума — он называет их добро и зло — и что в конечном счете обе эти ветви способствуют совершенствованию человечества.
— А вы, Клейст?
— Я? — Внезапно Клейст ясно видит, что отличает его от того, другого, и всегда будет обеспечивать тому, другому, неуязвимое превосходство. — А я не могу поделить мир ни на две ветви разума, ни на добро и зло, ни на здоровое и больное. Я могу поделить мир только одним способом: взять топор и самого себя, свою душу разрубить надвое, а потом протянуть почтенной публике обе половинки. Но публику это вряд ли устроит: «Фу, какая мерзость! Где же чистоплотность!» Увы, чистоплотность предложить не могу. Вообще не могу порадовать лакомым кусочком. От моих яств хоть беги.
Пройдя еще немного, он вдруг подбирает с земли палку и быстрыми, привычными движениями чертит в придорожной пыли какой-то рисунок — то ли диковинную геометрическую фигуру, то ли замысловатый механизм.
— Взгляните. Вот схема трагедии. Представьте, что, придя в движение — а это необходимая предпосылка, — эта штуковина обречена разрушить самое себя.
Ничего подобного Гюндероде не случалось видеть, да и помыслить тоже. Тем не менее она быстро схватывает суть.
— Ну, что скажете? — Губы у Клейста чуть подрагивают.
— Вы сами знаете. Это не трагедия. Это рок.
Ответ, который собеседник, похоже, принимает с мрачным удовлетворением. Они идут молча. Временами Клейст вежливо берет Каролину под руку. Ограды из грубого камня, за ними — отцветшие яблоневые сады, узкие полосы виноградников, мир без фальши. Мимо, на уровне глаз, — оконца домов. Алые пятна цветущих гераней, белоснежные сборчатые занавески, за ними — чернота комнат, чернота неразгаданных тайн. То тут, то там плоское, блеклое, словно тронутое испугом, лицо в чепце.
— Тайный советник, — возобновляет разговор Клейст, — да и господин Мертен на все лады расхваливают мне преимущества нового века. Но мне — да, по-моему, и вам тоже, Гюндероде, — нам обоим этот новый век несет одни беды.
Со дворов, из погребов и подвалов неистребимый запах брожения. Она редко пьет вино, признается Гюндероде. За это удовольствие приходится расплачиваться головной болью. Да, отвечает она на вопрос Клейста, в этот час все взрослые еще на виноградниках, а на праздных прохожих взирают, не выказывая удивления, старики и дети. Последний дом, уже почти на самом прибрежном лугу, — столярня. На дворе штабеля досок сияют смолистой желтизной. Слышно, как уверенно вгрызается в дерево пила.
— Кажется, я понимаю, отчего вы хотели стать столяром, — замечает Гюндероде. — Так приятно вечером после простых трудов устало сесть за стол вместе с другими. Тепло. Человеческая близость.
Нет, отвечает он, не то. Не вечерняя трапеза, не блик свечи. Просто это был стул, стул в доме Ведекинда; он впервые в жизни как следует разглядел стул. Красивая вещь, изящная и прочная.
— И тогда мне показалось вполне естественным употребить ловкость, силы и усердие на изготовление мебели — занятие, польза которого несомненна.
— Да, — задумчиво произносит Гюндероде, — понимаю: хотя бы в мыслях мы стремимся освободиться от долга, что тяготеет над нами. В жизни нам этого не дано.
Она что, потешается над ним? Или, наоборот, принимает слишком всерьез? И кто дал ей право объединять их обоих в этом «мы»?
Беттина, вездесущая любимица, перебегая от одной группы к другой, нагнала наконец и их; игривым тоном она спрашивает:
— Если бы вам обещали исполнить три желания, что бы вы попросили?
— Потом скажу, — смеется Гюндероде. Желания ее бесчисленны, и она не знает, какое выбрать.
— А вы, Клейст?
— Свобода. Стих. Дом.
— Вы хотите совместить несовместимое.
— Да, — неожиданно легко соглашается он, — я знаю.
Беттина обещает всем совершенно восхитительный закат. Она осаждает Клеменса просьбами спеть, не зря же она несла его гитару. Ладно, соглашается тот. Но только одну песню, самую новую. Она посвящена прекрасной поэтессе Тиан. Он поет:
Милый май, гонец лукавый У весны на побегушках, Брось заботы, брось забавы И лети к моей подружке. Разузнай у недотроги, По которой сердце млеет, Про цветок, что в тайне строгой На груди она лелеет. Пусть цветок нашепчет милой Лепестками вместо губ: «Кто немил — того помилуй, Был немил, да станет люб!»Клеменс, конечно, чародей, ради таких вот волшебных мгновений она готова прощать ему все его выходки, хоть и знает, что именно на это он и рассчитывает. Сейчас он, преклонив колено, протягивает ей ветвь, и она против воли подыгрывает ему, изображая милостивую госпожу. Аплодисменты, просьбы спеть еще…
— Пойдемте, Клейст, — говорит она внезапно и, взяв его под руку, увлекает вдоль по берегу, прочь от остального общества, двинувшегося в другую сторону.
Она тут же жалеет об этом. Надо было подавить порыв. Да и он предпочел бы одиночество. Он проклинает светскую выучку, из-за которой не может побыть один, когда хочется. Кой прок от долгого зимнего затворничества в Майнце, если оно не дало ему даже этой толики свободы от окружающих?
Гюндероде — про себя, но как бы возражая ему, — да, это самый горький ее урок: в нас подвержено разрушению то, что хочет быть разрушенным, поддается соблазну лишь то, что ждет соблазнителя, и только то свободно, что имеет способность к свободе. И еще: познание этой истины роковым образом сокрыто от всякого, кому надо бы ее знать, так что бои, в которых мы тщетно изнуряем себя, зачастую бои с призраками.
Предположение, что он мог столько выстрадать всего лишь по ошибке, — это предположение заставляет Клейста содрогнуться. Его, привыкшего быть жестоким к себе, эта мысль наполняет жутковатым восторгом, он не прочь поиграть с ней, изучить ее во всех возможных поворотах и последствиях. Да, такая идея, если принять ее близко к сердцу, способна и убить. Но разве тут подумаешь, под взором этой барышни, которая со знанием дела вписалась в ландшафт и смотрит, — банальная сцена, трафаретные декорации, все ужасно нелепо.
Клейст и не намерен скрывать, что раскусил уловку. Но его удерживает старый вопрос: почему он не сделал этого сразу, почему малейшее душевное побуждение он должен проверять рассудком? Истинные поступки совершаются непосредственно от души, минуя голову, но он на это не способен, уж сколько раз они с Пфюлем до хрипоты это обсуждали.
Внезапно он понимает причину своей извечной усталости. Тотчас же и сравнение приходит в голову: машина, которую то и дело стопорят на полном ходу. Износ немалый, можно даже подсчитать.
— Вот ведь странность, — произносит он, — знаешь, что ход рассуждений неверен, а мысли все равно норовят пойти ложным путем, и нет сил сбить их со старой дороги. Иной раз только внешнее потрясение способно помочь беде, как было со мной несколько лет назад в Бутцбахе: мы ехали в карете, вдруг где-то сзади истошно закричал осел, лошади испугались, понесли и едва не убили меня и сестру.
— В Бутцбахе? — переспрашивает Гюндероде. — Я знаю Бутцбах. Моя бабушка жила в Бутцбахе, после ее смерти мне пришлось пробыть там полгода.
Клейст описывает ей место, где чуть не стряслось несчастье, она вставляет подробности, которых он в горячке не заметил. Зато он никогда не забудет нелепую мысль, которую тогда посчитал последней: да неужели жизнь человека зависит от крика осла?
— Ну вот, а мне теперь кажется, будто я виновата в этой вашей мысли, — и все из-за того, что это произошло в Бутцбахе! — со смехом восклицает Гюндероде.
— Уж не считаете ли вы, что можно обуздать слепой случай, который правит нашей жизнью?
Ее трогает этот человек; нравится он ей или нет — она не знает, но даже неприязнь не омрачила бы ее мнения о нем. Это и есть то ее свойство, которое все считают холодностью: она не доверяет предубеждению. Кстати, она вовсе не намерена докучать своими мыслями господину фон Клейсту, который, когда он серьезен или входит в раж, чем-то ей смешон, она не знает чем. Надо будет обсудить с Беттиной, отчего ей так часто встречаются молодые люди, к которым она не может относиться без снисходительности.
— Ваш вопрос, Клейст, ни к чему, кроме напрасных терзаний, не ведет. Осел закричал, лошадь понесла — все так. Вашему сознанию претит мысль о столь нелепой смерти. Но можно ли назвать ее случайной? Разве не была она звеном в цепи событий и поступков, которыми вы вершили сами? Что привело вас в Бутцбах? Зачем вы вообще пустились в это путешествие, разве нельзя было обойтись без него?
— Вы весьма проницательны, сударыня. То путешествие — оно с самого начала странным образом проходило как бы под знаком двойной звезды. С одной стороны, я хотел этой поездки, чтобы немного развеяться, поскольку, ближе познакомившись с философией Канта, я понял, что единственная, сокровенная цель моей жизни — овладеть истиной на стезе образования — померкла в недосягаемости. С другой же стороны, поездка была мне отчасти как бы навязана: сестра моя во что бы то ни стало хотела ехать со мной, а посему мы заказали другие паспорта, где в подорожную следовало внести цель и назначение путешествия. Что мне было сказать? Я и подумать не успел, как в бумагах моих уже значилось «Париж» и — к неописуемому моему изумлению — «Занятия математикой и естественными науками». Это у меня-то, который ничего иного в мыслях не держал, как именно бежать от всякой науки! Минуты не прошло — и бумажник мой уже распух от рекомендательных писем к парижским ученым. Все это было похоже на сон. Что делать? Ехать? Да хочу ли я ехать? А идти на попятный вроде тоже поздно. Словом, намерение мое подтасовали чуть ли не у меня в руках, и вот, в полном смятении, не зная, на что решиться, и чувствуя себя совершенно одураченным, я оказался в экипаже.
Если так посмотреть, продолжает он мысленно, эпизод в Бутцбахе меньше всего похож на нелепую случайность. Он уже почти признателен собеседнице, ведь благодаря ей он сейчас может взглянуть на эту палаческую игру, подсмотреть, как из всевозможных путеводных нитей — тех, что выбраны непреднамеренно или просто по ошибке, но и из обязательных, судьбинных, — жизнь сплетает человеку смертельную удавку.
Ему весело; он любит застигать судьбу врасплох, разоблачать ее козни.
Опять он молчит. Гюндероде в нерешительности; она не знает, каких предметов в беседе с ним можно касаться, а каких лучше избегать. Конечно, о дочке висбаденского священника — она слышала, как Ведекинд прошипел о ней что-то крайне неприязненное, — лучше не упоминать. Да и не похож этот Клейст на донжуана, которому можно польстить намеками на его амурные дела. Что ж, это, скорей, к его чести. Но она устала от общества, от необходимости строго следить за собой, да еще в присутствии Савиньи, — ей уже трудно поддерживать разговор. Тут, к счастью, память подсказывает зацепку, промелькнувшую в их непринужденной беседе.
— Ваша сестра, я слышала, весьма предприимчивая дама.
— В каком смысле?
Откуда опять это раздражение? Откуда все еще — и, он знает, теперь уж до конца дней — эта ранимость при одном упоминании о его семье? Куда однажды всадили нож, там болезненно даже прикосновение перышка. Он знает, только одно способно смягчить боль, но именно этого-то он и не может: ответить ей, в ком он обрел все, чего ищет сердце — любовь, доверие, готовность простить и помочь словом и делом, — той же мерой любви либо признаться себе раз и навсегда, что это невозможно, и тогда уж больше не мучиться. Вот так они и спорят во мне — действие и чувство…
— Говорят, ваша сестра сопровождала вас до самого Парижа в мужском платье?
Сейчас он способен расслышать в ее вопросах только праздное любопытство, не больше.
И она туда же. Как все — на уме только сенсации да сплетни. Ульрика, бедное дитя.
Прочитав его мысли, Гюндероде чувствует, как лицо ее заливается краской. Она не скрывает своего неодобрения, выслушав историю, которую Клейст с привычной легкостью рассказывает в таких случаях: как в Париже, где никто не распознает ее маскарада, Ульрика благодарит слепого музыканта, игра которого ей понравилась, а тот в ответ называет ее «мадам» и она вынуждена спасаться из зала бегством.
Гюндероде не смеется. Она редко испытывает зависть. Но сейчас она завидует.
— Хотела бы я познакомиться с вашей сестрой.
Клейст не возьмет в толк: она что, потешается над ним?
Он просит объяснений: откуда у нее такое желание?
Окажется собеседник узколобым педантом или человеком широких взглядов — Гюндероде сейчас уже все равно. Она говорит, что думает: по ее наблюдению, жизнь женщины требует большего мужества, чем жизнь мужчины. И когда она слышит о женщине, у которой такое мужество есть, ей просто хочется эту женщину знать. Такие уж пошли времена, что женщинам надо поддерживать друг друга, невзирая ни на какие препоны и условности, поскольку мужчины не в состоянии их поддержать.
Нельзя ли растолковать это поподробнее?
— Полноте, Клейст, вы и сами прекрасно все понимаете. Потому что мужчины — те, которые могли бы нам помочь, — сами безнадежно запутались. Вы давно уже не хозяева своим делам, это дела правят вами и вас же разъяли на части, так что целого не собрать. А нам нужен человек весь, целиком, только где его такого найти?
Теперь молчит он. Пристало ли женщине так говорить? И с какой стати он должен обсуждать с этой вот барышней, которую и видит-то впервые в жизни, вопросы пола, предназначения женщины и мужчины? Не исповедоваться же в самых затаенных своих сомнениях, в самых горьких неудачах? Не говорить же о том, в чем и себе-то признаться боязно?
Что до Ульрики, тут сударыня, возможно, и права, женская чуткость ее не обманула. И все же он не стал бы, да и не станет вникать в истинную подоплеку того мужества, даже сверхмужества, которое и вправду не однажды выказывала сестра. Он знает одно, знать об остальном он просто не хочет: для нее весь свет клином сошелся на брате, которому она заменила мать, которого она любит всепоглощающей, собственнической любовью и который — она так хочет, а может, так хочет он? — должен остаться в ее жизни единственным мужчиной. Какая бесчувственность с моей стороны, не так ли? А что, если его сочувствие ее оскорбит? Все, почти все ее слова и поступки вписываются в этот образ — сестры, которая упоенно жертвует собою ради брата. Образ девушки без состояния, не слишком красивой, ничем особенно не примечательной, ни обаянием женственности, ни грацией, — не в пример даме, с которой он имеет честь сейчас беседовать, — девушки, которая вряд ли может надеяться на удачное замужество. Которая, впрочем, насколько Клейсту известно, никогда особенно и не лелеяла эту надежду.
А еще — нечто в неделимом остатке, который в эту картину не вписывается и о котором им обоим сейчас обмолвиться нельзя не то что словом, даже полувзглядом. Он не совсем мужчина, она не совсем женщина… Что это значит? Любовь брата и сестры, под вечным присмотром рода людского. Ее терпят, не желая замечать того, что шевелится в немотствующих безднах крови. Благо кровного родства, недодуманная мысль. Родства, которое помогает выстоять перед тайной чужого пола.
У Клейста есть основания подозревать, что и в самый разгар его помолвки с Вильгельминой фон Ценге — хотелось опереться на нормальную, как у всех, жизнь — Ульрика догадывалась о призрачности этого союза, между ними было нечто вроде безмолвного сговора, который тяготил его не меньше, чем ее неотступные требования вернуть невесте слово. Те, кто нас знает, бьют больнее всего. Впрочем, хоть эти настояния и отравили вконец их парижские дни, не это довело его до вспышки неистовства. Ожесточило его другое: комедию, которую она ломала, надо было просто оборвать грубым словом, а он не сумел.
Бабье.
— Вы сейчас думали о чем-то, чего раньше не знали, не так ли?
— Чего вы ждете от меня?
Он оглядывается вокруг. На зелени травы желтизна одуванчиков, сюда бы живописца, показать бы ему, что на самом деле хотят выразить слова «желтый» и «зеленый». Лужайка прямо как на картине, ее и лужайкой-то неловко назвать. Вдалеке справа, заглядевшись в мерцание вод, серебрятся прибрежные ивы. Что-то в нас противится совершенству природы, особенно если смотришь на это совершенство сквозь душевный надлом.
Гюндероде снова прикрывает глаза рукой. Сейчас Клейсту, пожалуй, уже не хочется одиночества. Но вот она опять угадала его мысли, и ему опять делается не по себе. Нет ничего более прекрасного, истинного и непреложного, чем этот пейзаж, замечает она. Ей часто кажется, что пейзаж будто выплеснулся из нее самой, что все это — как бы ее продолжение вовне. Но стоит ей захотеть, и в мгновение ока пейзаж превратится в натянутый на раму холст живописца, в кощунственное изображение красоты. И ей страшно — а вдруг холст порвется, но и хочется, чтобы он порвался; часто во сне она слышит этот треск и просыпается. Ибо до жути тянет увидеть, Клейст, что там, в этих прорехах, в безднах под оболочкой красоты, — увидеть и онеметь.
Нездоровая страсть — пробираться за кулисы, глазеть на колосники; за женщинами Клейст прежде такого не замечал.
— Отвратительно, — говорит она. — Этот хаос, эти необузданные стихии в природе и в нас. Дикие влечения, которые правят нашими делами куда сильней, чем принято думать. Отвратительно истинно, я бы так сказала.
Ничего себе сочетание. Старики не потерпели бы этих двух слов в одной фразе.
У обоих на уме одно и то же имя. Гёте.
— Самое отвратительное, — признается Клейст, — это внутренний приказ идти против себя же.
И Гюндероде вторит — будто стихотворной строкой:
— Жизнь давать тому, что губит.
Откуда ему знать, что она пишет такие стихи.
— Гюндероде! Эти слова вы возьмете обратно!
— Нет, Клейст! Ни одно слово нельзя взять назад.
Что ему втолковывал Ведекинд? Умеренность, самоконтроль и, конечно, воздержанность. Только не волнение. Никаких ледяных рук, никакого колотья в висках! Никакой щекотки риска! Забыть все вздорные надежды! Забыть все, что делает его самим собой… Все насмарку, старина Ведекинд… Напрасный труд!
— Гюндероде, но разве мы не чувствуем веления подавить в себе такие слова прежде, чем они в нас созреют?
— Да, — отвечает она, — чувствуем.
— И что же?
— Надо преступить.
— Но зачем?
— Этого никто не знает.
Ну и птицы здесь. С жутким криком вылетают из густой листвы ив прямо над головой. Клейст вздрагивает. Гюндероде кладет руку ему на плечо. Оба знают: они не хотели прикосновения. И в то же время обоим чего-то жаль, обоим обидно за косноязычие своих тел, за свои не по возрасту чинные движения, смолоду скованные мундиром и платьем пансионерки, оба стыдятся своей благопристойности во имя устава и тайных грехов во имя его нарушения.
Неужто, только потеряв голову, можно изведать желание, сорвать с себя одежды и в обнимку повалиться в траву?
Однажды — это было во время его бесславного возвращения от нормандских берегов, когда даже надежда умереть оказалась разбитой, — он брел за полночь холмистой равниной. Он был утомлен до крайности, но усталость обострила чувства. И вот, спустившись в ложбину, он увидел вокруг себя холмы, они залегли и затаились, как огромные теплые звери, он видел, как они дышат, и, замерев на месте, подошвами ощутил, как бьется сердце земли. И тогда он собрал все силы, чтобы выстоять перед лицом неба, ибо звезды были уже не привычными далекими светляками, нет, — всей своей нестерпимой мерцающей телесностью они навалились на него, грозя упасть и раздавить. И, не помня себя, но выстояв, он побежал, и бежал долго, пока не завидел наконец где-то справа предутренние огни деревушки. Он постучал в дверь, ему отворила женщина, лицо ее в свете свечи было прекрасно, она впустила его в дом, без слов поставила на грубо сколоченный стол крынку молока и указала на соломенный тюфяк в углу. Он блаженно вытянулся на этом ложе и вдруг всем телом, каждой клеткой ощутил, что такое свобода, хотя само слово даже не пришло ему в голову. Но в этот миг ему была явлена мера того, к чему надо стремиться и что нужно исполнить, была подана весть, что всякий человек — и он тоже — может обрести в себе тропку, которая ведет на волю; ибо, думал он тогда, то, что мы умеем пожелать, должно быть посильно и нашим свершениям, иначе миром правит не бог, а сатана, который создал нас себе на потеху — жалких тварей, обреченных в поте лица вечно вытягивать на лямке из лона времен собственные злосчастья.
Его взгляд встречается со взглядом Гюндероде. Теперь ему жаль, что он не знает ее стихов. Может, и стоило бы испытать друг друга по самому безусловному счету. А вдруг и вправду есть под этим небом хоть одна душа, которой можно вверить снедающую его скорбь. Ведь нельзя понять то, чем не можешь поделиться с другим.
— Если не ошибаюсь, — говорит он вдруг, к собственному изумлению, — Гёте давно не обращался к поэзии.
Она усмехнулась. Она поняла.
— Иногда, — продолжает он, — мне в душу закрадывается подозрение, что он, как бы это сказать, далек от жизни, что ли.
— Что вы имеете в виду? Уж не в том ли смысле, что и Санвитале, когда она сетует: почему природа не создала из Тассо и Антонио, из поэта и служителя власти, одного человека?
— Да, именно! — восклицает Клейст. От его заикания не осталось и следа. — В этом роде. Он невозможное выдает за желаемое, а следовательно, осуществимое.
— Но он испытал это на собственном опыте.
И заплатил дорогой ценой.
Несметные часы, которые он потратил, чтобы понять этого человека, то ослепленный любовью, то прозревая от ненависти. Предчувствуя очередное поражение, которое тот, другой, ему уготовил. Что за безумство — раз от разу все больней загонять шипы в старые раны. А тот? Дай ему бог уйти целым и невредимым, да не затронет его мое существование. Да не удастся мне отплатить ему за все мои муки. Но я сорву лавровый венок с его чела!
— А вы не боитесь, что мерка, которую вы себе положили, уничтожит вас?
— Вы женщина, Гюндероде, и не можете знать, что такое честолюбие.
Что сказано, то сказано.
Этот человек, думает Гюндероде, чужд мне, но в чуждости своей близок.
— Честолюбие, — повторяет она, как бы вслушиваясь в это слово.
— Поверьте, Гюндероде, это настоящая фурия.
— Не хотите же вы, чтобы вас всю жизнь преследовали фурии?
— Хочу? Не смешите меня.
— Вы все видите в ореоле железного «должен». А я стремлюсь и учусь хотеть того, что должна.
— И создаете себе видимость свободы.
По ее наблюдению, продолжает Гюндероде, честолюбие людей одаренных обостряется от неблагоприятностей жизни, честолюбие бездарей — от уязвленного самомнения.
— Неплохо сказано. И к какому же разряду вы причислите меня?
— Это каждый знает про себя сам.
— Нет, Гюндероде, в том-то и дело, что нет. Разве мало людей, все беды которых от самообмана? А они, хоть убей, этого не видят…
— Да, это верно, — соглашается она. — Мы слепы. Сворачивая с проторенных путей, мы не можем знать наперед, куда приведут нас наши тропки. Для своего времени мы чужаки, это закон. Мы обособляемся из времени, но как отзовется эта обособленность в грядущих днях, и отзовется ли?..
Клейст спрашивает себя, когда же и как проникла в его жизнь темная краска, проникла и расползлась, точно чернила в прозрачной воде. Он видит себя — так припоминают случайных знакомых — юным офицером, по воскресеньям вместе с тремя товарищами они уходят из Потсдама, странствующие музыканты, играют в деревенских трактирах на танцах. Давно это было и в другой жизни. Даже желание вспоминать и то пропало. Интересно, эта женщина рядом с ним, которая умеет долго молчать, умеет оставить вопрос без ответа, — видит ли она сейчас все изломы и переливы зеленого цвета в тени ив, какие видит он? Кажется ли и ей тоже, что река почти остановилась, замечает ли она на водной глади тот же металлический блеск, отбрасываемый только в этот час, когда солнце светит только под этим углом? Все вокруг объяснимо. Он видит себя и ее издалека, словно, идя рядом с ней, он в то же время стоит на отдаленной вершине и созерцает две крошечные фигурки на берегу Рейна — неплохой мотив для акварели. Но под силу ли живописцу запечатлеть эту отрешенность каждого из них от себя, друг от друга, от окружающей природы? Нет, думает Клейст, это уж по нашей части.
— А знаете, почему веймарский патриарх не пишет трагедий?
— Почему же?
— Боится. В этом все дело.
На этот раз он не чувствует ее молчаливого согласия, ее сообщничества. Словно думая о своем, она говорит:
— Вы, Клейст, принимаете жизнь настолько всерьез, что за вас страшно.
— Настанет день, Гюндероде, и он будет бояться меня.
— Даже если так, вас это вряд ли обрадует.
Оба молчат.
— А вы, Гюндероде? Зачем вы внушаете себе, будто можете примириться с таким убогим существованием?
В тот же миг он пугается. И не вспомнишь, когда в последний раз он осмеливался посягнуть на запретные области чужой жизни. Что это — нападение как способ защиты?
«Красный цвет — цвет гибели и жизни». Мысль без связи. Гюндероде видит себя в монашески черном платье с твердым высоким воротом, младшая из пансионерок, вместе со всеми она стоит за длинным столом, ожидая знака настоятельницы к молитве и трапезе. Оцепенение, страх. И этот неотступный гул, он отодвигает от нее все прочие привычные звуки — верный признак, что сейчас самое время уйти к себе, задернуть шторы, лечь на узкую, жесткую постель, смежить веки и отдаться во власть свирепой головной боли. Холод в пальцах, холод в ногах, звенящая тишина вокруг. Огненная точка, мерцающая вместе с ударами крови где-то над переносицей. Хрупкая сосредоточенность испуганно затихшего тела. И нестерпимость подспудной мысли, что она знает средство против этих мучительных дней, знает, но не может пустить его в ход, ибо тогда вступит в свои права иная боль, которая пострашней всякой телесной боли. Средство это — просто назвать причину своего угасания. Наименовав — изгнать, даже убить. Но день, когда она наречет свое страдание, будет ее последним днем.
«Алый цвет, кровавый цвет, цвет любви моей и смерти…»
— Гюндероде, не отвечайте! Простите меня!
— Отчего же. И границы убогого существования можно раздвинуть до неведомых пределов. Лишь то, что мы не в силах уразуметь или прочувствовать, уходит от нас безвозвратно. Кто обрел в себе духовное зрение, видит свою сопряженность с вещами, незримыми для других. Все, что волнует, трогает и бодрит душу, для меня свято, пусть даже оно и не удержится в памяти.
— И в этом мудрость, Гюндероде? В самоотречении?
— Не только моими обстоятельствами, но и складом натуры мне определено более узкое поприще, нежели вам, Клейст.
— У вас хоть есть чем все это возместить — ваши стихи. Стихи — это достояние счастливцев.
— К коим вы себя не причисляете?
— Нет.
Выразить себя в стихотворении — это ему не дано. Потребность излить чувство в стихе не настолько в нем сильна, чтобы взломать иные затворы души. В умении наслаждаться жизнью, радостями любви, в стихах — тут ему до веймарца далеко. Баловень судьбы. Мыслимо ли представить себе его сиротой, почти без средств, да еще лейтенантом в гарнизонном Потсдаме, в беспощадных тисках воинского устава? Унижения… И нестерпимейшее из них — обязанность унижать других. Ни разу в жизни не изведал он на себе жесточайшего гнета обстоятельств, такого гнета, когда всякая мечта, не успев зародиться, хиреет от сознания своей неосуществимости и подгнившие останки мечты разлагают материю, из которой могли бы возникнуть стихи. Нет, он на это не осмелится.
— Иногда, — говорит Клейст, — мне невыносима мысль, — что-то в этой женщине будто магнитом вытягивает из него самое затаенное, самое уязвимое, — иногда мне нестерпима мысль, что природа расколола людей на мужчин и женщин.
— Вы не это имели в виду, Клейст. Вы хотели сказать, что в вас противоборствуют мужчина и женщина. Как и во мне.
Что она знает о нем… Куда все это нас заведет…
Не нам заниматься предсказаниями.
— Я смеюсь, Гюндероде.
— Отчего?
— Отчего мы вообще смеемся? Не от радости. Как перестанем скоро плакать от горя. Скоро в ответ на все, что ни стрясется с нами, у нас останется только этот смех. Адский хохот, который будет сопровождать нас неведомо куда, и так до конца.
— Мы этого уже не застанем…
— Мы — нет.
Понять бы, что это за течение и почему вдруг оно стало стремниной. Гул и шорох, будто льдина трется о льдину. Ледоход. А я стою на льдине, в кромешной тьме. Поток несет меня в неизвестность, льдина кренится то на один бок, то на другой. И я, обуреваемый ужасом и любопытством, смертным страхом и жаждой покоя, стиснув зубы, должен держать равновесие. Пожизненно. Так скажите на милость, Гюндероде, кто определяет нам такую участь?
Двое встречных — крестьяне, бредущие с поля, — оглядываются на странного господина, что схватил барышню за руку. Но та, похоже, не видит в этом ничего неприличного, и на помощь не зовет, и не боится, что ее завели в такую даль.
По-моему, это не тот вопрос. Нельзя себя противопоставлять судьбе. Надо смотреть иначе: ты и судьба — одно, мы сами втихомолку накликаем себе и беды и радости. Понимаете, Клейст? Иначе в одинаковых обстоятельствах со всеми случалось бы одно и то же.
Может, она и есть та женщина, любви которой не пришлось бы страшиться?
Однажды он должен был ей повстречаться — кто-то, о ком она ничего не знает. И ничего не узнает, только изведает себя до самого дна, до последних пределов и даже дальше. И все, и ничего больше. Она вспоминает, когда ее впервые посетила эта мысль: да, это было в тот раз, когда Савиньи садился в карету, а она, захлопывая дверцу, прищемила ему руку. Он уехал, а она, внезапно поняв, вдруг прозрела все, что последует за этим прощанием, ибо все это уже было в ней. Тогда-то ей и стало ясно, как обретают дар провúдения: сильная боль или крайняя сосредоточенность вспышкой высвечивает некий внутренний ландшафт. В этой вспышке она не увидела Савиньи, его там не было, хотя она страстно желала его увидеть. Значит, все дело в ней: желание стало угасать, и никто, кроме нее самой, уже не мог вдохнуть в него новые силы. Она же отдалась безволию, какой-то сонной лени. И вот недавно, когда в шумном обществе праздновалась свадьба Гунды Брентано и Карла Савиньи, она не могла избавиться от странного чувства, будто однажды уже обнимала невесту и поздравляла жениха, будто уже сидела со всеми этими людьми за праздничным столом по случаю такого же торжества. Нужен внутренний жар — только из него займется пламя и испепелит перегородки между ней и другими. В ней есть предчувствие иной жизни, жизни, достойной так называться. И когда-нибудь она последует этому предчувствию не задумываясь, безоглядно. Она знает, этот порыв ее убьет, но знает и то, что забудет об этом своем знании и смерть застигнет ее внезапно.
Иной раз, чтобы помыслить себя целиком, мне нужно все остальное человечество. Это безумие, сами видите.
Я вижу не безумие, Клейст, я вижу нужду.
Эта женщина страдает, Клейст не сомневается, но таков уж удел женщин. Рано или поздно она смирится, хотя, надо признать, ей это будет гораздо труднее, чем многим, тут она сродни его сестре. И все же, говорит он себе, как бы там ни было, она обеспечена, она не ведает забот о хлебе насущном, о простейших житейских надобностях. Да, у нее нет выбора, но это к ее же благу. Она, женщина, не поставлена перед непреложным требованием либо достичь всего, либо на все махнуть рукой.
Клейст перебирает в памяти государства, где побывал, это у него вроде мании. Их устройства прямо противоречат его запросам, вот и вся премудрость. Он присматривался к ним с доброжелательством и робкой верой, отрекался трудно, скрепя сердце. Облегчение, которое он испытал, когда оставил надежду обрести на здешней земле существование по душе.
Нежилая жизнь. Нет места, нигде.
Иногда он всем телом, до мозга костей ощущает на себе головокружительное вращение земли. И однажды он не удержится на поверхности этого шара, его вышвырнет, он уже слышит свист в ушах. Тогда как женщина рядом с ним, хоть и трудно в это поверить, все еще может найти себе и возлюбленного, и уютный дом, где в окружении детишек она сумеет позабыть невзгоды молодости.
— Как вы думаете, Гюндероде, у каждого человека есть неизреченная тайна?
— Да, — отвечает она. — В наше время у каждого.
Ответ у нее под рукой.
Вот они остановились, повернулись друг к другу. Каждый видит небо над головой другого, блеклую предвечернюю голубизну, перистые язычки облаков. Они изучают друг друга — не таясь. Обнаженные взгляды. Открыться до конца — попробовать? Улыбка — сперва у нее, потом у него, чуть насмешливая. Посчитаем это игрой, хоть это и серьезно. Ты это знаешь, и я знаю тоже. Не будь слишком близко. Не будь слишком далеко. Спрячься. Теперь объявись. Забудь, что знаешь. Запомни это. Маски, оболочки, шелуху, прикрасы — все долой. Только нагота. Неподдельность черт. Вот оно — мое лицо. А это — твое. Глубины несхожести. Глубины сходства. Женщина. Мужчина. Никчемные слова. Мы каждый пленники своего пола. Прикосновение, которого мы оба так жаждем, — его нет. Оно — вместе с нами — утекает в бесплотность. Нам еще надо его изобрести. Оно грезится нам во сне, пугая ужимками и гримасами. Страх пробуждения в предрассветной мгле. Так и останемся нераспознанными, недоступно далекими, в вечных поисках личин и обличий, снова и снова присваивая себе чужие имена. Скомкав жалобу в горле. Скорбь возбраняется, ибо не предъявлены утраты.
Если я — не я и ты — не ты, кто же тогда — мы?
Мы очень одиноки. Сумасбродные планы бросают нас от одной причуды к другой. В мужском платье сопровождать возлюбленного. Обучиться ремеслу. Спрятаться — прежде всего от самих себя. Пусть ты готов умереть — раны, нанесенные тебе людским безразличием, все равно болят; и если на тебя давят железные плиты, грозя превратить в лепешку либо вытеснить, вытолкнуть куда-то за край, тебе рано или поздно все равно не хватит дыхания. А мы, едва дыша, умирая от страха, еще должны говорить, ведь молчать мы не умеем, известное дело.
Вдобавок нас никто не слушает. Вдобавок от нас еще и отмахиваются: куда, мол, они нас тянут? Туда, где мы сами, — но кто туда захочет? Кто захочет на наше место, если сами мы не в силах оставаться на месте? И не можем иначе — себя не переделаешь. Любя себя, мы себя ненавидим.
К тому же время утоляет наши желания, но не самые заветные и не до конца.
Подавленные страсти.
То, к чему нас влечет, нам не под силу.
И еще — мы должны понять, что тоска по несбыточному не нуждается в обоснованиях.
Время, похоже, задумало ввести новый порядок вещей, но нам суждено узреть лишь первую, разрушительную часть его замысла.
Привыкать к сознанию, что нас поймут те, кто еще не родился.
И сохранять достоинство. Как будто от наших дел или бездействий в конечном счете что-то зависит.
Река теперь слева, они идут обратно. Солнце висит низко, но еще тепло. Дивный вечер, Гюндероде дышит легко, Клейст больше не чувствует слабости.
Скоро он вернется домой, под белесое небо, туго натянутое над башнями замка, над крышами министерств, между которыми он будет сновать туда-сюда по прямым как стрела улицам то в мундире, то в штатском. Иногда — то прямо на улице, среди прохожих, то в долгие часы ожидания в пыльных приемных, то за бумагами или за безразличной беседой — его будет охватывать неодолимое желание громко закричать. Стиснув зубы, сжав ладони в кулаки, он будет подавлять соблазн, а минуту спустя отирать пот со лба. Он вряд ли вспомнит о поэтессе по имени Тиан и наверняка забудет, что хотел почитать ее стихи. О ее смерти до него дойдут смутные слухи, что-то странно далекое шевельнется в груди, но он, закованный в свои цепи, будет в это время подыскивать душераздирающие слова, чтобы сокрыть очередной крах своих начинаний: он будет нижайше и всепокорнейше благодарить за милость, которая его убивает, извиняться за частые отлучки, вызванные хроническим недугом, болезнью, которая подрывает состояние его духа и — при всей занятости делами, быть привлеченным к коим он почитает большим для себя счастьем, — неизъяснимым образом его страшит. Вследствие чего он, к величайшему своему огорчению, не считает более для себя возможным впредь сии дела исполнять. Ему останутся неизвестны слова, которые Гюндероде в это время напишет своему возлюбленному: «Горька наша участь. Завидую рекам, они сливаются. Лучше смерть, чем такая жизнь».
— А теперь, Клейст, расскажите о вашей пьесе.
— Я думал, вы ее читали.
— Не о той. О другой, которую еще никто не знает, даже вы сами.
После Виланда она первая, кто интересуется «Гискаром» — вещью, о которой Клейст хотел бы забыть. Стоит ли запираться? Почему не дать простую справку?
— Ну и вопросы вы задаете.
Она научилась отличать подлинную чувствительность от ложной, ложную она просто отбрасывает — и в себе, и в других.
Значит, его скрытность она считает ложной? Клейст даже слегка развеселился.
Она считает ее излишней.
— Но если есть вещи, о которых мне невозможно говорить!
А это мы еще посмотрим. Она не верит, что работу, которая столько для него значила, он мог забросить просто так. Пусть он сочтет ее бесцеремонной, все равно: она хочет знать причину.
Ему давно хотелось, чтобы кто-нибудь проявил такую настойчивость.
Она не верит, что это банальное поражение, продолжает Гюндероде. Только бездари всякое дело доводят до конца. А иная капитуляция свидетельствует о величии противоборства и дороже легкой победы. Бывают случаи, когда и неудавшийся план имеет право на существование.
— Какие же это случаи? — спрашивает Клейст.
— Для неразрешимого нет формы.
— Вы меня удивляете.
— Думали, женщина, что с нее взять?
— А вы защитница женщин?
— Дорогой Клейст, подобные словечки существовали всегда. Нам с малолетства запрещают быть несчастными, объявляя наши страдания просто блажью. В семнадцать лет мы должны примириться со своей участью — вот твой муж, — а если одна из нас, что, впрочем, маловероятно, вздумает заупрямиться, она должна знать кару, которая ее ждет, и принять эту кару безропотно. Как часто хотела я быть мужчиной, как мечтала о мужских обидах и мужских горестях!
— Но разве вы не видите, что наш мужской долг, долг действования, становится все непосильней для нас? У нас один выбор: либо действовать неверно, либо вовсе никак! Тогда как вам по крайней мере предоставлен мир идей, хозяйничайте в нем, распоряжайтесь…
Идеи, обреченные остаться лишь идеями… Значит, мы тоже приложили руку к разделению человечества на тех, кто мыслит, и тех, кто действует. Или мы не видим, что дела тех, кто рвется к действию, становятся все бездумнее? Что поэзия бездеятельных все больше потакает интересам деятелей? Или нам, кто чурается всякого практического дела, не страшно выродиться в жалкое племя женоподобных нытиков, не способных поступиться и толикой себя ради нашей же повседневности, стать трутнями, безнадежно погрязшими в умственной задаче, которую еще никто на земле не сумел решить: быть деятельным и при этом остаться собой?
Чьи слова?
Клейст теперь знает: он вернется в Пруссию, поступит на службу и будет нести ее, сколько хватит сил. Эта женщина еще о нем услышит.
— Вы подумайте, Гюндероде, ведь мы столь немного требуем от жизни — и уже слывем ненасытными: им, мол, подавай все или ничего. Вот ведь до чего дошло. Так мы и отступаем — шаг за шагом.
— Возможно, оно и так, только это нас не оправдывает. Признайтесь сами, разве вы не обезопасили себе тылы? Разве не живете тайной надеждой, что понадобитесь потомкам, если уж современники могут без вас обойтись? Но жаждете славы и сейчас, при жизни.
— Молчите.
Этот человек хватается за подпорки, но готов к тому, что подпорки рухнут. Что он не добьется ни той славы, ни этой, что все пойдет прахом. Что он исчезнет бесследно, будет забыт, неудачник, побочная фигура. Однажды, когда беспрестанные попытки обрести точку опоры в здешнем мироустройстве утратят для него смысл; когда он устанет вчуже бродить среди людей, никем не распознанный, больной от унижений, которые ему, несомненно, еще предстоят, без единого отклика на дело жизни, — лишь тогда он возьмет на себя право распорядиться своими муками, а вместе с ним и право положить им конец. Оборвать все путы, неизъяснимое блаженство…
— О чем вы задумались, Гюндероде? Где вы сейчас?
— Разве вы не разрешили мне помолчать?
Они остановились. Она прислоняется к иве. Оба смотрят на тот берег. Там, за плоской равниной, западая все ниже, по острой кайме горизонта катится солнце, огненный шар. Еще несколько минут — и его уже нет. Больше можно ни о чем не думать и не говорить.
— О чем мы беседовали?
— О вашей пьесе. Вы хотели мне ее разъяснить.
— Разъяснить! — Да, теперь он этого хочет.
— Доблестный муж, — слышит он собственный голос, — в зените славы и силы, Роберт Гискар, герцог Норманнский, предводитель норманнской армии, вынужден бороться с чумой, которая уносит его воинов и уже проникла в него самого.
— …что он отрицает?
— Он скрывает это от войска, ибо какой же из больного полководец, и, несмотря на все уговоры, сам врачует заболевших солдат.
— Совсем как Наполеон под Аккой[167], — вставляет Гюндероде.
Неужели она улыбнулась?
— Этот изверг, — еле слышно говорит Клейст. — Возомнил себя неуязвимым…
— И неуязвим по сей день, не то что ваш Гискар.
— Гюндероде! Гискар — это колосс, подчинивший себя одной цели.
— Наполеон тоже подчинил себя своей цели.
— Одержимый! Его пожирает жажда власти. А Гискар, наоборот, властвует над собой во имя цели вовне: он должен основать царство норманнов на греческой земле.
— По какому праву?
— Его ведет предсказание. Он осадил Константинополь, и обратного пути нет. Он все вложил в этот бросок, он сжег мосты. Понимаете, что это значит?
Почему она молчит?
Насчет предсказания она хотела бы поподробнее.
— С предсказанием вот какая штука.
Действительному Гискару — тому, который умер на Корфу, — было пророчество, что смерть ждет его в Иерусалиме. Слишком поздно он узнает, что здесь, где он считает себя в полной безопасности, был когда-то город, который тоже назывался Иерусалим. Предсказание сыграло с ним злую шутку.
— Итак, он умирает, проклиная коварство богов, которые его обманули? Или себя — за то, что поверил богам вместо того, чтобы поверить себе? Либо за то, что хитростью или по легкомыслию подменил волю богов собственными целями? За то, что слишком возвысился? Или, наоборот, недооценил себя?
— В том-то все дело, — отвечает Клейст. — Кто бы мне самому это рассказал…
То, на что ему понадобились годы, эта женщина поняла почти сразу: он бился над невозможным. Герой, который одинаково подвластен законам старого и нового времени, который обязан своей гибелью в равной мере и предательству богов, и самому себе, — для такого героя драма еще не создала форму. А главное, он теперь ясно видит: пытаться в одном лице изобразить и себя, и своего заклятого врага — неразрешимая задача. Неимоверный материал, на таком и сломаться не позор.
Он пишет, чтобы освободиться от неисцелимых сторон своей натуры.
— Я пишу просто потому, что не могу иначе.
— Гёльдерлин, чтобы мир его не погубил, предлагает полюбовное соглашение: условимся, что поэт безумен.
— Что предложите вы, Гюндероде? «Любите меня»?
— А вы? «Уничтожьте меня»?
— О нет, Гюндероде. Быть до конца правдивым с самим собой.
— Это не всегда в наших силах.
— Часто я думаю: а что, если первичная гармония вещей, дарованная нам природой и столь самонадеянно нами разрушенная, была последней, и мироустройство, которое мы себе положили, ни к какой вторичной гармонии не ведет?
— Если мы потеряем надежду, наши опасения сбудутся наверняка.
Они идут молча. Гюндероде указывает спутнику на удивительную игру красок в закатном небе, зелень неспелого яблока и розовый пурпур, больше нигде в природе такого не встретишь. Еще светло, но в воздухе повеяло прохладой. Гюндероде стягивает на груди концы шали. Она спокойна. В эту пору дня ей часто хочется остаться одной и умереть для всех, кроме того, которого она еще не знает и которого она себе сотворит. В ней борются три разных человека, один из них мужчина. Любовь, но только безоговорочная, способна переплавить воедино всех трех. Мужчине рядом с ней все это ни к чему. У него лишь один путь стать собой — писательство, он не может пожертвовать своим делом ради другого человека. И оттого одинок вдвойне и вдвойне несвободен. Гений он или просто несчастливец, каких время плодит во множестве, но кончит он плохо.
Клейсту приходит на память строчка, которую сейчас он цитировать не хочет: «Какая женщина в свою поверит силу»[168]. В этой женщине, думает он, весь женский род мог бы обрести веру в себя. Общение с ней, хоть она и не влечет его как мужчину, близко к чувственному восторгу.
Она, словно думая о том же, вдруг говорит:
— Стоит нам помыслить настоящее, и оно уже прошло. Осознанное наслаждение — это всегда воспоминание.
Неужели и я, думает Клейст, когда-нибудь останусь в мыслях людей всего лишь трупом? И это зовется у них бессмертием?
Междувременье, думает она, — это некая сумрачная местность, полоса ничейной земли, где легко затеряться и загадочным образом пропасть. Меня это не пугает. Ведь и так наша жизнь изъята из наших рук. Я не всегда буду здесь, я не всегда буду. Значит, я неуязвима?
Вдруг, без причины, она смеется, сперва тихо, потом громче, потом во все горло. Ее смех заразителен, Клейст не в силах удержаться. Они корчатся от смеха, хватаясь друг за дружку, чтобы не упасть. В эту минуту они близки, как никогда.
Если люди — по злобе или неразумию, из равнодушия или из страха — считают нужным уничтожать некоторых особей своего, человеческого рода, нам, назначенным к уничтожению, выпадает невероятная свобода. Свобода любить людей и не ненавидеть себя.
Свобода постичь, что мы набросок — может, отбросят за ненадобностью, может, поднимут снова. Посмеяться над этим не зазорно и человеку. Обреченные — речем. Пленники своего дела, которое остается открытым, отверстым как рака.
О чем еще они говорят, о чем думают?
Мы слишком много знаем. Нас посчитают неистовыми. Наша неистребимая вера в то, что человек создан для совершенствования, — вера наперекор духу и ходу всех времен. А мир — мир поступает проще всего: безмолвствует.
Освещение изменилось. Все предметы, даже деревья, очерчены остро, четко и выпукло. Вдалеке слышны голоса, зовут Клейста. Карета на Майнц вот-вот отъедет. Гюндероде отпускает его кивком головы. Они прощаются невнятным движением руки.
Уже стемнело. Последний отблеск гаснет в реке.
Оба думают: просто идти, идти дальше.
Мы знаем, чтó потом.
Тень мечты Набросок
1
«Вчера читала „Дартулу“ Оссиана[169], и сколь благотворно было это чтение! Давняя моя мечта — умереть героической смертью — охватила меня с силою необычайною; нестерпимой показалась мне жизнь, еще более нестерпимой — спокойная, дюжинная смерть. Не раз уже испытывала я неженское желание ринуться в гущу битвы, погибнуть там, — зачем я не мужчина?! Меня вовсе не привлекают женские добродетели, умильное семейное счастие. Лишь неукротимое, великое, блистательное влечет меня. Пагубен этот раздор в моей душе, но он непоправим. Так оно и останется, так и должно остаться, ибо я, женщина, питаю в себе мужские страсти, не обладая мужскою силой. Потому я так переменчива и вечно не в ладу с собой».
29 августа 1801 года.Необоримые предчувствия.
Человек сначала живет, а потом уже пишет — это трюизм, равно касающийся обоих полов. Женщины долго жили, не берясь за перо; а потом они писали — если позволено будет так выразиться — своей жизнью, ценою ее. Так оно с тех пор и повелось.
Диссонансы души, которые осознает на двадцать первом году жизни Каролина фон Гюндероде (1780–1806), — это недуг века, чего она еще не понимает. Отмеченная неизлечимой раздвоенностью чувств, наделенная даром выражать свою неудовлетворенность миром и собой, она прожила короткую жизнь, бедную событиями, но богатую внутренними потрясениями, отвергла компромисс, приняла добровольную смерть и, немногими друзьями оплаканная, едва ли кому известная, оставила — в главных своих частях неопубликованным — очень скромное наследие: стихи, прозаические отрывки, фрагменты драм; канула в забвение; через десятилетия, через целое столетие снова была открыта ценителями ее поэзии, взявшими на себя труд воскресить ее память и спасти ее рукописи, чудом избежавшие уничтожения. Но даже роман в письмах Беттины фон Арним «Каролина Гюндероде» (1840) не смог сохранить в памяти потомков хотя бы смутные очертания этой фигуры, едва сохранил имя. Немецкая история литературы, отданная на откуп штудиенратам и профессорам, ориентированная на колоссальные подретушированные портреты классиков, с легким сердцем и легкой мыслью избавлялась от объявленных «незрелыми» фигур — и так вплоть до недавнего прошлого, до рокового приговора, вынесенного Лукачем Клейсту и другим романтикам. Обвиненные в декадансе или по меньшей мере в безволии, в непригодности к жизни, они умирают во второй раз, — умирают от неспособности немцев выработать в себе историческое сознание, взглянуть в лицо коренному противоречию своей истории — противоречию, которое отлил в лаконичную формулу молодой Маркс, когда указал на то, что немцы разделили с современными европейскими народами опыт реставрации, не разделив их революционного опыта. Разорванный, политически незрелый, трудный на подъем, но скорый на соблазн народ, приверженный техническому прогрессу вместо гуманности, позволяет себе роскошь сваливать в братскую могилу забвения тех рано сломавшихся, что были нежелательными свидетелями задавленных надежд и опасений.
Не может быть случайностью то, что мы начали интересоваться нашими списанными собратьями, подвергать сомнению вынесенный им приговор, оспаривать его и требовать его отмены. Мы поражены открывшимся нам сходством, хоть мы и помним об эпохах и событиях, лежащих меж ними и нами: полностью повернулось «колесо истории», и мы, душой и телом втянутые в его круговорот, мы, только что переведшие дыхание, только что опомнившиеся и осмотревшиеся, — мы оглядываемся назад, движимые раз и навсегда пробудившейся потребностью понять самих себя, нашу роль в современной истории, наши надежды и их пределы, наши успехи и наши поражения, наши возможности и их границы. И, если возможно, всему этому причины.
Оглянемся же назад — нас встречают тревожные, за столь долгий срок не нашедшие успокоения взоры, к нам бегут и ранят нас в самое сердце строки, набросанные щедрым, летучим, разборчивым женским почерком на зеленых почтовых листках в четвертушку форматом (зеленый цвет щадит слабые глаза пишущей), и мы не без волнения берем в руки эти листки: «Век пигмеев, племя пигмеев вышли на сцену и стараются, как могут».
Поколение, к которому принадлежит Гюндероде, должно — как все поколения, живущие в промежуточные эпохи, — выработать новые формы жизни; последышами эти формы будут использоваться в качестве моделей, устрашающих примеров, шаблонов — кстати, и в литературе тоже. Это поколение, молодежь 1800 года, являет собой пример, утверждаемый для того, чтобы другие извлекали или не извлекали из него уроки. Готовые образцы для них не подходят. Опыт разит их прямо, безжалостно и врасплох. Новое буржуазное общество, еще даже не оформленное, но уже оскопленное, использует их как наброски, как предварительные заготовки, делаемые наспех и тут же отбрасываемые. Окончательные типы не должны на них походить — вот еще одно объяснение того, что сама память о них нестерпима. Единственность часа рождает их, но мимолетность его оседает печалью на их жизнях, и она же будоражит их, искушает соблазнами самых разных, полярно противоположных желаний, и они отдаются напряжению и риску — стараются, как могут.
Их немного. Предшественники их, идеологи и вожди Французской революции, апеллировали к римлянам, к испытанным и ложно истолкованным образцам: они обманывали себя, чтобы иметь возможность действовать. Вместе с миссией с плеч потомков спадает и тога, с самообманом кончается героическая роль. Зеркало возвращает им их собственное, незагримированное и нежеланное лицо. Юная поросль 1800 года не может отнести назад год своего рождения, мыслить мыслями старших, жить их жизнью. Условий своего бытия она не может отменить, а это жизнь на износ. Буржуазные отношения, в конце концов и без революции перекинувшиеся на эту сторону Рейна, хоть и не устанавливают решительно новых экономических и социальных порядков, зато возводят в закон всепроникающую филистерскую мораль, основанную на подавлении всего несгибаемого, оригинального. Неравный бой: жалкая кучка интеллигентов — авангард без тылов, как это часто бывало в немецкой истории после крестьянских войн, — вооруженная беспочвенным идеалом, утонченной чувствительностью, ненасытной жаждой применить на деле разработанный ею собственный инструментарий, — и косный, неразвитый класс, лишенный всякого самосознания, но зато полный верноподданнического усердия, ничего не усвоивший из буржуазного катехизиса, кроме заповеди: «Обогащайтесь!» — и силящийся привести безудержную жажду наживы в согласие с лютеранско-кальвинистскими добродетелями: прилежанием, бережливостью, дисциплиной; убогое, скудное существование, притупляющее восприимчивость к требованиям собственной природы, зато обостряющее болезненную чувствительность по отношению к тем, кто не хочет или не может ломать себя. И вот они — те, молодые — становятся чужеземцами в собственной стране, предшественниками без последователей, энтузиастами без отклика, глашатаями без ответа. А те из них, кто не согласен идти на удобный компромисс в духе эпохи, — жертвами.
Не надо думать, что они этого не понимали. Гюндероде, отнюдь не чувствительная душа, напротив, философский ум, прекрасно осознает взаимосвязь между «экономикой во всех вещах» и протестантством, и она не боится додумывать логику своего положения до конца:
«Ибо жалкими нашими условиями наглухо отделены мы от природы, жалкими понятиями — от подлинного наслаждения, нашими формами государственности — от всякого великого деяния. Зажатым в тисках, нам остается лишь обращать взоры к небу или угрюмой думою углубляться в собственное сердце. Разве не отмечены этим нашим состоянием все виды новейшей поэзии? Либо это бесплотные, еле начертанные силуэты, влекомые ввысь своей невесомостью и тающие в бесконечном пространстве, либо это бледные, бегущие света духи земли, заклинаемые омраченною мыслию из глубин нашего существа, — но нигде нет сильных, самобытных образов из плоти и крови. Высотою мы можем похваляться и глубиною, но нет у нас неспешной, просторной широты».
И она вспоминает Шекспира — как вспоминали его более чем за тридцать лет до нее молодые бунтари «Бури и натиска». «А поскольку сама я не могу преступить границы своего времени…» Она раздумывает, не оставить ли ей писательство и не посвятить ли себя изучению и популяризации «старых мастеров». Это не мимолетная прихоть, это ступень самопознания и самокритики, равных которым поискать.
Сравнение с «Бурей и натиском» лишь условно. Те, более ранние, принадлежали предреволюционной эпохе, эти, неточно обозначаемые суммарным понятием «ранние романтики», — дети послереволюционной поры, начинающейся Реставрации, которая позже засосет многих из бывших друзей юности в свою трясину. Что вселяло в тех уверенность, надежду, волю к жизни, что давало хотя бы иллюзорный стимул к действию («воспитание князей!»), стало для этих лишь источником горестного отрезвления и разочарования. Правда, отзвук великих идей, дошедший из Франции, глубоко всколыхнул их сердца, пробудил в них честолюбивые мечты, сформировал их идеалы; посредниками здесь по большей части были произведения почитаемых старших: Канта, Фихте, Гёте, Шиллера, Гердера. Скудные возможности общественно-политической практики, предоставлявшиеся новой интеллигенции немецкими социальными условиями, были испробованы этими старшими; частью они в них изверились, частью разуверились, в некоторых случаях (важнейший — Гёте) приняли их как компромисс на всю жизнь — хоть и не без мучительной боли, хоть и ценою отказа от злободневной политики. «Не след нам желать потрясений, которые подготовили бы почву для классических произведений в Германии», — написал Гёте, кумир этой молодежи, за пять лет до начала нового века в своей статье «Литературное санкюлотство». Программное положение, в котором если что и проявилось, то, безусловно, высокоразвитое чувство реальности, но отнюдь не революционный пыл.
Отречение пятидесятишестилетнего, сосредоточение на собственном творчестве, на символическом осмыслении собственной жизни — двадцатилетним все это заказано. Революцию они переживают как чужеземное владычество. Им, сыновьям и дочерям первого поколения немецкого просвещенного бюргерства и обуржуазившихся бедных дворянских семей, предоставлен выбор между унизительными методами угнетения, практикуемыми в карликовых немецких княжествах, и подчинением Наполеону; между анахроническим феодализмом домашнего толка и насильственным насаждением давно назревших реформ в управлении и экономике властью узурпатора, который, естественно, беспощадно пресекает все проявления революционного духа. Если это выбор, то он таков, что подавляет действие в самом зародыше, уже в мысли. Они первые, кто до конца, до дна осознал эту горькую истину: никому они не нужны.
«Какие деяния еще ждут меня, какой более достойный опыт, ради которого стоило бы жить дальше?» — Откуда взять аргументы, чтобы ей возразить? Утопии сгорели дотла в собственном огне, вера иссякла, все опоры рухнули. Эти молодые люди так одиноки в вихре истории! Надежда на то, что другие — их народ! — пойдут за ними, угасла. На самообмане не проживешь. Безвестные одиночки, лишенные всех возможностей действия, обреченные жить авантюрами души, они безраздельно отданы во власть своим сомнениям, своему отчаянию, растущему чувству полной безнадежности. Кажется, достаточно самой малости, чтобы столкнуть их в бездну, по краю которой они идут с открытыми глазами. И все-таки стоит задаться вопросом, такая ли малость их убивает. Не является ли то, что в конце концов убивает их (несчастная любовь, боже мой!), для них всего лишь знаком, который подает их и без того решенная судьба: вы покинуты, не поняты, преданы? И так ли уж совсем неверно истолковывали они подобные знаки?
2
Немецкие биографии. Немецкие кончины.
После скажут — взвинченность. Повышенная чувствительность. Но ведь можно было бы сказать и «перенапряжение», если согласиться считать предвосхищение, предчувствие — напряжением. Но — предвосхищение чего?
Наш привычный инструментарий не в состоянии этого ухватить. Литературные, исторические, политические, идеологические, экономические понятия неспособны до конца это выразить. Вульгарному материализму нашей эпохи не поспеть за хитросплетениями сухого рационализма их поры, за этой самоуверенной, все объясняющей и ничего не понимающей прямолинейностью, против которой восстают те, о ком здесь идет речь: против ледяного холода абстракций, против устрашающей неуклонности в следовании ложным, даже и не поверяемым на их истинность целям, против прогрессирующего окостенения разрушительных структур, против торжества безжалостного принципа целесообразности — против всего того, что страхом, депрессией, склонностью к саморазрушению оседает в их сердцах.
Свидетельством духовного состояния этого поколения, для которого великие идеи немецких просветителей превратились в плоскую прагматическую казуистику, для которого образ мира лишился красок и перспективы, может служить раннее стихотворение Каролины, в котором она заявляет о себе как поэтесса философского склада:
ОДНАЖДЫ И ТЕПЕРЬ
Тропинкой узкою земля казалась, Над нею на горах стояло небо, По сторонам же разверзались бездны ада, И тропки уводили в ад и в небо. Прошли века, и все перемешалось: На землю пали небеса, и бездну Заполнил разум до краев — стал торным путь. Да, мы разрушили вершины веры, Шагает твердо по земле рассудок, Всему он сыщет меру и аршин.Тон отнюдь не жалобный. Никаких плаксивых сантиментов. Аутентичная картина — воздадим ей должное.
Итак, иное вúдение, иные слова. Надо снова извлечь из небытия слово «душа», снова восстановить в правах слово «томление», отмести все оговорки. «Религия невесомости», пишет Беттина Брентано Каролине, они намерены основать религию невесомости, и высшим принципом ее должно стать:
«Никакого образования — я хочу сказать, никакой благоприобретенной образованности; пусть каждый пытливо вглядывается в себя самого, добывает себя из глубин как руду, бьет из этих глубин как родник; единственной целью образования и воспитания должна стать эта задача — освободить дух, дать ему дорогу на свет божий».
Итак, «пытливость», «любопытство»; еще «фантазия» — и довольно употреблять это слово в уничижительном, бранном смысле («одни фантазии!»). Какие высокие они берут ноты, какой благодатно-дерзновенный позволяют себе язык, какой упрямый, требовательный дух! Какой это вызов нам, нашим очерствелым способностям ценить слова, воспринимать их как посланцев наших чувств (и нашей чувствительности тоже), воплощать себя в сочетаниях слов и использовать наш язык не как средство для возведения препон знанию, а как инструмент исследования. И какая великолепная возможность познать самих себя, условия нашего бытия!
«О, будь проклят жребий, что дал нам крылья, но не дал силы раскрыть их: мы строим палаты, в которых нет места гостям! О, зачем я рождена в постылый век рабов!.. Как! Вы заключили в темницы наш дух, и заткнули ему рот кляпом, и великим силам души заломили за спину руки?»
Таковы «обвевающие душу отзвуки» ее бесед с Каролиной Гюндероде, пишет Беттина своему брату Клеменсу, и я опасаюсь, не просто ли зависть говорит в нас, когда мы словечком «мечтательность» отмахиваемся от этих великолепно-высокопарных вопросов, — зависть к этой неукротимости, к той непосредственности, с которой они обнажают ничтожество своего бытия, к их бесповоротному отказу подчиняться меркам и правилам убийственной нормальности.
Во всяком случае, легенда о Гюндероде как прекрасной отрешенной мечтательнице не выдерживает поверки фактами. Беттина Брентано, моложе ее на пять лет и вовсе не единственная ее наперсница, описывает подругу точнее всего:
«Она была мягкой и женственной во всех чертах, как блондинка; темные волосы, но голубые глаза, оттененные длинными ресницами; когда она смеялась, то смех был негромкий, более походивший на нежное, приглушенное воркование, в котором явственно различались и веселость и страсть; она не ходила, она шествовала по земле — если я понятно выражаюсь…. высокого роста, с фигурою слишком плавной, чтобы можно было назвать ее словом „стройная“; всегда робко-приветлива и слишком безвольна, чтобы в обществе бросаться в глаза».
Беттина и Каролина познакомились во Франкфурте; одна — дочь Брентано, известного и весьма состоятельного владельца торгового дома, что на Зандгассе, другая с девятнадцати лет живет на положении пансионерки в Кронштетте в женском дворянско-евангелическом попечительном заведении, каковое является отнюдь не монастырем, а тихой уединенной обителью, где коротают свой век незамужние дочери из обедневших дворянских семейств. Устав, предусматривающий прием на пансион девиц не моложе тридцати лет, ради Каролины подвергается пересмотру — возможно, это косвенно указывает на стесненность ее положения. До увеселений она не жадна — посещение театров и балов пансионерками нежелательно. Сохранилось свидетельство лишь об одном посещении театра Каролиной, да еще незадолго до смерти она, по уверению анонимного корреспондента, однажды появилась на балу в маске смиренной паломницы; запрет принимать мужчин tête-à-tête выдерживается не строго; в передвижениях по округе она не ограничена, для поездок на более дальние расстояния требуется разрешение, получить которое не составляет труда. Время от времени она просит извинения у друзей, что не может нанести им условленного визита, ибо она связана обстоятельствами.
Связана она многими обстоятельствами: своим полом, своим сословием, своей бедностью, своей ответственностью перед семьей — она старшая из шести братьев и сестер, отец рано умер, мать (в чьей любви к себе Каролина не уверена) неспособна быть средоточием семьи. Сохранились документы, свидетельствующие о денежных тяжбах между детьми и матерью; одной из сестер Каролина помогает бежать из материнского дома, другая, любимая ее сестра, смертельно больна, и она, сама еще почти девочка, должна за ней ухаживать. Юность за оградой крохотной захудалой усадьбы в Ганау. Теснота, ограниченность, стесненность. Единственное прибежище — духовная работа, самообразование.
Впервые из безымянного, словно бы вне истории бегущего потока одновременно всплывают несколько женских судеб; эпоха с ее лозунгами: «Свобода! Личность!» — захватила и женщин, но условности сковывают чуть ли не каждый их самостоятельный шаг. Очень часто беспредельная жажда независимости вступает в противоречие с робостью. Каролина, чопорная в монашески черном платье с белым стоячим воротничком, с крестом на груди, стесняется произносить вслух застольную молитву перед другими дамами-пансионерками; но с Беттиной она предается мечтам о долгих дальних путешествиях. Вдвоем они чертят карту Италии, мысленно путешествуют по ней, а потом, зимой, вспоминают об этих воображаемых странствиях так, будто и впрямь их совершили. Быть обреченным лишь на воспоминания о фантазиях, запечатлевать в памяти выдумку как реальность — яснее трудно очертить границы, которые им поставлены. Только в мечте, в фантазии, в стихотворении возможно их переступить.
Связана своим талантом — когда еще было такое с женщинами? Каролине нечего и помышлять о том, чтобы развивать свои недюжинные способности в школах и университетах; в своих штудиях — а занимается она упорно и систематически — она может рассчитывать лишь на собственное прилежание, жажду знаний, но и на совет, помощь, практическую поддержку со стороны друзей и подруг. Продуктивные связи — они ей знакомы, она сознательно их ищет: «Общение для меня потребность». Новые ценностные представления этих молодых людей, представления, которые не могут быть осуществлены в рамках окостеневших или окостеневающих общественных институтов, формируются, обсуждаются и испытываются в дружеских кружках единомышленников. Это я и назвала бы предчувствием, предвосхищением — попытку прорвать кольцо одиночества и испробовать новые, более продуктивные формы жизни, основанные на коллективном духе.
Гюндероде, конечно, не центр, но все-таки один из членов вольного объединения молодых литераторов и ученых, использующих короткий промежуток времени между двумя эпохами, чтобы в лихорадочной спешке выработать и выразить новое мироощущение. То, что им приходится обороняться на два фронта — против косного феодализма и против постылого новомодного духа стяжательства, — придает их высказываниям элегические, надрывные, а нередко и иронические тона, вынуждает их делать самих себя объектами наблюдения и анализа, повышает их чувствительность, но одновременно и степень их ранимости, их потерянности.
Сколь невозможно каталогизировать Гюндероде с помощью ходовых историко-литературных определений — «ранний романтизм», «классика», — столь же невозможно мыслить ее личность и творчество вне духовного контакта с теми, кто на рубеже веков представлял в Иене новое литературное направление. Это братья Шлегель, Тик, Новалис, Клеменс Брентано, Шеллинг, такие ученые, как Карл фон Савиньи, Фридрих Крейцер, Христиан Неес фон Эзенбек; и еще женщины: сестры, подруги, возлюбленные, жены и — впервые в этой роли! — сотрудницы, соавторы, даже если они иной раз и умалчивают о своем соучастии в творчестве мужчин, как Доротея Шлегель в случае с переводами из Шекспира. Имена тех, что прославились: Каролины Шлегель-Шеллинг, Беттины Брентано, Софии Меро-Брентано, Рахели Фарнгаген, — представительствуют за многих других, столь же образованных, столь же беспокойных и ищущих; свидетельством тому переписка Каролины Гюндероде. Это все женщины, сумевшие задуматься над собственной судьбой и найти для этих раздумий выражение: привилегия, которая, как все привилегии, имеет свою цену, и цена эта — утрата защищенности, надежного укрытия, отказ от прежнего статуса зависимой женщины, без гарантии того, что удастся обрести новую личностную цельность. Первозданность, естественность, подлинность, интимность — вот что означают их истинно универсальные требования счастья; они отвергают диктат иерархии: холодность, чопорность, изоляцию и этикет. Не имея ничего за спиной, опираясь лишь на идеи, а не на социальные, экономические, политические данности, они обречены оставаться аутсайдерами — а не революционерами, как романтики в других европейских странах, сумевших найти для своих «романтических» поэтов иное, политическое употребление. Здесь же они загнаны в изоляцию, их удел — смятение чувств, сомнение в самих себе, а отсюда, как защитная реакция, — гримасы и экзальтированные жесты, что им позже будет поставлено в счет и в вину. И вот мы видим, как они выделывают головокружительные трюки, рискуя сломать себе шею, устраивают экстравагантные эксперименты над самими собой; земля горит у них под ногами; филистер уже поставил на нее свой башмак, он занимает ее пядь за пядью, он определяет отныне, что должно считаться разумным, и он начинает преследовать этих горемык своим непониманием, своей насмешкой, своей ненавистью, своей завистью и своей клеветой.
Гюндероде также пришлось всю жизнь бороться со сплетнями и наветами. Просто невероятной можно считать смелость, с какой она в цитированном в начале письме 1801 года (адресованном, между прочим, Гунде Брентано, сестре Клеменса и Беттины) признается в своих «мужских наклонностях» и не стыдится их. Женщина, не желающая быть только женщиной, нести ярмо «женских добродетелей»! Как не понять смятения, прорывающегося в конце письма: «Гунда, ты, верно, посмеешься над этим письмом; оно и самой мне кажется таким бессвязным, таким путаным». Если бы окружающие прослышали про ее «наклонности», упрек в «извращении природы» был бы ей обеспечен. Угрюмо замыкается она в самой себе. Когда в 1804 году она решается выступить со своими стихами, она избирает мужской псевдоним: Тиан.
Она не основывала свою жизнь и свою любовь на реальности, скажут потом об умершей. Те, что так пишут и говорят, забывают, что не было реальности, на которой можно было хоть что-нибудь основать. Она честно перебрала все имеющиеся в ее распоряжении возможности, она металась от роли к роли, ибо они хоть отчасти позволяли ей проявить свое истинное лицо; и вот она все больше теряет на этом силы и в конце видит себя обреченной на самую банальную роль — роль отвергнутой возлюбленной. Между письмом к Гунде и смертью — всего пять лет. Этот срок она дает себе, чтобы попытаться достичь того совершенства, которое видится ей в мечтах. Своего рода эксперимент на себе, и она это понимает.
Перенапряжение? Гюндероде часто лежит с головными и грудными болями в своей затемненной комнатке. «Я знаю, это мой ужасный изъян, — пишет она в том же письме к Гунде Брентано, — я легко впадаю в состояние полной бесчувственности и радуюсь любой безделице, которая меня из него выводит». Психологии, которая могла бы объяснить эти ее приступы, еще не существует, как не существует и термина для обозначения ее провидческих ощущений. Чувствительные антенны воспринимают сигналы, кошмарами налегающие на грудь и голову. Весь ужас банальности впервые ощущается здесь — ощущается как «ничто», как страх перед бездной пустоты, и от этого страха она спасается бегством в бесчувственность, чтобы в результате — убийственный закон! — еще больше отдалиться от самой себя. Мы знаем слово, которого она не знала: самоотчуждение. И знаем, что назвать беса — еще не значит изгнать его.
«Это мой ужасный изъян», — говорит она и укоряет себя в холодности, когда ее чувства не выдерживают напряжения. Она горда, но при этом слаба, нерешительна, и кто знает, может быть, она и подчинилась бы роковому приговору того, кто для всех для них был кумиром, — Гёте. Наверное, это прозвучит издевкой, если еще раз его здесь процитировать — с его предубеждением, что классика — это здоровое искусство, а романтизм больное. Он, который уж не настолько уверен в себе, чтобы признать и за этой молодежью право на существование, войти в ее — совсем иное — положение; которому настроения, в коих он ее обвиняет, не так уж и чужды; который не может набраться духу произнести ободряющее слово, способное их окрылить, а на их разорванность взирает лишь с отвращением и страхом, — он добивает их своим непониманием, своим осуждением. Гёльдерлин, Клейст испытали это на себе.
Гёльдерлин. Какую фигуру здесь ни тронь, за какую ниточку ни потяни, сразу приходят в движение все другие, трепещет вся эта ткань. Нелегко расположить во временной последовательности, в рамках линейного повествования все то, что одновременно и с разных сторон воздействует на Гюндероде. К саду женского попечительного заведения в Кронштетте примыкает сад, принадлежащий семейству неких Гонтаров; Фридрих Гёльдерлин хоть и не служит в нем больше гувернером, но до 1801 года живет по соседству в Хомбурге, всего в «трех коротких часах» от него, на должности придворного библиотекаря у ландграфа, и отсюда тайно навещает Сюзетту Гонтар, свою Диотиму, которая умирает в 1802 году и которую, насколько нам известно, Каролина Гюндероде не знала. В свой дневник она записала строки Гёльдерлина:
Голод зовем мы любовью — и верим, что там, где мы ничего не видим, и есть наши боги.Провидческий скепсис; и она, уже отрешившаяся от наивной веры, его разделяет. Личные и общественно-политические трагедии поэтов обычно лишь много позже выплывают на свет, после публикации писем и полицейских протоколов политических процессов. Беттина Брентано и Каролина, если судить по эпистолярному роману Беттины, беседовали о Гёльдерлине, любили его, выспрашивали о нем его друга Синклера, приписывали его начинающееся нервное расстройство «тонкой душевной организации», но они не могли знать, что Гёльдерлин, не просто затронутый, но глубоко впечатленный событиями Французской революции, в 1805 году, когда был арестован Синклер и над ним самим нависла угроза, что его тоже заподозрят в подрывной деятельности, выбежал на улицу с паническим воплем: «Я не якобинец, я не хочу быть якобинцем!» И что после этого он сошел с ума (чему тот же самый Синклер так до конца и не поверит, представляя себе безумие чем-то вроде добровольно избранного убежища, самозащиты против насильственного вторжения враждебного, невыносимого мира в твою жизнь).
Имя Гюндероде часто называли вместе с именем Гёльдерлина — и, что касается духа их творчества, не без оснований. Он ей ближе, чем другие романтики, хотя она преклоняется перед Новалисом, любит и с восхищением читает стихи Клеменса Брентано. Между Гёльдерлином и ею есть родство, идущее от самых корней, родство, открывающее возможности для поразительных параллелей. Каролине, разумеется, не был известен тот «набросок» программы переустройства общественной системы, который в начале 90-х годов сочинили студенты Гегель, Шеллинг и Гёльдерлин в общежитии Тюбингенского университета и в котором ставится цель преодолеть пропасть между «идеями» и народом — пропасть, приводящую в отчаяние обоих философов и поэта «бездействующего» народа. Каким должен быть мир, чтобы он соответствовал моральному предназначению человека? Вопрос всех вопросов ставят они в начало (Иоганнес Бобровский поднимет его снова — ибо он так и остался нерешенным), приводят доказательства того, что государство должно «прекратить свое существование» («ибо каждое государство по необходимости обращается со свободными людьми как с колесами приводного механизма»), требуют поставить разум на место обскурантизма, требуют «абсолютной свободы всех умов… которые лишь в себе самих должны искать и бога и бессмертия», и приходят к «идее, которая всех соединит»: к идее красоты, к «поэзии как наставнице человечества». Им видится «мифология разума», с помощью которой «народ обретет разум, а философия — плоть», дабы наконец-то «просвещенные и непросвещенные протянули друг другу руки» и сбылась заветная мечта:
«Тогда вечное единство воцарится меж нами. Не будет презрительных взглядов, не будет слепого страха народа перед своими мудрыми наставниками и жрецами. Лишь тогда достигнем мы равного развития всех сил — как отдельного человека, так и индивидуумов в их совокупности. Никакая сила не будет более подавляться, и воцарятся свобода и равенство умов».
Это язык еще не утраченных надежд, и это иллюзия идеалистов, ожидающих коренного переворота от идей. Но кто, памятуя о немецкой истории и немецкой современности, дерзнет посмеяться над этими словами?
Поразительно, как движение этих идей соответствует этапам духовного развития Каролины Гюндероде — вплоть до настойчивого обращения к мифологии, источнику многих ее стихов и философских трактатов. Если мы, исходя из этого «наброска системы», будем постоянно помнить о причинах, определивших такой поворот (и вытекающих отсюда новых точках соприкосновения с Гёльдерлином), нам, возможно, легче будет найти доступ к ее сочинениям, внешняя оболочка которых для нас столь чужда и непривычна.
3
Лицедейство, маскарад.
Один-единственный раз в документах, имеющих касательство к Гюндероде, упоминается Французская революция — в письме марбургского правоведа Фридриха Карла фон Савиньи, которое он посылает Каролине 8 января. «Ай-ай, милый друг, — читаем мы в этом письме, — Вы подпали под власть странных ощущений и мыслей. Да у Вас прямо-таки республиканские идеи — уж не замешана ли тут французская революция? Ну что ж, этот грешок простится Вам, коли Вы дадите обещание, что позволите однажды дружески посмеяться над Вами на этот счет».
Это письмо ранит двадцатитрехлетнюю Каролину в самое больное место: оно касается ее безответной любви к Савиньи; за маскарадом политической фразеологии это не сразу и обнаружишь. Но в драме, разыгрываемой перед нами, маски для всех участников привычны; особенно третий лишний, которому больше всех приходится скрывать, — особенно Каролина постоянно нуждается в маске. «Республиканские идеи»? Что ж, ее подруга Гунда Брентано, тем временем уже помолвленная с Савиньи, пожаловалась своему жениху на Каролину:
«Бедняжка Гюндероде вдруг сочла себя весьма угнетенной тем, что я все-таки кое-что решаю теперь в ваших с нею отношениях. И поскольку возмущенное чувство ее не может стерпеть никакой зависимости ни от чего на свете, поскольку она не согласна мириться с тем, что она не повсюду и не во всем первая и единственная, она, представь себе, вознамерилась разом порвать все связи с тобой и со мной и вообразила себя по сему поводу бог весть какою героинею».
Савиньи не так уж неправ: без Французской революции, до нее женщина едва ли могла бы возжаждать независимости и свободы; ему, серьезному, политически мыслящему человеку, республика — самый подходящий предлог для того, чтобы высказать шутливо-угрожающее предостережение. Республиканские идеи нынче уже не в чести. Савиньи опубликовал в 1803 году свой трактат о «Праве собственности», разместив утопию равенства в системе нового буржуазного права — в колесах приводного механизма. Блестящий ум, реалист, симпатичный, твердых устоев человек — и великодушный и тонко чувствующий тоже. Каролина любит его. Летом 1799 года она познакомилась с ним в загородном имении своих друзей. Одной из подруг она признается в «глубоком впечатлении», которое он сразу на нее произвел, и описывает далее свои чувства — обычная повесть, как у всех девушек ее склада:
«Я не сознавалась в том себе самой, я уверяла себя, что это всего лишь участие к тому затаенному страданию, к той меланхолии, которую выражает все его существо, но скоро, увы, слишком скоро сила чувства моего убедила меня в том, что мною овладела подлинная страсть».
Обычная история. Необычно лишь то, что втайне полюбившая (считающая себя, естественно, недостойной любимого человека) забывает свое горе над книгами; читает «Зибенкеза» Жан-Поля[170], который очень ей нравится, но прежде всего «Идеи к философии истории человечества» Гердера[171], которые заставляют ее «забыть собственные горести и радости в думах о благе и боли всего человечества». Тут-то она и выпадает окончательно из роли юной девицы, которой положено заботиться лишь о себе и о своих ближних. Но она и настоятельно просит подругу, чтобы та, ради бога, сообщала ей все о «С.»: «Ведь это все, что мне дозволено от него иметь: тень мечты».
Как тут не впасть в суеверие? Ведь она сама произнесла роковую формулу, определившую всю ее дальнейшую судьбу.
Она хочет соединить несоединимое: быть возлюбленной мужчины — и создавать произведения, ориентирующиеся на абсолютные масштабы. Быть супругой и поэтессой; основать и обихаживать семью — и вынести на суд общественности творчество, проникнутое дерзновенными идеями. Невоплотимые желания. Трое мужчин играли роль в ее жизни: Савиньи, Клеменс Брентано, Фридрих Крейцер[172] — три варианта одного и того же переживания: то, чего она жаждет, невозможно. Трижды ей суждено испытать самое невыносимое: ее превращают в объект.
Пока она любит, томится, страдает, молчит, учится, пишет; пока Савиньи делает первые шаги на блестящем поприще, в конце которого его ждет кресло прусского министра юстиции; пока семейство Каролины втайне надеется, что он наконец объяснится, — пока все это тянется, Клеменс Брентано, к которому Гюндероде не всегда была равнодушна, но который после некоего тщательно скрываемого щекотливого инцидента избегает ее, — Клеменс Брентано устраивает брак своего друга Савиньи со своей сестрой Кунигундой, той самой Гундой, подругой Каролины. Круг, в котором эти люди вращаются, невелик; всё у всех на глазах, у всех на устах. Савиньи, подыскивающему, собственно говоря, профессорскую жену, от Каролины становится не по себе; он мыслит шаблонами и потому не может взять в толк, чего ей надо. Он вопрошает себя, чему он должен верить — «молве, считающей ее то жеманницей, то недотрогой, то сильной мужской натурой, или ее голубым глазам, в коих отражается сама женственность».
Святая простота. Он поостережется докапываться до оснований молвы, проверять взаимоисключающие суждения. Он посватается к Гунде, которая, похоже, не ахти сколько унаследовала от гения семьи Брентано, но которая причастна образованности, культуре своего окружения. И она добросердечна, она великодушно настаивает на том, чтобы подруга Каролина была третьей в их союзе. А Савиньи того и надо. Ведь это так удобно: находясь в твердых руках, можно позволить себе завязать с женщиной, которая его все-таки интригует, шутливую, ироническую, безопасную переписку в той непринужденной манере, от которой больно лишь тому, кто любит всерьез.
«Увы, сударыня, всевышнему не было угодно, чтобы я передал Вам свое письмо в Гисене…»
Она на это: «Право, я готова не на шутку пенять небесам, что они вмешиваются в мои дела со столь неподобающей жестокостью…»
Он, узнавши, что она задумала путешествие с теткой в Марбург, находит, что, «конечно же, Вам решительно необходимо здесь осмотреться со всею тщательностью, и я могу только удивляться, как это Вы обходились без этого до сих пор…»
Можно было бы упрекнуть его в некоторой жестокости, если бы он придавал хоть малейшее значение тому, что говорит. Каролина мужественно выдерживает тон и заверяет его, что обстоятельства, к сожалению, вынуждают ее отказаться от поездки: «А среди достопримечательностей Марбурга, коим принадлежит предпочтительный мой интерес, я бы назвала некоторых ученых — или одного (в счете я не сильна)…»
И так далее. Милая болтовня, игра с огнем. Роман об избегнутой любви, написанный в стиле эпохи, то есть в письмах; только сочинители одновременно и персонажи — вполне современная черта, — да разве что именно поэтому возрастает опасность (а может быть, и соблазн) нарушения границы между литературой и жизнью. Впрочем, внутреннее действие дается лишь в подтексте — сумрачный основной мотив, мотив отречения, не должен всплывать на поверхность; его контрабандой протаскивают во фразы, тон которых — сама непринужденность: «Гунда уверяет, будто я к Вам даже несколько неравнодушна, но это не так, уж верно не так…»
Уж верно не так. Если бы только автор письма не менял мины от одной части фразы к другой, если б улыбка не сбегала вдруг с лица, если б не прорывался собственный, неподдельный голос:
«Когда б Вы меня знали, Вы бы поняли, что это невозможно, но Вы не знаете меня, и Вам, скорее всего, безразлично, какая я есть, какою могу быть и какой не могу. И все же я дерзаю надеяться, я даже знаю наверное, что однажды буду принадлежать Вам как друг или как сестра; я себе ясно это представляю, и оттого жизнь моя становится много богаче; но это возможно будет лишь тогда — Вы сами знаете когда».
Мы тоже знаем: когда Савиньи и Гунда поженятся.
«Когда б меня знали» — вечное желание женщин, мечтающих жить своей жизнью, а не жизнью мужчины. Мы здесь у самых его истоков; но оно сохранилось и до наших дней, и в наши дни оно тоже оказывается чаще неисполненным, чем исполненным, потому что лозунг свободного развития личности, с которым буржуазия выступила на арену, вообще не мог быть когда-либо осуществлен массой производителей. Смелая идея — установить между мужчиной и женщиной иные отношения, нежели господство, подчинение, ревность, право собственности, — отношения равноправные, дружеские, предупредительные. Быть сестрой, другом (в форме мужского рода!) — неслыханные предложения! Доказательство того, что нужда и отчаяние рождают фантастические идеи, которые никогда не могут быть осуществлены, но в то же время и никогда уже не могут быть сброшены со счетов.
В языке, которым Гюндероде говорит сама с собой, — в стихотворении — слышатся, правда, иные ноты.
ЛЮБОВЬ
Ты сир — и тем богат! Даруешь, принимая! Ты робок, но и смел! Твой плен — оковы рая! Замерло слово От света дневного, Трепещет душа, побеждая! Жить в нем одном — то смерть иль воскресенье? О пир тоски, о сладость пораженья! Некуда деться, Не наглядеться, Двойная жизнь — жизнь в сновиденье.Одно из первых предельно откровенных женских любовных стихотворений в немецкой литературе — неприкрытое, незавуалированное. Стихотворение, порожденное ощущением неразрешимого противоречия, проникнутое напряжением взаимоисключающих элементов; об этом напряжении свидетельствует его скованная непосредственность. «Стихи — бальзам на все наши печали».
Кто зашел так далеко, кто испробовал это средство, испытал его на себе — тому возврата уже нет. Он обречен теперь любой ценой совершенствовать этот удивительный инструмент, который, преодолевая одну боль, порождает другую: себя самого. Но подобная метаморфоза — превращение из объекта в субъект — идет наперекор духу времени, занятому полезностью, практичностью, меновой стоимостью всех вещей и отношений. Будто злые чары опутали вещи и людей. Как тут не ужаснуться? Как не поддаться недобрым предчувствиям и не воплотить их в недобрых, жутковатых сказках? Как избежать ощущения бессмысленности всего сущего? («Век наш кажется мне вялым и пустым, мучительная тоска неудержимо влечет меня к прошлому».)
«Я же полагаю, — слово опять берет Савиньи, — что известная податливость, чрезмерная расслабленность и пресловутые контрасты суть вовсе не органические свойства Вашего истинного, исконного существа… Вы не должны чересчур расслабляться, впадать в излишнюю меланхолию и мечтательность; стремитесь к ясности и твердости и вместе с тем — к ощущению тепла и радости жизни…» Мужчина жаждет вылепить ее по своему образу и подобию. Уже на исходе 1803 год. К декабрю, после всей этой затяжной эпистолярной игры в поддавки, они уже созрели для признаний, на которые раньше не решались. Шифровки и шарады доведены до такой крайней степени, что оба переходят на открытый текст; двойное отрицание дает в результате утверждение: Савиньи прикидывается, будто не верит, что «история», которую он собирается рассказать, ее заинтересует, «что, однако же, совершенно невозможно». Застраховавшись таким образом, он излагает трогательную повесть о периодических болях в своей правой руке; некий «кто-то», кому он помогал сесть в карету, прищемил ему руку, захлопывая дверцу, и вот уже несколько недель он чувствует ломоту, постоянно возвращающуюся с переменой погоды. Весьма именитые саксонские врачи высказали предположение, что он, наверное, обжегся, а помочь так ничем и не помогли. Меланхолическое заключение: «Все вот говорят о „Страданиях юного Вертера“, а другим тоже случалось страдать, только о них романов не пишут».
И тут он отвечает на ее сделанное раньше предложение. Будучи «обжегшимся ребенком», он боится огня; он, правда, не ручается, что время от времени не будет слегка в нее влюбляться и тем самым наносить ущерб их дружбе, но все-таки было бы «ужасно неестественным», если бы им не удалось стать «самыми твердыми друзьями».
Гюндероде на седьмом небе от счастья. «Я так рада, о, так рада была Вашему письму…» По ней, рука хоть бы и не заживала. Огорчение, которое она часто испытывала от его писем («то было ужасное, ужасное чувство — словно смертный холод»), как будто улетучилось. Она отрекается от всех притязаний, предается самоуничижительным фантазиям, находит, что оба они, Савиньи и Гунда, «так великодушны, так бесконечно добры, что еще не забыли свою бедняжку Гюндероде, не сказали ей: поди прочь, ищи себе пристанища, у нас тебе нет места».
Обратная реакция на эту выспренность неизбежна: она вскоре попытается разорвать отношения, в которых она не первая и не единственная; тут-то хитрец Савиньи и заподозрит ее в республиканских идеях, присовокупив к этому компетентную лекцию о праве сильного в сфере духовного обладания; это означает ни много ни мало как то, что обе женщины спокойно могут и дальше конкурировать в притязаниях на духовные достоинства мужчины, а он будет каждый раз венчать победными лаврами ту, что сильней, — ту, что больше предложит. Рынок свободен для каждого, и право сильного — всеобщий закон. Цены будет определять экономия.
«Как Вы коварны! Какая жестокая ирония!» Ах, как беспомощна эта попытка защититься. Того специфического чувства реальности, которое здесь от нее требуется, Каролина начисто лишена. «Подобную систему политической экономии, право, не должно вмешивать в сердечные дела».
Слишком поздно. Чары подействовали, а обратного заклинания эти женщины не знают — ибо вообще не понимают, что с ними происходит. Вот они и становятся нереалистичными. Ибо что реалистично, а что нет, определяют мужчины, заправляющие политикой, производством, торговлей и наукой; поскольку они во имя подлинно важных вещей — то есть деловых связей или государственной службы — преграждают женщинам доступ в святая святых своей личности, эти последние испытывают чувство катастрофической утраты реальности или чувство собственной неполноценности, становятся ребячливыми или превращаются в мстительных фурий, впадают в стилизацию, делая из себя «женщин высокой души» на одном полюсе и благочестивых домохозяек — на другом; ощущают себя ненужными и держат язык за зубами. Среди тех немногих, что рассуждают, пишут, поют, большинство захотят подсластить своим сестрам их жребий: «женская литература» вступает в свои права. Некоторые же, не сумевшие стать дрессированными домашними животными, выражают неукротимую, «мужскую» жажду счастья:
Зачем не в ущельях я вольный стрелок, Не воин, стремящийся к славе? Зачем я не муж? Своей милостью рок Тогда бы меня не оставил. Но чинно сажусь я на место свое, Ребенка послушного тише. Лишь косу тайком распущу — и ее Порывистый ветер колышет.Кто, кроме специалистов-знатоков, назовет автора этих строк — Аннету фон Дросте-Гюльсгоф[173], о которой писали, что она была «нервнобольной» — во всяком случае, слабонервной?
Пока Гюндероде в силах, она придерживается правил, установленных Савиньи для их общения, умеряет свое чувство, сосредоточивает все силы сердца и ума на работе, на этой второй своей страсти.
«Сознаюсь Вам в величайшей своей глупости — я пишу драму и всецело захвачена ею, я до того вросла в нее душою и помыслами, что собственная моя жизнь становится чужой мне; есть у меня эта наклонность к абстракции, погружению в поток внутренних созерцаний и вымыслов. Гунда говорит, что это глупо — столь бесповоротно отдавать себя во власть такому искусству, как мое; но мне дорог этот мой порок — если это порок, — он часто вознаграждает меня за все мирские невзгоды».
Тон изменился. В нем появились ясность и твердость; здесь говорит женщина, отстаивающая свой труд, свой талант, даже если она и не дерзает надеяться на то, чтобы «вступить в круг достойнейших»; женщина, вполне осознавшая, что эта работа прочно связывает ее с реальностью, столь для нее существенной, придает ей серьезность и сосредоточенность, наполняет радостью самопознания. Взрослая, уверенная в себе женщина предстает здесь перед мужчиной. Но последние фразы того же письма показывают, как легко она теряет почву под ногами, начинает сомневаться в себе:
«Натура моя кажется мне зыбкою, полною беглых видений, они переменчивы, они приходят и уходят, и нет в них постоянства, нет душевного тепла. Но я умоляю Вас простить мне мои врожденные дурные наклонности».
Двумя месяцами позже, накануне свадьбы Савиньи и «душечки Гунды», Каролина, забыв свою гордость, под необоримым наплывом страсти посылает ему вот этот сонет:
ПОЦЕЛУЙ ВО СНЕ
Тот поцелуй, вдохнувший жизнь в меня, Больной груди принес отдохновенье. Ночь, снизойди! Даруй в своем затменьи Мне целый мир блаженства и огня! Лишь в снах своих живу. Они, маня, Мое чаруют внутреннее зренье. Лишь ночь одна приносит исцеленье, И что мне рядом с ней утехи дня! День суетлив, скуп на любовь и ласку, Его лучей надменное сиянье Меня слепит и топит в лаве света. Сомкнитесь, вежды! Сладостную сказку Вам ночь навеет, утолит желанья И боль уймет прохладной влагой Леты.К этому стихотворению, и без того достаточно недвусмысленному (листок этот хранится в Немецкой государственной библиотеке на Унтер-ден-Линден), она еще и делает приписку: «Савиньи. Это все правда. Вот какие сны снятся бедняжке Гюндероде, и про кого? Про того, кто так добр и так всеми любим».
Стоит сравнить стихотворение с припиской: насколько более свободным и независимым делает человека искусство, формотворческая воля! Понятно, что Гюндероде, испугавшись своей способности мыслить и даже творить посредством чувства (а этот страх — предпосылка и роковое противоречие всякого творчества), укоряет себя в непостоянстве и холодности.
Как поэтесса она верна себе, да и как человек тоже. «Сон» и «боль» для нее ключевые слова, но она не пользуется ими как модными поэтическими штампами. Если она говорит «сон», значит, ей и вправду это снилось, если говорит «боль», значит, и вправду страдает. Она не плаксива.
Как раз в эти недели в «Прямодушном», издаваемом Коцебу, появляется рецензия, в которой один франкфуртский критик — бывший гувернер, не преуспевший с собственными стихами, — в кисло-сладком тоне обсуждает ее первый сборник «Стихи и фантазии»; истинного автора за псевдонимом «Тиан» он разгадал. «Некоторые стихотворцы так легко усваивают чужое, что искренне почитают его своим».
Друзья Гюндероде спешат ее утешить. Она реагирует спокойно, с чувством собственного превосходства. Клеменсу Брентано, который после длительного перерыва снова ищет дружбы с нею в восторженном письме, но разочарован тем, что она не доверилась ему первому, она отвечает:
«Вы хотите знать, как мне пришла в голову мысль опубликовать мои стихи? Смутное это влечение я всегда испытывала, а почему и для чего — о том я редко себя спрашиваю; я была чрезвычайно рада, когда нашелся человек, взявший на себя переговоры с издателями; легко и не ведая, что творю, я таким образом разрушила стену, отделявшую самые сокровенные тайники моей души от внешнего мира; и покамест я вовсе в том не раскаиваюсь, ибо постоянно чисто и живо во мне желание выразить свою жизнь в таких формах, которые остались бы навечно и с которыми не зазорно было бы вступить в круг достойнейших, приветствовать их и быть с ними заодно. Да, к этому кругу меня постоянно влекло, это храм, к которому дух мой совершает паломничество на земле».
Иначе как наивно и благоговейно она и не могла сделать этот опасный первый шаг на пути к общественному суду. Сердца «достойнейших», к кругу которых ее влечет, не так-то легко растопить. Клеменс — похоже, его и впрямь скрутила зависть — пренебрежительно высказывается об этих стихах за ее спиной; отвергнутый влюбленный чувствует, что его раскусили, а этого он не может перенести. Гёте, получивший «Стихи и фантазии» для своей «Иенской всеобщей литературной газеты» (вместе с рецензией, написанной, по-видимому, Эзенбеками), расщедрился на заметку на полях: «Стихи эти поистине странное явление, рецензия сгодится». Он передает томик госпоже фон Штейн, которая — правда, уже после смерти Гюндероде — напишет своему сыну: «Она издала премилые драматические и иные поэмы под именем Тиана. Я была изумлена глубиною чувств и богатством мыслей в этих прекрасных стихах, и Гёте тоже».
Роман с Савиньи имеет конец, который легко было предсказать, — не хэппи-энд. В мае 1804 года Савиньи женится на Гунде Брентано; событие празднуется в широком дружеском кругу в Трагесе, в его живописной усадьбе. Каролина тоже присутствует, остается на несколько дней, снова уезжает в пансион, к своим штудиям. Она изучает историю, углубляется в натурфилософию Шеллинга, работает над новой драмой. Время от времени еще потрескивают искры в ее переписке с Савиньи. Его «магическое присутствие», сообщает она ему еще и в августе, «слишком опасно для хрупких душ». Несколькими днями позже она едет в Гейдельберг навестить подругу юности, жену теолога Дауба. Там, на террасе замка, она знакомится с историком древности Фридрихом Крейцером, другом Савиньи. В трудной любви, что начинается между этими двумя людьми, Савиньи, по иронии судьбы, становится доверенным, судьей, советчиком — иногда желанным, чаще нет. Он Гюндероде теперь не страшен. Начинается драма, в которой она уже не второстепенный персонаж, а главное действующее лицо. Ей выпала роль трагической героини. «Лишь в снах своих живу…»
Ста семьюдесятью годами позже напишет Сара Кирш, одна из ее преемниц:
Много снится мне снов снится что тебе снится что ты во сне зашел в мою кухню.Сновидица, видящая сон о сне сновидца…
Спираль закручивается дальше.
4
Подавляемые страсти.
«Я с каждым днем все более чувствую, что не в силах свыкнуться с этим миром, с бюргерским образом жизни, Каролина, все мое существо стремится к жизненной свободе, которой я никогда не смогу обрести. Любовь, мнится мне, должна быть свободной, совершенно свободной от тесных пут буржуазности».
Это пишет Каролине Лизетта Неес фон Эзенбек, одна из давних ее подруг, в июне 1804 года. Она только что вышла замуж за естествоиспытателя Христиана Нееса фон Эзенбека — первого, кстати, кто оценил учение Гёте о морфологии растений. Лизетта — одна из умнейших женщин в кругу друзей Гюндероде; она знакома с французской и английской литературой, владеет славянскими языками, изучает итальянский и испанский. Подруге она пишет письма, которые можно назвать рецензиями, — хотя большинство ее рассуждений и не подходит к творчеству Гюндероде. В девичестве фон Меттинг, уроженка Франкфурта-на-Майне, она познакомилась с Каролиной вскоре по приезде той в пансион; одно из ранних писем выдает нечто большее, чем дружеские чувства; в нем она вспоминает, как Каролина, дабы избавиться от непрошеной гостьи, «ускользнула через черный ход, у какового, однако, я уже ожидала тебя, и все было так странно-таинственно, и мне казалось, будто ты мой возлюбленный»; потом она добавляет, как бы спохватившись: «Ведь это странно, не правда ли, Каролина?»
Это странно, потому что ново; женщины чувствуют неодолимую симпатию друг к другу и не сопротивляются этому влечению, не нуждающемуся в мужском посредничестве и дозволении, — хотя оно и не исключает интимного общения и любовных связей с мужчинами. Эти молодые женщины ощущают, что могут дать друг другу нечто такое, чего мужчина им дать не может, — общность и любовь иного, особого рода. Как будто наедине друг с другом они больше могут быть самими собой, чувствовать себя более раскованно, свободнее набрасывать планы своей жизни — и эти наброски вовсе не будут походить на те, что создаются мужчинами.
Лизетта пишет Каролине вскоре после свадьбы с Неесом, которого она «так невыразимо любит», что, впервые увидев места его детства, испытывает желание «упасть пред ним на колени»:
«Я живу теперь совсем иначе, нежели ты, зная меня, могла бы подумать, и когда-нибудь я подробно тебе обо всем расскажу. Может статься, однажды привязанность к тебе понадобится мне более, чем когда-либо, и потому пусть мы навсегда останемся внутренне нераздельными, пусть то, что соединяло нас, пребудет вовеки, я хочу неизменно жить в тебе и чтобы ты тоже жила второю жизнью — во мне».
Лизетта отнюдь не фантазерка, равно как и сама Каролина. Печаль, прорвавшаяся здесь, вызвана невосполнимой утратой, она нечто большее, нежели страх перед буднями супружества с трудным, болезненным, зависящим от минутных настроений человеком; и печаль эта не просто ностальгический рефлекс, заставляющий искать прибежища в прежней связи, которую она сама называет «зарею своей жизни» — «свободной, ничем не омраченной и вечно безоблачной, как небо». Они поддерживают и подтверждают друг друга, это несомненно, и, если угодно, дружеские кружки той поры можно рассматривать как первые «организации», в которых женщины действуют в качестве равноправных членов, — пока несколькими годами позже в больших городах, особенно в Берлине, они не станут сами основательницами и средоточиями подобных кружков — салонов. Тон, энергия их взаимных излияний, направление интересов, круг тем, по поводу которых они обмениваются мнениями, формы мышления и жизни, о которых они мечтают, можно расценить как попытку — пусть даже и не всегда осознанную — внести чисто женские элементы в покоящуюся на патриархальном фундаменте культуру. Эти молодые женщины, первые интеллигенты женского пола, воспринимают зарождение индустриального века с его разделением труда и обожествлением практического рассудка как насилие над своей природой. «Польза — это свинцовая гиря, сковывающая орлиный полет фантазии», — пишет Лизетта Неес Каролине. «Природа!» — вот общий клич их жажды и тоски, каковым она была уже и для штюрмеров, под влиянием Руссо. Но наивности первого натиска уже нет и в помине; внешний лоск феодального класса, галломанствующий этикет при германских княжеских дворах и подворьях, против которого бунтовали штюрмеры, еще не успели отойти в прошлое, как их наследники уже оказались лицом к лицу с новыми «несообразностями» буржуазного уклада, с иными обоснованиями для осмеяния правды чувства, для подавления правды мысли. «Уж не занятые ли ковкою духа циклопы с одним надменным глазом во лбу искоса взглянули на этот мир, вместо того чтобы, как это бывает при истинном здоровье, посмотреть на него обоими глазами?» Мир болен — и не замечает этого. Чтобы его излечить, женщины, выломившиеся из привычных шаблонов — в том числе и тех, что касаются их пола, — заключают своего рода союз. Поданные ими знаки лишь сегодня могут быть снова замечены, восприняты и истолкованы.
В году 1840-м, через тридцать четыре года после смерти Гюндероде, Беттина фон Арним издает роман в письмах «Каролина Гюндероде». Книга эта имела несчастье попасть в руки сухарей комментаторов, которым с их техникой ничего не стоило разоблачить ее как «подделку». Беттину уличили в том, что она слишком свободно обошлась с материалом, сокращала письма, включала в них куски из других писем, многое напридумывала сама. И все-таки эта книга документ — в поэтическом смысле: не только как свидетельство дружбы двух женщин, но и как картина жизни и нравов эпохи, и как критика этих нравов, не страшащаяся докапываться до самых корней; я не согласна считать случайностью то, что именно женщины с такой бескомпромиссностью обличали пороки века: то обстоятельство, что они экономически и социально находились в полной зависимости и не могли рассчитывать ни на какое место и ни на какую службу, освобождало тех из них, что духовно были наиболее свободны, от неблагодарной обязанности оправдывать ради хлеба насущного жалкий дух верноподданничества. Все удивительным образом перевернулось: абсолютная зависимость породила совершенно свободное, утопическое мышление, «религию невесомости». Сколь беззащитны были те, кто отваживался мыслить в соответствии со своими чувствами, не стоит и говорить. Вполне понятно также, что подобная книга не смогла привлечь к себе внимания: ее тон, ее дух были чужды немецкому читателю, чужды ему, похоже, и сегодня. Ее язык интимен, страстен, мечтателен, высокопарен, образен, не всегда правилен и уж никак не трезв — стало быть, многим читателям он должен казаться взвинченным, вызывать ощущение неловкости. Сердечные излияния — особенно со стороны Беттины, настойчивой, умоляющей искательницы: «Люди добры, и я от всей души хочу быть доброй к ним, но отчего же, отчего же ни с кем я не могу говорить? Такова, видно, господня воля — что мне лишь с тобою просто и легко». «Каждое мгновение жизни моей принадлежит тебе, и я совершенно не властна над своими чувствами — они устремлены к тебе одной».
Самая настоящая влюбленность, духовная и чувственная любовь, со взлетами и падениями, с блаженством и мукой, с самоотвержением и ревностью. Гюндероде, более зрелая, эмоционально не столь захваченная, реагирует много сдержанней, мягко осаживает, пытается успокоить, научить, воспитать; и в то же время она почти с завистью смотрит на более наивную подругу, безоглядно следующую своим фантазиям, наклонностям и убеждениям, открывает ей свои сокровенные мысли: «Как можно больше знать, как можно большему научиться и только не пережить свою юность! Как можно раньше умереть». На что Беттина отвечает ей письмом о вечной юности, другим письмом — о своей любви к созвездиям, которые вселяют в ее душу «веру в истину и добро», пренебрежение к «земному жребию», мужество в следовании «чистому голосу совести», готовность к великим деяниям. «Все, что достигнуто мужеством, всегда истинно, все, что сковывает и угнетает дух, — ложно. Угнетенность духа — удел призраков, она порождает страх. Самостоятельная, независимая мысль — вот величайшее мужество». — «Не знаю, сколь на многое ты способна, — отвечает ей Каролина, — но что до меня, я твердо знаю, что мне в моих действиях поставлены более тесные пределы — не только условиями жизни моей, но и самой моей натурою, и потому легко может статься, что тебе возможно будет свершить нечто такое, на что я неспособна».
Она обсуждает с подругой вопросы поэзии, диктует ей свои стихи, когда ее глаза отказывают, совершает с нею прогулки в окрестностях города, они вместе читают, вместе штудируют историю; с решительной серьезностью относится она к своеобразным прожектам улучшения мира, развиваемым Беттиною; ибо ни много ни мало как о несовершенном состоянии мира они чаще всего беседуют. «Почему бы нам не поразмыслить сообща над благом и потребностями человечества?» Неустрашимой Беттине приходят в голову «правительственные мысли». «Будь я на троне, — хорохорится она, — я бы играючи перевернула мир».
«Быть цельным во всем!» — вот насущная потребность для них обеих. Гюндероде в эти годы погружается в изучение Шеллинговой натурфилософии. («Одновременно я возблагодарила судьбу, отпустившую мне достаточный срок для того, чтобы успеть кое-что понять в божественной философии Шеллинга, а то, что еще не поняла, по крайности почувствовать; возблагодарила ее за то, что мне хотя бы перед смертью открылся смысл всех возвышенных истин этого учения».) Ее собственное мироощущение изначально родственно идеям молодого Шеллинга; раннее свидетельство тому — ее «Фрагмент из Апокалипсиса», в котором мистическая тоска по слиянию с природой, стремление пробиться к «истокам жизни», избавиться от «тесных пут» собственного «я» вырастают в возвышенное видение единства и непрерывности всего сущего:
«И уже нет ни двух, ни трех, ни тьмы тем; и тело с духом уже не отделены так друг от друга, что одна субстанция принадлежит времени, а другая — вечности, они теперь одно, все принадлежит себе, все есть время и вечность в одном, все видимо и невидимо, переменчиво и неизменно, все — бесконечная жизнь».
Она посылает Беттине как раз те свои сочинения, в которых она, преображаясь в самые разные облики, ищет путей к первоначалам, бурлящему хаосу, спускается в подземный мир, к матерям — туда, где еще не разделены сознание и бытие, где царит единство, первозданная материя, канун творения. Путнику, что мучится своим сознанием и жаждет небытия в материнском лоне, духи земли говорят:
Лишь становленье нам, не бытие подвластно. Твое ж стремленье к матерям напрасно — Сознанье несовместно с жаждой сна. Но загляни в души своей глубины — Не все ли там, что ищешь ты, картины Заключены, как в зеркале небес? Полночный час и там чреват зарею, Унылый хлад и там пройдет с весною, Природа-мать и там творец чудес.Беттина с энтузиазмом подхватывает идеи подруги, воодушевленная этим обращением к силам, происходящим из «материнского лона», а не так, как Афина Паллада, — из головы Зевса, то есть из отцовской головы; в противоположность традиционным источникам классики здесь обращаются к архаическим, отчасти матриархальным моделям. Миф прочитывается заново, и к безраздельно царившему до сих пор греческому мифу добавляются древняя история и учения Индии, Азии, Востока. Европоцентризм поколеблен, а с ним и единоличная диктатура сознания: силы бессознательного, ищущие выражения в инстинктах, желаниях, снах, в полной мере воспринимаются, учитываются и описываются в этих письмах. В результате неимоверно расширяется круг опыта и круг того, что осознается как реальность. «Все нами выражаемое неизбежно должно быть истинным, ибо мы это ощущаем».
Истина ощущения для нее вовсе не право на расплывчатость. Иногда она охлаждает пыл своей подруги: «Не думаешь ли ты, что, когда ты впадаешь в экстаз, когда будто легкое опьянение овладевает тобою, это и есть пресловутый невыразимый дух?» Или снова и снова предупреждает ее о необходимости изучения истории прежде всего:
«Потому-то история и представляется мне столь существенной для того, чтобы влить свежую струю в растительное прозябание твоей мысли. Будь, ради бога, более стойкой и твердой; поверь мне, почва истории очень полезна, просто необходима для твоих фантазий, твоих понятий. Утративши почву под ногами, как сможешь ты постичь и удержать себя самое?»
И далее следует великолепный поворот, который выражает всю ее и который мог бы принадлежать перу Гёльдерлина:
«Ибо единственно она, эта священная ясность, дарует нам уверенность в том, что нас и впрямь обнимают любовно благосклонные духи».
Обе женщины как бы дополняют друг друга. Глубина их мыслей поразительна. «Мы живем в пору отлива», — пишет Гюндероде Беттине, а та, ужасаясь превращению людей в маски, доискивается до причин своей печали и своего одиночества.
«Я думала о том, что слишком поспешна наша мысль, время отстает от нее и потому неспособно дать нам счастье свершения, лишь одна меланхолия рождается из этого источника жизненных сил, который нигде не находит выхода, чтобы излиться… О, где же то деяние, что увенчало бы наши мечты, дабы не приходилось нам тщетно и горестно бить себя в грудь, сетуя на вялость нашей жизни?.. Вот это было бы подлинным здоровьем, и мы бы научились тогда мужественно прощаться с тем, что любим, и возвели бы новый мир, и счастливы были бы до самых глубин души. Вот о чем я мечтаю — ибо много еще есть дела в этом мире, и, что до меня, мне думается, все в нем ложно, все не так».
Вот о чем они мечтают. А деяние все не приходит, не увенчивает мечту, и сама мечта снова на многие годы оказывается погребенной.
Но сколь бы откровенна ни была Гюндероде с Беттиной (она показывает ей кинжал, который всегда носит при себе, и то место на груди, пониже сердца, которое указал ей врач на случай рокового удара) — о том, что ее волнует больше всего, о своей любви к Крейцеру, она с ней, похоже, не откровенничает. Крейцер, исполненный ревнивой неприязни к семейству Брентано, особенно к Беттине, добивается того, что Гюндероде порывает с подругой. Тяжкий удар для обеих, особенно для младшей; она припадает к ногам госпожи советницы Гёте в Гиршграбене и изливает переизбыток своего чувства на нее и на ее боготворимого сына. Начинается новая глава в ее жизни. Когда подруга ее умирает, она пишет в память о ней некролог — самый справедливый из всех некрологов. Потом она выйдет замуж за Ахима фон Арнима, станет хозяйкою поместья Виперсдорф в Бранденбурге и матерью семерых детей. Многие из друзей юности — ее брат Клеменс, Савиньи — под давлением обстоятельств эпохи Реставрации сближаются с политической или клерикальной реакцией либо просто переходят в ее ряды. Она же в одном из своих писем к прусскому королю по праву может сказать о себе:
«В каких бы прегрешениях я ни была повинна, против искренности своей я никогда не грешила. Ибо все, что произросло в моей душе в пору расцвета моих идеалов, живет там нетронутым и поныне».
Можно представить себе, за что любила Гюндероде эту свою подругу: она была прекрасной противоположностью мелочному, прилизанному, неслышно ступающему завсегдатаю гостиных; в ней была гордость, любовь к свободе, решительность помыслов и надежд; в ней воплощалась сама утопия.
5
То рождать, что нас погубит…
«Этой ночью привиделся мне удивительный сон, и я не могу его забыть. Снилось мне, будто я лежу в постели, справа же от меня лежит лев, слева волчица, а в ногах медведь! И все они вполовину навалились на меня и спят. Тогда мне подумалось: если проснутся эти звери, они друг друга растравят и растерзают меня. Ужасный страх овладел мною, я потихоньку выбралась из-под них и убежала. Сон будто аллегорический — что Вы о нем думаете?»
Фридрих Крейцер, которому адресованы письмо и вопрос, не дает никаких комментариев к аллегорическому сну Гюндероде. Разъяренные звери, в кругу которых увидела себя эта женщина, его, верно, испугали; навряд ли ему снятся такие страшные сны. А Гюндероде, эта одаренная сновидица, наверняка поняла свой сон, столь убийственно точно выражающий ее положение. Ее взаимоисключающие желания, порывы и страсти — пробудись они, дай она им волю, они неминуемо растерзали бы ее.
Этим немногим женщинам, избегнувшим пут традиционного обеспеченного сословного брака и выражающим свою, индивидуальную жажду любви, предстоит огорчительное открытие: такого рода любовь обречена остаться безответной, — открытие смертельное; этот мотив пройдет через всю женскую поэзию последних почти двухсот лет. Гюндероде первой задаст тон:
ЛЮБОВЬ ПОВСЮДУ
Не грех ли — этой жажды пламень жгучий? Но коль цветы сияют на пути, Как неувенчанной меж них пройти И не предаться скорби неминучей? Отречься от любви — не грех ли худший? К Аиду дерзновенно низойти И об иных утехах вознести Иным богам мольбу в тоске горючей? Я там была; но в долах тех владений, В ночи ночей — любовь жива и там, И там, тоскуя, тень влечется к тени… Кто чужд любви — тот смертным скован хладом; Спустись он и к стигийским берегам, Огонь небес не даст ему отрады.Это стихотворение она посылает в мае 1805 года Фридриху Крейцеру. «Чтобы я отказалась от любви?» Вопрос этот задает обманутая нимфа в новелле «Дафнис и Пандроза», которую Каролине рекомендовал прочесть Савиньи — в том письме, где говорится об обожженной руке и где он, устрашенный решимостью ее любви, предлагает ей дружбу. Тому же Савиньи пишет Беттина, в 1807 году:
«Мой верный старый друг, неужели все мое существо так и должно иссохнуть, не дав наслаждения мне самой и не порадовав никого другого в мире, — неприметно уснуть снова, едва успев пробудиться?»
А более чем через полтораста лет будет вопрошать — почти в таких же ямбах, во всяком случае, в том же смысле, что и Гюндероде, — Ингеборг Бахман:
Мне объясни, любовь, что мне необъяснимо: ужель весь этот краткий страшный срок мне так и жить одной, лишь с мыслями своими, не знать любви и не дарить любви? Зачем нам мысль? Иль нас никто не ждет?Это рок. Тот самый час, который дает женщинам возможность стать личностями, то есть высвободить «свое подлинное „я“», хотя бы всего лишь в стихах, — тот же исторический час вынуждает мужчин к капитуляции, к самоотречению и измельчанию, лишает их способности любить, заставляет отвергать притязания независимых, способных к любви женщин как «нереалистические». От женщин требуется деловитость. Те, что неспособны подчиниться этой заповеди, — поэты — оттесняются на обочину. («А мне куда?» — уже прозвучала жалоба Гёльдерлина на утрату родины, уже свершился его уход в духовную отчизну: «Ты, песнь, мне желанным прибежищем стань!»). Женщины, жаждущие абсолютной любви, беззаветной преданности, с ужасом осознают, что их превращают во второразрядные объекты: вот где истоки безысходных страстей.
Осознание того, что вместе с самой собой ты высвобождаешь собственную гибель, рождаешь то, что тебя погубит, неизбежно должно привести к окаменению души либо к повышенной чувствительности. Чем свободней, чем значительней становится Гюндероде как поэт, тем менее пригодной становится она для союза с человеком, связанным путами «жизненных обязательств». Ты не можешь не любить, но ты непригодна для жизни женщины бюргерского круга — поди разреши это противоречие. Насильно подавлять собственные возможности — либо обречь себя на одинокое, безлюбовное существование. Все не выход. Крейцер доводит свое чувство к ней до обожания, почти до религиозного поклонения — но по-простому, по-земному жить с ней он не может.
Он действительно не может.
Крейцер на девять лет старше Гюндероде. Те, кто видел его, называют его «уродливым», и он сам так считает. Его уверенность в себе, при самых незаурядных талантах, весьма шатка: будучи сыном марбургского переплетчика и сборщика налогов, он мог учиться лишь при поддержке меценатов. С примечательным запозданием он сообщает Гюндероде о том, что в числе других благодетелей его учение финансировал Савиньи (тот — человек состоятельный): похоже, эти деньги оставили в нем, наряду с глубокой признательностью, болезненную чувствительность касательно всего, что связано с именем Савиньи. Крейцер и женился «из благодарности» — на вдове своего профессора, когда тот умер. София Леске на тринадцать лет старше Крейцера, это простая женщина, вырастившая многих детей и рачительно обихаживавшая обоих своих мужей; узнав, что Крейцер собирается оставить ее, она переживает свою трагедию, трагедию стареющей женщины, и пытается предотвратить ее доступными ей средствами: постоянно меняющимися настроениями и решениями, упреками, сценами, потом вдруг снова неестественной покорностью судьбе; однажды она — вероятно, то была бессознательная хитрость — представляет мужу доказательство того, что без нее он пропал бы. Устав от тягостных сцен, от этой постоянной нервотрепки, она уходит от него — на один только день; и он уже не знает, как оплатить счет, где найти деньги, где искать ключ от комода, — месть домохозяйки мужу, который развивал свой ум, а повседневные заботы предоставлял ей. «Видишь, как оно выходит! — сокрушенно жалуется Крейцер Каролине. — Я дорого расплачиваюсь за то, что грешил против природы, — грех этот обернулся неумолимой, железной судьбой».
Из переписки Крейцера с Савиньи явствует, сколь значительны заслуги Крейцера не только перед его наукой, изучением древности. Его пригласили в Гейдельберг, чтобы помочь хиреющему университету снова встать на ноги. Он занимается самой неблагодарной университетской рутиной — назначениями, окладами, планами, разбором интриг. Каролина, которой даже и помыслить нельзя о практической деятельности, все свое время посвящает любви к нему; он же выкраивает полночные часы перед недолгим сном, чтобы прочесть ее письмо или ее очередное сочинение. В конце концов он раздраженно упрекнет ее в том, что она неспособна понять его стесненное положение.
В октябре 1804 года такое еще невозможно. Крейцер, в начале знакомства много более пылкий и настойчивый, чем она («Неужто я должен высказывать менее того, чем полно мое сердце?»), примчался к ней во Франкфурт, чтобы «прильнуть к ее сердцу», и ему дозволено было «отогреть свою душу на ее невинной груди» — что бы это ни означало, что бы ни подразумевал или ни исключал этот метафорический оборот. Она разрешила ему говорить ей «ты». «Jacta est alea»[174], — пишет заядлый латинист своему другу и кузену Леонгарду Крейцеру в Марбург. «Середины нет — небо или смерть». Внушенные смутным предчувствием, в этом ликующем письме появляются слова: «Incipit tragoedia» — трагедия начинается. Да, начинается. Разъяренные звери зашевелились.
Мещанская трагедия. Каролина на этот раз, сопротивляясь соблазну самоповторения, перенимает главную роль; преступивший границы должен поплатиться жизнью. Все другие амплуа заняты в строгом соответствии с типажами: супруга, защищающая свою собственность — мужа; верная подруга-наперсница, передающая письма, вручающая ключи от надежных мест свиданий, устраивающая рандеву, — Сусанна фон Гейден, сводная сестра Лизетты Неес фон Эзенбек; истинные и ложные друзья-советчики: Савиньи — покачивает головой, но в меру своего разумения дает советы; Дауб и Шварц, два гейдельбергских теолога, — различной степени надежности, но оба способны стать выше моральных предрассудков своего круга; сплетничающие кумушки — среди них на первом плане госпожа Дауб, урожденная Блюм, приятельница Каролины с детства, «исчадие прозы и буржуазности»; подружки, зрители, инженю. Места действия: терраса гейдельбергского замка; театр в Майнце; комнатка Каролины в пансионе. Интермедии на постоялых дворах. Два-три свидания на Кеттенгофе, в окрестностях Франкфурта. Так не похоже на Каролину — прокрадываться туда тайком. Но она на это идет. Она пошла бы на все.
Письма, письма… Более трехсот страниц насчитывает том, изданный в 1912 году и содержащий письма Крейцера к Каролине. А ее письма к нему? Числом девять, обнаружены лишь в 30-х годах нашего века, и где? Саркастический комментарий! — в архиве семейства Леске: копии, которые София, шпионя за мужем, сняла с писем соперницы. Подруга же, Сусанна фон Гейден, все письма Каролины сожгла — невозместимая утрата! Так все идет шиворот-навыворот, ибо такова логика извращенной морали: после смерти жертвы она жаждет завладеть вещественными доказательствами.
При этом Сусанна с самого начала весьма энергично вмешивалась в их дела; изрядная доля ее рассуждений посвящена мерам предосторожности, необходимым для того, чтобы пересылать и получать письма втайне от Софии: можно ли писать, когда и по какому адресу; достаточно ли надежно зашифрованы адреса. Так как уверенности все равно нет, корреспонденты решают использовать греческие буквы и наивные псевдонимы: Каролина — Поэзия, Крейцер — Отшельник (похоже, он обязан этим почетным титулом своему супружескому воздержанию), София — Доброта, интриганка мадам Дауб — Врагиня. Все походило бы на детскую игру, не будь ставки так велики; ведь злословие, непонимание, порочащие слухи, снова и снова выводящие Крейцера из себя, подтачивают их силу сопротивления. Чем больше он робеет, чем невозможнее кажется ему близость с любимой женщиной, тем высокопарней стилизует он ее образ: «Милое, милое дитя», — называет он ее вначале, а потом она превращается у него в «простую и чистую служанку Христову», в «ангела», в «sanctissima virgo»[175], наконец, в «Поэзию». А Гюндероде — молодая женщина, она охотно отказалась бы от аллегорического превознесения, если б могла жить и работать вместе с мужчиной, которого любит. Ибо их взгляды, их знания, их интересы и таланты счастливо дополняют друг друга, благотворно влияют на творческую активность каждого. Крейцер дает ей читать греческих философов, делится с ней своими воззрениями на античность, истоки которой он выводит из Азии, своими идеями о происхождении всех религий из единого, общего для всех народов и континентов мифа. Гюндероде внимательно прислушивается к его критике своих сочинений, и они явственно обнаруживают следы его влияния — равно как и его позднее сочинение «Мифология и символика древних народов» едва ли мыслимо было бы в такой форме без нее: свидетельства того, что в лучшие свои часы они могли подниматься над тягостной зависимостью от плоских и пошлых будней.
Крейцер, отнюдь не чуждый тщеславия и себялюбивой жалости, скованный цепями службы, страшащийся «человеческой жертвы», пишет своей подруге — ему в это время тридцать пять:
«Ведь я уже пожилой человек. Я связан словом чести с семьей и государством. Меня приняли на службу в расчете на то, что я придерживаюсь определенных мыслей, коих хватит не менее чем на двадцать лет и кои зиждутся на прочной основе благонравия и добропорядочности. Мне надлежит быть примером для ветреного юношества, коего я являюсь наставником, и мне не должно позволять себе никакой поэзии, хотя говорить о ней перед публикой я обязан по долгу своей службы».
Таков жребий большинства немецких профессоров: не позволять себе поэзии, но судить о ней; только коллеги более поздних времен едва ли уже мучатся этим конфликтом, как мучился их безусловно достойный сожаления предтеча.
Гюндероде же, хоть теперь и маскируясь, снова прибегает к мужской роли: полностью избежать повторения невозможно. Она снова «друг», как в бытность достопамятного Савиньи, и, совершая акт самоотречения, она пишет Крейцеру о себе в третьем лице:
«Друг снова навещал меня… Уверяю Вас, он всецело Вам предан. И чем только Вы так его приворожили? Что же до его жизни вообще, то я все более замечаю, что его героическая душа совершенно растворилась в любовной нежности и любовной тоске. Подобное состояние не на пользу человеку, который обречен на одиночество и, похоже, никогда не сможет соединиться с предметом своей любви».
Она заходит в этом самоотречении настолько далеко, что в стихотворении, слишком откровенно озаглавленном «Единственный», меняет заголовок:
ЕДИНСТВЕННАЯ
Лишь об ней душа томится, И мечта летит, как птица, С ней, что в снах ночных мне снится, В поцелуе долгом слиться; И одно мне наслажденье — Эта радость сновиденья, Эта сладость опьяненья. Видно, жребий всех, кто любит,— То рождать, что нас погубит.Уже никаких шуток, никакой игры, иронии и самоиронии. Насквозь выдерживается тон глубокой, неотвратимой печали, иногда оттеняемой тонами умиротворенности, смирения, реже — страсти и желания, все чаще — отчаяния: «В душе моей мрак».
Надежды им нет. Они это знают, опять забывают, вынуждены снова и снова вспоминать — невыносимое постоянное напряжение, напряжение на разрыв. Ловушка захлопывается над тремя людьми: окончательно решено, что «в жертву здесь приносятся двое, лишь потому, что они не вправе приносить в жертву третьего». «Лучше умереть, чем убить», — утешает себя Крейцер. Только умрет-то не он. Сублимируя свои «вожделения», он себя разделяет на человека внешнего и человека внутреннего: «Я как те деревянные фигурки силенов, что, сами будучи низменны, служат сосудами возвышенного духа, божественных образов…» Ей поручается головокружительный трюк — любить не его, таким, каков он есть, с его обычаями, с его манерами, а единственно то, что в нем прекрасно: сокрытый божественный образ, святыню души.
«И вот тебе незыблемое основание твоего отношения ко мне: забудь меня как женщина — вернее говоря, помоги мне забыть тебя как женщину, — но не забывай моей души, ибо она прекрасна».
И он, хоть его о том и не просили, дает клятву: он «более не поддастся соблазну пошлой мысли, будто для того, чтобы обладать Поэзией, непременно надобно разделить с нею ложе».
Он не первый гувернер, оскопивший сам себя. Образумим плоть, лишенную духа (бедная павшая духом плоть!), будем иметь дело лишь с духом, лишенным плоти, напустим их, этих бесплотных призраков, друг на друга! Союз душ, в котором Крейцер будет функционировать по части коленопреклонения, меж тем как ее поэзия вознесется сияющей радугой и будет все это озарять. О самокастрация, мать китча! Он сооружает себе одинокое ложе подальше от спальни бедной Софии, прячет меж невинных рабочих бумаг письма возлюбленной, дабы вынимать их ночью. Мы на трагедии, не в комедии… Решает финал. В основании простодушия — нас-то это не удивляет — лежит трагизм: люди калечат сами себя. Викторианская эпоха.
Гюндероде не может понять, что с нею творится. Она лихорадочно вынашивает фантастические планы, в своей очевидной надрывной взвинченности являющие прямую противоположность тем банальным препонам, что стоят у нее на пути: она готова жить третьей (!) в семействе Крейцеров, а София пусть будет домоправительницей и матерински нежной подругой обоих любящих! Потом вдруг она решает — поскольку Крейцера будто бы пригласили в Московский университет — последовать за ним в мужском платье, в роли ученика; абсурдный план, просочившийся, к несчастью, наружу. София перехватила письма. Лизетта Неес, пылая возмущением, пишет Каролине: «Фантазия жестоко отомстит тебе за то, что ты вознамерилась перенести ее в условия нормальной, обыденной жизни…» Круг тех, кто еще понимает друг друга, неотвратимо сужается. Рука об руку с безысходным горем идет одиночество.
Вдруг — София как раз вроде бы снова согласилась на развод — какие-то сплетницы и приятели Крейцера выражают сомнения, пригодна ли вообще Каролина для супружеской жизни, а одному теологу внушает серьезные опасения то, что она «привержена новейшей философии». Вопрос Гретхен, заданный женщине, — это, видимо, и есть прогресс. Речь идет о философии Шеллинга, которая — что верно, то верно — не признает личного бога. И тут Гюндероде вспоминает о своей гордости: «Должна ли я виниться в том, что считаю в себе самым достойным?» Она однажды так прямо и говорит Крейцеру — что он, похоже, во всякой сложной ситуации склонен жертвовать ею, а не собой.
Но и Крейцера тоже можно пожалеть: «Ах, если бы хоть в Софии было либо настоящее величие, либо настоящая злоба — в обоих случаях то было бы спасением для меня. Но эта ее доброта — она меня убивает!» Да, там, где нормальное желание счастья расценивается как непомерное притязание, самый рядовой человек оказывается помехой на пути — в большей степени, чем какой-нибудь сверхчеловек или выродок. Отречение, смирение там — добродетели. Любовь там — грех и вина. Ответ на это один: безысходная скорбь.
ЖАЛОБА ДУШИ
Кто, рыдая и тоскуя, Знал разлуки муку злую, С этой раной жил; Кто мечту свою покинул, Навсегда из сердца вынул Все, что он любил,— Тот поймет, что это значит, Если в час веселья плачет, Плачет вдруг душа — Иль, ломая все границы, К другу милому стремится, Им одним дыша. Кто единою судьбою Связан с родственной душою — Что ему тогда Вера в высшую усладу, Что грядет за скорбь в награду? Ах, она не та! Жизни этой несказанность, Эту полную слиянность Мыслей, мук и нег, Эту боль, восторг, тревогу Никакому в мире богу Не вернуть вовек.В смертной тоске, на исходе сил она мечтает умереть. Крейцер, еще недавно вроде бы решительно готовый на смерть, теперь заклинает ее:
«Я не отступлюсь от тебя, пока ты не пообещаешь, что сохранишь себя для всех нас; ведь в чем же ином смысл нашего земного союза, как не в том, чтобы в назначенный час, когда призовет нас природа, уйти с охотою и с радостной верой в то, что и в царстве теней нас ждет любовь».
На это Гюндероде отвечает — впадая в ошибку столь многих женщин, полагающих, что невозможно отделить друг от друга жизнь, любовь и работу:
«Нынче утром получила Ваше письмо; а ввечеру вдруг чувствую, что оно так отчужденно и странно смотрит на меня и я не могу понять ни его языка, ни его взоров. Оно так разумно, так исполнено жаждою деятельной пользы и так довольно жизнью. А я уже много дней провела в Орке и поняла, что хочу без всяких промедлений и сожалений сойти туда — нет, не мыслию только, а вся, вся, телом и душой. Я мечтала встретить там и Вас, но Ваши помыслы направлены на иные предметы. Вы как раз начинаете твердо обосновываться в жизни, Вы сами говорите, что смысл нашего союза видите в том, „чтобы в назначенный час, когда призовет нас природа, уйти с охотою“; но это мы, думается, могли бы сделать и не зная друг друга. Я помышляла совсем о другом, и если Вы имели в виду лишь то, что сказали, и ничего больше, — стало быть, Вы совершенно заблуждаетесь во мне, а я в Вас, ибо тогда Вы совсем не тот человек, какого я себе представляла; когда я говорила о дружбе с Вами, я подразумевала союз на жизнь и на смерть. Это для Вас слишком серьезно? Или слишком неразумно? Помнится, когда-то Вам дорога была мысль умереть вместе со мной — или, если смерть настигнет Вас раньше, увлечь и меня за собою. Теперь же у Вас объявились более важные заботы — к примеру, о том, а не выйдет ли еще и из меня в этом мире какой-нибудь прок. Тогда, конечно, было бы огорчительно, если б Вы послужили причиною моей ранней смерти. И вот я должна следовать Вашему примеру и точно так же думать о Вас. Я не понимаю такой разумности».
Разве не леденит душу эта спокойная демонстрация разумения иного рода — того разумения, которому нет места в этом мире и которое нетерпимо именно потому, что одно его присутствие лишает смысла безумное самообольщение всех разумников, помешанных на полезности и готовых отречься от самих себя ради чего-то, «что выше нас»? «Весь зрелый цвет мужских моих духовных сил, — пишет ей этот несчастный Крейцер, — я употреблю на труд, который в своем стремлении обнажить самую суть священной наивной древности был бы достоин того, чтоб быть принесенным в жертву Поэзии». Еще и это на ее голову! Живую женщину сначала лишают плоти и крови, превращая в аллегорию, затем отчуждают, превращая в идола, и этому идолу мужчина творит жертвоприношения. И что он приносит в жертву? Высшее, на что способен.
«Лишь чудо могло бы вас воссоединить: смерть или деньги». Верная Гейден со своим лаконизмом берет быка за рога. Подразумевается смерть Софии — или деньги для Каролины, чтобы она могла стать независимой, а Крейцер мог назначить жене приличную ренту.
Все больше и больше их письма становятся диалогом собеседников, обреченных против воли заблуждаться друг в друге.
Горькие монологи, реплики «про себя».
Каролина: «Я ведь совсем одна, и гляжу ли я печально или весело — кому до этого дело?»
Крейцер: «Разве ты одна? Ведь есть же у тебя я. Я твой по-прежнему, я только живу в ожидании той весны, когда я смогу невинно наслаждаться твоей близостью, любить тебя, как любят самого верного друга…»
Каролина: «Ты говоришь так, будто и нужды нет в том, чтобы я тебе принадлежала…»
Крейцер: «Ах, ничто не радует меня, и если что и обрадовало бы, так это желанная, ощутимая близость, от каковой я отторгнут навек…»
Каролина: «Ужасное мгновение пришлось мне недавно пережить. Мне представилось, будто я долгие годы была безумною, а потом вдруг обрела рассудок и, как только я спросила о тебе, мне сказали, что ты давно уже мертв. Вот это было истинное безумие, и, продлись эта мысль мгновением дольше, она бы разорвала мне мозг. Потому не говори мне больше о блаженстве иной любви».
Крейцер: «O sanctissima virgo!»
Каролина — тоже по-латыни: «Я люблю тебя больше жизни, мой милый, нежный друг, я хочу жить с тобой или умереть».
Крейцер на берегу Рейна: «О, я готов был броситься в его волны, чтобы он унес меня к тебе, этот могучий широкий поток!»
Каролина: «Как горька наша участь… Вместе с тобой завидую рекам — они сливаются. Лучше смерть, чем такая жизнь».
Удивительный рефлекс самозащиты позволяет Крейцеру не замечать знаки, неотвратимо указывающие на смерть. Он еще прибегает к утешениям, как в свое время Савиньи: «Не отдавайся во власть этих бурь!» Он отваживается определить для нее «климат», который должен господствовать в ее душе: «Безоблачно, ясно, спокойно, мягкое живительное тепло». Он еще дерзает требовать: «Спокойствие — вот твой долг передо мною».
Не без замирания сердца следишь за процедурой самодрессировки, которой подвергает себя в течение целых двух лет почтенный профессор.
И вот, в конце, он готов:
«Я уже примирился с тем, что меня считают очень ограниченным. Таков я и есть, я-то знаю. Да и как оно могло быть иначе, коли я, немец родом, выросший в убогой среде, влачу свою жизнь среди сограждан-мертвецов…»
«Так он жил…» Произнесен ли уже литературой этот приговор? Или он еще впереди? Эпохи находят одна на другую. Ленц уж пятнадцать лет как мертв. Бюхнер лишь через тридцать лет напишет о нем эту фразу.
Никаких больше порывов, никаких планов, никаких надежд. Только сантименты, только жалость к самому себе; озабоченность — а вдруг Гюндероде видит его в слишком идеальном свете; зависть штатного служащего к «свободной художнице»: ему, видите ли, приходится вести зависимую жизнь, «не то что твоя, где что ни день, то выходной». Он на глазах мельчает. Он может ревниво выговорить Каролине за «легкомыслие» в общении со случайными знакомыми; ухитряется — она как будто во всем теперь ему покорна — развести ее с Беттиной и с «этим семейством Брентано» («они так все властолюбивы и тщеславны»), писать ей фразы вроде вот этой: «Это все оттого, что тебе недостает мужества», — предостерегать ее от свидания с ним в Винкеле на Рейне: туда же столько наезжает семей из Франкфурта!
Раз обратившись в бегство, уже не остановишься. В семи тщательно пронумерованных пунктах этот горемыка излагает женщине (она, похоже, отважилась попенять ему) логику своего поведения. Венец всего — пункт седьмой: «Любить я могу себе позволить — но не могу позволить себе полное обладание любовью, готовой забыть все и вся». И под конец — как заранее даваемая расписка в получении ответа — безнадежно-горький вывод: «Нынешнее письмо твое лишь подтверждает то, что я давно знал: ты неспособна понять мои жизненные обязательства».
Пятачок почвы под ее ногами тает на глазах. Целыми блоками реальность оттесняется в область снов — и кошмаров тоже. Гюндероде это однажды уже испытала. «Лишь в снах своих живу»… В мае 1806 года она пишет Крейцеру, которого она на этот раз окрестила Эвсебио:
«Друг опять навещал меня; был очень оживлен, непривычный румянец пылал на его щеках. Он сказал, что под утро ему приснился Эвсебио, они снова были вместе, ничто их не разделяло, и они, обнявшись, шли по цветущим долинам и лесистым холмам, опьяненные любовью и свободой. Разве один такой сон не стоит всей моей жизни? Хоть несколько месяцев такого блаженства, такого незамутненного счастья, как в этом сне, — о, как я возблагодарила бы тогда богов перед смертью! Разве б я стала считаться с ценой? За это счастье я положила бы голову на плаху и не дрогнув приняла смертельный удар».
Робкие зовы через пропасть. В конце июля Крейцер еще раз навещает ее во Франкфурте. Ничего об этой встрече неизвестно. Он возвращается в изнеможении, без сил. Тяжело заболевает, теряет сознание, бьется в нервной лихорадке. В одну из ясных минут собирает вокруг себя своих друзей и поручает Даубу сообщить Каролине, что между ними все кончено.
Каролина тем временем находится в Винкеле, на вилле торговца Йозефа Мертена, и ждет. Короткую отсрочку она получает благодаря тому, что потрясенная Гейден (Дауб решил известить Каролину через нее) отказывается верить: ведь решение Крейцера может означать смертный приговор Гюндероде. Дауб подтверждает благочестивую решимость друга. Гейден принимает меры предосторожности, адресует роковое письмо, написанное измененным почерком, другой подруге Каролины, которая сейчас с ней в Винкеле: необходимо подготовить несчастную к удару. Каролина же — движимая предчувствием беды и будто следуя абсурдным законам трагедии — перехватывает письмо, вскрывает его, читает свой смертный приговор. В своей комнатке она набрасывает еще несколько строк на листке бумаги, потом спокойно говорит подруге, что выйдет прогуляться. Вечером, когда она все не возвращается, в ее комнате находят письма, тревога растет, ее начинают искать. На рассвете один из местных крестьян находит ее труп на поросшем ивняком мысу, вдающемся в Рейн. Тело лежит головой в воде. Она закололась.
Место ее самоубийства впоследствии было затоплено рекой. Гюндероде похоронена в Винкеле у кладбищенской стены. Надгробные слова она написала сама — это найденное ею у Гердера изречение одного индийского поэта, слегка измененное. Оно совершенно точно выражает ее мироощущение и то состояние духа, в каком она приняла смерть.
Матерь моя, земля, кормилец мой, веющий воздух, Пламень священный, мой друг, и брат мой, горный поток, И отец мой, эфир, — я смиренно с вами прощаюсь, Благодарная вам вовек; я с вами на свете жила. И, в иной отправлялся мир, я без горечи вас покидаю. Други и братья, прощайте, прощайте, отец мой и мать.6
«Было бы грустно, если бы все заблуждения оканчивались подобным образом».
Савиньи. Каждый из друзей Гюндероде дает комментарий к ее кончине — в полном соответствии со своей натурой и степенью ее независимости и способности к сочувствию.
Лизетта Неес, считавшая страсть Каролины своего рода вывихом, пишет Сусанне фон Гейден:
«Всякое отпадение от природы — не меньший грех, чем отпадение от морали, ибо мораль есть не что иное, как высшая природа. Лина погрешила против обеих».
Для просвещенной Лизетты это удивительный рецидив, возвращение к скрижалям христианства. В остальном ее анализ сил, сокрушивших Каролину, весьма проницателен:
«Она пала жертвой времени, могучих бродивших в ней идей, рано ослабших моральных принципов; несчастная любовь была лишь формою, в коей все это обнаружилось, — испытанием огнем, которое неминуемо должно было ее вознести в ореоле либо испепелить».
Сусанна фон Гейден сообщает брату Каролины Гектору о смерти сестры:
«Хорошо известный Вам кинжал пронзил сердце ангела. Она не могла жить без любви, она устала от жизни, все существо ее было поражено этой усталостью… Сердце ее не умещалось в этом мире; лишь самая беззаветная любовь могла поддержать в нем жизнь; когда любовь умерла, разбилось и сердце».
Большое, достойное подруги письмо о смерти Гюндероде пишет Беттина. По случайному стечению обстоятельств она совершала поездку по Рейну, когда до нее дошел слух о самоубийстве «красивой молодой дамы» в Винкеле и молнией мелькнуло страшное предчувствие: Гюндероде! Подозрение подтвердилось.
«О великие души, о всевышние! Этот агнец невинности, это юное трепетное сердце, — какая страшная сила побудила его это совершить?»
Ахим фон Арним[176], знавший Гюндероде с 1802 года, пишет:
«Мы слишком мало могли ей дать, чтоб удержать ее с нами, недостаточно чистым и звонким был наш хор, чтобы задуть злополучный факел чуждых страстей, фуриями терзавших ее младенческую душу…»
Он «с содроганием» узнает о вскрытии, посредством которого врач хочет обнаружить причину смерти в спинном мозгу: гротескно-натуралистическая параллель к медицинскому вскрытию Генриха фон Клейста, другого самоубийцы, чья «загустевшая желчь» позволила незадачливому эскулапу дать заключение об «ипохондрии». Много позже Арним еще раз посетил место смерти Гюндероде:
«Бедная горлинка, неужели нынешние немцы только и знают, что замалчивать все прекрасное, забывать все выдающееся, осквернять все истинное и священное?»
Один этот вопрос уже сам по себе некролог.
Кого мы еще ждем? Гёте. По поводу сообщения Ахима фон Арнима о смерти Гюндероде он не высказывается. В 1810 году он прогуливается с Беттиной по парку в Теплице и, вернувшись домой, делает запись:
«Обстоятельный рассказ об ее отношениях с фрейлейн Гюндероде. Характер этой странной девушки и ее смерть».
Звучит как отрывок из наброска драмы. В 1814 году Гёте путешествует по Рейну.
«Мне показали то поросшее ивняком место на Рейне, где наложила на себя руки фрейлейн фон Гюндероде. Выслушивать рассказ о катастрофе на месте происшествия, из уст лиц, бывших поблизости и принимавших участие, — все это оставляет неприятное чувство, каковое всегда порождается обстановкою трагического события; вот так, когда вступаешь в Эгер, над тобою витают духи Валленштейна и его сподвижников».
У неуютного ощущения уже вынуто жало.
А Крейцер?
Крейцер по-прежнему тяжко болен, еще целых несколько недель. Его щадят, как покойницу при жизни никогда не щадили. Известие поражает его как гром. Он решает, что никогда не сможет больше преподавать, и лишь очень медленно оправляется от удара.
Трагедия, однако, уже по своем завершении грозит опуститься до уровня театра ужасов, до мелодрамы: мать Каролины предостерегает Крейцера от возможной мести со стороны брата Гектора, обучающегося в Гейдельберге. Крейцер возмущен:
«Великодушие это смехотворно! Сколь жалок я был бы, если б нуждался в нем! И сколь недостойны всякий страх и всякая страсть того блаженного покоя, который осеняет усопшую!»
Это, пожалуй, уже предел и вытеснения и непонимания. С этим человеком, с этим мужчиной покончено. «Моя София» — только так отныне говорит он о жене. Кстати, он ее переживет, женится на другой, доживет до восьмидесяти семи лет. О Каролине он ни разу больше не вспомнит.
Теперь он как воск в руках друзей. Они внушают ему, что ему «решительно необходимо» завладеть документами — письмами, что он посылал Каролине. И вот госпожа фон Гейден опустошает письменный стол подруги — секреты замка ей известны — и выдает Крейцеру на руки все эти отягчающие улики. За это она получает от него все письма Каролины с условием, что сожжет их. Предписание это она выполняет на совесть.
Но мысль друзей работает дальше. Пожалуй, неразумно будет сразу сжечь письма Крейцера к «усопшей» — «ибо, как знать, не окажется ли в них вдруг надобности»; говоря по-простому — не понадобятся ли они ему как доказательства его невиновности. Расчет, который мы не вправе порицать: так по крайней мере до нас смогли дойти хотя бы письма Крейцера, за исключением немногих, особо компрометирующих. Верный и благочестивый кузен Леонгард берет их на сохранение. «И больше я предпочел бы ничего о них не слышать».
Окончилась ли наконец трагедия?
Не совсем. Занавес поднимается еще раз. Будет эпилог; этим приложением мы обязаны прискорбному обыкновению поэтов оставлять по своей кончине исписанную бумагу — вверять ее надежным рукам потомков. Те могут иной раз — по злому умыслу или по небрежности — убить мертвеца повторно. В особо тяжелых случаях их агентами, их делопроизводителями оказываются те же самые лица, которых сам автор, в слепой своей доверчивости, назначил душеприказчиками. С Гюндероде как раз такой тяжелый случай.
Она послала другу Крейцеру в январе 1806 года свое новое сочинение под заглавием «Мнемозина», чтобы тот его издал. Крейцер ей отвечает:
«Ты не можешь вообразить себе, как обрадовался я твоей идее с этой книжицей, „Мнемозиной“, и какое это блаженство для меня — видеть столь блистательно увековеченной любовь Отшельника и Друга. Ты спрашиваешь, смогу ли я ее издать. Да может ли быть забота более милая моему сердцу? Но ты верно замечаешь, что тут надобно соблюдать величайшую скрытность».
Подробно распространяется он о заголовке и псевдониме. Когда Гюндероде, вопреки его советам, продолжает настаивать на псевдониме «Ион», он в конце концов соглашается: «Что ж, Иония — родина поэзии. Да, наречем это дитя Ионом». Зато она принимает его предложение о заголовке: они озаглавят этот томик «Мелета» — по имени музы опыта. Разве можно представить себе дело издания произведения в более надежных руках?
Среди писем Крейцера есть такие аналитические, компетентные и конструктивные, каких только может желать поэт от друга, поэтесса от возлюбленного. О метрике и шлегелевской философии, о поэтессах, пишущих по-латыни, о достоинствах и слабостях их сочинений — о чем только он не пишет Каролине, и это все суждения, с которыми вполне согласился бы и современный критик. Не драма, говорит Крейцер, и уж тем более не мещанская драма ее стихия, а лирика, миф, легенда. Этот человек понимает, что ему доверено, и он даже пугается духовного превосходства своей возлюбленной:
«Горе мне! Разве наберусь я теперь мужества ребячески подшучивать над тобой, добиваться от тебя покорности в любви (а ведь все мужчины только этого и добиваются) — где уж мне пред лицом такой мудрости! Твой Эвсебио устрашен. Уж подлинно тебе придется прикинуться глупышкой, когда я приеду, и нежной шаловливостью вернуть мне мужество. Отбрось свое великолепие — иначе свидание с тобой мне будет не в радость».
Можно ли, дозволительно ли предположить, что этот комплекс неполноценности, испытываемый мужчиной по отношению к женщине, в духовном развитии не уступавшей ему, впоследствии, неосознанно для него самого, повлиял на его действия?
Но на первых порах он энергично продвигает издание «Мелеты». 23 февраля он уже может сообщить подруге: «„Мелета“ продана — прямо здесь, Циммеру и Мору». Он обосновывает выбор именно этого издательства (в котором, кстати, появился и «Волшебный рог мальчика»), обсуждает предлагаемый гонорар — «карлин за лист»: «Чем глубже я ощущаю внутреннюю ценность сочинения, тем менее я способен торговаться о внешней цене». Все идет прекрасно. Только книжка так никогда и не вышла. Крейцер сам — ведь он предвидел, что его «все больше и больше будет засасывать тина будничной жизни»! — сам изымает после смерти сочинительницы рукопись Иона: редкостный случай даже в столь богатой поразительными казусами и извращениями истории немецкой цензуры и самоцензуры. Причина? Самая элементарная: личная выгода. «Видите ли, Дауб с помощью неопровержимых доводов… убедил меня в настоятельной необходимости сокрытия этого манускрипта». Убожество снова взяло верх. Сбылись фантастические кошмары Каролины.
И вот, против воли захваченная абсурдной логикой этого процесса, уже думаешь: слава богу, что она до этого не дожила; она бы, наверное, сошла с ума; она-то ведь не была так, как мы, приучена историей и литературой последующих ста семидесяти лет к тем странным операциям, которые господствующая мораль проделывает над теми, кто ей не подчиняется.
А книга? Пропала на долгие годы. Через пятьдесят лет после смерти Гюндероде, в первом «полном собрании» ее сочинений о «Мелете» речи нет. Не упоминается и имени Крейцера: следы, похоже, удалось замести основательно. Требуется вмешательство случая: каким-то невероятным образом, чудом, один-единственный экземпляр книги, состоящий частично из корректурных листов, частично из страниц рукописи, занесло в замок Нейбург под Гейдельбергом, где его сохранили. Лишь в 1896 году заинтригованной литературной общественности было сообщено о его существовании, опубликованы несколько отрывков из книги. В 1906 году она впервые была полностью издана в 400 экземплярах — тем же издателем, доктором Леопольдом Гиршбергом, что выпустил в 1920 году прекрасное полное собрание сочинений Гюндероде.
Крейцер был прав: эта книга, с ее уже неистребимыми текстами, — беспрерывное объяснение в любви, вновь и вновь обращаемое к нему — к «ангелу-хранителю», к «единственному», к «Эвсебио». Она делает его бессмертным — отличие, до которого он не дорос. Мы, знающие историю этого томика, не без щемящего чувства прочтем «Посвящение» к нему:
В тиши священной дней моих пустынных, В мои часы задумчивой мечты В венок Тебе сплетала я цветы — Дар этих дней и память дней старинных…И все же: кто дерзнет заклеймить его гневным словом «недостойный»? Осудить его за то, что он хотел жить — имея перед глазами горький пример той, что не смогла пойти на требуемый компромисс? Он желал одного — мира, покоя. И вовсе не покоя могилы. Гюндероде хорошо понимала, что с ним происходит: «Ты стал чужеземцем в кругу своих близких, с тех пор как нашел родину в моем сердце».
7
«Мне родиной земля, увы, не стала».
Едва ли мы — потомки — сможем отменить этот приговор; не столь уж часто и в наше время встретишь такую жажду цельности, абсолютности, глубины и истинности чувства, слишком пугает ее бескомпромиссность в стремлении привести в гармоническое согласие жизнь и творчество.
Воспринять ее сочинения нелегко, особенно из-за их непривычного для нас мифологического одеяния. Как поэт она, конечно, не успела достичь вершины своей зрелости; в ее трагедиях и одноактных драмах, которые посвящены грандиозным темам («Магомет») и которыми она дорожит, изображены вместо живых персонажей бледные схемы, сюжеты часто надуманы — лишь для того, чтобы выразить ее идеи, ее мировоззрение. В стихотворении, в лирической философской прозе она великолепна. Ее язык пленяет трогательной красотой, но чаще ее возвышенные замыслы вступают в противоречие с имеющимися в ее распоряжении формами; это справедливо и в переносном смысле — по отношению ко всей ее жизни.
Равно отличаясь и глубиной чувства, и остротой ума, она не может удовлетвориться ни холодной рефлексией, ни расплывчатым лирическим излиянием. Пропасть между этими полюсами своей натуры она преодолевает своим творчеством. Она ощущает себя лишь тогда, когда пишет или любит. Творчество и любовь — вот два единственно подлинных выражения ее существа. Ее письма тоже принадлежат к ее творчеству, и, лишь зная ее жизнь, мы правильно прочтем и поймем ее стихи. Если ей суждена долгая жизнь, то прежде всего как человеку и поэту, до конца испившему чашу отчаяния и отчуждения.
Трещина, расколовшая эпоху, проходит через ее сердце. Ее личность расщепляется на многие ипостаси, среди них есть и мужская. «И поэтому иной раз мне представляется, будто я стою у гроба, в котором сама же и лежу, и оба моих Я в оцепенении глядят друг на друга». Она вызывает утопическое видение: «О, я знаю, придет время, когда всякое существо будет в гармонии с самим собою и с другими». И ясно видит то, что надолго еще сохранит свою значимость:
«Ведь у нас отняли жизнь из рук; не мы живем — за нас живут; какая-то часть нашего существа живет заместо другой, значительно большей, а та насильственно погружена в полусон и, стоит ей на миг встрепенуться от него, сжигает себя в бесплодных желаниях».
Диагноз верен, и ее реакцию едва ли назовешь преувеличенной. Она одна из первых, кто воплотил процесс самоотчуждения в образ и слово; послушайте, как она изображает борьбу, которую ведет в ее душе «надменный рассудок» против природы:
«Варвар! не радуйся своему торжеству, ты вел гражданскую войну, побежденные были чадами твоей собственной природы, ты сам себя убил в твоих победах, ты сам пал в твоих сражениях. Мир, купленный ценою таких жертв, был не по мне, и непереносимою стала мне мысль, что надобно частично убить себя, дабы тем вернее частично выжить».
Вот так она сама говорит о том, почему не может больше жить; она не смерти жаждала, а жизни; и не из жизни ушла она — а из того, что не жизнь. Ставкой в ее игре была она сама. Но рядом велась другая игра, правил которой она не знала и не хотела знать. Можно ли представить себе Гюндероде старой девой-пансионеркой, чьи стихи, лишенные всех источников опыта и ощущения, неизбежно растекаются в сантиментах и абстракциях?
Ну а что оставалось бы ей еще?
Поэзия — кровная сестра утопии, то есть имеет мучительно-восторженную наклонность к абсолюту. Большинство людей не выносят открытого выражения неудовлетворенности той убогой жизнью, которую они приняли как свой удел. Гюндероде очень хорошо знакомы эти натуры, постоянные жильцы «мира», не мыслящие себе жизни вне его. «Я никогда не принадлежал к нему, — говорит один из ее героев (на этот раз, заметьте, мужчина), — то был как бы всего лишь негласный уговор, по которому он давал мне те из своих благ, что просто необходимы для поддержания жизни, а я давал ему что мог. Теперь срок этого уговора истек!..»
Попытка «дать прекрасным творениям почву»[177] в обществе, сделавшем единственной мерой количество любой ценой, потерпела крушение. Неумолимо-четкое разделение труда приносит свои плоды. Производители материальных и духовных благ, чужие друг другу, стоят на разных берегах, не в силах перекинуть мост к совместной жизни. Уничтожение, чьи приметы не всегда еще различимы, грозит им всем. Литература немецкого языка как поле битвы — можно ведь и так посмотреть на нее. Поэты — не поймите это как жалобу — обречены быть приносимыми в жертву или жертвовать собой.
«А грядущее начинается уже сегодня»
Много еще есть дела в этом мире, и,
что до меня, мне думается, все в
нем ложно, все не так.
Беттина фон АрнимДорогая Д., вместо ожидаемого Вами письма я напишу Вам о Беттине. Это, пожалуй, обеим нам пойдет на пользу: я избегну обязательств, налагаемых жанром послесловия, Вы узнаете кое-что о своей предшественнице, Вам еще незнакомой; и мы сможем продолжить начатый разговор, благо обнаружим все главные темы нашей переписки в эпистолярном романе Беттины фон Арним «Гюндероде», да к тому же еще и воспользуемся преимуществами, даваемыми исторической дистанцией. Беттина сама нуждалась в такой дистанции: письма, из которых она в 1839 году составила свою книгу, писались между 1804 и 1806 годами, в другую эпоху, можно даже сказать — в другой жизни.
Беттине не было и двадцати лет, когда она познакомилась с Каролиной фон Гюндероде у своей бабки, знаменитой в то время писательницы Софии Ларош. Хотя Каролина была пятью годами старше, Беттина с первого же взгляда привязалась к ней, ежедневно была гостьей в ее пансионе во Франкфурте-на-Майне, читала ей вслух, записывала ее стихотворения, совершала вместе с нею долгие воображаемые путешествия на бумаге и во всем ей доверяла — потому что сама она чувствовала себя одинокой в многолюдном родительском доме, была чужой в кругу того хорошего общества, к которому принадлежал состоятельный дом Брентано, и из-за всего этого впадала во всевозможные странности и причуды. «Дорогой Арним, — писал в 1802 году ее брат Клеменс Ахиму фон Арниму, — эта девушка умна необычайно, сама того не подозревая; семейство обходилось с нею до крайности дурно, и она замкнулась в себе, иссушаемая неприметным для глаза внутренним огнем».
Но Беттина, в которой за всей маскарадной игрой скрывалось храброе, мужественное сердце, поклялась себе никогда не поддаваться малодушию, не считать себя несчастной и, уж коль скоро невозможно достичь идеала, принимать жизнь такою, как она есть, по возможности скрашивая ее для себя. В этом ее отличие от Гюндероде. Та не только зависела от буржуазного жизненного кодекса как женщина, но и подчинялась буржуазному эстетическому кодексу как поэтесса; находясь под двойным гнетом обостренного нравственного чувства и обостренной художнической совести, она в конце концов оказалась у той черты, где основания единственно приемлемой для нее жизни стали исключать друг друга. Женщина и поэтесса ее формата не лишает себя жизни из-за того только, что ее предал мужчина, который был для нее всем. Вопрос должен стоять иначе: почему он был для нее всем?
От Беттины Гюндероде отдалилась уже раньше, по настоянию того самого мужчины, историка древности Фридриха Крейцера, но письма подруги она, видимо, возвратила, как та и просила ее. В этих письмах Вы можете прочесть, как отважно Беттина защищается от упреков родичей, озабоченных тем, что она, при ее ни много ни мало двадцати годах, никогда не найдет себе мужа, если и впредь будет оставлять в небрежении домашние добродетели и вместо этого упражняться в древнееврейском под началом «чернявого старого иудея». «Для мужчины ничего нет отвратительнее», — пишет ей «сердобольный Франц, ангельская душа»; он старший брат и глава семейства, поскольку родители оба рано умерли.
«Я написала ему… что уж, верно, не переменюсь теперь — поздно; и что евреем тем заручилась на каждый день единственно для того, чтобы не протухнуть вконец в нафталине домашности; я давно уж приметила, что в так называемых счастливых семействах человек по воскресеньям только и знает, что, севши у окошка, считать и пересчитывать крыши соседских дворов, — а на меня это нагоняет такую смертную скуку, что лучше уж я совсем не выйду замуж».
Это отвращение к филистерской жизни Беттина сохранит до конца; но столь же силен ее страх превратиться в никчемного человека («лучше умереть, чем оказаться не у дел»); в 1811 году она выходит замуж за Ахима фон Арнима, друга ее любимого брата Клеменса, и в его доме в Берлине, оккупированной Наполеоном столице Пруссии, начинает совершенно другую жизнь, почти безропотно проходя школу самоотречения. Двадцать лет супружества, семь беременностей, семь благополучных разрешений, обихаживание и воспитание семерых детей, хлопотные переезды, денежные заботы, всевозможные домашние неурядицы и, не в последнюю очередь, отношения с мужем: они вовсе не «простые», не безоблачные — слишком разные у супругов натуры и потребности, — но она достойно несет их бремя; в Арниме, разочарованном патриоте Пруссии, с горечью удалившемся от дел в свое имение Виперсдорф и угнетаемом тяготами хозяйствования, она не перестает видеть поэта, не перестает поддерживать в нем самом эту веру, побуждает его сохранять этот статус и оставаться тем, что он есть «на самом деле», то есть перед ее внутренним взором. Пожелтевшими, забытыми хранятся — бог весть в какой шкатулке — документы ее первой жизни: письма подруги Гюндероде рядом с письмами госпожи советницы Гёте, письмами самого Гёте, Бетховена, восторженными, часто выспренними письмами брата Клеменса, по преимуществу наставительными письмами Савиньи, сестрина мужа, которого она позже встретит в Берлине видным прусским государственным чиновником. В той предполагаемой шкатулке заключен под замком дух ее юности; в творчестве пятидесятилетней Беттины он переживет удивительное возрождение.
Эта книга — письма, которые я Вам рекомендую, — охватывает тридцатипятилетний период в жизни Беттины. Никто из тех, кто знал ее восторженным ребенком, своенравной девочкой, не ожидал превращения ее в хозяйку дома и мать семейства, подчинившую все свои духовные интересы, необузданные фантазии и мечты требованиям многодетной семьи. Примечательным образом именно она, по сути единственная из романтического содружества рубежа веков, живой и невредимой восстает из пепла в тридцатые годы и заслуживает себе в глухой атмосфере предмартовской Пруссии — отнюдь не легкой ценой! — звание «зачинщицы»; именно она сознательно возвращается к вызывающе наивным манерам своего детства и ранней юности — ибо лишь ребенку дозволено говорить, что король гол. Именно она — и потому-то я ее так настоятельно Вам рекомендую — отказывается выбирать между ложными альтернативами, которые навязывает им всем их эпоха: быть либо отчаявшимся бессильным одиночкой, либо приспособленцем-филистером; еще на рубеже веков Клеменс Брентано обозначил эти альтернативы, в тисках которых бьется, изматывая силы, ее поколение — потомки революционеров мысли:
«В нынешнем мире можно выбирать лишь между двумя возможностями: быть либо человеком, либо буржуа, и ты отчетливо видишь, чего избегать, но не видишь, что обнимать. Буржуа заполонили все и вся, и людям ничего не остается для самих себя, кроме самих себя».
Это радикализм раннего, иенского романтизма, чей дух свято хранит Беттина. Письма к Гюндероде, которая не принадлежала к кружку «романтиков», но была связана с ними либо личной дружбой, либо духовными узами, очень своеобразно отражают внешне как будто шутливое обращение Беттины с этим томлением по иной, лучшей жизни — в эпоху, когда реальная общественная практика приняла совершенно иное направление.
Ей хорошо знаком и ореол мечты, их всех окружающий, и страх, что эта возвышенная оболочка спадет, очарование развеется и все они превратятся в людей-автоматов; не случайно образ автомата буквально как наваждение, как неотвязный кошмар появляется в литературе тех лет. В письме к Гёте — сиятельнейшему из всех возлюбленных, которых она сама себе создала, — прорываются эти прозрения и страхи, ее сомнения в себе самой. 29 июня 1807 года она пишет ему (Каролины уже год как нет в живых):
«Эти магические обольщения, это чародейство — они мое белое платье… Но, господин мой и повелитель, тягостное предчувствие меня томит, что и с меня совлекут это белое платье, что буду ходить я в обыкновенном, будничном наряде и что этот мир, оживляющий ныне все мои чувства, канет в небытие; и я предам то, что должна была бы трепетно оберегать; и буду мстить там, где должна была бы безропотно покоряться; и там, где бесхитростная детская мудрость указует мне путь, я заупрямлюсь в гордыне и самонадеянности; но печальней всего будет то, что я, подобно им всем, стану клеймить проклятием греха то, что отнюдь не греховно, — и мне будет поделом».
Все то, что она хочет заклясть, отвести от себя (и отводит!), происходит на ее глазах со спутниками ее юности, знаменитыми и безвестными, когда исчезает надежда, этот стимул души. Иные рано умирают, как Новалис, другие кончают самоубийством, как Клейст; третьи колесят по Европе в поисках подходящего им места, как Август Вильгельм Шлегель; сближаются, подобно Фридриху Шлегелю, с политической реакцией — на некоторое время по крайней мере — либо, подобно Клеменсу Брентано, увязают в дебрях католического мистицизма.
Беттина видит, как распадаются дружеские сообщества под натиском Реставрации, переживает болезненные разрывы и отчуждения — с Гюндероде, с Клеменсом, с Савиньи, с Гёте, — наблюдает, как необходимость зарабатывать хлеб насущный вынуждает мужчин приспосабливаться, идти на компромиссы. Один из них, Иозеф Гёррес, прошедший едва ли не все ступени эволюции от революционера до деятеля клерикальной реакции, еще в 1822 году сказал:
«Никто из этого поколения, лицезревшего революцию… прошедшего через всю славу и весь позор… не увидит обетованной страны свободы и покоя».
Страна Утопия, страна свободы, равенства и братства, отступает в немецких княжествах, особенно в Пруссии, перед реальностью Священного союза и карлсбадских постановлений; она раскалывается надвое — реакция в общественной жизни и бидермайер в жизни частной; она тонет в свистопляске охоты на «демагогов», цензуры и слежки, в вязкой живучести общественной системы, стремящейся наладить буржуазное производство под монархическим управлением и не желающей осознавать собственные противоречия; а самые радикальные литераторы — Гейне, Бёрне, Бюхнер — уносят эту страну с собой в вынужденное изгнание, сохраняя, спасая ее лишь в своих скорбных, мучительно вопрошающих, иронических, отчаянно-бунтарских стихах, пьесах, очерках. Условия немецкой жизни, которые молодой Маркс квалифицировал как исторически несостоятельные, распыляют, обрекают на одиночество всех тех, кто способен был бы стать глашатаем общественного движения. Женщина, о которой здесь идет речь, — Беттина фон Арним — ушла в мир супружеской жизни, «носится с детьми, как кошка с котятами», молчит, пишет письма, рисует; но об этой же женщине упомянутый выше Гёррес в двадцатые годы, увидев один из ее рисунков, проницательно заметил: «Это не классицизм, но и не романтизм — это беттинизм, своеобычный и весьма приятный смешанный жанр».
В самом деле, этот беттинизм не поддается классификации и каталогизации, не укладывается в рамки ни одного из движений, с которыми она соприкасалась в течение долгой своей жизни; умение жить «по уставу собственной природы» помогает ей выстоять, но оно же делает ее одним из тех исключений, которые потомки легко склонны недооценивать. Она непригодна как пример для демонстрации того или иного тезиса. Позднейшие поколения упорно держались пленительного образа юной Беттины — возможно, проецируя собственные несбывшиеся желания и мечты на это угловатое, несносное существо, на этого своенравного гнома, лишенного возраста, — юная фантазерка, гениальное, слегка испорченное, незрелое дитя, полудевочка-полуотрок, вторая Миньона, загадочная, переменчивая, ускользающая, обреченная на раннюю смерть. Беттине хорошо ведом был соблазн прикинуться этим творением искусства, а то и преобразиться в него, но она сумела — а это нелегкий трюк! — разрушить собственный миф, обманчиво цельный образ своей юности и встретить лицом к лицу будничное течение «пошлой» жизни. Что ж удивляться, если убожество порою побеждает ее?
«Двенадцать лет супружества были для меня в телесном и духовном отношении пыткою, — пишет она к новому, 1823 году своей сестре Гунде фон Савиньи в Берлин. — То, что я прежде выносила безропотно, ибо чувствовала себя достаточно сильной, теперь я несу как крест, ибо я достаточно слаба. Впереди у меня — лишь конец всего».
Сколь бы относительными мы ни считали подобные высказывания, едва ли мы впадем в преувеличение, представляя себе как угодно серьезными ее возрастные тяготы, степень ее удаления от надежд и мечтаний юности. Этого образа женщины, изнемогающей под бременем повседневности и непрерывного самоотречения, не сохранилось. Вот еще несколько фраз из того же письма:
«Где уж тут писать, коли здесь каждый день, весь год, всю эту долгую славную жизнь не случается ничего такого, ради чего стоило бы хотя пошевельнуть рукой или ногой. Нет занятия, более притупляющего ум, нежели совсем ничего не делать и ничего не ощущать; каждою мыслию своей ты устремляешься прочь из этого существования, летишь, с натугою воспаряешь как можно выше над повседневностью — но тем глубже, тем опаснее неминуемое падение, и ты лежишь тогда будто с перебитыми костями. Вот так и со мной: ночи напролет жгу свечи, просыпаюсь что ни час, сравниваю свои сновидения со своими предшествовавшими раздумьями и, увы, слишком часто убеждаюсь, что и те и другие тянут меня все в ту же пустоту повседневного моего окружения. Ничто так не ослабляет дух, как сознание того, что твоя своеобычность никому не надобна… Ах, как низко пали мои притязания к жизни — и чем меньше я от нее требую, тем больше она отнимает у меня, а что меня ждет взамен? Стать лицемеркой — либо ничтожеством».
Пламя под пеплом. Тот же страх перед единственным грехом измены самой себе, что и шестнадцатью годами раньше в письме к Гёте. Но не совсем, все же не совсем удалось за эти двадцать лет назойливому «земному гостю» изгнать «гостя небесного» из ее души — хотя и все реже слышны в письмах к Арниму сердечные тона, все чаще тона раздражительные, обвиняющие, ибо ей приходится защищать себя, свою материнскую и супружескую готовность к самопожертвованию против его слишком трезвого, слишком спартанского образа жизни. Ее скорбь по поводу ранней смерти Арнима (в 1831 году) глубока и искренна. Беттине сорок шесть лет. Арним был — и остался — единственным мужчиной в ее жизни. Никогда впоследствии она, насколько мне известно, не говорила о годах своего супружества с сожалением или раскаянием, никогда ни от чего не отрекалась. Она была, как и он, человеком возвышенной и щедрой души; она могла бывать капризной, даже привередливой, но никогда не бывала плаксивой, мизантропичной, озлобленной. Уже в день кончины Арнима, в первых письмах к друзьям, мы видим, как она выжигает все земные шлаки из образа мужа и стремится явить миру его новый образ, почти икону, которую она намерена боготворить. Но рядом с мечтательницей в ней уживается беспощадно-трезвая натура, не теряющая из поля зрения потребности дня. Она хлопочет об управлении поместьем, оставшемся детям в наследство; она организует издание первого собрания сочинений Арнима и принимает в подготовке его самое деятельное участие. И, ко всеобщему изумлению, к неудовольствию франкфуртской родни, она после смерти мужа начинает писать сама: пять книг за тринадцать лет; неопубликованная рукопись; поток писем, составляющих целые тома; заметки, наброски. Она начинает третью жизнь.
«Я счастлива, совершенно счастлива; что может быть благословеннее, чем из однообразия долгих прожитых лет, как из-под тлеющего пепла, вспыхнуть новыми пламенами?.. Нынче ночью мне так и не дали заснуть обильные цветы, теснившиеся наружу из духовной почвы моего детства».
Из письма князю Пюклеру января 35-го года.Кому она высказывает свои чувства, кто разочаровывает ее своим порицанием — какое это имеет значение? Какое имеет значение, что она иной раз проявляет неразборчивость? Инстинктивно она берет все, что подвернется под руку, лишь бы это топливо поддерживало пламя ее творческой жажды. Инкубационный период закончился, вирус, дремавший так долго, ожил и подстегивает свою носительницу к лихорадочной деятельности. Не когда-нибудь, а в самое оцепенелое десятилетие прошлого века госпожа фон Арним развивает эту свою пробудившуюся активность, превращает свой дом в самом сердце прусской метрополии — Унтер-ден-Линден, 21, — в анклав независимых умов; плевать она хотела на полицейскую слежку, на почтовую цензуру — она принимает заезжих гостей и почитателей, едва справляется с ежедневной почтой, заботится о заболевших холерой, о бедняках «Фогтланда» — квартала неподалеку от Гамбургских ворот. И пишет.
Год 1839-й, когда возникла книга о Гюндероде (второй эпистолярный роман Беттины после книги «Переписка Гёте с ребенком»), лежит в точности посередине между революциями 1830 и 1848 годов — и в самой нижней точке между этими двумя валами. Современники этого не могут знать. Во всяком случае, еще и речи нет о «весне народов». Кругом царит сумеречная мгла, распространяются апокалипсические настроения. Каждый пруссак, говорит Гласбреннер, родился на свет «с жандармом в груди». И вот — представляете себе? — берлинские студенты устраивают в честь Беттины факельное шествие — после выхода в свет книги о Гюндероде в 1840 году! Наверняка они прочли только адресованное им посвящение — и поняли его так, как она и хотела: в политическом смысле. «Да восстанете вы снова, подобно золотым цветам на прибитом лугу!» Экзальтированный призыв, конечно, — но и какой смелый текст! Ведь она отваживается упомянуть о запрещенных студенческих союзах («победные песни буршей»), уповать на «смену времен», пожелать молодежи: «Да осенит и охранит вас благосклонная звезда». Язык этот будет понятен лишь тому, кто знает, что еще и в декабре 1836 года Берлинский апелляционный суд приговорил сорок грейфсвальдских студентов — членов буршеншафтов — сначала к смерти, а потом к тридцати годам тюремного заключения; что на так называемый «Гамбахский слет» буршеншафтов в 1832 году Пруссия ответила принятием нового «закона о демагогах» — «для поддержания общественного спокойствия и законного порядка»; что после подавления разрозненных демократически-республиканских демонстраций тридцатых годов в германских княжествах, особенно в Пруссии, воцаряется кладбищенская тишина — после беспощаднейшей расправы над участниками злополучного штурма франкфуртской вахты в апреле 1833 года (тоже в большинстве своем студентами); после конфискации «Гессенского сельского вестника», ареста Вайдига, бегства и эмиграции Бюхнера; после всегерманского запрета на сочинения писателей группы «Молодая Германия». Хорошо организованный государственный и полицейский аппарат душит всякую попытку общественного движения. Как это обычно бывает там, где на публичные политические дискуссии наложен запрет, различные группировки и партии, в качестве эрзаца, ломают копья по литературным вопросам. В тридцатые годы самой жгучей темой был — Вы не поверите — Гёте с его наследием. Но именно ему, в простоте душевной, посвятила Беттина свое первое произведение. Под девизом-заклятием «Это книга для добрых, а не для злых сердец», почти не затронутая антагонистическими распрями, вышла в 1835 году книга «Переписка Гёте с ребенком» и произвела ошеломляющее впечатление. Сочинительница прославилась за одну ночь; современники восприняли ее как стихийное явление природы — или как явление из мира духов. Во второй раз со времен ее юности она была поставлена вне истории.
«Этот загадочный ребенок, — писал один из младогерманских журналов, — внес совершеннейший разброд в наши партии. Кому следовало бы его хвалить, бранит его, кому следовало бранить — хвалит».
Как нам хорошо известно, это явный признак того, что партии зарапортовались. Беттину, эту «сивиллу романтической эпохи», младогерманцы называют «гениальным, мистическим, пророчествующим кобольдом, романтическим блуждающим огоньком»; «мстительной фурией» величает ее Бёрне, который в Париже перетолковывает ее проникнутую благоговением книгу в книгу, направленную против Гёте; а историк Леопольд Ранке заявляет: «У этой женщины чутье пифии». Из столь противоречащих друг другу примет составляется образ прямо-таки монстра; и это свидетельствует, как мне кажется, не столько о характере Беттины, ее натуре, ее личности, сколько о потребности эпохи во внеисторической и надысторической фигуре, которая единственно и могла бы внести хоть какое-то брожение в болото прусско-германской общественной жизни.
В этом государстве занято каждое кресло, каждый пост — от министра культуры до члена высшего цензурного комитета, от государственного советника до тайного уполномоченного по университетам, от министра внутренних дел до главного почтмейстера (у которого к тому же еще и фамилия Нагель — то ли ноготь, то ли гвоздь! — и который не может отказать себе в удовольствии почитывать самому перлюстрируемые письма поднадзорных литераторов — сколь похвальное личное участие!); контингент деятелей духа тоже широк — от государственных поэтов до демагога, содержимого в «железном ящике», в этом придворном узилище, наводящем на всех ужас; да и в оппозиции, похоже, все роли уже распределены. Вакантным оставалось — это видно лишь теперь, задним числом, — одно-единственное место, и его должна была занять женщина — из высокопоставленных кругов, но критически мыслящая, непригодная ни к какой должности, не принадлежащая ни к какой партии; она должна была быть образованной и бесстрашной, гражданственной и сострадательной, ясновидящей и сомнамбулой. Чем не описание фантастического видения? Но это портрет Беттины.
Неудивительно ли, насколько иной раз внешние обстоятельства играют на руку внутренним потребностям личности? Заслуга Беттины в том, что она приняла роль, выпавшую ей, — заполнила пробел, не задумываясь о последствиях. Не без тайного удовлетворения наблюдаешь за тем, как умело она использует свое положение женщины — то преимущество, которое в мужских сообществах до поры до времени скрывается под личиною недостатка, если данная несчастная счастливица умеет выдерживать роль слегка помешанной. В этом она — почитайте письма к Гюндероде — загодя натренировалась. «Чудачкою» она не раз сама себя называла. В серьезные времена самая надежная защита — если тебя не принимают всерьез; горький вздох, вырвавшийся у Гуцкова по поводу «Королевской книги» Беттины, — тому свидетельство:
«Разве не печально, что лишь женщине дозволительно говорить то, что любого мужчину привело бы за решетку?..»
Кто, скажите на милость, посадит за решетку сивиллу, кобольда, пифию?
* * *
Но шла ли вообще речь о решетке? Мы остановились пока — Вы помните — на книге о Гюндероде, на посвящении ее студентам, но снова мы вернемся к этой книге лишь после того, как, забежавши вперед, в дальнейшую жизнь Беттины, займемся поставленным вопросом. Цитирую отрывок из конфиденциального донесения, год 1847-й:
«Даже на чаепитиях обсуждались социальные вопросы. Тенденция этих чаепитий — социалистическая, ибо собравшиеся беседуют и спорят о том, как надлежит исправить жизнь по сути и по форме. Надобно заметить, что за освобождение от уз традиции, моды и условности ратуют преимущественно особы женского пола. Среди подобных особ в Берлине, снискавших широкую известность, Беттина фон Арним, бесспорно, первая и наиболее влиятельная. Что ее вечерние собрания носят означенный выше характер, известно всем и каждому здесь и даже при дворе. Ее оставляют в покое, потому что она пользуется здесь всеобщим уважением и на законных основаниях с ней ничего нельзя поделать».
Конфиденциальные доносчики в данном случае — благонадежные тайные осведомители того «Центрального управления информации» в Майнце, на учреждении которого — не в последнюю очередь из-за беспокойных студентов — настаивал лично князь Меттерних («…решительная борьба вечного правопорядка с революционным принципом близка и неизбежна»); это один из немногих институтов, преодолевших внутригерманские границы. В немецких университетах, как сообщают осведомители уже в конце 30-х годов, преобладает теперь совершенно иной дух, нежели в прежние годы: устраиваются только попойки в пивных. Но все-таки в официальных инстанциях — не только в этой — царит прочная враждебность к интеллигенции, так что прусский государственный министр Витгенштейн лишь высказывает то, что у остальных на уме, когда называет «кабинетных червей и прочих буквоедов и пустозвонов» подлинной раковой опухолью на теле человеческого общества, к искоренению коей он рад будет приложить руку. А на одной из высших должностей того «Центрального комитета», который получает указания и постановления майнцского «Центрального управления», находится несравненный тайный правительственный советник Чоппе, человек, который кончит тяжелым душевным заболеванием. Он любит эффекты. «Вчера Вы были в театре!» — такими словами он однажды утром, еще под бритвой цирюльника, встречает запрещенного писателя Гуцкова, вымолившего себе аудиенцию, дабы ходатайствовать об отмене запрета на свои сочинения. Великий человек, похоже, знает все. Торжествующе показывает он обескураженному автору список с именами тех, кто накануне вечером заказал гостевые билеты в столичный Королевский театр.
Берлин жужжит от анекдотов и острот. Госпожа фон Арним, в чей демократический салон все жаждут получить доступ, наверняка знала большинство из них. Сколь ненадежным было снисходительное отношение, которым она, благодаря своей популярности в самых широких кругах, пользовалась со стороны полиции и цензуры, она, разумеется, отлично понимала; свобода ведь не была ей дарована; она сама ее завоевала и расширила ее рамки — своей смелостью, подчас безрассудной. Она ставила в тупик: то ли она в самом деле была наивна, то ли прикидывалась таковой, то ли вообще была прожженной бестией? А может быть, ее манера действовать по собственному благоусмотрению просто не укладывалась в категории верноподданнического мышления, привыкшего к самоцензуре?
Например, одна высокая цензурная инстанция истолковала как хитроумную уловку знаменитой писательницы то, что свою «Королевскую книгу» 1843 года она посвятила королю («Книга в дар и владение королю» — заголовок и посвящение одновременно) и тем самым избежала запрета, по всем статьям неминуемого. «О в виноградных кущах рожденная, в солнечной купели крещенная!» — так обращается расчувствовавшийся король к оторопелой сочинительнице в ответном письме; но книжку ее он только перелистал — в отличие от своего министра внутренних дел. Тот, после внимательного прочтения, видит себя вынужденным обратиться к Фридриху Вильгельму IV с письмом, коронную мысль которого, отлившуюся в бюрократическую чудо-фразу, стоит процитировать:
«Будь сия книга написана не в приличествующем узкому читательскому кругу тоне восторженного прорицания, а в доступной более обширным кругам форме простого, связного и понятного рассуждения и не способствуй склонный к необузданным фантазиям характер хотя и не обозначенной, но всем известной сочинительницы тому, что практическую верность и применимость содержащихся здесь доктрин невозможно воспринять иначе как весьма сомнительную, оную книгу надлежало бы, в соответствии с существующими законоположениями и на основании излагаемых и защищаемых в ней безбожных идей, а также на основании проповедуемого в ней прискорбнейшего радикализма, счесть за одно из наиопаснейших для общественного блага сочинений».
Этот человек не даром ел свой хлеб.
Кстати говоря, он оказался прав. Две гораздо более лаконичные брошюры, появившиеся вскоре в ответ на эту книгу, переводили «восторженные прорицания» Беттины на четкий политический язык дня. Одна, напечатанная в Берне под псевдонимом и выдержанная в иронических тонах, за четыре года до «Коммунистического Манифеста» называет коммунизм «призраком» и прямо связывает с ним автора «Королевской книги» («Итак, дьявол сбросил маску, представ нам во всем своем омерзительном обличье, и имя этому угрожающему мрачному призраку — коммунизм»). Другая, излагающая «суть и содержание» книги на 56 страницах, появляется в Гамбурге; незамедлительно следует королевский указ о конфискации и постановление Верховного центрального суда о запрете. («Девятнадцать листов компрометируют, двадцать реабилитируют», — язвят народные острословы; дело в том, что книги объемом более двадцати листов с поименованным автором не подлежат цензуре; Беттина, впрочем, и впоследствии никогда не давала согласия на то, чтобы ее имя выносили на обложку.) Для Беттины это урок: в эпохи, когда за отсутствием общественной гласности в политических вопросах (три берлинские газеты подцензурны, и потому Беттина их не читает) литература становится совестью общества, она должна быть готова к санкциям тем более жестким, чем понятнее она народу. Беттина пишет в 1844 году: «А что же еще и печатать в Пруссии, кроме душеспасительных трактатов, букварей и детских побасенок?»
Но позвольте — было ли ее посвящение королю в самом деле уловкой? Оказывается, не только ее популярность, но и ее иллюзии ограждают Беттину. Когда Фридрих Вильгельм IV, с которым многие демократы связывали радужные надежды, в июне 1840 года вступил на трон, Беттина искренне уповала на его волю и способность к радикальным преобразованиям. «Нет, не от него исходит проклятие духовного рабства!» В ее приверженности идее народного монарха есть что-то фантастическое: «Мы должны спасти короля!» Но уже полгода спустя после коронации, в декабре 1840 года, Фарнхаген фон Энзе замечает по поводу Беттины: «Она вне себя от порядков, которые тут устанавливаются, бранит всех сподвижников и фаворитов короля, ратует за свободу печати, требует конституции, света и воздуха». Однако же она совершенно серьезно (совершенно серьезно?) советует королю «вышвырнуть на свалку» — с народной помощью — «ветхую колымагу государственной машины», прогнать своих придворных и министров («этот геральдический зодиак»), духовное рабство заменить «свободою мысли» и править совместно с преследовавшимися дотоле демагогами.
Что это — наивность? Хитрость? Беспочвенная иллюзия? Что ж — самым верным способом утратить иллюзии всегда останется попытка их испробовать. Послушайте только, как она во втором томе своей «Королевской книги» («Беседы с бесами», 1852) саркастически формулирует свою утопию государственного устройства:
«Я не имею в виду государство, в коем цензуре дозволено будет вычеркивать мои мысли, я подразумеваю совсем иное государство, где-то за гималайскими хребтами, — отражение того государства, которое я могла бы подразумевать; а если цензура и это захочет вычеркнуть — ну что ж, тогда я и его не имела в виду. Я не имею в виду ничего такого, что могло бы быть вычеркнуто».
Тем временем уже остались позади предмартовская эпоха, 1848 год, неудавшаяся революция. Позади бесконечные стычки Беттины с цензурой, побудившие ее основать собственное издательство, названное именем Арнима и ставшее для нее источником новых забот и хлопот; позади все плотнее сжимающееся кольцо подозрений — среди них и подозрение в том, что она «коммунистка». (Гуцков: «Если самая страстная, самая пылкая любовь к человечеству есть коммунизм, тогда нечего удивляться, что у коммунизма обнаруживается столько сторонников».) Кстати, в 1842 году она будто бы встречалась в Крейцнахе с Карлом Марксом и его невестой Женни фон Вестфален и, к неудовольствию Женни, совершала долгие пешие прогулки с молодым доктором. Однажды (это тоже уже позади) она прервала работу над книгой, потому что не было надежды ее напечатать: прусский министр внутренних дел, по чисто министерскому обыкновению путая причину со следствием, в 1844 году обвинил ее в том, что она «подстрекнула к мятежу» силезских ткачей. «Уже одно желание помочь голодающим расценивается нынче как проповедь мятежа», — предостерегающе пишет ей один из друзей. И Беттина прерывает работу над своей «Бедняцкой книгой» — своего рода первым социологическим исследованием условий жизни четвертого сословия, со многими примерами из жизни силезских ткачей. Она поняла, что этот случай совершенно четко обозначил рубеж, который она уже не могла переступать безнаказанно, ту точку, где резче всего обнаружились социальные противоречия и в то же время их неразрешимость при данном режиме. Сила, которая могла бы изменить жизнь общества, была еще не развита, время не созрело ни для чего большего, кроме безрезультатного самопожертвования. Что остается? Попытаться еще раз написать королю: пускай он вместо собора в Берлине построит лучше тысячу хижин в Силезии; положение силезцев трагичнее всего Софокла. Не находите ли Вы, что это очень глубокий эстетический постулат, хоть он и выдвигается, как это нередко бывало в истории немецкой литературы, взамен неотложного действия? Он глубок потому, что Беттина рассматривает законы трагедии, выведенные из конфликтов в среде высших социальных слоев, как вполне применимые к положению «низших» слоев. Но это все, как Вы увидите, заложено уже в письмах к Гюндероде.
«Беттина слишком увлекается своим гуманизмом. Она думает, что угнетенные всегда правы», — с мягким упреком замечает Гунда фон Савиньи, ее сестра. Она все верно подметила. Супруге министра законодательных реформ не по себе от радикального гуманизма сестры — он впрямь грозит вылиться в неуважение к авторитету властей, под которым Беттина не видит моральных оснований: когда в 1847 году берлинский магистрат выдвинул против нее притянутое за уши обвинение в уклонении от уплаты налогов при организации ее издательского «дела» (она-де не озаботилась приобретением прав берлинского бюргера), последовало весьма решительное контрнаступление с ее стороны; однако же ее приговорили сначала к трем, потом, после кассации, к двум месяцам тюрьмы — наивысшая мера наказания для людей ее сословия; влиятельные лица, среди них прежде всего ее зять Савиньи, добились того, что приговор не стал приводиться в исполнение; но Беттина поняла, что формальная ошибка была использована как повод, чтобы продемонстрировать ей орудия возможной расправы. Один из современников вспоминает слова, сказанные ею в обществе по этому поводу:
«Эту кашу с магистратом мне заварили министры, они мечтают выпроводить меня из Берлина, потому что придворная шутиха его романтического величества доставляет господам министрам слишком много хлопот».
Как видите, однажды дело таки чуть не дошло до «решетки»; а ведь можно считать законом, что человека, который нисколько не озабочен признанием со стороны официальных властей — то есть не подвержен коррупции, — реальная угроза подстегивает к еще большей решимости, заставляет переступить границы, которые как будто изначально предписаны ему его происхождением и образом жизни. Так случилось и с Беттиной. Тяжба с магистратом помогла ей сформировать бескомпромиссное суждение о структуре общества, в котором она жила, и о необходимых в будущем переменах. В подтверждение я процитирую Вам несколько абзацев из письма, которое она написала берлинскому магистрату в свою защиту.
«Теперь касательно Вашего последнего замечания — что Вы-де не видите никаких особых оснований предоставлять мне бюргерские права в качестве почетного дара; с этим я готова согласиться — тем более что бюргерские права я ставлю выше дворянских… Равным образом я еще выше ставлю класс пролетариев… Сокровище бедных состоит в прирожденном богатстве натуры; заслуга же бюргерства заключается в использовании и эксплуатации этого богатства, которое оно благодаря своей деятельной сноровке — и к собственной выгоде — передает в конце концов в пользование тому классу, чье высокомерие, изнеженность и духовное чванство поглощают всё — именно потому, что сам он лишен производительной силы. Итак, причины, по которым я ставлю пролетария выше всего, заключаются в том, что он чужд низменного желания заграбастать, подобно ростовщику, как можно больше от окружающего мира; что он отдает все, а за это потребляет лишь ровно столько, сколько ему необходимо, чтобы восстановить свои силы и использовать их и дальше для чужой выгоды… И если я… предпочитаю бюргерскую корону орденской звезде, то всему этому я с еще большей охотою предпочла бы счастие быть признанной народом, чье самоотречение героично и чьи жертвы бескорыстны».
* * *
Но вернемся к литературе, к книге о Гюндероде, к тридцать девятому году, в котором она возникла. Мне хотелось бы убедить Вас в том, что этот — скорее спокойный — год в жизни Беттины обогатил ее очень существенным опытом и подготовил к открыто политическим дискуссиям сороковых годов; более того — что именно обращение Беттины к идеям и мироощущению начала века дало ей более глубокое понимание современности. Подобно тому как в более поздних поступках и книгах Беттины Вас тронет ее стойкость в сохранении и развитии многих мотивов, впервые прозвучавших в книге о Гюндероде, точно так же сама эта книга во многом отражает потрясения, переживаемые Беттиной в 1839–1840 годах: драму ее последней любви и страстную борьбу в защиту братьев Гримм, подвергшихся гонениям.
Одновременно с романом, который Беттина принимается составлять и досочинять из фрагментов своей переписки с Гюндероде, возникает другой эпистолярный роман: реальная переписка с молодым студентом Юлиусом Дёрингом из Вольмирштедта под Магдебургом, который впервые обратился к ней в начале 1839 года с письмом по поводу ее книги о Гёте. Его, страстного поклонника этой книги, смутило то, что Беттина посвятила ее князю Пюклеру, и он требует, чтобы следующую свою публикацию она посвятила студентам. Она принимает эту идею с восторгом:
«Да, настало время, чтобы цветы моего духа принесли плоды, чтобы юноши упивались ими — ибо я и есть то древо, что рождает юную поросль. Она уже готова расцвесть, и как же не жить мне в согласии с будущим, когда оно возникает из святая святых моего духа?»
Другому юному почитателю, с которым ее связывают узы более духовные, нежели эротические, она пишет:
«Что я сама? Ничто, — но какое-то дуновение обвевает меня, которое, мнится мне, молодежь должна втягивать раздутыми ноздрями, подобно резвым и полным силы скакунам».
Совершенно очевидно, что книгой о Гюндероде она намеревается передать заветы собственной юности третьему поколению. Взбудораженная нахлынувшими на нее воспоминаниями, она отдается во власть видений минувшего, которые сгущаются у нее порой до осязаемости почти сверхчувственной. В ноябре 1839 года она пишет из Випересдорфа Дёрингу, которого она держит в курсе своей работы над книгой:
«Работа так переполняет меня, что я не нахожу времени для сна — ложусь в час, но от чрезмерного волнения не могу заснуть, принимаюсь читать какую-нибудь пьесу или еще что; не успеет нагреться комната, в которой я работаю, как я сажусь за стол и уже больше не отрываюсь от него, разве что минуты на четыре, чтоб пообедать; так и сижу целыми днями — все для того, чтобы воздвигнуть всем вам такой памятник, в котором люди тонкой души могли бы прочесть все, что я не смогла высказать тебе и другим или в чем вы неверно меня поняли. Через месяц я надеюсь уже приступить в Берлине к печатанию».
Тут она ошибается. Печатание начнется лишь в феврале 1840 года — не в последнюю очередь из-за того, что ей придется в самый разгар напряженнейшей работы отложить рукопись и начать свой решительный и затяжной бой с Савиньи — из-за «этих Гриммов». Поэтому она и в январе 1840 года пишет все еще о своей книге, тому же Дёрингу:
«Все это время я напряженно работала и странным образом ощущала более острую потребность во сне, чем обычно… но зато прежние времена предстали так живо в моем воображении, что мне не было надобности говорить, подобно Фоме: дай вложить мне персты в раны твои, дабы я поверил, что это ты… Гюндероде снова стоит передо мной и часто окликает меня, когда вечером зажгутся свечи. Я лежу на софе, вон в том углу, где еще с рождества стоит высокая зеленая елка, чьи ветки надо мной достают до самого потолка, и я закутываюсь плотней, потому что не могу устоять перед искушением мысленно побеседовать с нею, и тут меня одолевает сон… так, будто Каролина спит, и мне, стало быть, тоже надобно заснуть, потому что пробудившееся воспоминание снова нас сроднило. Но днем все прошлое кажется мне таким близким, и я снова и снова убеждаюсь, что все истинно пережитое никогда не умирает и постоянно живет возле нас».
Подлинный смысл этого заклинания духов, этого видения, выдержанного в библейских тонах, равно как и тайный стимул ее работы, — тоска по любви: «Кто прочтет эту книгу и не полюбит меня, тот никогда не знал юности души». Я выскажусь напрямик: за невозможность осуществления любви в реальной жизни она вознаграждает себя уходом в те сферы, где она полновластная царица. Ей доставляет своеобразное удовлетворение связывать тысячами мысленных нитей свою последнюю любовь со своей первой. Женщина, которой уже за пятьдесят, одаряет этого самого заурядного молодого человека, убежденного в том, что стать писателем ему велит долг, своим переливающимся через край чувством («мозговая чувственность» — так оскорбительно отозвался о ней старик князь Пюклер), воображает его своим возлюбленным, поверяет ему сокровенные тайны души («Безжизненной, мертвой представилась мне вся поэзия, с тех пор как солнце зашло для меня — Гёте меня отверг…»), объявляет бедного юношу, ударяясь в библейскую выспренность, вторым Гёте («и воздам тебе — будь поэтом!») — жрица, устами которой глаголет «гений» и душу которой испепеляет запоздалая жажда повторения того мига «мучительно-сладкой истомы», той травмирующей сцены, которую, как она уверяет, ей довелось пережить с Гёте — когда она пала к его ногам и не хотела вставать, «пока он не поставит ногу мне на грудь, дабы я почувствовала ее тяжесть».
В экстазе самоослепления она раскрывает все тайны души, выдает то, что когда-то, в пору ее двадцати с небольшим лет, наложило отпечаток на ее духовно-сексуальную конституцию; она возводит в культ, в фетиш гипсовую ступню юноши в изголовье кровати и, вдохновляемая этим постоянным жгучим напоминанием, оказывается тем более восприимчивой к «дуновениям» своих ранних лет: не мыслительно-волевое усилие и не политический расчет побуждают ее погружаться в воспоминания о совместной жизни с подругой юности, а именно этот властный зов вдохновения.
«Долгие годы была я отлучена от той силы, которая порождала в ранние годы мою любовь… Ах, как одинока я была!»
Этот искус самоомоложения, этот педагогический эрос не затухает и тогда, когда на смену краткому и пьянящему увлечению Дёрингом приходит отрезвление: «Но я тебе не верю, ты не настоящий сновидец, подлинная реальность заперта наглухо в твоем сердце, ты пальцами сдавливаешь ей веки, только бы она не шевелилась, ты запираешь ее на засовы и насмехаешься над пленницей…» Зачем я Вам это все цитирую? Пристало ли нам вторгаться в запоздалые сердечные авантюры Беттины? Должны ли мы снова извлекать его из седых глубин — этот хватающий за душу тон тоскливо-робкого вопрошания, в который она, будто пробудившись от грез, снова впадает в одном из писем середины года:
«Я тебя не отпущу — неужто ты ускользнешь у меня меж пальцев? Ведь не просто же ты порождение моей фантазии? Ты ведь живешь? Все от меня ушло. Как странно, если и ты окажешься всего лишь иллюзией».
Увы, окажется. Прислушаемся к ним, к этим интимнейшим тонам, — ибо я уверена, что они вошли и в книгу о Гюндероде, лежащую перед нами; потому что — уж так непоследовательны душевные процессы! — повторное прощание со своей первой любовью облегчило Беттине отказ от ее последней любви, от любви вообще; потому что она не может и не хочет делать различия между своим душевным состоянием 1839 года и своими ощущениями и фантазиями года 1805-го и именно эта биографическая связь, из которой рождается книга о Гюндероде, озаряет ее особым светом, придает ей особую прелесть — и эпохальную глубину. Эта книга не создана из цельного куска, она воздвигается из громоздящихся один на другой, проникающих один в другой слоев, из вставок, края которых не шлифовались, а так и остались грубыми и шероховатыми; в ней есть размытые переходы, несоответствия, разрывы. И именно потому выдает нам эта книга неразрешимое противоречие и потаенную боль всей ее жизни.
* * *
Но сначала — даже если я рискую тем, что Ваше терпение иссякнет, — займемся делом братьев Якоба и Вильгельма Гриммов, которое в 1839 году так глубоко занимало Беттину, что она, как уже говорилось, ради него оставила книгу о Гюндероде, отложила ее публикацию. Бервальде-Виперсдорф, 1 ноября 1839 года, письмо к Дёрингу:
«Только что закончила послание к Савиньи касательно Гриммов — и всяких иных вещей. Оно растянулось на восемь листов, и мне было бы так интересно, чтобы ты его прочел. О, тебе это наверняка принесло бы пользу на всю дальнейшую жизнь — ты увидел бы, насколько далеко можно и должно заходить с высказыванием истины».
Дело гёттингенских профессоров, к числу которых принадлежали и Гриммы, часто упоминается, но в своих интереснейших деталях известно мало; необходимо описать его здесь хотя бы в общих чертах, поскольку Беттина внимательнейшим образом за ним следила и принимала его очень близко к сердцу. В октябре 1839 года она посетила обоих братьев, Якоба и Вильгельма, в их убежище в Касселе. Уже давно она прочла написанную Якобом маленькую брошюру «О моем увольнении» — не кто иной, как Савиньи, дал ей ее, будучи сам убежден в правдивости изложения в ней всех обстоятельств. «Если дело обстоит так, — якобы сказал он ей, — тогда я, безусловно, должен признать его правоту». — «Почему же ты не высказал этого своего убеждения королю, кронпринцу, народу?» — спрашивает Беттина своего зятя в том послании, очень скоро ставшем знаменитым.
Я бы рекомендовала включить брошюру Якоба в учебные планы старших классов средней школы, ибо она увлекательнейший пример того, как твердость характера и верность своим убеждениям формируют стиль человека. «Удар грома, поразивший мое тихое жилище, взволновал сердца далеко окрест» — так он начинает, и уверяю Вас, мне приходится сдерживать себя, чтобы не цитировать без конца, к своему и Вашему мрачному удовлетворению, эту брошюру и послание Беттины. Вот, в кратких чертах, история конфликта между Гёттингенским университетом и его патроном, свежекоронованным королем Эрнстом Августом Ганноверским.
Летом 1837 года означенный король ничтоже сумняшеся освободил всех своих подданных — стало быть, и гёттингенских профессоров — от их присяги на верность сравнительно прогрессивной конституции 1833 года и собственной высочайшей волей отменил таким образом основной закон. Несколько профессоров университета, после долгого терпеливого выжидания, в конце концов в составленном ими «Верноподданнейшем представлении», датированном 18 ноября, возразили, что они не могут, не греша против своей совести, молча наблюдать, как старый — и, по их мнению, остающийся действительным — основной закон «уничтожается исключительно посредством силы». Напротив, они вынуждены «и впредь считать себя обязанными» своей присяге. Да и что означала бы, спрашивают они почти смиренно своего короля, что означала бы для его августейшего величества их присяга на верность, если б она произносилась людьми, только что дерзко нарушившими однажды данные клятвенные заверения?
Стоит почитать, как Якоб Гримм, без всякого гнева и ожесточения, излагает причины того, что под этой петицией стоят имена лишь семи профессоров: Дальмана, Альбрехта, Я. и В. Гриммов, Гервинуса, Эвальда, Вебера. Захватывающее чтение. Оказывается, другие, думавшие так же или примерно так же, как эти семеро, под самыми различными предлогами воздержались или уклонились; оказывается, некоторые в качестве спасительного якоря для своей трусости выдвинули самый лживый, но и самый убедительный из всех «аргументов» — а именно то, что они-де спасают университет, безропотно отдавая основной закон на поругание. «Характеры, — лаконично замечает Якоб, — начали обнажаться, как осенние деревья в морозную ночь». Обычная история. А потом (все это изображает Якоб Гримм, «незлобиво», но «свободно и без обиняков») этот конфликт на почве лояльности, из-за твердолобости властей, желающих отнюдь не разобраться в сути высказанных возражений, а принудить к покаянию и подчинению, разрастается до неимоверных размеров, вторгается в личную и общественную жизнь каждого и, поскольку Королевский попечительный совет университета попросту не дерзает даже коснуться самой главной заковыки — правонарушения, совершенного королем, — выливается в град абсурдных обвинений и кар. «Лишь истина нетленна», — утверждает Якоб Гримм, и самое обезоруживающее тут в том, что он в это верит. Как верит в это и Беттина. Нам нетрудно представить себе ее восхищение полным достоинства и мужества языком единомышленника. «Есть еще люди, не утратившие совести даже перед лицом насилия».
Поучительный, поистине хрестоматийный текст — от первой до последней строчки. Дело ведь дошло до увольнения всех семерых, а с некоторыми из них и до высылки. («Я привлекаю к себе взоры власти лишь тогда, когда она вынуждает меня собирать угли моего очага и переносить их в другое место». Якоб Гримм.) За неповиновение? О нет. Университетский суд, на который вскоре вытаскивают этих семерых, занимается не чем иным, как вопросом, почему сведения о том «Верноподданнейшем представлении» столь быстро просочились в английскую прессу — а уж об этом-то ни один из семерых, конечно, не имеет ни малейшего представления. «Ощущая, что оснований для преследования явно недостаточно, — пишет Гримм, — нам поспешили поставить в вину быстрое обнародование оной петиции… Наша ли вина, что совершенно незнакомый нам корреспондент английской или французской газеты услыхал о наших намерениях и сообщил о них?.. И даже если бы нам пришлось признать, что эта спешная публикация исходила от нас, неужто это наказуемо высылкой из страны? Неужто вообще как-либо наказуемо сообщение об официальном заявлении в адрес властей?»
Наказуемо. Не содержание их послания королю — нет, одно упоминание о нем третьему лицу служит основанием для высылки Гриммов. Беттина, дрожа от возмущения, упрекает Савиньи, что он не последовал своему первому побуждению и не сделал всего, чтобы незамедлительно устроить обоих — двух лучших ученых Германии! — в Берлинскую академию и тем самым обеспечить материальную гарантию их работы; что вместо этого он лишь еще больше оскорбил их своим «оправданием», будто они «были введены в заблуждение».
«Когда я покидала этот дом, прибежище самой невинности, на которое изливает безмятежный покой благодать господня, я подумала о тебе: не плачевно ли то, что ты, в пору жизненного расцвета твоего связанный с ними столь благородными узами, ныне так отдалился от них!..»
Любо-дорого смотреть, как она, давая волю своему накопившемуся гневу, отчитывает прусского министра и опекуна своих детей. Она напоминает ему о той роли, которую он играл в ее юности, когда «ограждал от посягательств ее свободную мысль», которой она, не в пример ему, осталась верна. Она взывает к его чувству солидарности с двумя замечательнейшими представителями своего ученого сословия.
«Но нет, ты оставишь меня на произвол судьбы, ты мне не поможешь; ибо, с тех пор как ты обрезал свои длинные локоны, сила твоя ушла из тебя, и о тебе не скажут, как о Самсоне: филистимляне над тобой, — а скажут: ты под филистерами».
Что касается Гриммов, то они не более чем через год, когда кронпринц стал прусским королем, действительно были призваны в Берлинскую академию. Беттине же ее борьба за их права помогла глубже понять образ мыслей и действий королей, политиков и подвластного им аппарата. Как на ладони предстал перед ней весь противоестественный разрыв между государственной и повседневной моралью (наблюдение, которое пойдет на пользу ее будущим книгам):
«Тут сразу видишь, что неверная политика не придает разума. А Меттерних, заявляющий ганноверским депутатам: „Мы признаем, что в моральном отношении вы правы, но, к сожалению, наша политика требует, чтобы мы выступили против вас!“ И на такой образ мыслей опирается Пруссия — образ мыслей, обрекающий государство на век поденки!.. О, я знаю, ты не станешь так говорить с королем; ибо указать властителю на ошибки, совершаемые его правительством, или напомнить ему о более высокой морали — это противоречило бы политике угождения, коей вы, подобно автоматам, ублажаете князей — ведь вы не дерзаете мыслить самостоятельно и прячетесь от истины как от кредитора, чьи претензии вы не в состоянии удовлетворить. Вы лишь произносите перед князьями речи, на которые они привыкли отвечать, не прерывая сна».
Вы спросите: а есть ли внутренняя — не только чисто временная — связь этих воззрений с книгой о Гюндероде? Почитайте в таком случае приводимые в ней слова, которые якобы сказал юной Беттине некий старший друг о подобных княжеских прислужниках: «Чем решительней требования времени припирают их к стене, тем более упорствуют они в своем филистерстве, ищут опоры в старых, обветшавших предубеждениях и учреждают всякого рода советы, тайные и публичные, в коих все происходит как раз наперекор их названию; а подлинная истина так неслыханно проста, что уже по одной этой причине до нее никогда не доходит черед». Было бы странно, если бы пожилая Беттина, сидя над бумагами Гюндероде, при написании этих слов не думала о Савиньи и о Гриммах.
Но не на воззрения — не на них только — я прошу Вас обратить внимание. Когда я спрашиваю себя, как мне (помимо затертой формулы о «классическом наследии») обосновать свою рекомендацию издательству осуществить новое издание этой эпистолярной книги Беттины фон Арним; когда я перечитываю эти тексты, не будучи уверена, а скорее даже сомневаясь в том, что нынешний читатель (или читательница), привыкший мыслить трезво и по-деловому, вообще сможет вынести этот дифирамбический стиль, этот сплошь и рядом восторженный тон, эти высокопарные излияния; когда я раздумываю над тем, сможет ли он преодолеть свое недоумение по поводу отношений между этими двумя женщинами и обнаружить в их диалоге созвучные нашему времени мысли, — тогда я сразу вспоминаю Вас, Ваш ненасытный интерес к истории, равно как и Ваши неустанные попытки средствами свободного, раскованного языка снять те слои непрожитой жизни, которые отдаляют Ваш дух, Ваше сознание, Ваши ощущения, Ваше тело от Вас самой. И я думаю о том, в какой связи находятся с нашим самоотчуждением те непереваренные эпизоды нашей истории, те многообещающие начатки, по которым она прошла «железной» или просто деловой поступью. Нам следовало бы изменить свою жизнь. Но мы этого не делаем.
Понимаю всю беспросветную наивность и уязвимость этого утверждения. Но, как лишний раз показывают письма Беттины и Гюндероде, ни одному человеку, будь то мужчина или женщина, не удавалось высказать подобные вещи так, чтобы остаться неуязвимым. И все же, и все же… Могу ли я умолчать о том, что безотчетной завистью и печалью сжимается мое сердце, когда я читаю и представляю себе, какого простодушного целомудрия, какой невинности — что не означает «легкости» и «беспечности»! — было исполнено общение этих двух женщин, двух немок; ибо лишь среди невинных процветает поэзия, этот атрибут собственно человеческого; у них она была; у нас есть стихи, но поэзия как форма общения нам заказана; другим, может быть, ее в нас и недостает, но о нас самих можно было бы сказать, что мы давно уже свыклись с этой утратой, если бы время от времени не давала о себе знать своего рода фантомная боль, из-за которой мы не находим себе места и по большей части ударяемся в преувеличенно бурную деятельность, в суету лишенных подлинного чувства дел и речей. Может быть, думаю я порой, стоит рекомендовать эту книгу как средство для стимуляции фантомных болей? Но нет. Предшественники ничего с нас не снимают — скорее добавляют.
То, что в этом эпистолярном произведении должно было бы прежде всего броситься в глаза, на самом деле может легче всего пройти незамеченным, ибо оно нигде не сформулировано; я имею в виду смысл, заложенный в самой структуре книги, а именно ее демонстративное неповиновение эстетическим канонам. Как тут, кстати, не усмехнуться лукавому коварству языка, сделавшего «литературу» и «эстетику» — инстанции, которым мы втайне все-таки подчиняемся, — словами женского рода, хотя доля женщин в этих сферах невелика и, как Вы с горечью могли убедиться на собственном опыте, женщина, дерзающая выражать в творчестве свою индивидуальность, чувствует себя отнюдь не как дома в великолепном здании этих правил и систем. Ведь одним из достижений этой эстетики, которая ко времени романтизма была создана и закреплена именно нашими классиками, является метод, согласно которому «произведение» отделяется от его создателя и, изъятое из жизненных связей, его породивших, возносится в другую сферу — в сферу «искусства». Письма, которыми обмениваются Беттина и Каролина, не притязают на то, чтобы быть «искусством», и, объединенные в книгу, они в своей бесформенности являют как раз ту форму, в которой корреспондентки только и могут воплотить свой опыт, не искажая, не деформируя его. Ни один из уже разработанных жанров — ни эпистолярный роман в духе «Вертера», ни тем более реалистический роман буржуазной эпохи — для этого бы не подошел. Но Беттина, вспоминая уже забытые к середине века формальные новшества романтиков, вовсе и не придерживается строго наличных образцов. Смешанная форма, стихийно рождающаяся под ее пером, гораздо более способна передать все то подвижное и изменчивое, что ощущали обе эти женщины в себе и в других, и показать людей во всей их цельности, неповторимости и противоречивости — в то время как более законченная романическая форма неизбежно должна была бы усекать, оценивать, распределять и судить. Вы можете в этой книге прочесть немало поучительного о сопротивлении диктату формального канона; при этом обе они знают, на что идут; более того — они, особенно Гюндероде, признают этот канон как масштаб: ведь только удовлетворяя ему, можно было удостоиться ранга «значительного» поэта. Поэта — да. А если поэтессы? И вот Беттина берет подругу к себе в обучение, преподает ей науку незначительности, прельщает возможностью передохнуть от гнетущей строгости непомерных требований, изматывающих силы Каролины. Да не введет нас в заблуждение мягкий тон, в котором излагается вся эта наука, — уж мы-то знаем, чего стоит (и всегда стоил) отказ от целенаправленной однобокой тренировки тех способностей, которые обеспечивают «значительность» в этом мире. Не без колебаний решается Каролина учиться у Беттины незначительности: «Однажды ты почитала себя моей ученицей — когда я хотела воспитать в тебе силу духа. Будь же теперь моим учителем — теперь, когда жизнь пошла под уклон».
Под уклон? Предательское слово — оно, видимо, подсказано чувством расслабленности; Гюндероде выбрала выражение, дающее нам понять, что значит для нее «подъем». Беттина же, менее послушная диктату нормы (хоть и побывала в монастыре), радуется: «Я так рада тому, что я незначительна — мне, стало быть, нет нужды щеголять всякими учеными мыслями, когда я пишу тебе; надо рассказывать как рассказывается». Ум у нее «не философский», заключает она.
Как это понимать? Что она не умеет мыслить? О нет. Голова у Беттины на плечах своя — что ей охотно и тычут в глаза. Она имеет в виду совсем другое: как раз «философы» мыслят неверно, то есть неестественно.
«По мне, если кто припадает к груди природы, доверяется ей, посвящает ей всего себя, тот еще не философ. Философ — это, напротив, тот, кто отправляется на грабеж; он выуживает у природы ее тайны и запускает их в свой адский котел, а потом неустанно следит, чтобы фабрика не застопорилась — одно колесо не зашло за другое, одна машина не застряла на ходу другой».
Бездушная механика, которая из сферы развивающейся индустрии перекидывается на сферу общественных отношений, на самого человека, вселяет в нее ужас, и, что касается возможных тупиков человеческого разума, это женщина сплошь и рядом обнаруживает такие инстинктивные прозрения, для которых наука еще не нашла ни системы, ни даже языка. Почитайте, например, как она описывает Каролине философа, который натужно конструирует «весь свой мыслительный аппарат» — не затем, чтобы «понять самого себя», а затем, чтобы «продемонстрировать нам всю хитроумную мудреность своей наисовершеннейшей машины»; но такая философия — «удел и пища» лишь для «никчемного, лишнего человека», «самому себе еще неведомого» (для человека «в состоянии фрустрации» — сказала бы современная психология, не много чего выиграв от этого обозначения).
Всестороннее обсуждение этой главной проблемы: должен ли человек мыслить так, как предписывают философы (и как иной раз сама Гюндероде, все-таки подверженная влиянию шаблонов «разумности», советует Беттине), — вот внутренний сюжет этого «романа», и сюжета более увлекательного и поучительного еще поискать. Нужно ли — и должно ли — в философии, истории, искусстве отрешаться от самого себя? Пользуется ли человек своей способностью мыслить и писать как средством выражения и воссоздания самого себя или же он использует ее с целью изготовления некой внеположной ему вещи — произведения, системы, — которая в конце концов обернется против самого же производителя? Беттина, которую часто корили леностью и которую Каролина призывает к изучению истории («Утративши почву под ногами, как сможешь ты постичь и удержать себя самое?»), жалуется на «историческую пустыню», в которую ее загоняет ее наставница. «А почва-то у меня под ногами как раз современная, и она горит, и современности хотела бы я отдаться — не кладя прежде голову на наковальню прошлого, чтобы оно мне ее расплющило». Но зато вполне добровольно она штудирует историю «двенадцати императоров» — римских, — для того чтобы сравнить их со все более грозно воздвигающимся Наполеоном и обнаружить в каждом тиране «все то же чудище посредственности». Скажете, это не поразительное прозрение для женщины, которая даже не располагала документальным материалом о диктаторах нашего века?
«Я уже ощущаю в себе побуждение признать безоговорочно правоту твою и в чувствах, и в делах…» Бережно, без нажима склоняет Беттина подругу на сторону своего контрпроекта, своей женской философии, своей «религии невесомости», которая, выпади ей хоть ничтожный шанс быть осуществленной, отнюдь не довела бы мужскую культуру агрессий до грани самоуничтожения, ибо «симфилософия» этих женщин имеет в виду религию жизненной радости, чувственного наслаждения и гуманности; они носятся с «правительственными мыслями», мечтают «играючи перевернуть мир». И для этого они основывают любовный союз — редчайший (или вообще единственный?) пример в нашей литературе, противостоящий столь многочисленным мужским союзам, этим альянсам ученика и учителя.
«Я не умею писать стихов, как ты, Гюндероде, но я умею говорить с природой, когда мы с ней наедине… Как только я вернусь, мы плотнее сдвинем наши кровати и проболтаем всю ночь… и мы, два философа, настроим таких великих и глубокомудрых планов, от которых заскрипит наш ветхий мир в своих заржавелых петлях — а то, глядишь, и перевернется совсем. Знаешь что? Ты — Платон, ты изгнан, заточен в крепость, а я твой любимейший друг и твой ученик Дион; мы нежно любим друг друга и, если надо, отдадим друг за друга жизнь — о, если б только это понадобилось! Ничего я так не желала бы, как пожертвовать для тебя жизнью… Да, решено, так я и буду впредь звать тебя: Платон! — и дам тебе ласковое прозвище — буду звать Лебедем, как называл тебя Сократ, а ты зови меня Дионом… Спокойной ночи, мой Лебедь, усни сладким сном на алтаре Эрота».
Думать сообща — из любви и ради любви. Считать любовь, томление средствами познания; в мышлении и познании не отрешаться от себя самого; друг другу «распалять кровь в висках жарким радением на благо грядущего». Придумывать друг другу имена, разыгрывать роли, не обеспеченные повседневной реальностью, и все-таки позволять им выходить за пределы твоей личности и обретать самостоятельное бытие. Играть языком, изобретать новые слова и формулы и перекликаться, перебрасываться ими: «духовзор», «дневная натура», «чувствонервы реальности»… Вы сами обнаружите все это — и много чего еще; я думаю, Вы, да и не одна только Вы, поймете этот язык — будто он послышался Вам во сне. Вы поймете, что книга эта рассказывает об эксперименте, на который решились две женщины, поддерживая, ободряя друг друга, учась одна у другой. «Утопия»? Конечно! Дальше дело не пошло. Но как мы могли допустить, чтобы «утопия» стала у нас бранным словом?
Я знаю, знаю. Уж мы-то, как никто другой, обязаны преграждать путь иррационализму во всех его обличьях. Но вы только почитайте: перед нами в этой книге предстает как раз особое обличье просветительского мышления, мировоззрение, стремящееся соединить в одном лице отточенный ум и обостренную эмоциональность; оно страшится — и лишь мы можем в полной мере оценить, насколько правомерны эти страхи, — односторонности инструментального, прагматического мышления (иррационализма навыворот!); оно противопоставляет бездушным механизмам этой философии, «умерщвляющей дух», иной, очень личный метод постижения природы, в том числе и собственной. И это — альтернатива! Альтернатива, взвешенная и предложенная в тот самый момент, когда все путевые стрелки были бесповоротно переведены на эксплуатацию природы, на превращение средств в цели, на подавление всякого «женского» начала в новой цивилизации. Горечь, звучащая в вопросах Беттины, свидетельствует о том, что она это чувствовала; добровольная смерть Гюндероде свидетельствует о том, что она уже отчаялась.
Разумеется, Беттина знала «Фауста» Гёте в опубликованных его частях; знала и ту сцену, в которой естествоиспытатель тщетно пытается побороть и подчинить себе Духа Земли. Она говорит с природой совсем по-другому!
«Уже не раз доводилось мне испытывать чувство, будто природа тоскливо и жалобно молит меня о чем-то, и у меня сердце разрывается оттого, что не могу я понять, чего она хочет… Однажды я стояла вот так, и этот гул и шум окрест был мне как горестный вздох, и будто исходил он от ребенка; тогда я и заговорила с ней как с ребенком: „Дитятко мое, что с тобой? Кто тебя обидел?“ — и только я это произнесла, как дрожь пробежала по всем моим членам и стыд меня охватил, будто я заговорила с кем-то, кто стоит бесконечно выше меня, и тогда я вдруг упала на землю и зарылась лицом в траву… и вот, когда я так лежала ничком, я вдруг стала сама нежность, сама ласка».
Сколь различны две эти сцены! Здесь не бросают вызова на смертный бой, не требуют от природы безоговорочной капитуляции, не кичатся гордыней «фаустианского» человека, видящего возможность познания лишь в том, чтобы вздернуть природу на дыбу, клещами и рычагами вырвать у ней признание. Здесь прогресс другого рода, иная магия — не чертовщина, которой предается Фауст телом и душой и из-за которой он гибнет, утратив сам себя. Сколь отличен соперник, которого создал себе бог-отец в Мефистофеле, чтобы подстегнуть человечество к созданию противоречивейшего из творений, от того, что создала себе мать-природа в своей рати ведьм, нимф и духов — той постоянно с тех пор гонимой, запретной, проклятой рати, к которой Беттина, запоздалая наследница, присоединяется с трепещущим сердцем! Какой великолепный контрпроект возник здесь у самых корней заблудшей культуры! Как дерзновенно-смел язык этих женских бесед!
* * *
«На круглой этой земле люди ускользают друг от друга — так, будто она покрыта ледяною корой; они не в силах хоть на единый миг удержаться один за другого — а еще туда же, витийствуют о силе своих страстей. Коли была бы любовь истинной, она бы не являлась нам как призрак, в обличье страстей, — она была бы нашим существованием, нашей стихиею, и тогда не было бы вообще нужды думать о том, как друг за друга удержаться. А сейчас — возьми хоть меня: разве я не права, что не жду, чтобы меня любили? Человек нынче ради себя-то самого ничего не может сделать — до других ли ему? Я вот не люблю, но на все готова ради других… Мой идеал — эта ирония в любви: с улыбкою думать о том, что для тебя недостижимо, а не „сетовать“, что тебя все покинули».
Я не знаю более точного определения пресловутой «романтической иронии», которая с психологической точки зрения есть не что иное, как мужественное сокрытие раны. Мотив отвергнутой любви пронизывает всю жизнь Беттины — как плод горького знания, как парадокс, противоречие, как «сокровеннейшая из тайн». Только что процитированный мною отрывок взят из ее последнего романа в письмах («Илий Памфилий и Амброзия», 1848), переплавившего в себе историю их отношений с Юлиусом Дёрингом. И вот что примечательно: знание это очень рано соединяется у нее с уверенностью, что точно так же ей заказан и поэтический удел. Каролине, пославшей ей свой «Фрагмент из Апокалипсиса», она пишет:
«Пламя ревности бушует во мне, оттого что ты не остаешься на той же почве, что и я… Я не умею писать фрагментов — умею только писать к тебе… И я ничего не могу поделать с тем, что желания мои устремлены к тебе одной… Так чувствует себя человек, пожираемый пламенем, но страшащийся и воды, что затушила бы пожар… О, я знаю, что ждет меня в жизни, знаю…»
Знает — и снова и снова стремится (а как же иначе?) обжаловать этот приговор. Есть некая глубинная и многозначительная связь между этими свидетельствами вынужденного отречения от любви и отказом Беттины от поэзии. Она сопротивляется настояниям Клеменса. Сколь бы легкомысленной она ни казалась, себя она наблюдает очень внимательно и трезво, и это знание самой себя запрещает ей реализовать свой поэтический талант. Она удивительно четко высказывает это Гюндероде:
«Было бы кощунственной дерзостью, если б я вознамерилась стать поэтом оттого только, что, вкушая вино, в опьянении ощущаю бога, что присущий духу инстинкт обожествления иной раз дрожью пронзает меня… Во мне самой никогда не зародится ни страсть, ни стих, я это чувствую, и живет во мне тайное противоречие — желание, чтобы сокровенную работу моего духа не нарушала никакая ответная любовь».
«Не нарушала» — это значит еще и «не разрушала». Беззаветная самоотдача обезоруживает. Выходит, что она не то что не может — не хочет! Обе эти женщины, каждая на свой лад, беспощадно строги к самим себе, они не боятся додумывать все до конца, и именно в этом своем особом мужестве они, даже и без слов, лучше всего понимают друг друга и соприкасаются одна с другой. Вы сами увидите, что поток их речей несет в себе и много невысказанного, намеренно утаенного.
Беттина чутьем своим подозревает, что структуры знакомой ей эстетики каким-то образом, пусть сколь угодно опосредованным, связаны с иерархическими структурами общества. Есть неразрешимое противоречие в том, что литература зависит от установлений, которые она, чтобы быть подлинной литературой, должна постоянно преступать. Беттина пытается избежать этой ловушки. Ни любви, ни искусству она не хочет отдаваться во власть. Каролине владеть такой стратегией не дано. Ее письма настроены на более серьезный тон. Она может либо отдаться всей душой, либо наглухо замкнуться в себе; она хочет быть и возлюбленной и поэтессой. Так она оказывается втянутой в механизм жестких законоположений, который, будучи ориентирован на мужские понятия «шедевра» и «гения», вменяет ей в обязанность то, на что она неспособна: отделять свой труд от своей личности; создавать искусство за счет жизни; вырабатывать в себе остраненность и хладнокровие, которые способствуют созданию «шедевров», но умерщвляют всякую живую связь с другими людьми — ибо превращают их в объекты. И вот я спрашиваю себя и Вас: когда иной раз лицемерно сетуют на то, что так мало «гениев»-женщин, связан ли этот дефицит только с условиями их жизни — или еще и с их органической неспособностью приноравливаться к идеалу гения, скроенному по мужским меркам?
Не догадывается ли об этом Гюндероде? Совершенно очевидно, что она ощущает себя (и в своем творчестве тоже) раздираемой неразрешимыми противоречиями. Никогда не забывала она о том, что в поэзии «самое главное — чтобы она проистекала непосредственно из глубин нашего существа»; не раз она жаловалась на иго условностей, столь затрудняющих для законов природы возможность свободного проявления.
«О, если бы там, где сейчас господствует игра по вековым установленным правилам, воцарилась свобода, чтобы природе легче было менять по мере надобности свои законы… Я вот тоже себя обуздала и научилась повиноваться».
Не следовало ли ожидать, что всё, что она, «повинуясь», в себе подавляла, однажды со всей самоубийственной силой восстанет на нее самое? Что она сломается в борьбе за те «простые формы», которые «как бы сами себя порождают в ощущении внутренней гармонии»? Ведь только они одни, говорит она, отличают «величайшего мастера в поэзии». Она явно изнемогает под гнетом эстетики, ориентирующейся на «мастеров языка», — ей-то нельзя даже и надеяться на соперничество с ними. (Вы слыхали, чтобы кто-нибудь говорил о «мастерицах языка»?) И вот, истины ради, она сознательно, хоть и с горьким чувством, отрекается от таких притязаний:
«Мне часто самой приходилось признавать бедность образов, в коих я воплощала свои поэтические настроения: ведь совсем подле, думалось мне подчас, лежат формы более царственные, наряды более роскошные, да и более значительный материал — вот он, под рукой; беда только в том, что не подсказан он первым душевным движением — вот и приходилось мне отстранять его, держаться лишь того, что было во мне истинно порывом; так и случилось, что я дерзнула напечатать эти стихи — они тем мне и дороги, тем и священны, что в них запечатлена истина, и в этом смысле все, даже самые маленькие, фрагменты для меня стихи».
Это, конечно, подступы к совсем иной эстетике, осколки которой нам не грех бы собрать. Сходным образом будет говорить и Георг Бюхнер. Каролину Гюндероде сознание того, что она ни в любви, ни в искусстве не может остаться самой собой, привело к гибели. Она завидовала большей внутренней свободе Беттины.
«Часто я сама не знаю, с каким ветром мне плыть, и отдаюсь на волю им всем. Будь со мной терпелива, ты ведь знаешь меня, и подумай о том, что возражать мне приходится не какому-то отдельному голосу, а общему гласу, у которого, как у лернейской гидры, сто неистребимых голов».
Этого образа достаточно. Общий глас, навязывавший ей чужую, не ее мерку, убил Гюндероде. Вы знаете строки, написанные ею на прощание: «Матерь моя, земля, кормилец мой, веющий воздух…» Они пришлись бы к месту и в этой книге, в диалоге с Беттиной: ведь его серьезный основной тон выступает еще явственней на фоне столь храбро используемых ими беспечно-игривых арабесок. Что было с Беттиной дальше, Вы знаете; знаете, как она неустанно продолжала предлагать новые, несмертельные способы житья на земле.
Какой прекрасный документ, как трогает душу этот голос из давно минувших времен…
Что и как говорит нам нынче общий глас — Вы тоже знаете.
Франц Фюман
Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман
Начну с цитаты:
«Каждый… волен нести ношу в меру своих сил, пусть только не полагает меру своих сил нормой того, что вообще можно потребовать от человеческого духа. Существуют, однако же, люди вполне добропорядочные, но от природы настолько тяжелодумы, что стремительный полет пылкой фантазии непременно соединен в их представлении с болезненным состоянием души, вот почему то об одном, то о другом поэте либо толкуют, что он, дескать, пишет не иначе, как вкусив хмельных напитков, либо относят фантастичность его произведений за счет нервного перенапряжения и связанной с этим горячки. А кому же не известно, что всякое так или этак воспламененное состояние души хоть и способно породить удачную, гениальную мысль, однако ж никогда не создаст целостного, завершенного произведения, каковое требует величайшей вдумчивости и осмотрительности».
Эти слова, заключающие один из шедевров немецкой философской новеллистики, вполне приложимы к их автору, хотя наверняка столь же мало известны, как и произведение, из которого они взяты. Произведение это — «Серапионовы братья», а 24 января 1976 года исполнилось двести лет со дня рождения его создателя. Он, правда, стяжал себе шумную славу «таинственного» и «жуткого» Гофмана, но не столь уж многие знают нынче, что он вошел в историю мировой литературы и был великим поэтом, а вдобавок превосходным композитором и весьма одаренным рисовальщиком, — тот самый Эрнст Теодор Амадей, что по метрике, собственно говоря, прозывался Эрнстом Теодором Вильгельмом Гофманом и по профессии, которую приобрел и которая долгое время обеспечивала ему пропитание, был юристом и дослужился до чина судебного советника — каммергерихтсрата.
Эта двойственность бытия не в последнюю очередь способствовала возникновению опереточного персонажа, в образе коего Гофман дожил до наших дней. Амадей и Вильгельм, художник и чиновник — волей-неволей продолжишь цепочку: фантазия и канцелярская пыль, дерзкий полет мечты и серая реальность, ну и прочие столь же избитые контрасты салонной эстетики. К примеру, кровь сердца и чернила либо демоны и параграфы — тоже звучит недурно; миф разрастается, тянется ввысь, заслоняя подлинного Гофмана, а его значение, кстати, заключено и в том, что он великолепно воссоздал целый ряд феноменов психики — раздвоение личности, противуобраз личности, двойничество, тень. Миф начал складываться еще при жизни Гофмана, и пищи для него, безусловно, хватало в избытке, взять хотя бы саму внешность Гофмана и его манеры; вполне заслужил писатель и упрек в том, что он поощрял и даже провоцировал всевозможные недоразумения и слухи. Двойственность жизни и деятельности тоже выглядела эксцентрично и противоречиво, но она никогда не была банальна в смысле «там — Пегас, тут — канцелярская кляча». Гофман сам подчеркивал эту двойственность еще на заре своего творческого пути:
«По будням я юрист и разве только чуточку музыкант, днем в воскресенье рисую, а вечерами до поздней ночи я — весьма остроумный сочинитель».
Так двадцатилетний Гофман писал другу своей юности Гиппелю[178], и можно привести здесь множество выдержек из его переписки, подтверждающих, что писатель тяготился своей принадлежностью к чиновному люду и тосковал по свободе художника, но нисколько не меньше существует и свидетельств обратных, ибо Гофман был свободным художником целых восемь лет, с 1806 по 1814, и самые суровые невзгоды и глубочайшие унижения, какими потчевала его жестокая судьба, относятся именно к этому периоду. Что греха таить, история немецкой литературы богата примерами, когда нелюбимая профессия угнетала художника и губила его, вспомним хотя бы Фридриха Гёльдерлина; однако же с Гофманом обстояло по-иному. К шаблонам вообще прибегать не след, а уж подлинные противоречия редко заключают в себе диаметральные противоположности, когда у одного полюса сосредоточено все положительное, а у другого — все отрицательное. «Дружище, как бы мне хотелось нынче выбраться из собственной шкуры, — пишет Гофман опять-таки по поводу своего двадцатилетия, всего через два дня после того, как изложил распорядок своих трудов, — …как бы хотелось пробиться сквозь строй перевертышей, сквозь толпы людей-автоматов, которые осаждают меня банальными пошлостями, — пробиться, хотя бы и силой». Вот что мучило молодого Гофмана, мучило всю жизнь до самой смерти — убожество немецких будней, с которым он сталкивался и днем, когда был прилежным, учтивым, проницательным, здравомыслящим и неподкупным судьей, и ночью, когда был прилежным, учтивым, проницательным, здравомыслящим и неподкупным сочинителем; как Гофман-юрист, так и Гофман-художник — оба имели дело с одной и той же повседневностью, представавшей то в фантастическом, то в прозаическом одеянии.
И та же повседневность, со всеми ее противоречиями, жила в его собственной душе.
Себе самому он тоже был судьей, и судьей суровым; ниже мы остановимся на этом несколько подробнее. А потому не стоит посмеиваться над эпитафией, выбитой по просьбе друзей на его могильном камне: «Он был одинаково замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живописец». Музыкант и живописец столь высокого отзыва не заслуживают; что же до судебного советника и поэта, то они, пожалуй, и впрямь величины одного ранга, а поскольку деятельность судьи Вильгельма Гофмана известна слишком мало, приведем пример. Среди клиенток Гофмана была Гельмина фон Шези[179], мелкопоместная дворянка из тех, что в годы антинаполеоновских войн добровольно пошли сиделками в лазареты и таким образом воочию увидели страшные будни рядовых солдат, которые, как говорится, таскали для своих князей каштаны из огня. В прирейнских лазаретах она, по-видимому, столкнулась с вопиющими нарушениями и несправедливостями, так как направила обстоятельную записку генералу фон Гнейзенау[180], который распорядился проверить ее жалобы и признал их обоснованными. И тут начинается обычная история: господа военные незамедлительно возбуждают против этой дамы судебный процесс за оскорбление чести мундира, за клевету, осквернение родного очага и так далее — в ту эпоху (и особенно в таких кругах) в Германии критику воспринимали не слишком благосклонно. Встречный иск, разумеется, был принят; госпожу фон Шези приговаривают к году тюрьмы, и не миновать бы ей сесть за решетку, если бы ее апелляционной жалобой не занялся Гофман, добившийся оправдания своей клиентки.
В своих мемуарах госпожа фон Шези пишет:
«Благодаря осмотрительности Гофмана дело мое разбиралось, как тому следует быть. Допросы, которым меня подвергали, велись в полном согласии с законом. Протоколы, весьма умно составленные, были бы достойны публикации, но, боюсь, их уничтожили. Гофман был преисполнен сознания серьезности и благородства своей миссии. Честную женщину, безвинно обвиненную в уголовном преступлении, надобно было вытащить из дьявольской паутины, дабы она не поплатилась за свое усердие во имя святого дела добрым именем и свободой».
Серьезность и благородство — мне по душе эти слова, они вполне приложимы к Гофману, как к Вильгельму, так и к Амадею. Что до Вильгельма, то вот вам итог:
«Решение Верховного суда. Касательно расследования, каковое судебный советник Гофман вел по делу госпожи фон Шези (фон Шези — по мужу), Сенат по уголовным делам Королевского верховного суда… в согласии с документами постановляет: считать Вильгельмину Кристиану, в замужестве фон Шези… полностью свободной от обвинения в том, что она оскорбила Кёльнскую комиссию по делам инвалидов, и аннулировать издержки судопроизводства. Совершено на законном основании».
А теперь прошу вас на минуту вернуться вспять. Как это сказано в мемуарах? «Безвинно обвиненную… женщину… надобно было вытащить из дьявольской паутины» — да ведь это звучит прямо как цитата из Амадея Гофмана; разве не могла бы эта фраза стоять в «Эликсире дьявола»? Вполне бы могла, и нечто похожее там стоит, а если бы Гофману дано было завершить «Кота Мурра», мы, возможно, встретились бы с оклеветанной дамой при дворе князя Иринея, как в «Повелителе блох» встречаемся с другим лицом из того же периода судебной деятельности Гофмана. Но об этом позже, а пока заметим только, что Амадей и Вильгельм в Гофмане не антагонисты вроде доктора Джекиля и мистера Хайда, они братья и, хоть порой враждуют, большей частью помогают друг другу. Оба они суть тот Гофман, которого должно считать нашим, потому что оба без остатка отдали свой необычайный талант служению справедливости и оба — как поэт, так и судья — выдержали тем самым испытание, какое вполне уместно назвать «испытанием на благородство»: они приняли вызов грозных сил, выступить против которых рискнет не каждый, и не могли не поплатиться за это.
Я не намерен углубляться в подробности гофмановской биографии, вы легко можете ознакомиться с ними самостоятельно, я хочу только вкратце напомнить важнейшие данные. Родился в 1776 году в Кёнигсберге, в семье юриста; родители между собой не ладили; развод; четырехлетний мальчик попадает к дяде, судя по всему омерзительному типу: педантичному сухарю, глупому, несносному, убежденному в собственной значительности, — и с этим «надутым хвастуном» Гофман до самого университета живет под одной крышей! Вдобавок семейство было одержимо музыкальным дилетантизмом, вдобавок в доме была душевнобольная мать писателя Захарии Вернера, который на иной манер, но тоже сошел с ума, вдобавок тупоумие прусской повседневности, этот строй перевертышей и людей-автоматов, а рядом совсем другие современники, такие, как Гаман, Кант, братья Гумбольдты, Клейст, Шамиссо, Клаузевиц, и тут же солдафон и паяц король; и ко всему — необычайно уязвимая натура при внешности безобразного карлика: очень маленький рост, лицо, похожее на шутовскую маску, желтоватая нечистая кожа, вертляво-расхлябанные манеры, острейший ум, беспощаднейшая наблюдательность и самоирония… «Юность моя подобна иссушенной пустыне, без цветов и тени»[181]— так писатель назвал в «Коте Мурре» юность, которая была в известном смысле его собственной… Изучение юриспруденции; служба в беспросветной глуши восточных провинций; в тридцать лет — правительственный чиновник, регирунгсрат, в занятой пруссаками Варшаве; женитьба на юной польке, вероятно единственной из женщин, с которой он был близок физически. После разгрома Пруссии Наполеоном бурная, во многом отмеченная нескладицей и хаосом военных лет, материально неустроенная, порой голодная жизнь буквально на птичьих правах: то он директор музыкального театра, то капельмейстер, то композитор, то карикатурист, художник-декоратор, домашний учитель, торговец нотами, музыкальный критик и, наконец, писатель — в Бамберге, Лейпциге, Дрездене, а потом уж до самой смерти в Берлине, точнее, на Фридрихштрассе между Унтер-ден-Линден, Таубенштрассе и Жандармским рынком; после поражения Наполеона Гофман возобновляет свою карьеру на службе прусской юстиции и проходит через то испытание, о котором я коротко хочу рассказать и частью которого явилось дело Шези.
Начало 20-х годов прошлого столетия. Со времен Венского конгресса в Европе владычествует Священный союз монархов Австрии, России и Пруссии — неприкрытая, жестокая реакция, стремящаяся затоптать любые ростки либерализма, а тем более демократии. Слежка, идеологический террор, подглядывание в сфере частной жизни, полицейский произвол, оголтелая цензура и специальный институт, учрежденный самолично прусским королем, так называемая «Особая правительственная комиссия по расследованию политических преступлений». Туда-то и назначают Гофмана, с тем чтобы этот блестящий правовед изыскивал юридические возможности преследования неугодных. Однако Гофман обманул надежды своих работодателей; вопреки указаниям свыше он добивается оправдания там, где должен вынести обвинительный приговор, как, например, в деле Фридриха Людвига Яна[182], а это настолько неслыханно, что прусский полицей-директор, действительный тайный обер-регирунгсрат Карл Альберт фон Камптц (пусть каждый останется при своих титулах) подает жалобу прусскому министру внутренних дел, а министр переправляет оную королю: дескать, судьи вроде Гофмана срывают работу Особой комиссии, ибо «ставят свои личные убеждения превыше закона». «Законом» здесь именуется не что иное, как указание сверху, требующее вопреки фактам вынести заведомо ложный приговор, вместо того чтобы блюсти законы, а судебный советник Гофман как раз их и блюдет; поскольку же этот судебный советник Вильгельм одновременно является писателем Амадеем, то писатель и выводит в повести «Повелитель блох» вышеозначенного господина фон Камптца под видом придурковатого полицейского соглядатая Кнаррпанти, имя которого легко прочитывается как анаграмма «Narr Kamptz» — «придурок Камптц». Все это становится известно, когда книга еще находится в типографии; Камптц отдает распоряжение перехватывать корреспонденцию Гофмана и изымает письмо, раскрывающее секрет, после чего рукопись арестовывают и глава о придурке Камптце исчезает в Секретном архиве Пруссии, где исследователи обнаруживают ее лишь в 1905 году. Только разве камптцы на этом остановятся? Против Гофмана возбудили дисциплинарное расследование, но тяжелобольной писатель «избежал» его: в июне 1822 года Гофман скончался от сухотки спинного мозга, не дожив до пятидесяти лет. И буквально до последней минуты он пишет, вернее, диктует, так как уже скован параличом, диктует, пока жена не откладывает перо, потому что голос писателя обращается в предсмертный хрип. Затем он велит перевернуть себя на бок, лицом к стене, и меньше чем через полчаса умирает. Накануне, «чтобы возбудить жизненные силы», его, как впоследствии Генриха Гейне, жгли раскаленными утюгами вдоль позвоночника, и он выдержал эту пытку, даже отпускал мрачные шутки, опять-таки дошедшие до нас оттого, что они вполне под стать ходячему представлению о писателе. Скончался Гофман в безденежье, оставив столько долгов, что жена была вынуждена отказаться от наследства; и от духовного его наследия на немецкой земле долгое время отказывались, смею даже сказать, в определенном смысле отказываются и поныне.
Вместо этого ему была уготована сомнительная известность. Для многих и многих потомков Гофман остается «жутким» Гофманом, и таким его видели уже современники — полубезумным алкоголиком, который в легкомысленной компании пьянствует ночи напролет и высвобождает свои горячечные видения в настолько беспорядочной фантастике, что здравомыслящий человек не вправе принимать ее всерьез. «Смотри, не верь россказням Гофмана», — остерегали не только матери дочерей, но и преподаватели литературы своих студентов, а одна глупенькая оперетка еще и закрепила это ходячее представление так, как на это способна только оперетка, особенно если ее музыка легко запоминается. И самое ужасное, что на первый взгляд он как будто бы такой и есть. Поэтому необходимо воздать должное правде, а она гласит, что Гофман, вне всякого сомнения, был алкоголиком, хотя спиртное даже в малых дозах переносил плохо и его еженощные бдения в погребке Луттера и Вегнера — это напротив театра возле Жандармского рынка — были чисто интеллектуальными оргиями: там обнажали законы эстетики, а не груди гризеток. А все же: и пьяницей Гофман был, и держался он эксцентрично и манерно, что же до его литературного творчества, то никто не станет отрицать, что в нем кишмя кишат привидения и духи. Там топает вверх по лестнице Песочный человек, чтобы вырвать детям глаза, а король гномов Даукус Карота высовывает из-под земли на морковке свое обручальное кольцо; там, в замке, вздыхает и стонет призрак; жиреют на трупах вампиры; покойный еврей-чеканщик сидит в пивной на берлинской Александерплац и выбивает из редьки дукаты, а давным-давно умершие ученые Сваммердам и Левенгук устраивают дуэль на подзорных трубах; сатана варит эликсир, отведав которого человек видит мир в сияющем блеске; министр тонет в ночном горшке; блоха читает мысли; кот сочиняет стихи; в природе исчезает зелень; у саксонского тайного архивариуса брат — дракон, а дочери — змейки, и так далее, и тому подобное, и прочая, и прочая, — но ведь Гофман писал и истории, действие которых разыгрывается в привычной обстановке, среди ремесленников, на торжище и без какого бы там ни было ведьмина отродья; посему напрашивается вывод, что настоящего, серьезного писателя — а поскольку в таких случаях от нас непременно требуют точного определения, то, стало быть, и писателя-реалиста — искать надобно как раз в этих произведениях, а отнюдь не в сомнительных опусах, какие сам автор именует «ночными повестями» и «сказками». Но сделать такой вывод — значит впасть из одной крайности в другую, притом двоякую: отречься от своеобразия Гофмана означает одновременно до неузнаваемости извратить подлинную ценность его, ну, скажем, добропорядочных историй, ибо мы свели их исключительно к этой самой мнимой добропорядочности, а ведь там дела тоже идут таинственно, надо только рискнуть и приглядеться внимательнее.
Ну вот, наверно, с досадой думаете вы, все-таки «таинственный» Гофман; и я бы не стал возражать против этого эпитета, будь я уверен, что его истолкуют правильно, не в смысле бегства от реальности.
Гофман-то о бегстве вовсе не помышлял, как раз наоборот. Он звал на помощь духов, чтобы понять окружающие будни, их реальность вовне, на рыночной площади, и внутри, в сердце, понять всю полноту жизненной действительности, открывавшейся ему и как судье, уяснить себе прихотливую вязь людских поступков, в которых непременно заключено и такое, что плохо поддается рациональному объяснению, ибо лежит, видимо, за пределами разума, — все то необычайное, порой смешное, порой возвышенное, то призрачное, колдовское, что рождает кошмары, смущает и доводит до безумия, хихикает, и бормочет, и пыхтит, и зловеще шушукается, и бранится, и вкрадчиво шепчет, и визжит, и вопиет в неистовой жажде убийства или в упоении любви, — словом, все то, что принято называть «таинственным» и что могло бы называться так и у Гофмана, если б только люди захотели воспринять это таинственное, начиная с призраков, ведьм, строя перевертышей, людей-автоматов и кончая очаровательными эльфами, как принадлежность реальности. «Сам посуди, — писал Гофман своему старому другу Теодору Гиппелю, будущему главе западнопрусского правительства, — сам посуди, наши беды в корне противоположны: ты грешил избытком фантазии, во мне же слишком сильно чувство реальности…» Вы не ослышались, Гофман признает за сухарем Гиппелем избыток воображения, а себе приписывает обратный недостаток: он-де слишком большой реалист. И сказано это не в шутку и не из кокетства, а очень и очень серьезно. Что послужило поводом к высказыванию, теперь не установить, но вполне возможно привлечь аналогии из позднейшей деятельности обоих: Гиппель предается фантазиям об осуществлении сердечного союза между престолом и народом — Гофман воссоздает в своем фантастическом искусстве повседневность, где бесчинствует «придурок Камптц».
Слишком сильно в нем чувство реальности.
Гофман писал главным образом о современности, об эпохе наполеоновских смут, о последствиях революции, которая клубком всех мыслимых противоречий и парадоксов — во главе с императором, и все же неся прогресс — прокатилась по землям трехсот монархий, но в конце концов была разгромлена царскими казаками. В те годы Просвещение уже давно победило: последнюю ведьму сожгли, последнюю косицу отстригли и заменили модными усиками:
Коса висела на спине, Теперь — висит под носом[183] —будет позже насмешничать Гейне; князья сулили подданным конституцию; слово «брюки», дотоле запретное, стало таким же благоприличным, как теперь слово «дрянь»; феодальное хозяйство начало распадаться; имения аристократов превратились в товар; разночинец порою дослуживался даже до лейтенанта — словом, Просвещение шагало вперед, и люди уповали на счастливые времена, когда и обществом и человеческими душами будут править лишь возвышенные законы. Но на пути к этому существовали препятствия, и коренились они не только в старом, которое и не помышляло выпускать из рук бразды правления. Появились бесовские штуковины, пожирающие огонь и изрыгающие пар; эти железные драконы хоть и увеличивали стократ силы человека, но одновременно приковывали его к себе, так что он сам казался всего-навсего придатком машины. Что же такое люди призвали себе на подмогу?.. В 1815 году на государственном чугунолитейном заводе в Берлине был построен первый локомобиль, и Гофман вполне мог видеть его; писатель интересовался всеми автоматами, и, коли уж его фрейлейн Розенгрюншён, то бишь грозная фея Розабельверде, несется на преогромном жуке, меж рогов которого полыхает синее пламя, значит, и в обыденной жизни уже появились этакие чудища.
Но это, как говорится, лежало на поверхности; куда более грозным был феномен разделения труда и специализации (Гёте также четко распознал его и смирился перед ним), или таинственный феномен претворения всех стоимостей в меновую стоимость, или феномен всесильных и всемогущих денег, которые отныне могли купить даже то, что прежде нельзя было ни купить, ни продать, или же вот такое жуткое явление: десятки людей тяжко трудились и, оставаясь нищими, обогащали одиннадцатого, причем сам он нисколько не заставлял их работать, все проистекало без какого бы то ни было грубого принуждения, в силу абсурдной необходимости, которой подчинялись, однако же, добровольно, даже с радостью, — Гофман убедился в этом на собственном опыте, сталкиваясь с коммерциализованной литературной и музыкальной индустрией, и из горячечных фантазий родился похожий на редьку гном, что, беспомощно ворча, лежит в бельевой корзине, так как не может стоять на своих ногах, покуда не становится обладателем колдовского дара, согласно которому все замечательное, совершаемое в его присутствии другими, приписывается ему и относится за счет его нравственных качеств: крошка Цахес, по прозванию Циннобер, сложнейшая фигура сложнейшего переходного периода, кусочек мифа, нам следовало бы дорожить им, но для широкой публики он живет лишь как несуразный карлик Клейн-Цак — помните? — «клик-кляк, клик-кляк, вот вам, вот вам Клейн-Цак», — свидетельство той сомнительной посмертной славы, которая, к счастью, в последнее время нередко подвергается критике и развенчать которую хотя бы еще немного — единственная наша цель. Поэтому уместно продолжить уже начатое выше, а именно сравнить опереточного Гофмана с Гофманом подлинным, и тут мне хотелось бы снабдить вас кое-какими подсказками.
Конкретности ради ограничусь третьим актом — обреченной на смерть певицей.
Я не стану никак интерпретировать опереточный образ муниципального советника Линдорфа и его прототип; далек я и от того, чтобы противопоставлять реальную биографию Гофмана событиям из либретто и, скажем, козырять тем, что поездка в Венецию навсегда осталась только мечтой писателя, и вообще, поймем друг друга правильно: конечно же, любая обработка вправе изменять, перестраивать, воссоздавать по-новому, в том числе упрощать и сокращать, если угодно, даже огрублять, главное — как все это делается. Тот, кто выводит на сцену Гофмана, обязан отдавать себе отчет или, во всяком случае, догадываться, с какой величиной он имеет дело и какой мерой должно измерять свое собственное вторичное произведение! Меня оскорбляет не отход от гофмановской биографии: литература — не пособие для изучения истории, она вправе игнорировать исторические факты. Меня оскорбляет пошлость, с какой это сделано. Но будем конкретны.
Итак, третий акт: Антония, или — у Гофмана — Антониа. Образцом здесь послужила новелла о советнике Креспеле, открывающая сборник «Серапионовы братья», предварительно она, как обычно у Гофмана, была напечатана в одном из многочисленных карманных альманахов. Советник Креспель — лицо реальное, он был другом юности Гёте и упомянут в шестой книге «Поэзии и правды», где он у Гёте предлагает веселому обществу путешественников еженедельно устраивать жеребьевку партнеров — в рамках приличия, естественно, дамы принимают кавалеров в услужение. Этот человек — советник княжества Турн-и-Таксис Иоганн Бернгард Креспель, один из тех симпатичных чудаков, каких Гофман частенько живописал, чтобы облечь в плоть и кровь свой идеал человека-мудреца. Креспеля рекомендуют Серапионову братству как «одного из самых удивительных людей», рассказав об одной из «самых чудаческих его проделок». А именно — он велит построить себе дом таким образом: каменщики без всяких чертежей закладывают на отмеченном участке фундамент и поднимают стены на высоту двух этажей, без оконных и дверных проемов. Затем этот Креспель направляется по улице к дому и там, где ему всего удобнее подойти, велит пробить входную дверь, там, где, по его предположению, откроется самый красивый вид, делают окно, затем возводят внутренние стены и так далее — перегородки, двери, окна, люки, кое-где, конечно, лестницы, а в результате получается дом, с виду весьма диковинный, но необычайно удобный для житья. Быть может, среди вас найдется и градостроитель, который это подтвердит; кстати сказать, советник Креспель в самом деле предвосхитил архитектурные тенденции, которые затем воплотились в постклассицизме.
Таким вот манером Серапионов брат Теодор вводит Креспеля в повествование. И тут происходит нечто весьма примечательное: по мере развития повествования эта, казалось бы, однолинейная чудаковатая фигура начинает изменяться по двум направлениям — или, лучше сказать, в двух основных тонах: она становится ярче и одновременно мрачнее, причем иной раз в пределах одной-единственной фразы; то и другое обостряет причудливость образа и позволяет нам предугадать два ее полюса — мудрость и безумие. Благодаря этому фигура советника Креспеля обретает все более отчетливые контуры, но притом становится все таинственнее — вот вам истинное чудо повествовательного искусства. Сначала перед нами чудак, над которым лишь посмеиваешься, затем к насмешке присоединяется удивление и сочувствие, на первых порах то и другое поровну, однако мало-помалу удивление перетягивает, особенно когда узнаешь о его страсти распиливать на куски и выбрасывать старые скрипки — прежде он их делал, а теперь только ломает. Мы радуемся, узнав о его доброте к детям, и тотчас, в этом же самом месте, радость сменяется замешательством, ибо речь заходит о некой молодой одаренной певице, которой однажды летним вечером внимал весь город, когда она пела в доме Креспеля, но с той поры он держит ее взаперти; о девушке, ее происхождении, ее отношении к Креспелю ползут самые невероятные слухи, фигура советника наливается мраком, его причуды перерастают в сумасбродство, а затем Антониа умирает, советник же явно теряет рассудок, и как у Теодора, так и у читателя не остается сомнений, что лишь Креспель мог быть убийцей девушки. Проникнув к старику, чтобы бросить ему в лицо обвинение и вырвать признание, Теодор слышит историю его жизни. Креспель «оцепенело посмотрел на меня, схватил за руку и подвел к окну, распахнув обе его створки. Облокотясь о подоконник, он высунулся наружу и так, устремивши взор в сад, поведал мне историю своей жизни… Когда он кончил, я ушел, растроганный и пристыженный».
К сожалению, я даже в общих чертах не могу набросать тут филигранный узор сюжетных нитей, сплетенный на восьми страничках текста новеллы, а он-то как раз и оттеняет темно-гранатовый блеск этой драгоценности, это волшебное единение голоса скрипки и голоса человека, слияние двух тайн искусства — души скрипки и души человека; я вынужден ограничиться самой грубой фабулой. Девушка — дочь Креспеля Антониа, и певческий талант несет ей гибель: врожденный изъян придает ее голосу ангельское звучание и вместе с тем неминуемо убьет ее, ежели она станет петь, однако же (и мудрый отец догадывается, а то и знает об этом, только оперетта опускает эту догадку) девушка умрет, даже если петь не будет. Господи, какой вздор, слышу я, от этого не умирают! Разумеется, умирают не от этого, еще бы, ведь все вроде в порядке — и свища в горле нет, и врач ничего не находит, и температура нормальная, просто однажды вечером засыпают, чтобы больше не проснуться, вот и все. Только этого не избежать. Искусство лишает человека свободы: кто избран им, тому уж нет спасенья. Креспель это знает и прямо говорит об этом дочери; он не утаивает от девушки ее смертельный недуг, и Антониа надолго покоряется своей судьбе, но в день помолвки ей хочется петь, и жениху хочется услышать ее голос, и советник не препятствует дочери, ибо он мудрец; Антониа поет целый вечер, поет до изнеможения, и весь город с замиранием сердца внимает ей под окном. Потом она падает без сил; что ж, предчувствие как будто бы нас не обмануло: Креспель в самом деле убийца, только вот вопрос — в каких пределах? Девушка, однако, приходит в себя, и тут словно бы брезжит выход: старинная скрипка начинает петь голосом девушки, Антониа молит отца (он пытается разгадать секрет звучания скрипки, изучив строение ее деревянного корпуса) не трогать, не распиливать эту скрипку, ведь это — она сама; и отец исполняет ее просьбу и всеми силами старается сберечь иллюзию счастья, хотя знает, что это невозможно. И вот случается то, что должно было случиться и все-таки остается необъяснимым: однажды вечером Креспелю чудится пение, он не знает, сон это или явь, хочет встать, но не может пошевелиться, и в этот миг стена делается прозрачной. Он видит, как Антониа обнимает жениха, девушка молчит, он видит, что она молчит, а голос все продолжает звучать. Теперь Креспель уверен, что грезил наяву, но утром находит дочь мертвой, а скрипку вдребезги разбитой, и тайну ее уже не разгадать. Пела ли Антониа? Неизвестно… Темная глубь граната, багрец, переходящий в агатовую чернь, пламенный сумрак, недвижный покой засохшей крови.
Ага! — опять слышу я. Доказательств, стало быть, нет! Конечно, нет. Все уладилось, то есть вопрос открыт и всяк волен прочесть по-своему; кстати, выбор прочтения зависит от человеческой натуры. Вот эта неопределенность, эта открытость нескольких возможностей как раз и составляет ярчайшую особенность искусства Гофмана; это один из методов, какими он постигал тайну будней, обусловленных несколькими системами ценностей, их неоднозначность, их двойственную природу — словом, их противоречивость. У Гофмана мы сталкиваемся с этим постоянно, а оперетта возмущает именно своей пошленькой однозначностью, причем неизменно глупейшей. Антониа — пардон, Антония — умирает, разумеется, вполне однозначно: во время пения и от пения: Креспель — тупой бранчливый тиран, которого полностью характеризуют реплики типа «Я шляпу дать велел, болван!»; Антония — глупенькая соплюшка, она не понимает, что ей нельзя петь, и никогда не поймет, потому что все папенькины запреты идут от сварливости, и, конечно же, руководит ею одна только жажда славы: очень уж ей хочется стать знаменитой; а Гофман — ах, друзья мои, что говорить! — Гофман здесь этакий бонвиван и, разумеется, по либретто жених певицы. В угоду девушке он решил стать адвокатом и обеспечить ей надежное бюргерское счастье. Да, что говорить… Давайте лучше почитаем самого Гофмана!
А на прощание позвольте подсказать вам кое-что еще и простите великодушно менторский тон, в который я сейчас наверняка впаду: коли вы уж взялись сравнивать, то сравните «Креспеля» еще и с «Тристаном» Томаса Манна, ведь «Тристан» — это вариация на тему новеллы Гофмана, читайте медленно, строчку за строчкой, слово за словом, и следите, как там повторяются гофмановские мотивы, к примеру на второй же странице — красные пятна недуга, только у Томаса Манна их несет не артистка и возвещают они жизнь, жизнь безысходную, исполненную тоски по обывательской карьере, то есть жизнь в корне противоположную устремлениям героини Гофмана. Не буду лишать вас радости открытия, хочу только помочь вам понять ту дерзость, с какой Томас Манн вводит в рассказ это имя — Антониа/ия, — претворенное в мужской род, а вдобавок в беспроблемно сытое здоровье, и вот появляется мальчик Антон, мечущийся в коляске, как Креспель от безумия, только у него это от полнейшего довольства жизнью. Перечитайте, прошу вас! И еще, обратите внимание: у Манна даже несносная фигура опереточного доктора Миракля, которой у Гофмана нет и быть не могло, возникает в «Тристане» в образе «доктора Мюллера»… Перечитайте как-нибудь в субботний вечер, доставьте себе радость.
А чтоб радость была совсем полной, прочтите о новелле Гофмана еще и критику, которая начинается словами: «Нет, это невыносимо!», ведь там, дескать, показано такое, «из-за чего, если присмотреться внимательнее, можно растерять весь здравый рассудок… конец же настолько горек, настолько беспросветен, что не допускает ни малейшего компромисса, и это омерзительно — да-да, повторяю: омерзительно! — и я не могу взять этот суровый приговор назад».
Кто автор этих уничтожающих слов?
Гофман.
Случай в литературе беспримерный, по крайней мере мне неизвестно, чтобы какой-либо другой писатель выступал с беспощаднейшей критикой собственного творчества, и ведь это не лицемерные упреки, которые он же сам с триумфом и разбивает, нет, настоящий непримиримый противник, притом равный по таланту, аргументировал бы точь-в-точь как Гофман. Ибо существует два вида критики: дешевая, которая стремится доказать, что все можно было бы сделать совершенно по-иному, и которую можно высказать всегда (я могу раскритиковать дуб за то, что он не сосна, и наоборот); но есть и другая критика, образующая необходимый противовес произведению искусства, являя вкупе с ним единство более высокого уровня. «Серапионовы братья» — в целом, и новеллы, и обрамляющее повествование — как раз и представляют собой такое более высокое единство; к сожалению, издатели почти всегда калечат его, в первозданном же виде книга эта есть литература плюс критика, повествование плюс комментарий к нему. Притом комментарий настолько деловой и резкий, что мне, признаться, становилось порою не по себе. Аналитическая холодность взгляда на собственное творчество кажется просто нечеловеческой, смею даже сказать — таинственной, в смысле величия и благородства, и почти необъяснимой, если на минуту забыть о профессии Гофмана. То, чем славился Гофман-юрист: ясность ума, неподкупность, прозорливость и — повторяю сказанное вначале — благородство, — все это проявляется и здесь, когда писатель судит себя самого, а в этом качестве он до сих пор почти неизвестен: судебный советник от литературы, который должен стать полностью нашим, но пока еще не стал, Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман.
Крошка Цахес, по прозванию Циннобер
Исследователи творчества Э. Т. А. Гофмана, руководствуясь высказываниями современников писателя, не раз тщетно пытались определить, кто именно из реальных людей изображен под видом крошки Цахеса: был ли это, как уверял Вильгельм фон Шези, референдарий верховного суда фон Хайдебрек, или же студент Фридерици (так уверял обер-трибунальрат Вильке), или, быть может, кто-нибудь еще из «подлинных чудаков карликов, которых мы что ни день видим вокруг себя», как уверяла супруга берлинского банкира Леа Мендельсон-Бартольди. Что же мы выиграем, если узнаем это? Да ничего, только уйдем от понимания того, что во всяком литературном образе живет немаловажная черта его создателя, и мысль эта кажется азбучной истиной лишь до тех пор, пока не встают вопросы «в каких пределах?» и «как именно?». Ученые охотно признают, что Гофман, сам обличьем похожий на карлика, в каждом из своих хотя и страшноватых, но в конечном итоге доброжелательных героев-«малышей» вроде крестного Дроссельмейера из сказки «Щелкунчик и мышиный король» воплотил какую-то сторону собственного «я», однако, насколько нам известно, только лишь дилетант Вальтер Харих[184] дерзнул обратить внимание также на некоторое (для него, кстати, отнюдь не самоочевидное) сходство между омерзительным Цахесом и его создателем: у обоих нарушена духовно-телесная гармония, оба страдают из-за своего физического убожества.
Давайте и мы пойдем по этому пути, а для начала обратимся к биографии писателя.
* * *
В бамбергских дневниках Гофмана двадцать пятое октября 1812 года отмечено фразой, в которой словно гремят победные фанфары: «В полдень пешком до Френцдорфа — охота, вечером подстрелил косулю — и возликовал!..»
Среди множества записей, произведенных в те полгода и сообщающих об охоте или о посещениях тира, одна лишь эта строчка говорит об удаче, и удивляться здесь нечему: трудновато представить себе, чтобы этот комок нервов, вечно снедаемый лихорадочным возбуждением, вообще хоть раз умудрился сделать меткий выстрел. Нашпигованный дробью зайчишка и то уже вызвал бы бурю восторгов, а тут — целая косуля, стало быть, выстрел одиночный! Напрашивается одно объяснение — случайность, и можно было бы принять его, если б не свидетельство Гофманова издателя, страстного охотника К. Ф. Кунца, который описал это происшествие так:
«Лесничему хотелось, чтоб Гофман после нынешней охоты воротился в Бамберг в более веселом расположении духа, нежели обыкновенно, и поэтому он озаботился выгнать ему под ружье возможно больше дичи; сначала Гофман безуспешно стрелял по зайцам, но вот из зарослей вылетела косуля, Гофман нажал на курок, а немного погодя мы услыхали возглас лесничего: „Косуля мертва! С удачным выстрелом, господин Гофман!“ Наш друг, охваченный неописуемой радостью, во всю прыть устремился туда… Однако же некий омерзительный тип (так впоследствии назвал его сам Гофман) выступил вперед и сказал: „Судари мои, дело-то было совершенно иначе, этот господинчик стоял подле меня, и я точно видел, как все произошло. Он промахнулся, и лишь второй выстрел — его соседа, лесничего — сразил косулю. Ежели б сей маленький господин попал в цель, рана была бы величиной с кулак, ведь косуля пробежала от него самое большее шагах в шести, да и приклад ружейный он упирал не в плечо себе, а в живот, так что, попади он в косулю, она была бы прострелена насквозь, а тут видны всего-навсего несколько ранок от дроби на шее“.
„Что?! — в ярости вскричал Гофман. — Вы намерены оспорить у меня мою добычу, которую я так ловко взял на мушку, что едва выстрелил, как она тотчас же упала!“ — и прочая и прочая. Лесничий заговорщически подмигивал правдолюбцу, и тот наконец все понял, а вокруг кричали: „Да-да, верно, мы тоже видели: косулю уложил господин Гофман, ему и почести“. „Давайте-ка его наградим!“ — предложил лесничий, и каждый сорвал немного дубовых листьев, а затем приколол их к шляпе счастливца… Стрелок упивался этой церемонией и с благодарностью кивал каждому головой. До самого вечера, хотя удача и покинула его, Гофман пребывал наверху блаженства, и, когда к компании охотников присоединялся кто-нибудь, не ведающий о великом событии, забавно было слушать, как Гофман старался искусно направить разговор так, чтобы пришелец непременно полюбопытствовал, кто же это подстрелил косулю, на что он, приняв вид спокойный и безразличный, отвечал: „я“, а глаза его сверкали торжеством».
Но, позвольте, это же вылитый крошка Цахес! Помните? Все общество собралось вокруг малыша Циннобера, «который, сидя на диване, заважничал, словно индюк, и противно сипел: „Покорно благодарю, покорно благодарю, не взыщите. Это безделица, я набросал ее наскоро прошедшей ночью“»[185]!
Рьяные поклонники Э. Т. А. Гофмана, конечно же, ставили подлинность этого эпизода под сомнение, но, хоть и ненадежны свидетельства бражника и хвастуна Кунца там, где речь заходит о собственной его персоне и связях с загадочным писателем, здесь они представляются правдивыми. В описании множество тонко подмеченных деталей, которые едва ли возможно выдумать, а именно эти детали и делают почти неправдоподобное правдоподобным; они нимало не противоречат ни тому положению, в каком очутились устроители охоты, пригласившие в свою компанию горе-стрелка, чье трогательное упорство пропадает втуне и оттого еще сильнее возбуждает сочувствие, ни безудержному тщеславию самого незадачливого охотника, которое позволяет ему не только принимать как должное явно не заслуженные почести, но и домогаться не вполне благовидным способом похвал от окружающих. И это опять-таки совершенно в духе Цахеса / Циннобера — сострадательная подачка и демагогия; вдобавок в сферу гротеска вовлечено здесь и притворно безобидное, по сути же злокозненное общество фатоватых насмешников, а не одна только фигура карлика; уже эти совпадения должны бы навести на мысль, что прообраз Цахеса надобно искать не в ком-нибудь, но в его создателе; происходило же все, очевидно, так: в полной уверенности, что сумел сделать блестящий выстрел, Гофман написал в дневнике о своей кичливой радости, однако вместе с тем в подсознании его смутно запечатлелось истинное положение вещей, и в урочный час — а он пробил, когда в начале лета 1818 года писатель тяжко хворал и находился между жизнью и смертью, — подсказанная совестью художника расплывчатая догадка стала неумолимо завладевать его сознанием, требуя, пока перо не выпало из рук, воплотить в конкретных образах также и это поучительное событие, новый вариант неистощимой темы — новой зловещей таинственности мира, в котором нет более чудес. Рассудок вряд ли отдал бы себе отчет в том, какие перспективы сулит этот, в сущности, банальный охотничий эпизод; подсознание разбирается в таких вещах много лучше, потому и действует решительно и властно.
Не правда ли, звучит весьма гипотетично? Однако ж, если говорить о том, как создавалась эта, по выражению Гофмана, «безумная сказка», опубликованная в январе 1819 года, мы располагаем надежными свидетельствами, хотя автор одного из них — верный друг и биограф Гофмана Юлиус Гитциг[186] — нечаянно ошибся датой. Вот какими яркими красками Гитциг (о себе он неизменно пишет в третьем лице и называет себя по фамилии) рисует развитие творческой мысли писателя:
«Из сочинений Гофмана именно „Крошку Цахеса“ чаще всего толковали превратно, а ведь эта сказка возникла самым безобидным образом. Весной 1819 года (1818. — Ф. Ф.) у него открылось тяжелое внутреннее заболевание, соединенное с подагрическими припадками. Гитциг навещал его ежедневно и всякий раз должен был сначала выслушать, какие фантастические образы вновь и вновь рождала в его мозгу горячка и которые из них нынче одержали верх. И вот однажды под вечер Гофман, еще снедаемый сильнейшим приступом лихорадки, протянул Гитцигу с постели пылающую руку и сей же час, как обыкновенно бывает в жару, выкрикнул несколько торопливых отрывистых фраз: „Вообразите, что за дикие мысли пришли мне в голову. Уродливый глупый карлик… все у него идет вкривь да вкось… коли же происходит что-нибудь особенное, то хвалят его. К примеру, в обществе читают превосходное стихотворение, а лавры сочинителя тотчас приписывают ему, и он принимает похвалы как должное — и так далее… Или другой человек, у него есть сюртук… стоит его надеть… как рукава сами собой укорачиваются… а фалды удлиняются… Вот поправлю здоровье и обязательно напишу сказку про них обоих!“»
Так он и сделал. В литературе многократно цитировался этот фрагмент, зато, как ни странно, весьма редки упоминания о письме Гофмана к Кунцу[187] от десятого июня 1818 года, в тексте которого несколько раз встречается набросок — маленький человечек верхом на коне; первая часть этого письма гласит:
«Дражайший друг! Не сердитесь, не бушуйте… Друг ваш не вероломен, просто уже три недели он пластом лежит на спине… переменить позу невозможно… обызвествление в тазобедренной области… задеты самые благородные органы… позывы на мочеиспускание… Переутомился, слишком много сидел… надо купить верховую лошадь… Боже праведный, вот будет зрелище!»
И полукругом на уровне головы малыша всадника надпись, будто тяжкий вздох: «Донеси, господи, до Тиргартена».
Крошка Цахес с лицом самого Гофмана.
Внешние обстоятельства восстановить нетрудно: врач Гофмана — предположительно это был тайный обер-медицинальрат К. А. В. Берендс, директор клиники Берлинского университета, — не рекомендовал своему замученному расстройством пищеварения, циррозом печени и опухолью паховых желез пациенту вести сидячий образ жизни и советовал побольше двигаться, скажем ездить верхом, в ответ на что Гофман и набросал автопортрет верхом на лошади, в сапогах со шпорами, где, как и на всех его автокарикатурах, прежде всего бросается в глаза острый, резко загнутый книзу нос и острый, сильно загнутый вверх подбородок — линии, мысленное продолжение которых образует косой овал. В галерее шаржей, вышедших из-под пера Гофмана, мы снова видим этот профиль у двух персонажей: у капельмейстера Крейслера, что не вызывает удивления, ибо писатель считал его своей точной копией, и — у крошки Цахеса. Ведь, будучи весьма одаренным графиком, Гофман снабдил переплет книжного издания рисунком: фея Розабельверде ласкает Циннобера, и уродец у нее на коленях — если не считать волнистых волос — явно походит на своего создателя. Он не гном-альраун, а истерзанный интеллектуал, и как же он напоминает самого писателя — те же глаза, нос, подбородок, даже волосы, названные в сказке «черными» и «спутанными», были бы похожи, если б фея их не расчесала. «Портрет Циннобера на переплете весьма удачен, ведь коли уж никто, кроме меня, не мог увидеть этого крошку, то я и подготовил рисунок», — писал Гофман князю Герману фон Пюклеру, высылая книгу ему в подарок. Эта фраза, которую до сих пор воспринимали всего лишь как забавную шутку, свидетельствует о большем, чем кажется тому, кто ищет только ключевые фигуры. А как этот человечек выглядит верхом на коне, читатель вполне может себе представить и по рисунку Гофмана, и по насмешливому замечанию Фабиана в сказке:
«Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу взгромождаться на лошадь, из-за шеи которой он едва выглядывает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чертовски широкие ботфорты? …мне надобно воротиться в город, я должен поглядеть, как этот рыцарственный студиозус въедет на своем гордом коне в Керепес и какая поднимется там кутерьма!»
Это же Гофман, направляющийся верхом в Тиргартен.
Но что же — так можно бы вернуться к нашим изначальным сомнениям, — что же мы выиграем, если в итоге примем на веру, что в образе уродца Цахеса Гофман изобразил самого себя, хотя вовсе не обязательно отдавал себе в этом отчет? Пожалуй, выиграем, притом кое-что существенное: возможность переосмысления, открывающуюся уже в том, что ее вообще полагают здесь вероятной. Рутина традиционной эстетики все время поддерживает в нас стремление к самообману, к попыткам отождествлять себя с литературными героями лишь в положительном; эта эстетика предложила бы нам Бальтазара. Следовало бы рассеять это заблуждение, тогда небывалая победа реалистического мышления над повседневным тщеславием откроет внимательному читателю Цахеса, скрытого в нем самом.
Понимание этого, или хотя бы искренняя готовность к пониманию, поможет одолеть и другую трудность, возникающую в связи с распространенным взглядом, который толкует сказку о Цахесе как «развенчание феодализма». Что мы выиграем, приняв эту точку зрения? Безусловно (давайте пока отвлечемся от избитой терминологии, которая любой дворянский атрибут отождествляет с «феодализмом», как будто мы вправду погрязли в феодальном болоте), безусловно, повесть содержит также и элементы иронической критики по адресу карликового двора, такая критика непременно обнаруживается, когда писатель, хотя бы и средний, помещает своих героев в придворное окружение, но дело-то в том, что элементы этой критики присутствуют в рассказе лишь также, и поспешный вывод, что суть сказки кроется именно здесь, образует столь же серьезное препятствие, как и суждение о Цахесе по его прообразу, карлику-студенту. Как же представить себе конкретно Цахесову карьеру? Допустим, что критика обращена против приписания всех социальных заслуг одной-единственной персоне в силу ее общественного положения (такой лестью маскируется, к примеру, Проспер Альпанус, когда берется доказывать, что «без соизволенья князя не может быть ни грома, ни молнии и что если у нас хорошая погода и отличный урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным трудам князя и благородных господ»), но это допущение не совпадает с фабулой сказки, и, делая его, мы совершаем грубейший промах, точь-в-точь как Гофман на охоте: рана должна быть с кулак, а на деле — всего несколько следов от дроби на шее.
Сказка вовсе не исчерпывается тем, что окружающие (хотя позже, конечно, доходит и до этого) угодничают Цахесу, так как он — министр Циннобер и фаворит князя Барсануфа — лицо влиятельное; в сущности, здесь явление противоположное: выходец из низов становится министром именно потому, что все перед ним раболепствуют, притом с социальной точки зрения совершенно необоснованно! В контексте антифеодальной критики выскочка Цахес — уникум, ведь на вершину общественной лестницы его возносит не древность рода, не благонравие, а тем паче не талант; наоборот, этот простолюдин так глуп и неотесан, что, казалось бы, не может преуспеть, даже обладай он подходящей родословной. Но в силу этой уникальности Цахеса любая социальная критика по сути своей теряет смысл, ибо лишается подоплеки. Странное разоблачение феодализма: в самодовлеющий мирок карликового двора, где все, от священника до князя, давно и наглухо отгородились от простого народа, проникает ублюдочный отпрыск сборщицы хвороста, который не может похвалиться никакими достоинствами, и в мгновение ока делается знатным министром — как же это объяснить? Существует только одно объяснение, и дал его сам Гофман. Путь к крошке Цахесу лучше всего начать оттуда, откуда его начинает автор, то бишь с обстоятельств в государстве князя Пафнутия, «где находилось поместье барона Претекстатуса фон Мондшейн и где обитала фрейлейн фон Розеншён — одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный читатель, как раз собираюсь рассказать тебе более пространно»; только что прочитал об этом и наш любезный читатель, который, надеюсь, не впал, «невзирая на свою глубочайшую прозорливость», в заблуждение и не «перескочил через множество страниц», «к великому ущербу для нашего повествования».
Итак, мы в стране, где — как всегда, сверху — насаждено просвещение, причем благодаря изъятию смущающих умы сочинений, широко известных под названием «поэзии», насаждено столь успешно, что последняя из еще обитающих там фей, фрейлейн фон Розеншён, в прошлом фон Розенгрюншён, желая сделать Цахесу добро, опирается не только на покуда сохраненные ею колдовские кунштюки, но и на расхожую просветительскую догму, что-де внешнее состояние определяет внутреннее, иначе говоря, через осознание разрыва между внешним образом и внутренней сутью видимость рано или поздно преобразуется в бытие: тот, кого окружающие вопреки натуре его почитают замечательным малым, как раз поэтому и осознает, что таковым не является, а осознав, приложит все старания, чтобы стать тем замечательным малым, каким он слывет по ошибке. В нашей же повести все по-другому. До странности ошибочна сама концепция человеческой природы, предполагающая, что желаемые идеальные качества от роду заложены в индивиде и со временем получают развитие, притом совершается оно легко и безболезненно. Прежде фрейлейн фон Розеншён, по ее собственным словам, была не столь безрассудна и поступала осмотрительнее. Доктрина заражает даже фей — вот один из важнейших уроков сказки, коли уж от нее непременно требуется поучительность.
Итак, в этом краю безраздельно властвует просвещение, сиречь самый здравомыслящий практицизм, от чудес тут постарались избавиться, леса вырубили, крылатым коням обрезали крылья, а что получается, когда чудеса все-таки происходят, читатель узнает из этой истории — сказки, в которой все увечно. Ведь мало того, что голый практицизм калечит общество (хотя и прививает ему кой-какой иммунитет), уже сам этот практицизм изначально неполноценен, то есть не может не быть увечным; полностью истребить колдовское невозможно, остатки чудесного сохраняются и как таковые деградируют.
«Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на пользу своего народа и своих потомков, но у нас все же осталось кое-что чудесное и непостижимое. (…) Эх, референдарий, признаюсь тебе, в моей душе подчас творится что-то странное. Я кладу в сторону трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и какой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам — чудо; волшебник микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко всевозможным сумасбродствам. Но тогда, референдарий, я убегаю прочь, и созерцаю природу, и понимаю все, что говорят мне цветы и ручьи…»
Все это звучит столь же многообещающе, сколь взыскательно, однако сводится, пожалуй, к иллюзии, к стремлению видеть в природе подтверждение собственного поэтического упоения, то бишь в конечном счете — пусть на иной манер — к притязанию на всепознаваемость мира, коим одержим фанатичный сборщик растений Мош Терпин; кстати, по зловещей логике этот погубитель цветов становится тестем поэта, певца цветов. Первым уловил эту взаимосвязь друг поэта Фабиан: «Все твои стихи изобилуют предметами, что весьма сносны для слуха и могут быть употреблены с пользой, если не искать тут чего-нибудь большего». В сказке ущербно все, не только Цахес. По сути, лишь один-единственный персонаж сохраняет душевное и умственное здоровье — крестьянка фрау Лиза, мать Цахеса. Оттого-то счастье и минует ее.
* * *
А что же Бальтазар?
Да, Бальтазар, который понимает все…
Ему достается огромное счастье, в этой истории счастье и удача прямо дождем сыплются, как тому и следует быть в просвещенном краю, только вот особой зависти это счастье почему-то не вызывает. Хэппи-энды куда ни глянь: то, чего Цахес не имел при жизни, он обретает после смерти — преображение и почет — апофеоз жуткий до тошноты. Обнаружив, что министр Циннобер отнюдь не высокороден, а вышел из низов, народ учиняет мятеж, на полчасика, в коридоре между спальней и туалетом, чтобы затем вместе с роскошной траурной процессией благополучно воротиться к тому, откуда все началось, к полицейскому государству просвещенного разума. Предпоследний маг уезжает в Джиннистан; ученый утилитарист Мош Терпин перебирается в поместительный винный погреб, чтобы продолжить там дело своей жизни, а именно поиск доказательств, что вино имеет иной вкус, нежели вода, и таким образом становится зачинателем современной критики. Князь Барсануф к вящему благу государства вкушает луковицы, восхитительнее которых он дотоле не едал; студент Фабиан получает в подарок столь замечательный фрак, что в будущем, как выразился благосклонный к нему ректор, его непременно ждет величие героя — внешнее определяет внутреннее. Керепес, стало быть, по-прежнему процветает; референдарий Пульхер, погостив на свадьбе у самого отныне богатого помещика, вскорости непременно станет обер-референдарием; кой-какая помощь ниспослана и фрау Лизе, а Бальтазар с прекрасной Кандидой водворяются в безоблачном счастье своего колдовского дома.
У Гофмана это единственная из повестей, где поэт обретает благополучное бюргерское счастье; уже одно это наводит на размышления. Ведь обыкновенно поэты у Гофмана кончают гибелью, даже если она, как в сказке о Золотом горшке, зовется Атлантидой, царством, которое, по словам его властелина, есть не что иное, как «жизнь в поэзии», а жизнь эта идет вразрез с той, что сулит карьеру надворного советника и перспективу уютного дома с прислугой. Те, кому в Атлантиде дарованы поместья, обыкновенно ютятся в мансардах и голодают — они стремятся не к благополучию, а к творчеству. У Гофмана их удел — безумие или объятия горной царицы, сиречь могила, другого им не дано. Выбор между бюргером и художником стоит для Гофмана под знаком «либо — либо»; по сути, это вовсе даже не выбор: настоящий художник не потому художник, что пишет картины или занимается сочинительством, а потому, что иначе он не может. Бальтазар же остается в бюргерском мире, с которым никогда всерьез не порывал, и пусть даже он, как многие молодые люди, вначале склонялся к искусству, окончательный выбор он делает самое позднее в тот миг, когда не отвергает дар Проспера Альпануса — поэзию среди счастья довольства и благополучия: вокруг бушует гроза, а там сияет солнце, вокруг все чахнет от засухи, а там идет дождь, дабы благополучно произрастали капуста и веселые песни; там обивка диванов всегда без единого пятнышка, а простыни гладко натянуты, и строфы хозяина — так мы понимаем магов подарок — аккуратностью и чистотой не уступают белью его женушки, иначе говоря, счастье Бальтазара-поэта приравнено к счастью Кандиды-хозяйки, в сумме же то и другое составляет счастье их брака, идеал в бюргерском смысле. А в представлении бюргера счастливый поэт имеет две ипостаси: либо это непризнанный поэт в мансарде, довольный счастьем творчества, либо признанный поэт в загородном доме, довольно творящий среди счастия. Главное в обоих случаях — довольство, то есть одобрение бюргера.
Бальтазару дарован загородный дом, не в Атлантиде, нет, в Барсануфовых владениях, и жизнь его, думается, пойдет отныне прямой дорогой. У Кандиды всегда будет ранний салат, и все, кто хвалит этот овощ, забыв о первоначальных недоразумениях, очень скоро примутся расхваливать «искусные благозвучные стихи» ее супруга (хотя, по словам Проспера Альпануса, он в этом «еще не много успел») как вершину поэтического искусства: вот поэзия так поэзия! И благодарность общества не замедлит воспоследовать: поэт Бальтазар сделается почетным доктором Керепеса, князь назначит ему ренту, будет совершать в его сопровождении прогулки, да еще удостоит ордена зелено-пятнистого тигра, скажем, с одиннадцатью пуговицами. Ну а как же позор несвершения, наступающий на горло всем тем поэтам, которые не видят для себя иного пути, кроме как молчать, или бессвязно бормотать в сумасшедшем доме, или незаслуженно считать себя неуслышанными, а потому, даже не написав ни строчки, становятся истинными певцами своей эпохи не в пример стихоплетам-бюргерам, — позор эпохи; безмолвие и отчаянные крики этих истинных поэтов оттенят славу Бальтазара, нового Цахеса, Циннобера от поэзии.
Уж не слишком ли многого мы захотели от сказки?
Думается, мы ее прочитали.
Как всякий интерпретатор, любезный читатель, разумеется, волен полагать эту сказку либо насквозь безобидной, либо яростно насмешливой. Все зависит от того, как посмотреть на Бальтазара: считать его поэтом в понимании Гофмана или же в понимании Бальтазарова тестя, утилитариста Моша Терпина. И тут весьма полезно провести сравнение с «Золотым горшком»: кто же такой Бальтазар — собрат Ансельма (вынужденного пренебречь любовью Вероники) или его антипод? В первом случае читатель, вместе с иным литературоведом, непременно уличил бы нашу сказку в явных слабостях — недостаточной меткости в обрисовке характеров, топорности переходов от мира реального к миру фантасмагории, досадных неувязках с Гофмановой концепцией соотношения «художник — филистер», главное различие между которыми писатель не в пример многим своим и нашим современникам усматривал не в том, что они действуют по-разному и имеют разные привычки, а в диаметрально противоположных необходимостях бытия. Эти неувязки настолько испортили бы сказку, что почти без всякого риска можно было бы упрекнуть ее в банальности. Зато, если считать «Цахеса» гротеском, сотканным из злейшей ярости и неистового презрения, все воспринимается иначе, все разрозненные штрихи с неумолимой логикой складываются воедино и сказка вполне может соперничать силой с «Золотым горшком».
Здесь совершается выбор между двумя Гофманами, или, что то же самое, между канониссой фон Розеншён и феей Розенгрюншён; что может быть гениальнее — разъединить эти два имени бездной в один-единственный слог. Заметил ли эту бездну читатель и по какую сторону он станет? Барон Претекстатус фон Мондшейн категорически ратует за «Розеншён», «ибо в этом имени заключен хоть некоторый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка». А Гофман хохочет: просветительская эстетика при карликовом дворе, как тому и следует быть. Когда речь заходит о том, чтобы разделить критический взгляд на просвещение или даже просто допустить возможность такого взгляда у великого писателя, испытываешь вполне понятную и — ввиду определенных обратных ассоциаций — весьма достойную робость, однако от Гофмана такой робостью ничего не добьешься. Подобно большинству романтиков, он был просветителем, но высмеивал романтические иллюзии; в нем был слишком силен реалист. А реальность не так уж мало значит, чтобы приносить ее в жертву доктрине. Да и с поэзией мы бы в таком случае обошлись несправедливо.
Тот, кто, читая сказку Гофмана, не обращает внимания на посылку автора, на его конкретное «однажды», и видит в повести исключительно или хотя бы в первую очередь антидворянскую притчу, заслоняет себе картину общества, где Цахесова диковинность, которой иным способом невозможно было бы придать социальную конкретность, — явление вполне реальное. Ведь сам Гофман непосредственно столкнулся с общественно-политическими условиями, в которых все, что создают другие, оборачивается во благо цахесам: писатель работает не покладая рук, доходит до нервного и физического истощения, а в деньгах и славе купается другой — издатель, в данном случае виноторговец К. Ф. Кунц. Мир цахесов — это мир меновой стоимости: «Но разве не мое, скажи, в итоге, / Все, из него я пользу извлеку? / Купил я, скажем, резвых шестерню. / Не я ли мчу ногами всей шестерки, / Когда я их в карете разгоню?»[188]
Маркс не раз цитировал эти слова Мефистофеля, ибо в них выражена вся суть капитализма; так же и Гофман на особый, хитрый лад с гениальной прозорливостью воплотил в крошке Цахесе свое понимание новой эпохи, властно шагнувшей в просвещенную Европу. Правда, это еще не все.
А Бальтазар?
Что Цахес и Бальтазар в своей противоположности эквивалентны друг другу, любезный читатель наверняка заметил, ведь некоторые моменты сказки композиционно напоминают шекспировский «Сон в летнюю ночь» — такова, в частности, борьба между Обероном / Проспером Альпанусом и Титанией / Розабельверде, смущающая людской мир своим неистовством. Но вот начинается сказка Гофмана с сомнительного милосердного дара, какого сказка Шекспира и в конце не ведает, — это дар ущербный, как уже говорилось — полудар, полужертва доктрине; здесь феи не разбрасывают милости щедрой рукой, как король эльфов в пьесе Шекспира:
Я породы благородство Навсегда их детям дам. Не коснется их уродство, Знак, пятно, рубец иль шрам — Все природы поврежденья, Что бывают от рожденья.[189]Подобной щедрости нет и в помине, и как раз поэтому хочется спросить, что же канониссе фон Розеншён следовало предложить Цахесу вместо ее неудачного дара. Может быть, ничего, просто взять и пройти мимо? Да полноте, дозволено ли вообще задавать этот вопрос? Ведь прямо страшно становится. Но Гофман сам провоцирует его, рассуждая о том, каким выбором располагает Розабельверде:
«Деньги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а быть может, еще и ухудшили бы твою участь… Но я знаю — больше, чем всякая нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твое сердце, что ты породила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое, зловещее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, красивым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет, но, быть может, ему удастся помочь иным образом».
Этот «иной образ» есть доктринерство иллюзии. Просветительская доктрина предполагает, что помощь всегда необходима, иллюзия же заключается в том, что помощь всегда возможна. «Быть может», от феи. Жалость фрейлейн остается тем не менее доктринерской, пусть даже она «от природы добра и сострадательна», ведь ее природную сострадательность можно поставить под сомнение хотя бы потому, что она сама без заметных угрызений совести мимоходом создает монстров:
«Михель, учительский сын, лакомился на приютской кухне жареным картофелем и был застигнут фрейлейн, которая, улыбаясь, погрозила ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он был принужден носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы бедняге прямо в глотку».
Дальнейшая судьба учительского сына Михеля, очевидно, мало ее тревожила, зато Цахеса она пожалела; только лучше бы ей оставить все как было. Фрау Лиза справилась бы и с этой обузой, да и уродцу ее, глядишь, и подвернулась бы какая-никакая возможность. Может быть, ему суждено было стать артистом, ведь кое-какие задатки он для этого имел — острую занозу, ранящую счастье, уродливый свой облик. Конечно, страдания из-за собственного обличья не заменят и капли таланта, но становятся верным его спутником, когда, как это случится с Бальтазаром, таланту грозит паралич от довольства и благополучия. Душевный покой — это нечто иное, право распоряжаться богатством — тоже, а вот безмятежность от исполнения всех желаний, по мысли Гофмана, для поэта подарок скверный, другая ипостась «милости», полученной Цахесом. Напротив, физическое уродство вкупе с нерасположением общества ранят талант постоянно, иной раз и до смерти.
Гофман мучительно почувствовал и то и другое в Бамберге, когда он, маленький, уродливый, нищий и бесправный, зарабатывал себе на хлеб торговлей нотами, разрисовыванием декораций, музыкальной критикой и уроками пения — попрошайка у дверей бюргерских салонов, а ведь там была Юлия, обожаемая Юлия, и он не мог ничего поделать, глядя, как на сцену явился молодой гамбургский толстосум, богатый и бездарный хам, самый настоящий обыватель-филистер, и как маменька Юлии отдала ему свою шестнадцатилетнюю дочь. «Поездка в Поммерсфельден — ужасно напился и вытворял пресквернейшие штуки… ругая sposo[190], который до того охмелел, что даже упал», — гласит запись в дневнике Гофмана от 6 сентября 1812 года. Подробности этого инцидента довольно хорошо известны, дошли до нас и кой-какие эпитеты, которыми Гофман наградил этого «sposo», жениха Юлии, некоего Грёпеля: «пакостный тип» и «подлый пошляк». В ту минуту Гофман наверняка отчаянно желал бы стать могучим и неистовым воином древности, чтобы одним ударом сокрушить того, кто тянулся к его Юлии, сластолюбиво причмокивая, точь-в-точь как Цахес к прекрасной Кандиде. Ах, стать бы на миг Бальтазаром и ударить, как он! Но так не бывает, либо — либо, ему это понятно, однако хочется кричать и рыдать от муки, и записывать крик души своей в дневник, и в бессонных ночных грезах видеть себя в чужом обличье. Некоторые даже признаются в этом открыто. Калека Тулуз-Лотрек мечтал об одном: когда-нибудь стройным офицером прокатиться верхом по Булонскому лесу. Опять-таки верхом… Конечно, были и другие, с иными мечтами, но их ранили другие занозы, донимала иная мука — они и мечтали о другом, и возмещали себе мечту по-другому.
Разлученный с Юлией, Гофман вместе с Кунцем очертя голову устремляется то в тир, то на охоту, и наконец после многомесячных неудач сострадательный лесничий дарит ему триумф, которого жаждет всякий охотник: он подстрелил косулю — и возликовал. Мечта сбылась, целый вечер он был счастлив, а глубоко под этой безмятежной радостью его писательская совесть разглядела карлика, таящегося как в собственной его груди, так и в груди любого другого, и из жизненного опыта родилась догадка, что в краю вырубленных лесов, где крылатым коням обрезали крылья, этот карлик может стать до жути реальной силой. Крестьянин во сне видит себя аристократом — это старо как мир, а главное, сон остается сном, и, проснувшись, крестьянин вновь попадает в бездну прежней реальности. В капиталистическом же мире Цахес выходит за пределы сна, там каждый, кто обладает феиным даром, может присвоить себе любое достижение другого. «То, чего я как человек не в состоянии сделать… то я могу сделать — при помощи денег»[191], — писал Маркс в «Экономическо-философских рукописях». В самом деле, для большинства сон остается сном, а поэтому снится он каждому, и каждый мечтает, что именно его сон станет явью. А чтобы всяк продолжал грезить, бюргерский мир вновь и вновь создает образец счастливого поэта — в загородном доме, на охоте, верхом на коне, в частном самолете — словом, как того требует мода, а рядом с ним всегда стоит Кандида, а вокруг — довольство и благополучие.
Одна из потрясающих особенностей этой неисчерпаемой повести, толкованиям которой несть конца, в том, что сам Цахес радости вовсе не испытывает. Значит, не Гофман? Сила, скрытая в груди любого из нас, бесовщина средь будней, а все же ни то, ни другое — несравненное литературное произведение, чей внешний облик отражается в зеркале внутреннего. Эта сказка не документальный роман, где изменены только лишь имена, не аллегория на тему психо- или социологии, и пусть лучше любезный читатель снисходительно забудет наши рассуждения и попытается рассудить по-своему, пусть он еще раз перенесется в раскаленный солнечным зноем день и увидит у дороги изнемогшую фрау Лизу, а возле нее корзину с Цахесом, похожим… нет-нет, оставим это… а возле нее крошку Цахеса.
Анна Зегерс
Встреча в пути
Гофман приехал в Прагу рано утром. На саксонской границе ему пришлось пересесть в диковинный длинный фургон, какие, судя по всему, чехи предпочитали другим средствам передвижения. Фургон качало, он пыхтел и громыхал. С непривычки у Гофмана слегка закружилась голова. Но вскоре посеребренная луной Эльба властно завладела его мыслями, а потом и снами. Ему снилось, будто он плывет морем вместе с архивариусом Линдхорстом[192], пригласившим его к себе на остров.
В Праге ему не было нужды торопиться: до встречи в кафе, о которой условлено с другом-незнакомцем, оставалось часа два, не меньше. Гоголь писал, что очень хочет по пути из Италии к себе на родину с ним повидаться. Он, мол, многие вещи Гофмана читал с истинною радостью.
На карте города Гофман отыскал нужную улицу. Странное чувство владело им: на своем веку он столько всего написал, столько писем получил от читателей, а все же ему не терпелось взглянуть на этого человека. К счастью, от Дрездена, где ему пришлось улаживать кое-какие надобности, до Праги рукой подать. Да и Гоголь не потерпит особых неудобств: не такой уж это крюк — завернуть ненадолго в Прагу по пути на родину. «Отчизна его необъятна, — размышлял Гофман, — не сравнить с моей, если вообще можно назвать единым государством это скопище: герцогства, графства, княжества, епископства. Слава богу, хоть поэты наши пишут на одном языке и чужеземным не уступят…»
На время Гофман забыл о цели приезда, о встрече с другом — мысленно он уже давно звал незнакомца другом, ибо письмо его даже сквозь даль расстояний тронуло сердце дружеским участием и приязнью. Погрузившись в думы, брел он по городу. В чужих городах его прежде всего тянуло к реке. На Карловом мосту он замер от неожиданности, пораженный открывшимся видом. Кто эти каменные стражи, будто вросшие в мост по обеим сторонам? Их отражения в тихой, почти недвижной воде мерцают так таинственно, что дух захватывает. Внизу по зеркальной глади скользит лодка, весла беззвучно погружаются то в крест, то в складки каменных одеяний. Гофман оторвал глаза от воды; на другом берегу взгляду его предстал величественный замок, даже не замок — целый город: острые шпили церквей, толкотня крыш, угрюмые крепостные стены. Замок властвовал над городом. Сколько королей мечтали завладеть этой твердыней, оно и понятно — замок повелевает округой безраздельно. Всякий правитель, воцарявшийся в этих стенах, сразу становился могущественным и неприступным в глазах подданных. И все чиновники его, от приближенных советников до последней мелкой сошки, тоже несли ореол могущества и неприступности — каждый согласно положению и рангу.
Гофман очнулся от дум. Пора искать кафе, ведь он хотел прийти первым. Поиски оказались делом нехитрым, хотя дорогой его не раз подмывало свернуть в сторону: так заманчивы эти узкие улочки, темные сводчатые арки, тесные дворики… На обратном пути надо обязательно все осмотреть, пусть наспех. К немалой его радости, кафе помещалось в старинном доме стиля барокко, и его тоже украшала витиеватая резная арка; в прихотливом каменном узоре так и роились ангелы.
В кафе в этот час посетителей почти не было. Кельнер прилично изъяснялся по-немецки, он подал Гофману отменный кофе, печенье — оно так и таяло во рту — и принес немецкие газеты. Гофман полистал, просмотрел, но мало что уяснил из прочитанного, и газеты вскоре ему наскучили. Он понятия не имел, кто такой этот Масарик, которого в одних газетах хвалят, в других ругают, да и не слишком его это занимало. Верно, нынешний правитель замка.
Вот люди вокруг — другое дело, они занимали Гофмана всегда. Он любил вглядываться в чужие лица, стараясь по внешности человека разгадать всю его жизнь. А потом, разгадав, мысленно продолжить эту жизнь, наполнить ее грядущими событиями, о которых человек и ведать не ведает, зато он, художник, знает доподлинно. Живых он умеет видеть умершими, мертвых — живыми, такое уж у него ремесло. Проницать прошлое, провидеть будущее — для него это в порядке вещей.
К примеру, вон тот худощавый молодой человек, что устроился в углу у окна и все пишет и пишет, — кто он такой? Перечитает написанное — и почти все зачеркнет. И снова строчит как одержимый, а потом, беззвучно шевеля губами, проверяет на слух, что получилось. Отхлебнет глоток кофе — и опять за перо.
Гофман встал. Не раздумывая, решительно направился к оконной нише.
— Покорнейше прошу извинить, что отрываю вас, — обратился он к молодому человеку. — Поверьте, я знаю, как это неприятно, когда мешают работать. Мне ли не знать, я сам сочинитель, хоть и занимаюсь, помимо писательства, множеством других вещей ради денег. Не сочтите за бесцеремонность, дозвольте полюбопытствовать, что вы такое пишете. Моя фамилия Гофман. Эрнст Теодор Амадей.
Молодой человек и впрямь был не слишком рад вторжению. Но и не удивился ничуть.
— Всегда хотел знать, какие имена кроются за вашими инициалами Э. Т. А., — ответил он. — Времени у меня действительно в обрез. Можно сказать, у меня его почти нет. Я имею в виду время моей жизни: его немного осталось. Я тяжело болен и, возможно, последний раз здесь. В санаторий уезжаю. А раньше, когда мне еще не было так худо, тоже не мог писать вдосталь. Деньги приходилось зарабатывать, как и вам, — служил. В страховом обществе. Инициалами из трех букв похвастаться не могу. Зовут меня всего лишь Франц, Франц Кафка.
— Милейший господин Кафка, — произнес Гофман, — я понимаю, вам странно слышать такую просьбу от незнакомого человека, и все же осмелюсь повторить ее: пожалуйста, прочтите что-нибудь. Ну хотя бы вот те несколько строк, которые вы сейчас оставили, когда все вычеркивали. Возможно, мне и этого будет достаточно, чтобы понять, что вы за человек. Не обессудьте, прошу вас, уважьте каприз первого встречного.
— То есть как это «первого встречного»? — изумился Кафка. — Я почти все ваши вещи читал. Даже «Угловое окно», это ведь последняя ваша повесть, если не ошибаюсь. Кое-что мне нравилось больше, кое-что меньше, но я всегда завидовал вашему мужеству, вашей воле, умению писать из последних сил. У меня вот такого мужества нет. Сижу здесь, работаю, а в голове только одно: «Франц, ты сюда больше не вернешься!» И все-таки пишу, как видите, стараюсь. Пришел вот напоследок в свое кафе, тешусь иллюзиями…
— Что значит «тешусь иллюзиями»? — возмутился Гофман. — Я вот никакими иллюзиями не тешился. Просто приказал себе писать до последнего вздоха — и все тут. Министру внутренних дел сочинения мои были не по вкусу, он дорого бы дал за мое молчание. Возможно, потому я и писал до конца.
— А когда вы не писали, дорогой Э. Т. А., чем вы занимались?
— Музыкой, разумеется. Только ради музыки я отрывался от писательства по доброй воле. Ну и профессия моя не раз мне пригождалась. В юности, когда меня еще можно было приневолить, я изучал право.
— Я тоже! — воскликнул Кафка. — Вы где учились?
— В Кенигсберге.
— Профессор Кант случайно не у вас читал?
— Кант? Да, кажется, припоминаю, был такой. Только я не посещал его лекций. Даже не видел его ни разу.
— Что привело вас в Прагу?
— С писателем одним должен встретиться. Большой писатель, посильней меня, а возможно, и посильней вас. Вы ведь до сих пор так и не выполнили моей просьбы — не прочли ни строки. Человека, которого я жду, зовут Гоголь. Он русский. Он сочинил прекрасную, удивительную книгу — «Мертвые души». Вам не случалось ее читать?
— Еще бы! — воскликнул Кафка. — Да я преклоняюсь перед этой книгой! В ней сама Россия, ее просторы и вся широта вольной русской натуры, безудержной в добре и зле! Я всю жизнь мечтал: «Вот бы взглянуть на этого Гоголя, какой он?» Я и другие его вещи очень люблю: «Шинель», «Нос», комедию «Ревизор».
Гофман рассмеялся. Он не верил в дурные предчувствия и все разговоры о «скорой смерти» считал болтовней.
— Так-то вот. Об ином и мечтать не смеешь — а оно сбудется. А в другом уверен, как в себе, — и выходит промашка. Но вам от меня не отвертеться. Читайте вот это, на новой странице.
На сей раз Кафка не заставил долго себя упрашивать. Отчетливо, с расстановкой, словно еще раз проверяя себя на слух, он прочел:
— «Замок тонул в снежной мгле; казалось, он отодвигается все дальше. До наступления ночи туда не дойти, об этом нечего и думать. Только слабый звон колокольчика донесся издалека. Он прислушался: тихий перезвон отзывался щемящей болью, словно мечта, к свершению которой он так стремился, таила в себе угрозу».
Мягкий, вкрадчивый голос звучал глуховато, с легким надломом, каким часто дает о себе знать болезнь. Минуту оба помолчали, вслушиваясь в тишину.
— Мне нравится, — произнес наконец Гофман.
— Мне тоже, — ответил Кафка.
— Мне нравится этот образ: «мечта таила в себе угрозу». О чем это? Что это будет? А замок в снежной мгле, до которого никак не добраться, — это, конечно, та крепость на реке, которую я видел по пути сюда?
— Градчаны? Нет, что вы, у меня такого и в мыслях не было.
— Может, потому и не было, что это ваш замок. Он у вас в душе. Вы часто туда ходите?
— Я? Никогда. Между мной и замком сейчас тоже какая-то пелена, вроде метели. Я знаю, конечно, что замок огромен, все эти дворцы, залы… Собор святого Витта. Но я слишком слаб, чтобы туда подняться. Побывать в замке для меня сейчас слишком большая милость, — Кафка оживился. — Я пишу роман, — продолжал он. — Представьте: в деревенский трактир приходит землемер. Его якобы вызвал на работу владелец замка. Тут-то все и начинается. Кто нанимал землемера и нанимал ли его кто-нибудь? А он стремится получить то, что чиновники называют «дозволением на жительство», по-простому говоря, ему нужно пристанище, крыша над головой.
— Иногда и это можно назвать милостью, — пробормотал Гофман.
— Да, и в конце концов мой землемер получает дозволение на жительство, которое вы назвали милостью, но получает его уже на смертном одре.
— Я же сразу сказал: достаточно нескольких строк, и я пойму, что вы за человек! — воскликнул Гофман. — Но, боюсь, вы тоже обделены милостью.
— Обделен, — тихо сказал Кафка. Потом, не дожидаясь, пока Гофман снова его попросит, предложил: — Хотите послушать начало? Я его два раза переписывал, это третья редакция. Прочесть?
— Конечно! — обрадовался Гофман. Теперь, присмотревшись поближе, он заметил, что совсем не все строчки в рукописи вымараны. Иные предложения, наоборот, подчеркнуты, крохотные буквы выписаны тщательно, с легким наклоном влево. Почти без выражения, выделяя голосом только ритм, Кафка прочел:
— «Был поздний вечер, когда К. добрался до места. Деревня утопала в снегу. Ни горы, ни замка не было видно. От подножия до вершины гору окутал густой туман, и в этой кромешной тьме большой замок там, наверху, не выдавал себя ничем, ни единым отблеском света. Стоя на деревянном мосту, от которого уползал к деревне унылый проселок, К. долго вглядывался в эту обманчивую пустоту».
Кафка посмотрел Гофману прямо в глаза.
— Итак, землемер устраивается на ночлег в трактире. Ему стелют на соломенном тюфяке возле печки. — Когда Кафка читал, голос его менялся и звучал приподнято. Сейчас он просто пересказывал. — Но вскоре К. будят. Городского вида человек вежливо просит извинить за беспокойство. Я сын кастеляна замка, представляется он. Эта деревня находится во владениях замка. Всякий, кто здесь ночует, в известном смысле ночует в замке. На это нужно соответствующее разрешение, а у вас такого разрешения нет. Во всяком случае, вы его не предъявили.
Над головой у К., оказывается, висит телефон. Сын кастеляна звонит в комендатуру, спрашивает, как быть с постояльцем, который утверждает, что он землемер и приглашен в замок для работы. В замке никому не известно о таком приглашении. От страха, что на него, самозванца, сейчас все бросятся, К. с головой прячется под одеяло. Но тут телефон звонит снова. Ошибка? Странно, странно… И как же прикажете это объяснить господину землемеру?
Кафка умолк: к столу приближался новый гость. Подойдя, он положил руки Гофману на плечи и спросил по-французски:
— Господин Гофман, это, конечно, вы?
Они обнялись. Молча, не отрывая глаз, созерцал Кафка эту сцену. Лицо Гоголя он без труда узнал по портретам, но оно его разочаровало. Ему не понравилось это лицо. Какое-то искусственное, ненастоящее: эти усы, этот преувеличенно острый взгляд и это щегольское пальто с двумя рядами частых пуговиц, поблескивающих, точно любопытные глаза. Трудно поверить, что перед тобой один из величайших писателей России; скорее, его можно принять за главного лесничего или другого чиновника несредней руки.
Гофман и Гоголь объяснялись на смеси языков. Кафка внимательно следил за беседой и понимал почти все, ведь, кроме немецкого, он знал еще чешский и немного французский. К тому же Гофман опекал его, точно давнего приятеля, и все важное ему переводил. Сейчас он успел вставить:
— Гоголю не сидится на месте. Со мною это тоже бывает. Сегодня он в Германии на водах, завтра в Швейцарии. То его в Рим занесет, то в Париж. Похоже, наречия мест, по которым он странствует, так к нему и прилипают. Все это время он писал роман «Мертвые души» — великую свою книгу.
— В Париже я узнал о гибели Пушкина. Это он подарил мне замысел романа.
«Он не скрывает этого, — подумал Кафка, — а ведь его друзья, все эти попы и знатные господа, только и думают, как бы заставить его отречься от Пушкина».
Шевельнув тонкими губами, Гоголь сказал:
— Надо чтить усопших. Впрочем, роман совсем не так хорош. Вернусь домой — и все новые главы сожгу. Я теперь ясно вижу — они никуда не годятся.
— Никуда не годятся?! — разом воскликнули Гофман и Кафка.
— Вы себе это просто внушили, — возразил Кафка. — Или вам это внушили. С новой книгой всегда так: одни превознесут до небес, другие в пух и прах разругают.
— Все дело в том, от кого хвала и от кого хула. — В глазах Гоголя искрилась легкая усмешка, точно он недоумевал: «А этот паренек откуда взялся?»
Кафка подумал: «Я тоже ничего после себя не оставлю. Но по совсем иной причине. После моей смерти всю мою работу придется сжечь — люди ее не поймут, только напутают, а я уже буду не в силах что-либо объяснить».
Гофман смотрел на Гоголя пристально и удивлялся: «К чему, скажите на милость, весь этот переполох из-за потомков? А ведь с него станется, он и впрямь последние главы сожжет. Из страха угодить в ад: попы ему этим адом все уши прожужжали. Такой сожжет. Он уже не тот, что раньше, когда роман писал. Отчего он так переменился? Что произошло с ним?»
— Каждый несет вину за свои писания, — продолжал Гоголь. — И в судный час каждый за них ответит.
— Да чем же это таким вы провинились в вашем романе?! — не выдержал Гофман. — Виновны не вы, а другие, те, что мешают вам писать правду. Мне тоже частенько пытались помешать. Но и в том, что иные умники готовы объявить чистейшим вымыслом, сколько угодно взаправдашней, живой жизни. Мне отравили последние мои дни — и все из-за того, что в «Повелителе блох» я вывел министра внутренних дел и всю его шайку. Вы подумайте, вынудили издателя изъять все эпизоды с тайным советником Кнаррпанти! Но ничего, когда-нибудь и эта вещь увидит свет целиком.
Кафка слушал, стараясь не пропустить ни слова. Задумчивость преобразила его лицо, сделав его почти прекрасным. «Конечно, — размышлял он, — каждый виновен в том, что он пишет. И конечно, каждый из нас должен писать о действительной жизни, и писать правду. Да вот беда — каждый понимает „действительность“ и „правду“ по-своему. Большинство считает действительностью только то, что можно увидеть своими глазами или потрогать рукой. А как же мечты, воображение, сны? Разве их не существует, разве не принадлежат они нашей жизни? Принадлежат, конечно, куда же им еще деваться? Но стоит мне перешагнуть из яви в сон — и читатель перестает понимать, что к чему».
Словно угадав его мысли, Гофман заметил:
— Людям понятны только их собственные сны. Читая о чужих, они вспоминают свои, давно забытые.
— Какой же тогда смысл в писательстве, если люди не понимают вас? — прервал его Гоголь.
— Нет никакого смысла, — произнес Кафка. — Потому-то я и завещал другу сжечь все мои бумаги, как только он узнает о моей смерти. Иначе неминуемо все перетолкуют и исказят. Никто не сумеет уследить за ходом моих мыслей, расслышать мои слова — а ведь они крылья мысли, — никто. И не потому, что я не сумел их выразить, вовсе нет. Взять хотя бы мой роман «Процесс». Вот я умру, и роман этот станут толковать в связи со всяким нашумевшим судебным разбирательством, а я уже буду в могиле и ничего не смогу объяснить — мертвые молчат. Я болен, знаю, и болен неизлечимо. Какая-то власть, а какая — мне неведомо, затеяла против меня процесс, и он завершится смертельным исходом. Это мой собственный процесс, понимаете?
«Похоже, он и вправду обречен, этот молодой человек, случайный мой знакомец, — думал Гофман. — Но Гоголь-то что же! Ведь он намерен погубить лучшую часть своего „я“, творение свое, — и все из страха перед судом божьим, страха, который ему внушили».
Кафка задумчиво продолжал:
— Еще мне пришлось писать о чиновниках, только не совсем обычных; это посредники той таинственной власти, серенькие, незначительные людишки, но именно они распоряжаются вашей судьбой. Посмотришь на такого — и не догадаешься, что у него в кармане приказ об аресте. И откуда все это наваждение — то ли в голове у читателя, то ли в романе, — так до конца и не проясняется.
— Сколько могу судить, у меня это проясняется всегда, — сказал Гофман. — Хотя я тоже люблю переноситься из реальности в фантастику. Но такие вещи нельзя оставлять непроясненными. Кому, как не нам, оповещать людей об опасности и нести им утешение? Но читатель, конечно, тоже не должен дремать, читать надо с умом, пристально, пробуя на язык каждое слово. Только тогда докопаешься до сути.
Голосом, который казался таким же чужим, как и усы на его лице, Гоголь вдруг произнес:
— Когда-то и я был того же мнения. Теперь я думаю иначе: никому из смертных не дано знать, что есть истина.
Собеседники глянули на него с изумлением. Гофман рассмеялся.
— Да что с вами, дружище? А ваш роман: не будь всех этих гнусных чиновников, не будь крепостного права — разве сумел бы этот проходимец скупать мертвые души?
Кафе тем временем понемногу наполнилось народом и табачным дымом. К столу подошел кельнер.
— Что прикажете? — спросил он у Гоголя.
Узнав, что в кафе не подают сливовицу, и мясного тоже не готовят, и огурцов нет, Гоголь страшно огорчился. Морщась от досады, он попросил принести кофе и немного печенья. Потом все еще каким-то не своим, заунывным голосом сказал:
— Пушкин, тот, возможно, согласился бы с вами. Но увы, выстрел дуэлянта решил на земле его жребий. Боюсь, не нам, смертным, судить, где правда, а где ложь, что справедливо, а что нет.
— Вы, однако же, очень ясно об этом судили и в романе, и в повестях, — возразил Гофман.
— Мне ваша повесть «Шинель» нравится даже больше, чем «Мертвые души», — добавил Кафка с горячностью. — Призрак, который ночью летает по городу и срывает с сытых господ богатые шинели, — грандиозно придумано!
Гоголь вдруг оживился, он словно сбросил с себя личину набожности и сразу стал самим собой.
— Как раз в этой повести, в конце ее, у меня весь мир растворяется в диком полете. — И он на память прочел:
— «Значительное лицо, побывав в гостях у приятеля своего, сел в сани, приказал кучеру трогать, а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь… Изредка мешал ему, однако же, порывистый ветер, выхватившийся вдруг бог знает откуда… Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом, поношенном вицмундире и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича… „А, так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек — отдавай же теперь свою!..“ Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам…»[193]
Оба собеседника слушали не отрываясь, в их лицах отражались радость, задумчивость и удивление.
Подошел кельнер, разгрузил поднос. Гоголь принялся за печенье — не без неприязни: ему хотелось чего-нибудь посущественней. Потом повернулся к Гофману:
— Мне не все ваши сказки одинаково нравятся. Чем они меня всегда восхищают — так это неожиданностью, дивной игрой фантазии. У вас просто дар строить самый невероятный вымысел, оттолкнувшись от форменного пустяка — от дверной ручки, от блохи какой-нибудь. Одного только не могу уразуметь: зачем вы так легкомысленно обходитесь со временем? Вы же обращаетесь с ним как вам заблагорассудится. Сегодня у вас случается то, что на самом деле случилось вчера, иная история началась двести лет назад, а вы как ни в чем не бывало эти двести лет перескакиваете и пишете продолжение. Законы времени, я так полагаю, и в вымышленном мире действенны. Да, после смерти Акакия Акакиевича призрак его ночью вцепляется в шинель тайного советника. Я тоже люблю смешивать действительность с вымыслом. Но ход времени соблюдаю свято. Бедному Акакию Акакиевичу пришлось последние копейки на эту шинелишку откладывать, он долго их копил, страшные лишения терпел. Вы на себе должны почувствовать, как тянется это время, как долго он копит эти деньги, только тогда понятно, чего стоила Акакию Акакиевичу его обновка и каково ему потом этой обновки лишиться. И вот он умирает от отчаяния — и лишь после является призрак.
— Плевать я хотел на время, — перебил его Гофман. — У меня в повести двое ученых, оба голландцы, а встречаются во Франкфурте-на-Майне, да притом один из них, прошу заметить, давным-давно в Утрехте похоронен. Он — первый изобретатель увеличительного стекла, или, проще говоря, лупы. А мне в повести позарез нужна лупа! Я даже усовершенствую его изобретение, у меня это ночная лупа, и с помощью этой лупы все мелкие твари, обитатели блошиного цирка, внезапно предстают в таком чудовищном увеличении, что публика в страхе разбегается. Разбегается от одного вида всей этой копошащейся массы стократно увеличенных вшей, блох, мошек, которых невооруженным глазом и не разглядишь.
Да взять хотя бы и нас троих. Разве смогли бы мы встретиться, я уж не говорю — мирно посидеть за одним столом, если бы всерьез придерживались законов времени? Разве моя жизнь не совпала с вашей, Гоголь, лишь коротким сроком? И разве не жили вы сами почти столетием раньше Кафки?
Вполголоса, точно рядом никого нет, Кафка проговорил:
— И все же время неминуемо присутствует и в моей жизни, и в моих книгах. Моим героям лица не нужны, лица читатели придумают сами. Как человек поведет себя в определенных обстоятельствах, что почувствует — вот что мне важно. Я, к примеру, очень хорошо представляю, как всполошится милый мой сосед, если меня вдруг ни с того ни с сего однажды арестуют, уведут, опечатают квартиру. Милый мой сосед начнет строить догадки: мол, не одно, так другое. Но я могу вообразить и иное: каково приходится жертве, над которой нависла загадочная, непостижимая власть. Но и угроза, и предчувствие беды — кстати, они ничуть не менее реальны, чем лицо человека или его характер, — все эти вещи существуют во времени, надвигаются вместе с ним, тут Гоголь прав.
Гоголь снова принялся ругать непутевое кафе, в котором и не поешь толком. Но идти в трактир времени уже не было. Скрепя сердце он снова заказал кофе и рогаликов — теперь уже на всю компанию.
Гофман думал про себя: «Среди нас троих именно я слыву самым отпетым фантазером, напрочь отбившимся от жизни, а ведь, пожалуй, я больше, чем они, натерпелся от этой жизни, от этих проклятых агентов Меттерниха, что торчали за каждым углом. Я уже умирал, лежал в параличе, но мысль моя не желала мириться с бездействием, и я сражался, сражался неистово, до конца. А Гоголь, похоже, совсем затуманил душу ладаном. Не по плечу ему жизнь под царем, тяжкая, должно быть, жизнь, опустошающая». Вслух же он заметил:
— Вот вы, Кафка, все пишете о каком-то процессе вообще, о какой-то таинственной власти… Но объясните мне, почему вы ни слова не пишете о справедливости?
Мучительно подбирая слова, Кафка ответил:
— Болезнь, которая меня сейчас добивает, эта болезнь началась, наверно, суровой зимой семнадцатого. Я тогда написал один маленький рассказ, он называется «Верхом на ведре». В нем нет ничего загадочного, только жизнь, жестокость жизни. Конечно, это не такой сильный рассказ, как «Шинель», но все-таки достаточно сильный, если захотеть его понять.
— Если бы да кабы! — не выдержал Гоголь. Чопорность окончательно покинула его, разговор о любимом деле захватил целиком. — Все это вздор, до которого молодые люди большие охотники!
— Мне кажется, вы несправедливы к нему. Быть может, Кафка, вы нам расскажете эту вашу историю?
Вполголоса, без намека на декламацию, словно размышляя вслух, Кафка начал:
— «Уголь кончился, в ведре пусто, совок теперь ни к чему; печь дышит холодом, в комнате стужа; деревья за окном цепенеют в инее; небо — как серебристый щит, непроницаемый для любой мольбы. Надо раздобыть угля — так ведь и замерзнуть недолго! Но за спиной — безжалостная печь, перед глазами — столь же безучастное небо. Значит, нужно проскочить точнехонько между ними и во весь опор лететь к угольщику.
Все будет зависеть от того, как я к нему появлюсь. А раз так — я поскачу на ведре. И вот, верхом на ведре, натягивая вместо поводьев ушко — чем не уздечка? — и, кренясь на поворотах, я кое-как съезжаю вниз по лестнице. Зато на улице дело идет веселей, и, подлетая к подвалу, в недрах которого угольщик что-то подсчитывает, сгорбившись над столом, я стараюсь держаться особенно прямо.
— Эй, угольщик! Прошу тебя, дай мне немножко угля. В ведре у меня совсем пусто, видишь, на нем даже гарцевать можно. Сделай милость, а я заплачу, как только смогу.
Угольщик приставляет ладонь к уху.
— Или послышалось? — спрашивает он через плечо у своей жены, которая примостилась с вязанием возле печки. — Я говорю, не послышалось ли? Никак покупатель?
— Я ничего не слыхала, — отвечает та из своего теплого угла, ровно дыша и мерно перебирая спицами.
Я кричу что есть мочи:
— Да, да, это я! Давнишний ваш покупатель, постоянный и преданный, только я сегодня без денег — поиздержался…
— Говорю тебе, жена, кто-то там есть, — бурчит угольщик. — Уж не настолько я оглох. Верно, и вправду давний, очень давний покупатель, коли так просит — прямо за сердце берет.
— Сейчас иду! — отзывается наконец угольщик и семенит на своих коротеньких ножках к лестнице, но жена его уже тут как тут, схватила за рукав и не пускает.
— Никуда ты не пойдешь! Или забыл, ты сегодня всю ночь кашлял. Я сама.
— Добрый день, хозяйка, нижайший вам поклон, — кричу я. — Мне бы совочек угля, всего один, прямо сюда, вот ведро. Только один совок, хоть самого никудышного. Вы не сомневайтесь, я заплачу, обязательно заплачу, только не сразу, не сейчас.
Каким нежным колокольчатым переливом отзываются вдали эти слова — „не сразу, не сейчас“, и как внезапно вторят им в тот же миг вечерним звоном колокола соседней церкви!
— Что там ему нужно? — кричит снизу угольщик.
— Ничего, — отвечает ему жена. — Нет тут никого. Никого я не вижу и ничего не слышу.
Она никого не видит и ничего не слышит! Тогда зачем же она развязывает фартук и машет им, пытаясь отогнать меня, словно назойливую муху? Увы, ей это вполне удается. У ведрышка моего все повадки лихого скакуна, да вот беда — устойчивости никакой, очень уж оно легкое. Один взмах фартуком — и земля уходит у нас из-под ног.
— У-у, ведьма! — успеваю я крикнуть ей, на что она, уже с порога, даже не обернувшись, лишь отмахивается, то ли презрительно, то ли удовлетворенно. — Ведьма! Я просил один совок самого никудышного угля, а тебе и этого жалко!
Но подо мной уже только льдистые вершины, и я лечу, лечу в безвозвратность».
Гофман и Гоголь не проронили ни слова. Рассказ сильно подействовал на обоих, и похвала сейчас прозвучала бы неуместно.
Очень тихо, щадя голос, Кафка сказал:
— С той проклятой зимы, когда мой наездник на ведре тщетно рыскал по городу, выпрашивая совочек угля, меня сковал страх, страх смерти. Рушилась империя Габсбургов — а я думал только о себе. Масарик въехал в Градчаны — а я думал только о себе. Вокруг бушевали революции — а я думал только о себе. Возможно, рассказ мой и неплох. Но ему далеко до гоголевской «Шинели», где так головокружительно разверзается пропасть между богатыми и бедными.
— Я и сам думаю, что история моя хороша, — произнес Гоголь. — Но и ваша мне нравится. Пропасть, как вы ее называете, есть в обеих вещах, если их вообще можно сравнивать. У меня ведь скачок в невероятное в самом конце, а вы сразу с этого начинаете. Но и тут, и там происходит очная ставка несправедливости и правды. Знаете, школяром я, как губка, впитывал все, что говорили о декабристах. После, уже став писателем, я вовсе не имел намерений судить о правде и неправде, о бедности и богатстве: оно само как-то получается, когда пишешь о жизни правдиво.
«Это на словах, — подумал Гофман. — А на деле ты даже не отваживаешься встретиться с Белинским, твоим учителем, твоим другом. Боишься, как бы тебя не заметил с ним кто-нибудь из знатных господ, новых твоих приятелей».
— Заклинаю вас, — обратился он к Гоголю, — не меняйте ничего в ваших «Мертвых душах», в них на века запечатлена правда о том, как жили люди при крепостном праве.
— Не знаю, не знаю, — проговорил Гоголь. — Многие стали величать меня «злопыхателем». Пушкиным попрекают: у него, видите ли, язвительность никогда не вытесняла поэзии. Вот и мой французский друг Мериме в отличие от вас нашел книгу отнюдь не такой сильной. На его взгляд, я не делаю различий между низким и смешным. У меня, мол, нездоровое пристрастие изображать мир в черном цвете, видеть прежде всего плохое.
— Наверняка он говорил это в другом смысле, чем ваш духовник.
— О, этот упрек мне знаком, — тихо сказал Кафка. — Я, мол, стремлюсь изображать только плохое. Необъяснимое, гнетущее, рок — да, но только плохое — нет. — Голос его зазвучал отчетливей. — У меня есть одна история, там молодой человек по имени Замза превращается в жука. Все возмущаются, все шокированы: «Какие ужасы вы описываете!» А я ведь только одно хотел показать — что будет с моими современниками, случись сегодня какое-нибудь чудо из сказок братьев Гримм; помните, лягушачий король поселяется в замке, и королевская дочь должна делить с ним и еду, и постель. Люблю сказки братьев Гримм. Их язык многому меня научил. Не скрою, иногда и смысл, и ритм целых фраз я брал оттуда. Какое это чудо, какая загадка — язык! Ведь если послушать, чего только люди с языком не делают: и лгут, и всякий вздор болтают, и сплетничают, и тараторят, а ему все нипочем, вот какая это сила — язык! В одной хасидской легенде сказано: «кто молвит слово от бога, остается в этом слове навсегда». По-моему, в ином слове не то что человек — целый народ может уместиться.
— Святая правда, — поддержал Гоголь, — У нас есть слова, в которых живет душа русского народа. Услышишь такое словцо или присказку, и сразу чувствуешь — тут тебе и весь Пушкин, и весь Лермонтов.
— В немецком так же! — воскликнул Гофман. — Из одного Гёте сотни примеров могу привести. Великий человек, хоть и обругал меня напоследок. А ведь поначалу мои полеты из правды в фантастику ему тоже нравились. Да и сам он их любил, возьмите «Фауста» с его Вальпургиевой ночью — какой размах воображения! Но после путешествия по Италии ничего, кроме античности, знать не желал. А не худо бы ему вспомнить, что как раз греки, да и римляне тоже, были большие охотники до самых невероятных небылиц и частенько устремлялись за мечтой в мир фантазии. Мы забываем подчас, как видели жизнь древние и что считали действительностью. Но скажите, Кафка, что это такое — «хасидская легенда»?
— Это особый фольклор, он возник несколько веков назад в Польше среди иудеев, что жили в деревнях — кто батраком, кто крестьянином — и в городах, в гетто. Они сочиняли легенды и сказки, смешные и страшные, черпая эти сказания отовсюду понемногу: из древних законоуложений, из Талмуда и Библии, просто из житейского опыта. Когда у нас в Праге гастролировал львовский театр, я подружился с актером Леви; мы часто сиживали в кафе «Савой»; из его историй я многое почерпнул для себя.
— А мы и не слыхали про такие…
— Многие мои вещи связаны с хасидскими легендами, — сказал Кафка.
Гоголь смотрел на Кафку с веселым изумлением.
— Я знаю в России великих поэтов — но русских. Вот уж не думал, что и в моей отчизне существуют подобные предания. Помню, был у нас еврей и в имение матушки часто наведывался — долги выколачивать. Однако непохоже, чтобы он еще и сочинительством занимался.
— Но ведь Чичиков ваш, — прервал его Гофман со смехом, — уж он-то точно русский, а торговал ведь мертвыми душами.
На это Гоголь ничего не ответил. Он спросил:
— Скажите, а этот хасидский народ, который, как вы утверждаете, верит в бога, — может, он и в черта тоже верит?
— А как же, — подтвердил Кафка. — В доказательство попробую пересказать одну историю, меня она до костей пробирает.
«Жил-был мальчик, и узнал он, что неподалеку в городе живет раввин, настоящий мудрец. И так захотелось мальчику у этого раввина учиться, что стал он упрашивать отца с матерью послать его в тот город.
Жаль родителям расставаться с сыном, но тот все просит и просит, так умоляет, что однажды отец не выдержал и собрался в путь. Не успели они из городка выехать — сломалось колесо у телеги. Отец почуял недоброе, думает: вот знак божий, не надо никуда ездить. Но сын опять его упрашивать, и так умолял, что уговорил наконец. Едут дальше. Тут налетает свирепая буря, испугался отец, и возвратились они домой. От горя мальчик занемог, слег в постель. Врач и родители испугались, что мальчик умрет, если его не отправят к мудрецу в обученье.
Приехали они в город. Остановились в трактире, пошли ужинать. Вдруг подходит к их столу незнакомец, седой как лунь, весь иссох, взгляд суровый. Спрашивает: зачем, мол, приехали. Отец рассказал, а незнакомец ему и говорит:
— Счастье ваше, что я того человека хорошо знаю. Не посылайте к нему сына, никакой он не мудрец, только юношество совращает своим учением.
Опечалился отец, но и обрадовался, что в последнюю минуту удалось беду перехитрить, и везет сына домой. Только сын от горя совсем расхворался, и никакой врач не знал, как его лечить, и вскоре он умер. Прошло несколько лет, и вот заезжает отец случайно в тот самый город и останавливается в том же трактире. Видит — сидит за столом тот незнакомец, заметил его и спрашивает, куда же, мол, сын его подевался. Отец отвечает: так, мол, и так, умер. Незнакомец как услышал, обрадовался, руки потирает, а глаза так и посверкивают.
— Так узнай же, — говорит, — всю правду. Тот мудрец достиг Большого света, а твой сын — Малого, и, если бы они встретились, объявился бы Мессия. А теперь этому не бывать».
Весь бледный, Кафка умолк. Гофман смотрел на него с удивлением. А Гоголь воскликнул:
— И правда, бес как живой! Хоть я и не все уразумел в этой истории. В моих вещах тоже бесов хватает. Но, по правде сказать, мне куда лучше удается подметить бесовство в людях.
— А у меня в «Эликсире дьявола» и то, и другое есть, — сказал Гофман. — И сатана строит козни, и в людях играет сатанинство. Вот вы, Кафка, много чему научились из легенд, о которых рассказывали, да, сдается мне, не все пошло вам во благо. К чему эти беспричинные страхи, это отчаяние, эта неуверенность? Боюсь, настоящих людей из плоти и крови, со всеми их слабостями, но и достоинствами, у вас нет. Созданиям вашим ведомы лишь немногие чувства, притом такие, что навещают человека лишь временами. Вы ведь сами в этом признались. Люди у вас для того только и существуют, чтобы воплощать все эти страхи.
— Постойте, — перебил его Кафка. — Легенду эту не я сочинил, это предание. Вы правы, в истории этой царит зло. Но господин Гоголь спросил меня о черте, вот я и рассказал.
— Хотел бы я знать, — проговорил Гоголь задумчиво, — отчего столь велик соблазн показывать зло, даже дьявольщину? Меня вот постоянно этим попрекают. И отчего оно удается лучше и легче, нежели живописание чистоты и добродетели?
— Оттого, верно, — ответил Гофман, — что изображение зла больше трогает сердце и несет утешение.
— Утешение?
— Да, и утешение тоже, — подтвердил Гофман. — Читателю зло знакомо, он со злом, можно сказать, накоротке. И, читая о нем в книге, чувствует, что не одинок в своих бедах. Ему потом легче на душе, как после исповеди. Почему ему хорошо? И отчего среди каменных дев на портале Страсбургского собора, да и на других соборах, злые девы выглядят привлекательней благочестивых? Зло гораздо на ухищрения, оно заманчиво, а добро бесхитростно и способно обольщать только самим собою, но для нас, смертных, это соблазн слабый. Манящий образ чистоты — редкий гость в наших душах.
Гоголь ловил каждое слово.
— Вы тысячу раз правы, — произнес он. — Благородство, чистота — как редко их замечаешь! Оттого и писать о них трудно, во всяком случае мне. Вот Пушкин — тот умел, у него и чистота, и благородство проступают подчас даже в житейской прозе: ну хоть Татьяна в «Онегине», любой ее жест, любое слово. Иное дело — природа, горы и долы — тут я сразу чувствую все, что есть величественного, чистого и прекрасного в моей отчизне.
— И музыка, — добавил Гофман. — В ней тоже величие и чистота в каждом звуке. Наверно, оттого, что звук бесплотен и легко вбирает красоту там, где слово и камень уже бессильны. Но вы, кажется, утверждали, — обратился он к Кафке, — что смысл всякого рассказа можно разгадать уже в языке, каким он написан?
— Да, — подтвердил Кафка. — И всякий смысл требует своего, особого языка. Но и тут я мечусь как неприкаянный между немецким и чешским. Я много у кого учился: и с Гашеком в погребках не однажды беседовал, и с Леви в кафе «Савой»; писателей, особенно русских и немецких, читал запоем, хасидские легенды запоминал. А датчанин Кьеркегор! Читаешь — и завидуешь, даже сквозь перевод чувствуешь: вот у кого единство языка и смысла! Возьмите хотя бы это место из его книги «О равновесии эстетического и нравственного в становлении личности»:
«Друг мой! Снова говорю тебе то, что повторял неустанно. Снова призываю тебя: или — или! Ибо важность дела, о котором идет речь, оправдывает важность слов. Лишь по смехотворной неспособности суждения не замечаем мы подчас, сколь многие вещи подлежат и подчиняются этому принципу: или — или. Но бывает и по-другому: иной человек слишком слаб, чтобы суметь со всею торжественностью сказать: или — или. А на меня эти слова всегда производили глубокое действие и поныне производят. Стоит мне произнести их даже вне всякой связи — и тотчас же в воображении встают неодолимые противоречия. Слова эти звучат для меня как формула заклятья: или — или».
Кафка говорил тихо, но подчеркивал ритм движением руки, словно невидимым молотком забивал невидимый гвоздь.
— А по-моему, в финале «Мертвых душ» — вот где единство слова и смысла доведено почти до полного совершенства, — сказал Гофман.
— То, что вы называете финалом, вскорости будет серединой, — пообещал Гоголь.
«Надеюсь, нет», — мысленно возразил Гофман, а Кафка подумал: «Может, для искусства даже лучше, что ты сожжешь прицепленный, нравоучительный конец. Тогда по крайней мере то, что ты сейчас выдаешь за середину, навсегда останется великим завершением».
— Прошу вас, дорогой Гоголь, прочтите это место! — попросил Гофман. — Вот французское издание, переведите нам.
Оказалось, Гоголь помнит текст почти наизусть и, не слишком жалуя переводы, всегда читает его по-русски:
— «Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: „Черт побери все!“ — его ли душе не любить ее?.. Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и все летит: летят версты, летят навстречу купцы на облучках своих кибиток, летит с обеих сторон лес с темными строями елей и сосен, с топорным стуком и вороньим криком, летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль, и что-то страшное заключено в сем быстром мельканье, где не успевает означиться пропадающий предмет, — только небо над головою, да легкие тучи, да продирающийся месяц одни кажутся недвижны. Эй, тройка! птица-тройка, кто тебя выдумал? знать, у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета, да и ступай считать версты, пока не зарябит тебе в очи… Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах?.. Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху… Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле…»
Не только движениями рук — поигрыванием плеч, всей осанкой сопровождал Гоголь чтение, точно готов был вот-вот сорваться в пляс. Даже кельнер, не донеся поднос, остановился посреди зала и заслушался. Собеседники молчали. Молчание их было красноречивей похвалы. Первым заговорил Гофман:
— Вот ведь странность, всякому понятно, что этот Чичиков прохвост. А все же есть в нем, несмотря на всю его пройдошливость, что-то общее с каждым из нас. И быструю езду он любит, и страну, по которой мчится. И одно ваше описание этой быстрой езды, этой тройки поднимает читателя над низостью Чичикова — и сам Чичиков, и делишки его остаются где-то далеко крошечной точкой в безграничных пространствах вселенной. Так и надо писать, если, конечно, можешь. Боюсь, дорогой Кафка, в ваших вещах этого нет, а это нужно, нужно, чтобы хоть раз, хоть на мгновенье человек мог подняться над муками и страданиями нашей хрупкой жизни.
— Я тоже многому у вас, Гофман, научился, — признался Гоголь. — Я знаю, как вы любите музыку; может, потому мне и кажется, что содержание и язык, в который вы это содержание облекаете, устремлены к единому созвучию.
— Разумеется, — отвечал Гофман. — О незатейливом и суровом надобно повествовать сурово и без затей. У меня же по большей части речь идет о прихотливом, переменчивом, сказочном — тут и формы нужны прихотливые, переменчивые.
— Помнится, когда-то давно прочел я одну вашу музыкальную новеллу, она называлась «Кавалер Глюк». Прошу вас, расскажите ее, — попросил Гоголь.
— Я сам немного музыкант, — без долгих слов начал Гофман, — а потому нередко наведывался в Берлине в одно кафе, где играл хороший оркестр, мне он, во всяком случае, казался хорошим. Так вот:
«Поздней осенью в Берлине нет-нет да и выпадет погожий денек. Столики у „Клауса и Вебера“ нарасхват. Но музыка сегодня возмутительная. И вдруг совсем рядом я слышу негромкий голос:
— Вот наказание! Еще один гонитель октав!
Подняв глаза, я обнаруживаю перед собой незнакомца, который неведомо как очутился за моим столиком и теперь пристально, неотрывно меня рассматривает. Никогда прежде не доводилось мне видеть лица, черты и весь облик которого столь мгновенно западают в душу…
Тут он встает и как бы в раздумье направляется к музыкантам. Я вижу, как, подойдя, он с неизъяснимой повелительной грацией бросает им несколько слов. И едва возвращается на место — оркестр играет увертюру к „Ифигении в Авлиде“. Прикрыв глаза, облокотив на стол скрещенные руки, незнакомец долго вслушивается в анданте, носком левой ноги едва заметно отмечая вступление инструментов. И вдруг пальцы его левой руки с силой берут аккорд на незримых клавишах, а правая рука взмывает ввысь — вне сомнений, передо мной капельмейстер, он указывает музыкантам переход в другой темп… Когда музыка смолкла, он обессиленно уронил руки и замер, прикрыв глаза, опустошенный непомерным напряжением».
— Остальное вкратце, — продолжал Гофман. —
«Внезапно он сорвался с места, и никакими силами нельзя было его удержать. В один миг он словно сгинул, и много дней кряду я тщетно искал его… Мы встретились случайно несколько месяцев спустя возле оперы. Под окном, где без труда можно разобрать почти каждую ноту оркестра, я вдруг услышал глуховатое бормотание, — это мой незнакомец о чем-то беседовал сам с собой. Я пригласил его скоротать со мной вечер. Молча побрели мы по Фридрихштрассе. Внезапно он резко сворачивает в переулок и мчится куда-то, я еле поспеваю за ним. Мы подходим к невзрачному дому и в темноте почти на ощупь поднимаемся по лестнице. Я слышу, как он отворяет какую-то дверь. Немного погодя он появляется с лампой в руке — вид и убранство комнаты, представшей передо мною в этом мерцающем свете, немало меня поразили: из огромного зеркала тускло глянуло запыленное, обветшалое великолепие былых времен. Посреди комнаты — небольшое фортепьяно.
Подойдя к комоду, хозяин отдергивает шторку, и я вижу ряд массивных книг в дорогих переплетах с надписями золотого тиснения: „Орфей“, „Армида“, „Альцеста“, „Ифигения“, — словом, передо мной полное собрание гениальных творений Глюка.
Вынув один из фолиантов — это была „Армида“, — он торжественно направился к фортепьяно. Я поспешил открыть инструмент и подставить пульт — незнакомец оценил мою услужливость милостивым кивком. Он раскрывает фолиант и — как описать мое изумление! — я вижу чистые разлинованные листы, а на них — ни единой ноты!
— Я сыграю увертюру, — говорит он, — а вы перелистывайте, но только вовремя!
И он заиграл — превосходно, аккордами изумительного полнозвучия. Вначале он почти неукоснительно следовал оригиналу, зато в аллегро сохранил лишь главные мысли Глюка, связывая их совершенно по-новому, внося столько гениальных вариаций, что изумление мое возросло до последней крайности.
Едва он кончил, я бросился обнимать его, сдавленным голосом выкрикивая:
— Что это было? Да кто же вы?!
Вместо ответа он встает, берет лампу и исчезает за дверью, оставив меня в полной темноте. Проходит без малого четверть часа. Не чая когда-либо увидеть его снова, я уже начинаю искать выход, тщетно пытаясь по расположению комнат угадать, где тут выход, как вдруг дверь распахивается сама, и при свете лампы передо мной вновь появляется он — в парадном расшитом кафтане, дорогом камзоле и при шпаге!
Я оторопел. А он, торжественно приблизившись ко мне, взял за руку и, улыбнувшись странной улыбкой, вымолвил:
— Я — кавалер Глюк!»
Похоже, собеседники окончательно взяли за негласное правило выражать одобрение не словами, а молчаливым раздумьем об услышанном.
Наконец Кафка сказал:
— Опять вы шутите со временем. Насколько я помню, Глюк умер в 1789 году, а выходит, что вы с ним встречались двадцатью годами позже.
— Ну и что из того? — возразил Гофман с горячностью. — Писатель имеет право на такие допущения. Да и не только писатель. Знакомы вам гравюры Калло?
Кафка ничего о них не знал, зато Гоголь неоднократно видел в Париже в квартирах друзей.
Гофман продолжал:
— Ужасы Тридцатилетней войны, нищету и голод Калло умел перевоплощать в удивительные рисунки, захватывающие, страшные, но и нежные, как дыхание. Многое в этих рисунках очень близко моему ощущению жизни, я даже выпустил книгу рассказов — среди них, кстати, и «Кавалер Глюк» — под названием «Фантазии в манере Калло».
— И все же никак не могу согласиться с вами в том, что касается времени, — сказал Гоголь. — У меня у самого сколько угодно небылиц: призраки, привидения, нечисть всякая. Но я не могу, да и не хочу, уклоняться от хода времени. Вот мы говорили о моей повести, о «Шинели». Там горькая правда увенчана в конце фантастическим ночным видением. А в другой истории, она называется «Портрет», все наоборот: там все начинается с невероятных происшествий, а потом разворачивается доподлинная жизнь. В лавке на Невском художник Чертков покупает на последние деньги старый, запылившийся портрет. С картины пронизывающим взглядом смотрит на него старик с каким-то беспокойным и даже злобным выражением лица. Художник вешает портрет в своей мастерской. Эти страшные, нестерпимые глаза не дают ему покоя, преследуют его. Ночью старик сходит с портрета, а наутро, когда хозяин приводит квартального, чтобы заставить Черткова уплатить квартирные деньги, из портретной рамы выпадает сверток золотых червонцев. Вот и встает перед нашим художником вопрос: либо снять на эти деньги приличную мастерскую и исступленно работать дальше, как требуют того талант и призвание, либо сделаться просто модным живописцем и жить в свое удовольствие. Дальнейшее нетрудно предвидеть: это история жизни художника, который поддается соблазнам и становится всего лишь богатым модным портретистом. Под конец разум его совсем помутился, желчь и безумная злоба проступали на лице его, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он растратил свои богатства, скупая все лучшее, что только производило художество; купивши картину дорогою ценой, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством на нее кидался, рвал, изрезывал в куски…
— Все это, конечно, можно было изобразить и без фантастического начала, — заключил Гоголь. — Но мне хотелось именно из фантастического происшествия вывести картину доподлинной человеческой жизни.
Кафка еле слышно проговорил:
— Если после моей смерти произведения мои по злосчастному стечению обстоятельств уцелеют, люди и не вспомнят, что родился я в империи Габсбургов, а жил и умер в Чехословацкой республике. Услышат, наверно, лишь отголоски муки, неуверенности, отчаяния, что терзают человека на переломе эпох. Да еще — страх смерти, мой неизбывный страх.
— Близость смерти не помешала мне до последней минуты бороться с моим врагом, с министром внутренних дел, — заметил Гофман. — Кстати, дорогой Гоголь, возвращаясь к разговору о явном и воображаемом: в моем мире не только сны и фантазии многое значат, но и предчувствия, и надежды, и страхи. Ведь иной раз художнику удается провидеть то, что в жизни осуществляется лишь столетие спустя.
На сей раз громко, обращаясь к собеседникам, Кафка сказал:
— Меня упрекнут, что мир мой безысходен. Но если сама жизнь кажется мне безысходной, разве не вправе я показывать ее такой, какой ее вижу?
— Но вы видите не всю жизнь, только клочок жизни! — возразил Гофман взволнованно. — Если для вас нет выхода, это вовсе не значит, что его нет и для остальных! Выход надо искать, надо пробивать брешь в стене! Как узник ищет щелку, чтобы передать записку товарищу. Проблеск обязательно нужен, надо уметь его заметить. Темные полотна — возьмите Рембрандта — обретают выразительность благодаря таким вот еле различимым источникам света, в том и мастерство, чтобы с толком их разместить. Почитайте, что я писал, когда смерть уже осаждала меня со всех сторон, прочтите «Угловое окно», одну из последних моих вещей.
— Я хорошо ее помню, — сказал Кафка, а сам подумал: «Он мужественный, этот Гофман, вот в чем суть. С его-то волшебными сказками, с его фантазиями — и вдруг паралич и полная неподвижность. А он пишет о себе как о постороннем: мол, вот человек смотрит из окна вниз на рыночную площадь, на людскую толчею, на прохожих».
Но Гофману не терпелось закончить мысль:
— Так вот, у меня в моих романах-сказках люди превращаются в растения и даже в зверей, и все это причудливо сплетается и существует в том времени, какое я считаю нужным.
— Постойте! — прервал его Гоголь. — Может, вы нам и докажете, что строго придерживаться времени вовсе не обязательно. Но, согласитесь, в любом случае нужно придерживаться действительности.
— Разумеется, — ответил Гофман. — Чего же еще придерживаться? Всякая символика и фантастика, любые сказки и легенды так или иначе связаны с действительностью. Точно так же, как и любой вещественный предмет. Настоящий лес — это действительность, но и приснившийся лес — тоже. А избушка на курьих ножках откуда в лесу взялась? Тоже из живой жизни. Да притом из какой жизни! Из горчайшей нужды Тридцатилетней войны, когда родители посылали собственных детей в лес, лишь бы не видеть, как они умирают с голоду.
— Я услышал от вас много замечательного, — сказал Гоголь. — Надо все это осмыслить. — Он встал. — Очень жаль, но мне пора. Охотно бы остался еще, да дела торопят. Был искренне рад побеседовать с вами.
Потом крикнул кельнеру:
— Сожалею, милейший, но у меня нет чешских денег.
— Ничего страшного, — возразил тот. — Мы принимаем и другую валюту.
Но когда Гоголь выложил на стол свои царские рубли, кельнер, несколько опешив, покачал головой.
— Прошу прощения, сударь, эта валюта уже недействительна.
Гофман полез было за кошельком, да спохватился — от его талеров в этом кафе тоже мало проку.
Платил за всех Кафка. Денег у него было в обрез, но он радовался: не только повстречался с Гоголем и Гофманом, но и угощал обоих!
Гофман решил ехать ночным поездом — спешить было некуда. И вот он брел по городу наугад, еще раз изумляясь всему, что видел. Он заходил под узкие сводчатые арки и, миновав лабиринт проходных дворов, выныривал на другой улице. Хозяйки, занятые привычными домашними делами — уборкой, вытряхиванием половиков, — переговаривались с балконов. Из двора на другой стороне улицы появился пожилой господин: тугой накрахмаленный воротничок подпирал массивный подбородок, лицо пылало гневом. «На кого это он так осерчал? — успел подумать Гофман, когда господин, едва не задев его плечом, прошел мимо. — А держится слишком уж подтянуто, словно выправкой хочет побороть недуги и старость». Ничего более интересного Гофман в этом человеке не заметил и вскоре забыл о нем. Это был отец Кафки, он шел искать сына: тот опаздывал к обеду. Больной человек, а целыми днями пропадает в кафе — какое безрассудство!
Вот приеду в Дрезден, — размышлял Гофман. — Ансельм[194] меня встретит. Он всегда чувствует, когда я должен приехать. Я возьму его под руку, чтобы он, чего доброго, не споткнулся снова о корзину с яблоками и не сподобился проклятия старой торговки. Мы навестим архивариуса Линдхорста, посидим, побеседуем. Архивариус, конечно, начнет расспрашивать меня о путешествии.
Этот молодой человек, случайный мой знакомец, — думал Гофман, — совсем неплохо пишет, у него, наверно, есть несколько превосходных вещей, и еще несколько он напишет, если, конечно, болезнь его не так страшна, как сам он считает. Но до Гоголя ему далеко; впрочем, до Гоголя всякому далеко… Из нас троих только ему под силу так писать: доподлинная, живая жизнь, из которой галопом рвутся мечты, и все это в едином полете, так что под конец сердце сливается с мечтой…
Жаль только, что гений его идет на убыль. Скоро поедет в Иерусалим, будет там молиться. И мать, и друзей своих начнет упрашивать, чтобы молились за него: собственных молитв покажется мало. Выпустит книгу сумасбродных писем и будет считать, что создал шедевр. Получит гневное письмо от Белинского — за то, что губит свой великий талант и вместо правды и справедливости проповедует покаяние и покорность. Но и письмо не поможет — он поддастся уговорам духовника и начнет приписывать к «Мертвым душам» «хороший конец». Увидит, что новые главы никуда не годятся, сожжет их и начнет писать снова, и опять сожжет, потому что и в этот раз у него ничего не получится, и впадет в отчаяние. Сам себя голодом уморит.
А письмо Белинского будут передавать из рук в руки. Тысячи людей перепишут его. Достоевский прочтет это письмо в кружке Петрашевского. Потом Достоевского арестуют и приговорят к смерти. Только в последнюю минуту, уже на эшафоте, объявят о царском помиловании. Смертную казнь заменят ссылкой в Сибирь. Там он создаст «Записки из мертвого дома» — мертвому дому уподоблена будет вся Россия под гнетом Романовых.
* * *
Простившись с Гоголем и Гофманом, Кафка почувствовал себя бесконечно одиноким. Не то чтобы он за этот короткий срок совсем сроднился с новыми друзьями и теперь без них жить не мог, нет, но на пару часов они сняли с его плеч тяжкий груз одиночества. На прощание обняли его, пожелали счастья и удачи.
Кафка горько улыбнулся. От смерти не уйдешь, а она не заставит себя ждать. Впрочем, как знать, может, это и есть его счастье: умереть молодым, не вкусив ни соблазнов славы, ни горечи неудач. Не изведав славословий одних, которые ничего в его книгах не поймут, и неприязни других, которые все поймут превратно.
Кафка склонился над бумагами. Он не писал, просто черкал что-то. Если он останется в живых, ему, быть может, и удастся в один прекрасный день пробудить человечество. В голове роились запоздалые мысли, которыми он не успел поделиться с собеседниками. И все же он говорил с ними откровеннее, чем даже с лучшим своим другом и ближайшим спутником. Сейчас он понимал, что забыл сказать о самом важном: «Когда я был молод и еще не так болен, я писал роман „Америка“. Я никогда не был в Соединенных Штатах, но получилось похоже: вымысел во многом совпал с действительностью». Он тогда страшно рассердился на издательство из-за оформления: художник изобразил на обложке взаправдашнюю нью-йоркскую гавань, статую Свободы и множество кораблей, больших и поменьше. Теперь, вспоминая свой давний гнев, он только улыбнулся. А какой веселый мог бы получиться роман! Там был грандиозный передвижной цирк, где, словно в насмешку над всеобщей безработицей, каждый желающий мог получить работу. И все должно было кончаться вольными странствиями: герои колесят по безграничным просторам. Радостная была бы книга, счастливая. А «Процесс», что же, это уже страх перед приговором. Тот самый страх, от которого Гоголь в голодной смерти спасения искал. А в «Замке» — там уже утешение: все-таки дозволение на жительство после стольких мытарств. Так по крайней мере хотелось бы дописать.
Да, вот в «Америке» было что-то, что понятно людям. Этого и надо было держаться. «Если книгу твою не понимают — сам виноват». Кто это сказал? Гоголь? Гофман? Не все написано для всех и каждого, но в хорошей книге каждый находит что-то свое, предназначенное только ему…
— Вот ты где! — Грозный окрик отца оборвал его размышления. — Нет, вы на него полюбуйтесь? Мы его все ждем, обед стынет, а он тут чем занимается?! — Отец бросил презрительный взгляд на бумаги. Кафка торопливо все собрал. «Ничего страшного, — успокаивал он себя, — пообедаю сегодня два раза». Отца он боялся панически и слушался безропотно.
* * *
Гоголь сошел с поезда, подхватил свой пухлый саквояж и направился к пограничному контролю. Уж сколько он путешествовал, но всякий раз, когда на границе у него проверяли бумаги, ему делалось не по себе, будто вот-вот должны его уличить бог весть в каких грехах. Полный чиновник с лицом скорее приятным, чем нелюбезным, простукал штампы и вернул ему паспорт. Недолгий путь до почтовой станции Гоголь проделал со смешанным чувством: гордости, что вступает в необъятные пределы своей отчизны, и страха, точно сам себя добровольно ведет в тюрьму. Станция помещалась в невзрачном домишке, но все же это было государственное учреждение, о чем внятно напоминал с вывески двуглавый царский орел.
Станционный смотритель встретил его крайне почтительно:
— Не желает ли ваше превосходительство перекусить, пока суд да дело?
Жена его, словно только и ждала этой минуты, внесла самовар. В один миг очутились на столе графинчик водки, и хлеб, и колбаса, и огурцы, и соленая рыба, и пирожки. Гоголь только головой кивнул и с наслаждением приступил к отечественной трапезе. Покончив с едой, он вальяжным жестом, какого никогда не позволил бы себе в Праге, бросил хозяину монету. Тот поймал ее, рассыпаясь в благодарностях, и передал жене. Жена, тоже не переставая благодарить и кланяться, вынесла саквояж. Они бережно усадили гостя в почтовую карету, наперебой желая счастливого пути, здоровья и всяких благ. Лошади тронули неспешной рысью. Пофыркивая, гремя бубенцами, они увозили карету по столбовой дороге все дальше и дальше — обратно, в прошлое столетие.
Гюнтер де Бройн
Брандербургский Дон Кихот
Белая роза
Летом 1829 года русская царица Александра Федоровна (в девичестве Шарлотта) навещает в Берлине своего отца, прусского короля Фридриха Вильгельма III[195]. В честь нее 13 июля, в день ее рождения, устраивается роскошный придворный праздник; он проходит в Новом дворце в Потсдаме и носит романтическое название — «Очарование белой розы». Вся великосветская и титулованная знать Берлина, Потсдама и окрестностей съезжается сюда, чтобы принять в нем участие или лицезреть его. Территория двора между Дворцом и службами, преображенная в средневековую арену, пестрит разноцветными флагами и штандартами с изображением символа праздника — белой розы. Наружные лестницы служб превращены в трибуны, эти места отведены для представителей высшей знати. Напротив, на широких, прикрытых навесом ступенях, ведущих во Дворец, размещается королевская семья и двор. В центре, под шитым золотом балдахином, рядом со своим венценосным отцом, сидит царица праздника, которую в семье с детства зовут Бланшефлер — белая роза.
Три герольда в рыцарских костюмах возвещают о начале празднества. В первых строфах довольно скверных стихов, во множестве нарифмованных для этого дня графом Мекленбургским, братом покойной королевы Луизы и, следовательно, дядей царицы, они обращаются к ее королевскому высочеству с просьбой открыть турнир. Под звук трубы на ристалище выезжают верхом аристократы — участники разыгрываемого турнира, в настоящих рыцарских доспехах, с мечами, копьями, со щитами; впереди всех наследный принц, впоследствии прусский король Фридрих Вильгельм IV[196]; пройдет девятнадцать лет со дня праздника, и восставшие подданные его потрясут устои прусской монархии. После карусели рыцари состязаются в военном искусстве: мечут копья, вонзают пики в увитые гирляндами щиты, наносят удары мечом по восковой голове мавра, на конях сшибаются друг с другом, взмахивая обнаженными мечами, но не причиняя сопернику вреда. Затем каждый из рыцарей отыскивает среди присутствующих свою даму; пары, образуя красочное, пестреющее нарядами шествие, следуют ко Дворцу и скрываются в нем. Большая часть публики может расходиться. Но праздник не окончен — придворную знать и тех, кто близок ко двору, ждут еще многие увеселения, в целом же торжества этого дня продолжаются двенадцать часов.
Оставшаяся публика заполняет прелестный маленький театр, где ее угощают утомительно однообразными сценами и где она обливается потом из-за духоты в тесном помещении. Исполняемые актерами живые картины аллегорического и, следовательно, туманного содержания тянутся бесконечно, наводя на гостей невыразимую скуку. Причиной тому не столько сами картины, поставленные Шинкелем, сколько страдающие непомерными длиннотами и многословием стихи, которые нарифмовал граф Мекленбургский на выход всяческих муз, гениев, фей и героев. В качестве отдыха предлагается ужин. Затем публика в длинном шествии следует через коридоры Дворца в Гротовый зал; воздух здесь, несмотря на тысячу горящих свечей, приятно свеж и прохладен. После балета — бал, который венчается распределением призов участникам турнира. Рыцари, преклоняя колено, принимают из рук царицы либо золотую цепь, либо кубок, либо турецкую саблю. Не обходят наградой и остальных участников праздника, каждому, кто способствовал устроению и проведению его, вручают розу из серебра, украшенную белой лентой. Ее также удостаивается человек, который не принимал никакого участия в турнире, ибо он уже не молод для подобных затей и не слишком здоров, но который по-детски серьезно и трогательно благоговеет перед увеселениями минувших времен, — это мужчина невысокого роста, с круглой головой, втянутой в плечи, из-за чего он выглядит чуть ли не горбатым — короче, невидной наружности, но со звучным именем — барон де ла Мотт Фуке.
Его до глубины души трогают знаки внимания, которые ему оказывают, и несколько дней спустя он пишет поэтический цикл из десяти стихотворений: он воспевает этот праздничный день, прославляет «восточную царицу» — «фею роз» и клянется в верности благородному рыцарскому духу. Гротовый зал, отделанный ракушками, кораллами и кристаллами, напоминает ему Ундину, и, описывая в стихах вручение ему розы, он раскрывает причину, почему и он ушел с праздника не с пустыми руками:
Дух возвышенный стремится Честный пыл вознаградить. Кто в сраженьях отличится, В свете розы будет жить. Так судьба певцу сулила: Ныне болен он и хил И для подвига нет силы, Что когда-то он свершил. С ясновиденьем пророка Бланшефлер красу воспел. И дождался славы срока — Розу получил в удел.В автобиографии, написанной одиннадцать лет спустя, он прямо скажет для всех, что Бланшефлер — одна из героинь его самого популярного романа, «Волшебного кольца», рыцарским духом которого был овеян этот праздник. Душа его преисполнилась возвышенной радости, пишет Фуке, когда он удостоился высочайшей милости, однако он не признается себе в том, как это грустно — нуждаться в милостях высочайших и коронованных особ. Наряду со многими сочинениями, созданными в тот же период, долго не находит издателя и этот цикл стихотворений. В отделе рукописей Государственной немецкой библиотеки на Унтер-ден-Линден еще и сегодня можно полюбоваться текстом, написанным рукой пятидесятидвухлетнего, стареющего уже поэта, ровным, аккуратным почерком. После этого торжественного для него дня Фуке будет жить и писать еще тринадцать лет, но для немецкой литературы он, можно сказать, уже умер. Едва ли найдется теперь хоть один издатель, который захочет печатать этого популярного некогда автора, ибо едва ли сыщется читатель, которому он еще интересен.
Жизнь на Хафеле
Берущий начало на Мекленбургском озерном плато, Хафель, неся свои воды между Шпандау и Потсдамом на запад, в направлении Бранденбурга, чтобы затем снова устремиться на север, с трех сторон омывает край, известный под названием Хафельланд, едва ли не самый живописный и наверняка самый богатый событиями в германской истории, — земли провинции Бранденбург. Здесь родился Фуке, здесь провел он большую часть своей жизни.
Дом, в котором он родился, не просто находился у реки — вернее сказать, он стоял посреди Хафеля, на острове Доминзель. В средние века здесь располагалась резиденция епископов. После Реформации она была преобразована в капитул каноников, к которому позднее был присоединен Институт Воспитания для молодых бранденбургских дворян, так называемый дворянский лицей. Дед Фуке, служивший генералом в армии Фридриха II[197], был близок к королю, провел здесь в качестве главного каноника последние годы жизни и скопил достаточную сумму денег, так что сын его, отец поэта, вынужденный по состоянию здоровья преждевременно оставить карьеру офицера, смог купить себе имение. В 1780 году, на третьем году жизни Фуке, семья переезжает в это имение — Сакров на Хафеле, неподалеку от Потсдама, напротив Павлиньего острова. Несмотря на живописное расположение полуострова, удобство и пышность господского дома и большого парка, Фуке долго там не задерживаются, ибо живут на широкую ногу, а песчаные почвы приносят не слишком высокие урожаи. В 1787 году это имение продается и приобретается другое — Лентцке в Хафельланде, к западу от Фербеллина. Здесь живут как настоящие поселяне, в уединении сельской природы, вдалеке от людных, населенных мест; дороги плохи, дом и парк в сравнении с сакровским великолепием скромны, вместо широких Хафельских озер здесь протекает только крохотная речушка Рин, взамен дворцов и парков, окружавших прежнее владение, вокруг простираются лишь бескрайние низменные поля и луга. За исключением зимних месяцев, которые семья проводила в Берлине и Потсдаме, Фуке прожил здесь безвыездно до семнадцати лет. Потом он определяется на военную службу офицером, на которой ему пришлось пробыть недолго, но приверженность которой он сохраняет в душе своей всю жизнь.
Большой карьеры Фуке не сделал. В 1789 году он поступает корнетом в кирасирский полк, участвует в последних военных кампаниях государств коалиции против Французской республики, годами несет гарнизонную службу в Ашерслебене и Бюкебурге, а в 1802 году выходит в отставку в чине лейтенанта и возвращается в Хафельланд — в Неннхаузен, что восточнее Ратенова: ведь имение Лентцке, перешедшее после смерти родителей в его собственность, больше не принадлежит ему. Женившись в Бюкебурге в возрасте 21 года, он разводится после четырех лет супружеской жизни, признав себя во всем виноватым, а имение и капитал, который у него был, оставляет жене. Лейтенантом в отставке, без средств, начинающий поэт переезжает в декабре 1802 года в замок Неннхаузен. Спустя четыре недели он становится зятем владельца поместья, престарелого господина фон Бриста, благодаря чьим усилиям родовое имение, которым Бристы владели на протяжении ста лет, превратилось в весьма доходное и украсилось обширным и снискавшим славу парком.
* * *
Домоправительница и наследница Каролина, урожденная фон Брист, овдовевшая фон Рохов, отныне баронесса де ла Мотт Фуке, была тремя годами старше мужа; величавая, склонная к полноте красавица, в Берлине и Потсдаме слывшая за любительницу светских развлечений, впоследствии приобретшая известность как плодовитая сочинительница посредственных романов. («Ей более пристала роль домашней хозяйки, нежели писательство», — читаем о ней в одном из писем Э. Т. А. Гофмана.) Она принесла в приданое троих детей, в первый год супружеской жизни с Фуке к ним прибавился четвертый ребенок, дочь Мария. Фарнхаген характеризует Каролину как женщину властолюбивую и надменную, а Арно Шмидт[198] свидетельствует, что она не только обманывала мужа, смиренно любившего ее, но и мелочно опекала и постоянно заставляла чувствовать материальную зависимость от нее. Он же до самой смерти жены сносил это безропотно, подчинившись ее воле и оставаясь преданным ей, и, таким образом, не испытывал никогда материальной нужды, а поскольку был избавлен от необходимости хоть сколько-нибудь вникать в дела, связанные с управлением имением, доходами с которого жил, то, следовательно, имел достаточно времени, чтобы свободно предаваться мечтаниям и сочинительству. В Неннхаузене, за немногим исключением, возникли все его поэтические сочинения, а замок и парк благодаря ему превратились в место встреч видных литераторов.
* * *
Постоим перед замком, обезображенным ныне пристройкой, напоминающей складские помещения, или пройдем через запустелый парк, вернее, его печальные останки, где свинарник, принадлежащий кооперативу, отравляет воздух навозными испарениями; а лучше всего закроем глаза и попытаемся представить себе то время, когда Август Вильгельм Шлегель, Фарнхаген фон Энзе[199], Бернхарди[200], Генрих фон Клейст, Э. Т. А. Гофман или Вильгельм фон Гумбольдт бывали частыми гостями в доме, где их радушно принимали, попытаемся погрузиться в атмосферу этих встреч с чтением вслух, музицированием, дружескими беседами на открытой террасе и длительными прогулками по обширному парку к озеру Гренингер. Если внимательно присмотреться, то в стороне от дороги можно обнаружить укрытый зарослями кустарника наполовину разрушенный памятник времен Бриста, поставленный отцом Каролины преждевременно умершему брату; обратную сторону его украшают стихи (не Фуке ли?):
Красу творенья Брист здесь увидал, Ему ее здесь не увидеть снова. Но если бы из гроба он восстал, Он в новой жизни снова б увидал Красу творенья и угла родного.Еще один след, оставленный Фуке, можно обнаружить в деревенской церкви Неннхаузена. Там он возложил свой меч, возвратившись майором вольных стрелков с освободительных войн, и снабдил его весьма примечательной надписью: «Сей меч, коим владел барон де ла Мотт Фуке, сослужил честную службу, защищая отечество в 1813 году, и принесен сюда в жертву как дар святой во славу господа и в награду за победу праведного дела 14 января 1814 года».
В 1833 году Фуке навсегда покидает Хафельланд; здесь он прожил почти пятьдесят лет, тридцать из них были отданы сочинительству. Однако в творчестве его это не нашло ни малейшего отражения. Хафельланд был действительностью, но не ее живительными соками питалась его поэзия — она рождалась из грез.
Верный рыцарь
Все, кто был знаком с Фуке и оставил о нем печатные высказывания, сходятся во мнении, что это был честный человек. Слова «честный», «порядочный», «славный», «чистосердечный», «прямодушный», «правдивый», «неподкупный», определяющие черты его характера, встречаются в высказываниях о нем, даже если они содержат критику или насмешки над его образом мыслей и поэзией. Когда он начинает стареть и ни один из его многочисленных друзей уже не мыслит как он, бескомпромиссное постоянство его взглядов не может не вызывать уважения. В то время как мир вокруг него меняется, Фуке остается таким же, каким был. Отвергая новое знание и исторический опыт, он остается верен самому себе и, естественно, с каждым годом все больше не соответствует духу времени.
Фуке никогда не мыслил в духе времени, ибо не принимал его таким, каким оно было. Ребенком он вживается в тот мир, который даже нельзя назвать минувшим, ведь в том облике, каким оно видится Фуке, прошлого никогда не существовало. Естественно, мир этот феодальный, но вымышленный. Господствует в нем, собственно, не само дворянство, но дворянская добродетель, которую Фуке неизменно именует рыцарством. Когда его просят объяснить, что подразумевается под этим, он говорит о «некой нежной сущности, едва ли не столь же нежной, сколь девическое целомудрие», которая, «подобно ему, нуждается не столько в определении, сколько в изображении и сохранении в ее чистоте. И того и другого я стремлюсь достичь в своей жизни и в своем писательском труде; и если в жизни — мрачной жизни частного лица — ее лучше всего сохранить (и опять здесь уместно сравнение с девическим целомудрием), не говоря о ней вслух, то как поэту мне все же дана счастливая возможность заставить своих героев выражать образ мыслей и чувствований на словах и на деле, отчего и собственное мое сердце приходит в движение и преисполняется радостью. Чувство, живущее в душе каждого истинного мужчины, дает мне ответ — более красноречивый, чем его способна дать самая обстоятельнейшая дефиниция».
Итак, он не знает определения, знает только, что нужно чувствовать то, чего хочешь добиться; и вообще чувство ставит выше разума и знания; в истории он не очень разбирается, хотя постоянно пишет о ней, о действительности же он как поэт просто не хочет ничего знать. Рыцари, являвшиеся ему в грезах, когда он был ребенком, не оставляют его и взрослым мужчиной, они живут рядом, продолжая, как и в детстве, волновать воображение, наводняют стихотворения, драмы, романы, рассказы, автобиографии, статьи, письма, выглядят более живо и реально, нежели то, что окружает его в настоящей действительности. Они — неизменные и благородные герои его сочинений, полны жизненной силы, наделены рыцарской добродетелью, как он ее мыслит, и возвышенным духом, равно как и физическим совершенством. Поэт, будучи сам невысокого роста, по-видимому, искренне верил, что герои минувших эпох были воистину богатырями. В поэтическом сочинении «Замок Герольдзек», предназначенном для сцены и написанном после поражения Пруссии под Иеной и Ауэрштедтом, он свидетельствует об этом с невольным комизмом: некий странник — в его облике легко угадывается сам поэт — уходит в дикую пустыню, ибо не может перенести позора своего отечества. Встретившийся ему на пути крестьянин поведал легенду о замке, в котором скрываются древние герои, ждущие своего часа. В полночь они являются путнику во сне: Зигфрид, Хильдебранд, Роланд, Германн, Ариовист, Генрих фон Фоглер, Карл Великий, Виттекинд, Генрих Лев, Альбрехт Ахилл, Бернхард Веймарский. Несмотря на всяческие раздоры, царившие между ними, они едины в стремлении «очистить немецкую землю». Тут вмешивается странник, рассказывает о своем участии в Рейнской кампании 1794 года и призывает взяться за оружие:
Ариовист. Что шепчет этот карлик?
Зигфрид.
Напомнил мне он Казначея Альбриха, Что с честью нибелунгов клад стерег.Бернхард Веймарский.
Однако люди ростом меньше стали, И нам не следует всех мерить по себе.Альбрехт Ахилл.
Но этого я знаю. Когда он был ребенком, В мечтах он часто представлял меня. То смелый мой налет на Грэфенберг, То подвиг мой, когда я знамя дерзко вырвал Из рук противника — шестнадцать рыцарей то были. Он это часто в играх повторял. Позднее же, когда он щедрым даром песнопенья был награжден, — О чем он пел охотней и пламенней всего, как ни о доблести немецкой? Но смерть твою, Роланд, в долине Ронсеваля Он столь же пылко чтит! И о твоих, Король великий Ариовист, сраженьях помнит… Хранит он, Зигфрид, в любящей душе Твои деянья, верность им храня, И жаждет их воспеть правдивым словом.Германн.
Похвально, Альбрехт, все, что вы сказали, Но наперед всего пускай он нам покажет, Умеет ли с конем, как рыцарь, сладить он, К тому ж рубить клинком, как принято у нас.Ариовист.
Коня ему. И в руки меч надежный. Ну что ж, неплохо. Смотрится вполне, Я думаю, малыш не даст себя в обиду.Зигфрид.
Да ведь и враг не всякий из породы великанов.Генрих дер Фоглер.
Альбрехт сказал, ты песни петь умеешь. Есть у тебя соратники в благом деяньи?Странник.
Среди моих друзей певцов немало славных.Генрих дер Фоглер.
Тогда скачи вперед пред войском нашим, Буди друзей своих и пой про наш поход, Чтоб люди в городе и на селе не мнили, Что небо рушится, коль мы в поход идем.Ариовист.
Вреда не будет в том. Скачи — и…Тут странник просыпается, видит, что время для возвращения героев не настало, однако он не оставляет надежды:
Ты в сердце сбереги навек Память о замке Герольдзек. В немецком сердце их кумир, О них еще услышит мир.Столь же живо волнуют воображение мальчика (а позднее зрелого мужчины) и герои его собственной семьи, рода Фуке, который уходит в глубокую древность — Нормандию XIII века. Религия, приверженность которой он сохраняет, — это религия его предков, ради нее они вынуждены были покинуть Францию. Армия, в которую он поступает, — это армия, в которой дед его служил генералом. Чтимые им прусские властители предоставили его предкам убежище. Фридрих Великий, останки которого мальчик осматривает с благоговейным содроганием, был в дружеских отношениях с его дедом. И новый король не забывает семью Фуке. Они приглашаются на придворные праздники. В Сакрове их навещает королевская семья. Мальчик играет с принцами, с наследным принцем. Верность королю до конца жизни остается для него самым естественнейшим чувством. К тайному антифранцузскому движению накануне 1813 года поэт примкнет, несмотря на патриотическое воодушевление, лишь тогда, когда уверится, что его одобряет король.
Фуке многому учится у Людвига Хюльзена (ученика Фихте), разделявшего демократические позиции романтической философии, когда тот приглашается в Лентцке в качестве домашнего учителя; однако дворянские симпатии и взгляды в будущем поэте к тому времени настолько уже сильны, что, несмотря на взаимную симпатию учителя и ученика и общность взглядов в вопросах поэзии, между ними нередко возникают конфликты. Человека, которому древние замки (представляющиеся Фуке символом единственного славного времени, достойного воспевания) напоминают о деспотах и тиранах и который желает, «чтобы эта большая толпа, которую мы именуем народом, дала бы всем нам, ученым и рыцарям, хорошую встряску, ибо величие наше и достоинство основываются исключительно на его нищете», — такого человека Фуке понять не может. От идей XVIII века, века разума, он с возмущением отстраняется, оберегая свое внутреннее существо, и обращается позднее к мистике Якоба Бёме[201] (философскую концепцию которого, близкую к идеям пантеизма, он, будучи истинным приверженцем библии, разумеется, не принимает).
Он упорно сопротивляется веяниям жизни, могущим нарушить его образ мыслей, — сопротивляется на удивление успешно. Он есть сама верность принципам, скепсис ему чужд. Даже в восприятии ужасной действительности армейской жизни и войны он остается в силу своего мировоззрения слеп. В то время как его ровесник Генрих фон Клейст, родом, как и Фуке, из старинной дворянской семьи, подростком начавший службу в прусской гвардии и тоже принимавший участие в коалиционной войне против Франции, довольно рано осознает аморальную сущность войны и именует военщину «монументом тирании», Фуке в той же армии, в той же войне видит лишь геройскую доблесть, славу и честь. Золотой глянец славных рыцарских времен он наводит и на современную ему действительность. О нравственной деградации прусского офицерского корпуса накануне 1806 года, неоднократно засвидетельствованной в различного рода источниках, нет ни слова в тех его сочинениях, где он повествует о своей жизни в гарнизоне (в «Измене и наказании», например). Позднее в автобиографии он описывает своих друзей такими, каким, пожалуй, был сам: честными, добросердечными, поэтичными, «посвятившими себя благородному служению даме». Когда же король в 1813 году призывает народ к оружию и Фуке приводит ему хафельландских добровольцев, поэт-офицер, находящийся в зените своей славы, полностью проникается чувством, что мечта о рыцарстве и действительность есть одно и то же; тогда он и сам становится одним из героев «Волшебного кольца» — Фолько фон Монфоконом, Отто Траутвангеном или Хеердегеном фон Лихтенридом.
Скорее благодаря идее рыцарства, нежели французскому происхождению, прусско-немецкий патриотизм Фуке свободен от той гнусной ненависти к французам, которой пронизано большинство поэтических сочинений времен освободительной войны и которая делает их совершенно несносными. «Истинный солдат перед лицом достойного противника обнаруживает беспристрастное, поистине благородное чувство», — читаем в одном из его рассказов; это примечательное высказывание заставляет предположить, что для рыцаря Фуке война была не средством достижения цели, а самой целью. Бесчисленные сражения, которые развертываются на страницах его книг, чаще всего поединки, ведутся преимущественно из-за чести; в них едва ли борются между собой добро и зло, а сражается одно достойное (то есть преданное своему государю) воинство с другим достойным. Какие неестественные, подчас уродливые формы принимает это лишенное истинного смысла благородство в описаниях Фуке, показывает замечательный анекдот, напечатанный в «Берлинской вечерней газете» Клейста; из него явствует также и то, как умирают герои Фуке на полях сражений, а именно с улыбкой на устах и с чувством умиротворения и христианского всепрощения, ибо бог Фуке не обязательно только на стороне прусского или более сильного воинства, он единый для всех храбрых, то есть слепо повинующихся, солдат.
«НЕРЕШЕННЫЙ СПОР
Незадолго до начала семилетней войны на водах в Карлсбаде встретились прусский и австрийский офицеры и понравились друг другу. Оба были молоды, оба служили в кавалерии; тот и другой имели склонность к военным учениям и питали слабость к лошадям, и благодаря этому они все ближе сходились друг с другом и скоро сделались неразлучны. Их редко видели порознь, хотя подчас они и горячо спорили, ибо каждый почитал строевой устав своей армии наилучшим в мире и с жаром доказывал его преимущества перед другим. При этом спор заканчивался с обеих сторон обычно такими словами: „Ну, ежели случится когда-нибудь сойтись на ратном поле, ты очень скоро убедишься в этом!“ Подобного рода беззлобные стычки, казалось, только усиливали взаимную привязанность, и расставались они всегда, непременно выказывая друг другу знаки сердечной любви, и, разъехавшись, долго еще махали друг другу издалека, с прибавлением самых добрых пожеланий.
Но вот представился случай, как они не раз говорили, сойтись на ратном поле. В битве под Ловозитцем торжествовал Вильгельм — так назовем пруссака, — ибо первое наступление прусской конницы, казалось, подтвердило его слова: австрийская конница расстроила ряды и повернула, пруссаки же, ободренные успехом, продолжали наступать, все более тесня противника. Тут Вильгельм заметил своего друга, скажем Йозефа, как тот, последним в числе отступавших, скакал на своем коне с занесенным вверх палашом и оглядывался на преследователей, злобно сверкая глазами. „Гей! Брат мой! Так кто оказался прав?“ — вскричал вслед ему Вильгельм, сияя от удовольствия; Йозеф только метнул в его сторону взгляд и склонил угрожающе голову. Но счастье переменчиво. Неприятельская батарея, ударившая по флангу пруссаков, остановила их, а вскоре под усиленным огнем австрийских пушек пруссаки вынуждены были бежать; императорская конница, оправившись тем временем, атаковала со своей стороны отступившего противника. „Что скажешь теперь, брат мой?! — вскричал на сей раз уже Йозеф. — Смеется тот, кто смеется последним!“
Прусские всадники собрались между тем под прикрытием своей пехоты и вновь пошли в наступление. Теперь уже приятели сошлись лицом к лицу. Удар за ударом наносили они друг другу, а с обеих сторон собирались славные ратники, окружая тесным кольцом дерзновенных воителей. Когда дело наконец кончилось, Вильгельм и Йозеф лежали рядом посреди поля, умирая от ран, которые они нанесли друг другу в жаркой схватке. Но вот Йозеф, собравшись с последними силами и превозмогая боль, приподнялся и, обратив взгляд свой на лежавшего рядом приятеля, с улыбкой спросил: „А что думает брат мой теперь?“ Вильгельм протянул в ответ ему свою руку: „А то, что мы оба правы, брат мой, все мы славные ребята и отличные воины“. „Вот так-то, брат мой, именно так, — подтвердил Йозеф, — все мы единый храбрый немецкий народ и добрые христиане. Усни, брат мой, и благослови тебя бог…“ С этими словами он осенил себя и друга своего крестным знамением, и оба навсегда сомкнули глаза».
Непостижимый восторг Фуке перед войной, заставляющий его видеть поле брани прекрасным и величественным, проистекает от понимания им дворянства как военной касты нации. Экономические основы феодального порядка его не интересуют. Несмотря на то, что он живет доходами с крупного поместья, он никогда не имеет хоть сколько-нибудь дела с его экономикой и управлением. Вопрос прусской реформы его не занимает, а если в его сочинениях и находят отражение отношения между землевладельцем и его крестьянами, то они неизменно рисуются им как некая патриархальная гармония: рыцарский долг обязывает быть по отношению к простым людям добрым покровителем и по-отечески заботливым другом и советчиком. Если обе стороны блюдут свой долг, мыслит он, обе только выигрывают, ибо мирный труд поселянина охраняется господствующим классом, берущим на себя исполнение долга ратного. Досуг, которым располагает дворянин благодаря подневольному труду других людей, он должен использовать на то, чтобы «постигать благородное искусство владения оружием и совершенствоваться в нем», а также «с юных лет посвящать себя в таинства чести и вдохновенного мужества через беседу, созерцание, повествование», пишет Фуке после 1815 года, когда вынужден отстаивать свой консерватизм даже перед друзьями. Дворянские привилегии должны быть не упразднены, считает он, но обновлены с помощью рыцарской доблести. Лишь тот, кто не обладает таковой, то есть уклоняется от военной службы, не имеет права на привилегии. Фуке вынужден поступиться рыцарскими замками ради нового времени — скрепя сердце, конечно, ведь современные герои его романов только и лелеют мечту о том, чтобы возвратиться за стены и бойницы, а с ними, разумеется, и их автор. Несмотря на непонимание, критику и насмешки, он неизменно видит себя таким, каким описывает во вступительных стихах ко второму изданию «Ундины»:
А если спросит кто-то вдруг, Скажи: он рыцарь верный самый, Мечом и песней служит дамам В бою, на танце, на пиру.Но даже на благородном коне (вместо Росинанта) и без Санчо Пансы бранденбургский барон весьма смахивает на идальго Дон Кихота из Манчи, о котором он, впрочем, знал и которому симпатизировал, хотя и превратно понимал его. Он написал о нем статью в пятнадцать страниц, но так и не узнал в нем сходства со своей судьбой, ведь Дон Кихот, мыслит он, искал «странствующее рыцарство», он же — напротив — тесно связывал идею рыцарства с государством.
Наивность этого поэта, всю жизнь остававшегося ребенком, умиляет, но его, впрочем, можно охарактеризовать и словами Гейне, сказанными о «Зигурде» Фуке: «У него отваги хватит на сотню львов, а ума — на пару ослов»[202].
Поцелуй поэзии
Без сомнения, Грильпарцер[203] (в своей автобиографии) заходит слишком далеко, утверждая, что «большая часть нации ставила его (Фуке) рядом с гигантом Гёте»; но наверняка соответствует истине то, что по крайней мере в промежуток между 1810–1815 годами Фуке играл весьма заметную роль в литературной жизни Германии. Он чрезвычайно активно выступает как издатель антологий, альманахов, журналов; принимает деятельное участие в судьбах многих литераторов, пишет и переводит, ведет обширную переписку; но популярность он снискал себе прежде всего романами и рассказами. Благодаря поддержке Августа Вильгельма Шлегеля Фуке сравнительно быстро сделал себе имя, сначала как поэт и автор драматических произведений, затем как сочинитель прозы, которую писал быстро и которая легко читалась. Почти так же быстро его забыли. Его можно было бы назвать модным писателем, если бы это модное направление (хотя он его не создавал и не приспосабливался к нему, просто оно отвечало естественному направлению его мыслей) не называлось бы мрачным словом «национализм». Точнее, пожалуй, было бы сказать, что Фуке всегда оставался второстепенным писателем, но его вынесло на волне времени, которой соответствовал его стиль и в свете которой он смог выглядеть первостепенным. Нужны были герои — их находили у него. Когда они перестали быть нужны, стало видно, что эти герои — всего лишь ряженые куклы, насмешки же, которыми осыпали автора, выглядели вдвойне жестокими, ибо их в равной мере можно было бы отнести и к читателям: ведь это они, увлекаясь сюжетами и тенденциозностью его сочинений, принимали пеструю поверхностность за высокое искусство. За свою кратковременную славу Фуке пришлось долгие годы расплачиваться пренебрежением к себе со стороны читательской публики и издателей. Историки литературы перестарались в неуважении к нему как писателю на много лет вперед. Перефразировав остроумное замечание Бёрне о «кентаврообразных» романах Фуке, Георг Брандес[204] наконец снабдил (1875) нашумевший в свое время роман Фуке «Волшебное кольцо» ярлыком «поэзия для офицеров кавалерии»: «Единственное, что Фуке удалось осилить в этом романе, — это лошади».
До конца своих дней Фуке оставался плодовитым литератором, но успех сопутствовал ему лишь во времена наполеоновской оккупации, которая тяжким бременем легла на немецкий народ, оскорбляя его чувство национального достоинства. В поисках оздоровляющей силы обращались к древности, германской истории, в ней находили утраченное ныне былое единство и величие нации, а вместе с ними и христианство, окрашенное в национальные тона. Немецкое бытие, рыцарское бытие и христианское бытие объединялись в нечто целое, и под временной крышей этой идеологии уживались феодальные и антифеодальные настроения: шовинизм и демократизм Арндта и Яна[205], равно как и нешовинизм и реакционность Фуке, который был вовсе не демократическим писателем, но зато популярным. Все они выступали как союзники против общего врага, имя которому было не только Наполеон, но и Франция, Революция и Просвещение.
Поскольку в условиях французской оккупации дворянство опасалось, и не без оснований, за свои привилегии, а третье сословие и крестьянство страдали под бременем налогов, воинских постоев и запрещения торговли, национально-романтическое движение, особенно в Пруссии, смогло охватить широкие слои населения, которые стали благодарными читателями Фуке. Сюжеты из немецкой истории, мотивы скандинавского и германского эпоса, которые использовал Фуке, частично предвосхитив германистику как науку (она начала складываться только в эти годы под влиянием и как продукт этого же движения), привлекали своей новизной и тенденциозностью, действовавшей на немцев и способствовавшей усилению национального чувства; вместе с тем сочинения Фуке не представляли трудностей для чтения и понимания в сравнении с произведениями раннего романтизма. Хотя в его сочинениях и воспроизводятся всяческие исторические и географические подробности, события в них лишены подлинно реалистического содержания, все описания у Фуке приобретают фантастический и приключенческий характер; в них отсутствует идейная глубина, но язык его произведений доходчив, ибо сплошь и рядом шаблонен. Можно признать справедливыми слова Гейне[206], содержащие вполне позитивную оценку творчества Фуке: «Г-н Фуке… единственный представитель романтической школы, сочинения которого пришлись по вкусу также низшим классам». Однако можно сделать и менее радостный вывод: Фуке превратил романтическую литературу в тривиальную. (Разница в уровне между «Генрихом фон Офтердингеном» Новалиса и «Волшебным кольцом» соответствует примерно различию между Купером и Карлом Маем[207] — сравнение, напрашивающееся во многих отношениях, не только из-за лошадей, в описании которых Карл Май, впрочем, превзошел Фуке.)
Полное собрание сочинений Фуке не выходило в свет и, по-видимому, уже никогда не выйдет. Несмотря на громадную работу, проделанную Арно Шмидтом, далеко не все из сочинений Фуке, опубликованных в разное время и в разных изданиях, охвачены даже библиографически. Но если пуститься на розыски, то очень скоро станет очевидно, что труд этот себя не оправдывает. Слишком много не стоящего внимания, третьестепенного, написано этим далеко не самокритичным поэтом, о плодовитости которого Фарнхаген свидетельствует следующее:
«Буйная плодовитость и умилительная легкость пера заставляли его все, что только трогало воображение, облекать в поэтические рифмы и образы, и это подобие стихотворной импровизации, это постоянное присутствие поэтического одушевления и побуждение к выражению возвышали в глазах ближайших друзей, бывавших свидетелями того, как он писал, очарование и прелесть его творений, которые, если их рассматривать сами по себе и независимо от их возникновения, естественно, могли казаться чересчур незрелыми. Но меня очаровывало это обильное произрождение, которое совершалось словно бы на моих глазах, ведь у Фуке, мы знали, были не только доверху заполнены ящики стола уже завершенными рукописями — мы бывали свидетелями, как за короткое время нашего присутствия множился этот запас; ежедневно, ежечасно он испытывал потребность сочинять, в особенности в дообеденные часы, тогда он регулярно садился за стол и писал уже не отрываясь и почти не вымарывая, будь то стихи, драматические вещи или проза, столь быстро, как могло только двигаться его перо».
Наряду с массой посредственных стихов Фуке написано немало и низкосортной прозы. Особенно непостижимыми выглядят его сюжеты из современной жизни, ибо насильственное приспособление событий к тенденции здесь еще более очевидно, чем в сюжетах из истории. Это еще не так скверно, когда он в своих вымышленных историях выводит на сцену аристократов, как бы стилизуя современную ему действительность под средневековье; хуже, когда он изображает в качестве героев своих произведений персонажей из народа, которых вынуждает думать и чувствовать, как думал и чувствовал он сам. В «Пауле Поммере», например, дело доходит до того, что старый честный инвалид войны не только встает навытяжку перед своим приемным сыном, произведенным за проявленную им отвагу в освободительных войнах в лейтенанты, но и отказывает ему в руке своей дочери, ибо офицеру, считает он, не пристало жениться на девушке из бедной семьи.
Лишь немногое из того, что написано Фуке, годится для чтения и представляет интерес еще и сегодня. Тому, кто захотел бы понять причины успеха, выпавшего в свое время на долю Фуке, следовало бы прочесть драматическую трилогию «Герой Севера» (оказавшую сильное воздействие на Рихарда Вагнера), романы «Альвин», «Путешествия Тиодольфа-исландца» или «Волшебное кольцо», ведь, по сути говоря, не «Ундина» и не «Человечек из-под виселицы» определяют истинное лицо его поэзии. Фуке, если оценивать с позиции сегодняшнего дня, удавалось подняться до уровня хорошей прозы лишь в тех случаях, когда он отходил от своих глубинных взглядов, когда некие таинственные силы нарушали гармонию его вымышленного мира, когда он писал не о рыцарском утверждении и обращении язычников в христиан, а выдвигал в центр повествования отнюдь не великого героя (как, например, в «Человечке из-под виселицы»). Подобные отступления от свойственного ему в целом стиля происходят либо под воздействием используемого источника, либо когда в повествование вплетается автобиографическое, как, например, в «Иксионе», где во взаимоотношениях поэта со вдовой легко угадываются взаимоотношения Фуке с Каролиной, или в «Ундине», где пережитое им самим находит непосредственное отражение: «Но сердце его (пишущего) чрезмерно при этом страдает, ибо он сам пережил подобное, и память страшится даже тени былого».
«Ундина» снискала признание не только среди друзей, Шамиссо и Гофмана (который написал на основе ее сюжета первую немецкую романтическую оперу), она получила положительную оценку и у Гейне, столь чуждого Фуке по взглядам, писавшего о ней в своей «Романтической школе»:
«Но что за чудесная поэма эта „Ундина“! Сама поэма есть поцелуй: гений поэзии поцеловал спящую весну, и весна, улыбаясь, раскрыла глаза, и все розы заблагоухали, и все соловьи запели, и благоухание роз и пение соловьев наш милейший Фуке облек в слова и назвал все это Ундиной».[208]
И если она, несмотря на собрание рыцарей и духов и слащавый архаизированный язык, еще и сегодня может пленять, то причина, несомненно, в том, что пером автора водило не только воображение, но и жизненный опыт, что в искусственный мир Фуке ворвалось дыхание жизни. Хотя нечто похожее проблескивает и в других историях и романах (в «Алетес фон Линденштайн» прежде всего), такой гармонии все-таки ему уже больше никогда не удавалось достичь; и если Фуке все еще не забыт, то виной тому была и остается его «Ундина».
Восемьдесят страниц в сравнении с колоссальным множеством написанного, исчисляемого тысячами страниц. Здесь можно было бы со всей определенностью говорить о трагедии тенденциозного писателя и случай с ним поставить в назидание будущему: одних идей, хороших или плохих, недостаточно, чтобы вдохнуть жизнь в произведение искусства, заставить его волновать мысль и чувство читателя; это в состоянии сделать лишь тот художник, который не отворачивается от самой жизни (пусть он выводит в качестве героев хоть водяных).
Весьма убедительным представляется указание Арно Шмидта, что прообразом Ундины послужила пятнадцатилетняя девушка, в которую влюбился восемнадцатилетний корнет де ла Мотт в Вестфалии, но которая осталась для него недосягаемой и чей совершенный образ поэт пронес через все свои несчастливые браки. Этой боли он отдал всего себя до конца, этот конфликт вынес; но от конфликта со временем он уклонился или заменил его искусственной гармонией, которой не выносит искусство. Если поэзия предает природу (по имени Ундина), то ее не оживит даже поцелуй.
Бедный Фуке
Упоенному ранним успехом поэту нет еще и сорока, когда слава его начинает меркнуть. Эпоха Реставрации ослабила противоестественный союз феодальных и антифеодальных сил. Невыполненное обещание короля о конституции побуждает молодую интеллигенцию и представителей третьего сословия встать в оппозицию; но поскольку Фуке по-прежнему привержен трону, он становится чуждым основной массе своих читателей, которым, можно сказать, близок, если не по политическим убеждениям, то хотя бы духовно. Ведь среди знатного окружения, среди дворян, отношения с которыми он поддерживает, Фуке — чужеродное явление. Образованность, в особенности эстетическая, в среде поместных дворян ценится по-прежнему не слишком высоко, при дворе, в Берлине и Потсдаме, искусство интересует также весьма немногих. С ними-то Фуке и принужден вскоре сблизиться: а именно с наследным принцем, но более всего с принцессой Марианной фон Гессен-Хомбург, вышедшей замуж за принца Вильгельма, брата короля. С ней он сходится все ближе, но и тут с детской серьезностью сохраняет верность своей игре в рыцарство. Он певец, она госпожа. «Ее высочество Марианна изъявила желание, чтобы я сочинил трагедию», — сообщает он в одном из писем своему приятелю Мильтицу.
«Я уже как будто говорил тебе, что госпожа еще раньше милостиво удовлетворила мою просьбу о дозволении спрашивать у нее, что я должен писать и чего не должен… И стало быть, я примусь за сочинение, как скоро она предложит мне сюжет, который явится ее воображению».
Естественно, при таком выборе материала не может быть создано ничего, что хоть сколько-нибудь могло бы интересовать современников Вартбургского праздника и Карлсбадских соглашений. Вильгельм Гауф[209], ребенком рядившийся в древнегерманскую «юбку и добродетель Фуке», впоследствии разделивший политические идеи студенческих корпораций, в XIX главе своих «Мемуаров сатаны» не скупится на насмешки над «благочестивым рыцарем», который либо модернизирует средневековье, либо окутывает в средневековый мистицизм современность, в результате чего все «выглядит весьма мило» и «отдает приличной слащавостью». Это писалось в 1826 году, но уже за 10 лет до этого Фарнхаген сообщал Вильгельму Нойману о закате славы Фуке, обрисовав это следующим образом: «Барон уморительно смешно берет верх над поэтом. Бедный Фуке!»
Так думают все они, его друзья, которых все больше тяготит общение с ним. Они видят в нем писателя, оказавшегося в «плену собственной манеры» (Аттербом), они пеняют на его искусственность, на отсталость и ханжество, им претят, как, например, его доброму когда-то приятелю Карлу Борромеусу фон Мильтицу, эти неизменные разговоры о военной славе и чести, которые стали особенно невыносимыми для них, когда они на собственном опыте убедились, что такое война. «То, чего я искал в войне: достойных опасностей, поэзии, рыцарства, — ничего этого, видит бог, нельзя было найти; одно только омерзение, ужас и еще раз ужас…» — пишет Мильтиц, естественно, не для Фуке, которого не хочет обидеть. Этого не хочет никто, даже Фридрих Пертес, его бывший издатель из Гамбурга, не желающий больше печатать Фуке; чтобы не обидеть его, он облекает свой отказ в одном из писем от 1819 года в утешительные слова:
«Это правда, что твои сочинения читают нынче с меньшей охотой, нежели несколько лет назад… Но вооружись терпением!.. Все не так страшно, разве что ты какое-то время остался бы без издателя, и только! Так ведь и это определенно уладится… С неомраченным сердцем вперед, мой дорогой, мой милый Фуке! Сочиняй, пой, твори, и пусть не покидает тебя приятное, бодрое расположение духа!»
Однако сам поэт утешает себя, пожалуй, лучше, чем этот неверный издатель, когда сравнивает свою участь с судьбой других великих поэтов. Его стихотворение «Участь поэта» было напечатано уже в 1816 году в изданной им совместно с Каролиной «Записной книжке для женщин». Оно начинается так:
Светские повесы, Дамы и невесты, Весь ваш шум словесный Мне не повредит…Затем поэт призывает оставить ему его песни, складывающиеся на крыльях мечты; завершается стихотворение следующими строфами:
Высшее стремленье И крови волненье Недоразуменьем Кажется для вас. Как гордых птиц, поэтов Гнала судьба по свету Без ласки и привета И мне грозит сейчас. Привет, изгнанник славный, Ты, Данте, лучшим равный, Ты, Тассо своенравный, Привет мой шлю я вам! Мы скоро рядом ляжем, Друг другу все расскажем, С улыбкою покажем Рубцы всех наших ран.Его неумение оценивать себя, которое столь же велико, как и недостаток самокритичности, исключает для него возможность трезво видеть свое положение. Ему и в голову не приходит, что его сочинения могут быть безынтересны. Он воображает, будто клика политических врагов отечества не может простить ему верность королю и препятствует его продвижению по пути успеха; даже в последние годы жизни он все еще не хочет сдаваться и надеется, как и прежде, «противостоять бурным стремлениям века, наперекор кишащему миру и всей этой суете, которую по недоразумению и по привычке именуют духом времени», — читаем в его автобиографии 1840 года. Впрочем, он только настраивает себя бодро держаться и не сдается больше из упрямства: Фуке чрезмерно страдает от все возрастающего одиночества. Прежние друзья пренебрегли его идеалами, с тем «чтобы вольнее предаваться греховному брюзжанию и раздраженному умничанию» («Пауль Поммер»), и мир не знает благодарности. «У-у! Холодно мне», — читаем в его романе «Беженец» (1824), когда один из героев войны 1813 года предчувствует, что слава военного поэта (хотя б он и оросил золотые струны кровью своего благородного и верного сердца) недолговечна: «У-у! Холодно мне в глубочайших недрах жизни! То ли утренний холод сковывает меня после ночной скачки? То ли это стынет кровь от твоей жутко-леденящей вести о неблагодарном мире?»
Но жизнь готовит ему новые страдания. В «Истории жизни» он пишет:
«Ранним утром июля двадцать первого дня 1831 года пробудился я от сильного удара в дверь и стремительной беготни по дому, столь необычной в эти ранние часы, когда все вокруг еще бывает объято тишиной. Внезапный страх сковал мои члены. Сколько-то мгновений я отважился думать, что меня, постоянно мучимого сонливостью от длительных чтений по ночам, одолел сон и что на дворе уже день, и движение в доме связано, вероятно, с неожиданным приездом гостей, — всего несколько мгновений, не более, ибо через закрытые ставни сверху пробивался тусклый свет занимавшегося утра. С дрожью стал я натягивать на себя платье. Тут дверь стремительно распахивается, и на пороге появляется моя дочь Мария: „Отец! — взывает она прерывающимся от волнения голосом. — Пойдем, отец, матушке плохо!“ И, подавшись вперед, едва не рыдая, торопит, торопит меня: „Скорее, скорее иди, она умирает!“ Я бросился вон из комнаты. Любезная супруга умерла у меня на руках с благословением моим и мольбами. Ни звука не слетело со сладостных губ ее».
В церковной книге Неннхаузена содержится запись о том, что Каролина умерла в возрасте 56 лет 9 месяцев и 14 дней от грудной водянки. Прах ее покоится в парке, «под сенью чудесной дубовой рощи». В эти тягостные дни Фуке сочиняет стихи, названия которым он дает соответственно дням их написания: «В день смерти», «Днем позже», «Накануне погребения», «Немного позже»; несмотря на всю их благочестивую стереотипность, эти стихи дают все же возможность почувствовать боль, которую они должны облегчить ему. Вместе с надгробными словами эти «послания песни и скорби» (начинающиеся впечатляющей строкой «Не беги скорби») переписываются и вручаются «избранному кругу тех», кто «чтил усопшую как одну из остроумнейших и задушевнейших писательниц». То, что Каролина «была и навсегда останется» «духовным центром» семьи, вполне определенно явствует из строк, написанных «скорбящим, но нашедшим утешение в боге» супругом, который наверняка не хотел тем самым сказать, хотя это становится теперь важным моментом, что он был второстепенной фигурой и его терпели только как мужа помещицы.
Хотя он и оговорен в церковной книге и в завещании как наследник наряду с тремя детьми Каролины от первого брака и дочерью от второго брака, доля наследства его ничтожно мала. Помимо 40 талеров в месяц, за ним оставлено право проживать в Неннхаузене на даровщину — при условии, что он не вступает в брак. Но вдовцом он живет недолго, всего два года. Третий брак оказался не более счастливым, чем прежние.
В первые дни его разражается семейный скандал. Наследники Неннхаузена (среди них и дочь Фуке Мария) отрекаются от «теряющего рассудок» отца и отказывают ему от дома. Не потому, что новая жена Фуке Альбертина (домашнее имя Берта, Бертхен) моложе 56-летнего барона на 30 лет, — причина в том, что она была в доме прислужницей (компаньонкой дочери) и родом из бюргерской семьи, дочерью корабельного врача из Барта близ Померании.
Реакция родственников по тем временам не столь уж несправедлива, как это может казаться сегодня. В дружеском кругу берлинских романтиков известен следующий случай: отцу поэта и критика Вильгельма Шютца[210] пришлось купить себе дворянский титул и рыцарское имение, чтобы сын мог жениться на бранденбургской дворянке Барниме фон Финкенштайн. Спустя шесть лет, в 1832 году, Людвиг Тик написал навеянную этим событием новеллу «Доказательство дворянского происхождения», в которой старый дворянин рассуждает следующим образом:
«Барон или граф старинной, знатной фамилии, женящийся на девушке простого происхождения, поступает гораздо более низко и бессердечно, нежели тот, кто в порыве низменных чувств бесчестно соблазняет ее… Тут он по крайней мере не подрывает устоев государства, его грех падает на его только голову, несчастье обрушивается на тех двоих, кто совершил грехопадение, которого причиной бывает часто легкомыслие. Но на пути, кажущемся добродетельным, он делает истинно несчастными и себя, и девушку, а если у них есть родители, то и их; он вступает в тягчайший разлад со своими родственниками, дядьями и тетками, детей же своих лишает отличий и привилегий, которые предназначала им судьба; он подает, наконец, дурной пример, укрепляющий других, решающихся на подобное легкомыслие, и становится виновником того, что и в последующие поколения его гнусное заблуждение все еще приносит печальные плоды».
Однако влюбленный Фуке, до самой смерти придерживавшийся всех прочих сословных предрассудков, проявляет удивительнейшее упорство, действуя наперекор всему. Он навсегда покидает Неннхаузен, женится в Берлине и ведет бюргерскую жизнь писателя и приват-доцента в Галле. Помимо университетской деятельности, он читает лекции по литературе и новейшей истории, издает в 1836–1840 годы серию книжек под названием «Богатства мира на начало года… в иллюстрациях», которые в стихах комментируют текущие события, неизменно с реакционных позиций. Прочие поэтические сочинения продолжают по-прежнему выходить из-под его пера в том же изобилии, даже если издатели не проявляют к ним ни малейшего интереса. Со стороны кажется, что неравный брак, в котором между тем родился сын (его, как и второго, который появится на свет уже после смерти Фуке, нарекают среди прочих имен Фридрихом Вильгельмом), вполне благополучен. Однако в этот век расцвета доносов от властей не удается скрыть, что внешность обманчива.
Молодой французский писатель, часто бывающий в доме Фуке, подозревается прусскими властями в шпионаже; следовательно, к семье, проживающей на Ратгаузгассе, приставляют сыщика, который «покорнейше» берет на заметку все, что узнает из «достоверного источника» (без сомнения, через прислугу). Если верить тому, что пишет этот доносчик (бумага хранится в городском архиве в Галле), то госпожа баронесса не только состоит с французом в любовной связи, но и содержит его, а также доверяет присмотр за хозяйством, которое ведется расчетливо, «скупо и скудно». Весь день она с любовником и не терпит, «чтобы супруг ее входил к ней в иное время, кроме как к обеду и вечернему чаю». Француз «сопровождает ее до постели и помогает совершать туалет, и, когда он однажды замешкался за этим занятием до полуночи, а г-н Фуке вошел в комнату без доклада, намереваясь ложиться спать, она пришла в бешенство и закричала: „Болван, ты разве не видишь, что я еще не разделась, ты почему позволяешь себе входить ко мне раньше, чем следует? Отправляйся пока к себе!“ Г-н Фуке вернулся в свою комнату и, несмотря на усталость, прождал чуть ли не час, сидя у окна, пока его не позвали; и тут она устроила ему уже настоящую сцену: чуть не до утра она поливала его бранными словами: „Пьяная, мерзкая скотина!“… А выпивает он ежедневно две бутылки вина, несколько стаканов мадеры да еще три-четыре бутылки баварского пива и по целым дням просиживает у себя в кабинете за работой».
Бедный Фуке! Мечты о чистой любви и храбрых рыцарях нужны ему, верно, так же, как и поддержка в жизни и в смертный час, которую он предлагает всем в своем, может быть, самом прекрасном стихотворении — «Утешение»:
Когда б без огорчений Свободной жизнью жил, Не знал судьбы лишений И сам бы не грешил, Скажи, как мысль о смерти Сумел бы ты принять, Коль каждый час на свете Ты жаждал мир обнять? Но видишь — круг за кругом,— Слабеет жизни нить, Все чаще ходишь друга Иль близких хоронить. И уж к нездешней жизни Стремится грешный дух, Все чаще эти мысли, Хоть непривычны вслух.Несмотря на упования на потусторонний мир, в котором он ждет успокоения от земных страданий, поэт пытается забыться в хмельном угаре; к этому средству спасения Фуке продолжает прибегать и в Берлине, куда он переезжает с семьей в 1841 году, ибо романтически настроенный наследный принц взошел на престол и повысил пенсию своему любимому поэту. По-видимому, Фуке был в сильном опьянении в ту ночь, когда г-жа баронесса, которая должна была вот-вот родить, находит его в бесчувственном состоянии на ступенях лестницы дома на Карлштрассе и велит перенести в квартиру, где он умирает на следующее утро на 66-м году жизни. Насколько он был уже забыт духом времени, который не желал принимать всерьез, свидетельствует запись в дневнике, сделанная вскользь обычно весьма словоохотливым Фарнхагеном: «Вторник, 24 января 1843 год… две новости: Кенигсбергский Якоби оправдан Верховным королевским судом и еще — вчера умер Фуке».
Его могила на Берлинском гарнизонном кладбище на Линиенштрассе (неподалеку от Розенталерплац) и поныне сохранилась. Несколько книг, написанных им в последние годы жизни, и по сей день ждут издателя.
Брандербургские изыскания Повесть для любителей истории литературы
Пролог в театре
Театр переполнен, но это еще ни о чем не говорит, поскольку он самый маленький в столице — скорее театральная комната, нежели театральный зал. Сегодня здесь не спектакль, а доклад, первый из цикла «Забытые писатели — открытые заново».
Докладчик вымучивает заключительные фразы. Другой человек на сцене, тот, кто произнес вступительное слово, готов уже сказать слова благодарности и прощания. Вот он отделяется от спинки кресла, сидя выпрямляется, поворачивает лицо от докладчика к публике и, улыбаясь, приподнимается, чтобы коротким и остроумным заключением опередить аплодисменты, тут же бурно разражающиеся.
Хлопают долго. Даже зрители, которые торопятся и держат наготове гардеробные номерки, не решаются уйти. Докладчик несколько секунд судорожно улыбается, не вставая, делает нечто вроде поклона и нервно собирает свои бумаги. Но тот, другой, который, повернувшись к докладчику, аплодировал, широко взмахивая руками, быстро подходит к нему, тянет его вперед, к рампе, где и оставляет, а сам отступает в сторону и, то и дело указывая на него вытянутой рукой, продолжает хлопать. Докладчик кланяется раз, еще раз, озирается в поисках возможности удрать, но тот снова удерживает его. Рука об руку они спускаются в зрительный зал. На сцене остаются только два кресла в стиле ампир, красные с золотом. Реквизит тех времен, о которых в течение двух часов шла речь. На заднике возникает изображение некогда забытого и вот теперь открытого заново поэта — портрет, который когда-нибудь украсит школьные хрестоматии: выступающее из кружевного жабо длинное, узкое лицо, высокий лоб, доходящий чуть ли не до макушки, редкие светлые волосы, большие глаза, маленький рот, от углов которого к ноздрям пролегают строгие линии, — и аплодисменты вспыхивают с новой силой.
Каждый, кто бывает на лекциях, художественных чтениях или выступлениях писателей, думает, что знает, чем заканчиваются подобные вечера после того, как затихают аплодисменты: основная масса посетителей более или менее поспешно покидает зал и проталкивается к гардеробу, некоторые любознательные и охочие до знаменитостей слушатели пробираются вперед, чтобы расспросить докладчика, высказать свои соображения или рассыпаться в похвалах. Но на сей раз картина несколько иная. Правда, у выходов действительно столпились люди, спешащие к гардеробу, человек двенадцать — пятнадцать действительно устремились к сцене, но целью их был не докладчик с глубоко сидящими глазами на узком мечтательном лице (его, стоявшего между сценой и первым рядом, они едва ли замечали), а другой господин, который просидел весь вечер на сцене молча, внимательно слушая, и произнес лишь несколько скупых, хотя и полных глубокого смысла фраз; лицо его было не узким, а круглым и цветущим.
Итак, именно к этому человеку устремились люди: одни — полные ожидания, улыбающиеся, другие — серьезные, почтительные или робкие. Это к нему тянутся руки, это его поздравляют, это ему предназначены слова похвалы, благодарности, удивления, восторга, это ему задают вопросы, это с ним делятся своим мнением.
Каждому он отвечает — благодарит, возражает, спорит, объясняет — громким, полнозвучным голосом человека, привыкшего к публичным выступлениям и любящего их. Вокруг него толпятся. Робкие тоже отваживаются что-то сказать, то и дело раздается смех. Фоторепортер взбирается на сцену и сверху фотографирует группу. Когда виновник торжества замечает это, он машет рукой, встает на цыпочки, оглядывается вокруг, прокладывает себе путь сквозь толпу почитателей. Он ищет докладчика, настигает его в гардеробе и приводит обратно.
Теперь фотографируют их обоих перед сценой и на сцене, стоя и сидя. Но в радио- и телепрограмме будущей недели будет опубликована только одна фотография: известный по серии передач «Наша история и мы» профессор Менцель отвечает на вопросы зрителей. Так или примерно так будет написано под фотографией.
Первая глава. Встреча в лесу
Винфрид Менцель и Эрнст Пётч впервые встретились на тихой дороге между Липросом и Шведеновом в один из январских дней. Менцель без труда одолел покрытые лесами холмы, песчаная почва которых с готовностью всасывала зарядившие с рождества дожди, но в долине, переходящей в торфяное болото, там, где сточные канавы оказались переполнены, вода затопила луга и залила дорогу, автомобильное путешествие прервалось. Вопреки совету жены повернуть обратно Менцель решил пересечь трясину по луговому пригорку, но застрял в черной, превращенной лесоперевозочным транспортом в топь земле. Попытки выбраться на твердую почву задним ходом еще глубже вгоняли колеса в торфяное месиво, пока в конце концов машина не легла на брюхо. Теперь всякие дальнейшие попытки сдвинуться с места потеряли смысл. И вовсе не требовалось иронических восторгов фрау Менцель по поводу шоферского мастерства мужа, чтобы накалить атмосферу в накрененной машине. Но поскольку супруги были достаточно натренированы в ситуациях подобного рода, раздражение нашло косвенную разрядку в обсуждении вопроса, кому отправиться за помощью в Шведенов, прошлепав в изысканной городской обуви три километра по воде и грязи. Каждый из двух вариантов имел свои мнимо объективные обоснования, а так как Менцель, когда дело касалось количества и весомости аргументов, всегда был более находчивым, то промокнуть предстояло скорее ее, чем его, ногам, если бы в тот момент не произошла та самая встреча, которая сыграла столь решающую роль: на велосипеде прикатил Пётч.
Будущая дружба началась с того, что в машине торопливо опустили стекло, позвали велосипедиста, который неуклюже слез с сиденья, приблизился, осторожно ступая в резиновых сапогах, покивал в ответ на словоизвержение женщины, исследовал взглядом колеса, затем, не обращая внимания на дождь, двинулся с велосипедом через мост на пригорок, а супруги остались в тепле, курили, ждали, озабоченно отмечали, что расстояние между правой дверцей и уровнем воды все сокращается, и спорили о том, в чем причина: машина ли погружается, или вода поднимается. Дождь лил не переставая.
Когда сумерки начали сгущаться и вода достигла дверцы машины, раздался грохот тягача, на котором за спиной угрюмого водителя стоял Пётч. Пётч прикрепил трос и, как только машина достигла тверди, сообщил, сколько нужно заплатить трактористу; Менцель счел эту сумму недостаточной и, протянув из окна в три раза больше денег, сказал, чтобы Пётч поделил их с водителем, что потом заставило его устыдиться, ибо Пётч, не глядя, протянул деньги трактористу (кстати, это был его брат), поднял для прощального приветствия руку и намеревался уже взобраться на тягач, как его снова позвали из машины.
Менцель задал еще один вопрос, и ответ на него явился тем заветным словом, что и свело их вместе. Менцель спросил, есть ли еще опасные места по пути к шоссе в Липрос; Пётч ответил — да, не доезжая деревни, где лес спускается в низину у Шпрее и перекресток трех дорог перед заросшим камышами рукавом реки образует своего рода площадь, называемую Драйульмен (Три вяза), он должен держаться поближе к лесу, чтобы не угодить в новую грязевую ванну.
— Драйульмен? — спросил Менцель. — Местечко так до сих пор и называется? Может быть, и богадельня сохранилась?
— Вы знаете эту местность?
— Только из книг.
— Из книг?
— Да, из книг Макса Шведенова.
Тут Пётч, чье лицо и манеры выдавали человека, которого надо трижды попросить, прежде чем он решится воспользоваться чьей-либо любезностью, открыл без приглашения заднюю дверцу машины, опустил свои покрытые грязью (у фрау Менцель дух перехватило) резиновые сапоги на ковровую подстилку, уселся, насквозь промокший, на мягкое сиденье и в крайнем изумлении спросил:
— Вы знаете Макса фон Шведенова? Так вы, наверное, профессор Менцель?
Вторая глава. Забытый
Читателю ясно, что на этот вопрос мог быть дан только утвердительный ответ. Да, это был профессор Менцель, это он с женой пробирался через Бранденбургские болота и пески и едва не стал жертвой непокоренных сил природы. Велосипедист, вызволивший супругов из мокреди, тоже знаком читателю. Однако кто же, спросит читатель, тот третий, который здесь хотя и назван по имени, но никогда не сможет предстать самолично, этот книготворец, по-видимому, не бесспорно дворянского происхождения, этот Макс фон (а может, и не «фон») Шведенов?
Наиболее полную (для нашего повествования излишне подробную) информацию о нем могли бы дать эти два человека, которые во имя его и заключили дружеский союз и никогда не уставали говорить о своем Шведенове. Но прислушиваться к их разговорам о нем мало толку, потому что каждый из них исходил (вполне справедливо) из знания другим того, чего лишен читатель: самого элементарного и вместе с тем самого фундаментального знания — школьного знания — и энциклопедической премудрости, какую пока что негде почерпнуть, ибо в толковых словарях, справочниках о писателях и ученых, историко-литературных и научно-исторических энциклопедиях его имя не значится, ничего не сказано о нем и во «Всеобщем немецком биографическом словаре». Потому-то и уместно использовать короткую поездку этой троицы от торфяного болота до Липроса (ничем, кроме разговоров, туманных для непосвященных, не примечательную) для краткой информации, хотя будущим поколениям читателей она уже не понадобится, поскольку они получат ее в начальной школе из хрестоматии или учебника по истории, где будет помещен и неизвестно кем написанный масляными красками портрет, с которого серьезно и строго смотрит тощий молодой человек с детскими глазами.
По всей вероятности, под портретом будет написано: «Макс Шведенов, 1770–1813, прогрессивный историк и революционный поэт», а этого пока достаточно, чтобы понять, что породило заключенную на темной лесной дороге дружбу: объект исследования и интерпретации, к которому наши два персонажа пришли очень разными путями.
Совсем недавно об этом высказался профессор Менцель в радиоинтервью. Исходной точкой он взял известную цитату из Гёте (которую он наверняка знает наизусть), касающуюся культурного наследия. Сперва он назвал ее чрезвычайно важной, ключевой, сказал, что значение ее выходит далеко за рамки своего времени, а затем поставил вопрос, охватывает ли она весь круг относящихся сюда проблем, и смело ответил на свой вопрос отрицательно. Культурное наследие, которое нам надлежит освоить, обширнее того, что мы унаследовали от наших отцов: к нему относится и отброшенное, растраченное или позабытое ими. Ибо те, кого Гёте метафорически назвал «отцами», для нас ведь буржуазия, которая, хотя и охотно драпировала интересом к культуре страсть к наживе, вовсе не стремилась поддерживать прогрессивные тенденции. Давно, еще студентом, он пришел к мысли, что на карте нашего прошлого есть белые пятна, которые ждут исследования; эта мысль постепенно в нем зрела и дала ему силы систематически и последовательно изучать в своей области науки (как всем известно, он историк) несправедливо, но не случайно забытые имена. Скрытый намек Меринга натолкнул его на Шведенова. То обстоятельство, что последний был весьма значительным поэтом, оказалось созвучным индивидуальным склонностям профессора. Вскоре он представит общественности свою книгу об этом представителе немецкой революционной демократии — плод многолетних изысканий. Избранное им заглавие — «Бранденбургский якобинец» — делает, собственно говоря, излишним замечание о том, что данное открытие обогатит сокровищницу революционных традиций драгоценным камнем особого сияния. «Ибо в исторических и литературных творениях Макса Шведенова, — завершил свои рассуждения профессор Менцель, — дан блистательнейший ответ на вопрос, который штурм Бастилии поставил и перед Германией».
Когда Менцель однажды спросил, что привело его к Шведенову (мы забегаем во времена, когда оба друга были уже на «ты»), Эрнст Пётч не мог говорить о такой систематичности, о такой последовательности, о таком широком взгляде, которым охватываешь всеобщие задачи, чтобы решать их в своей специальной области. После долгих колебаний, после длительных размышлений, после попытки отделаться от вопроса кратким «случайно» он в конце концов смог повести речь лишь о себе самом, о своих чувствах, своих пристрастиях, своих интересах, даже об одной бесплодной любовной истории, о своих уроках, которые он стремился оживить краеведением или по крайней мере использовал его как повод, чтобы заставить вместо церковных книг изучать учебники, когда, например, ему казалось важным документально обосновать упоминание в одном из писем Шведенова о жительнице Липроса по имени Доретта.
Всегда, когда Пётчу приходилось говорить о себе, он сбивался с одного на другое, и Менцель, не имея терпения следовать за рассказом, резюмировал: «Значит, ты пришел к М. Ш. через краеведение», попав тем самым почти в точку.
Ибо Пётч любил лишь то, что было ему близко, и овладеть для него значило изучить как можно глубже. Если Менцель словно стоял на наблюдательной вышке и глядел через подзорную трубу вдаль, то Пётч как бы стоял с лупой на плоской земле, где любая изгородь закрывала обзор. Его знания были ограниченны, но в пределах этих границ — универсальны. Он не интересовался ботаникой, но окружавшие деревню сосны были изучены им вплоть до структуры древесины. Строительная техника не была его специальностью, но он хотел знать, каким образом сто пятьдесят лет тому назад, когда строили дом, в котором он живет, раскалывали валуны, чтобы наружные стены были гладкими. Рытье котлована толкало его к геологическим исследованиям, разговор с землемерами — к математическим. Всякая поездка в незнакомое место порождала сравнения, и лучшей частью путешествия оказывалось возвращение домой. Он был исследователем не дерзким, но дотошным, фанатиком детали, эрудитом частного. Макс фон Шведенов родился в Шведенове — значит, надо им заниматься. Липрос — место действия его романов, и этого достаточно, чтобы они стали Пётчу любы и дороги.
Менцель был прав: краеведение, конечно, источник одержимости Шведеновом, который никогда не иссякал, но это только один источник. Другой: Пётч ощущал душевное родство с этим человеком. В поэзии Шведенова он находил себя. В ней были сформулированы его чувства, описаны его страсти, предвосхищены его мысли. Пётч глядел в стихи и романы Шведенова, как в зеркало, и его охватывал восторг.
Все это простительно, но называть это, вслед за Пётчем, чудом все же не стоит, — не стоит хотя бы потому, что многое из того, что он, как ему казалось, нашел своего в поэзии, наверняка он сам перенял из поэзии. Кто знает, любим ли мы что-то потому, что оно похоже на нас, или же мы начинаем походить на то, что любим?
Менцель долгое время подозревал, что, родись знаменитый Людвиг Лейхгардт не в отдаленном на десять километров Требаче, а в Липросе или Шведенове, Пётч стал бы специализироваться на изучении Австралии. Когда Менцель задал этот вопрос, Пётч очень серьезно и долго раздумывал, прежде чем дать отрицательный ответ: он обижался на Лейхгардта за то, что ни в «Проблемах геологии Австралии», ни в «Дневнике экспедиции из Моретон-Бея в Порт-Эссингтон» нет ни слова о Требаче или верхней Шпрее.
Третья глава. Испытание
Как свидетельствуют топографические карты, в том месте, которое называется Драйульмен и где сходятся лесные дороги из Арндтсдорфа, Шведенова и Гёрца, еще в начале нашего века стояла Липросская богадельня. В этом доме (когда он еще не был приютом для бедных) с 1804 по 1810 год жил уже известный читателю историк, романист и поэт; там же были созданы его поздние творения: «Достопримечательные события коалиционных походов до Базельского мира» в трех томах, памфлет «Мирный союз», сборник стихотворений «Увядший весенний венок», романы «Барфус», «Мужлан», а также «История Эмиля Германского». Вязов («Весело ввысь вознеслись вы из крепких корней», — говорится в стихотворении «Родные места») не было уже во времена Франца Роберта, первого исследователя Шведенова; дом, который никогда не украшала мемориальная доска, был снесен после первой мировой войны, когда село, строясь, растянулось до рукава Шпрее. Чтобы разыскать фундамент, Пётчу пришлось заняться раскопками.
Он стоял с Менцелем в темноте среди сосен и объяснял, какой вид здесь открывался с порога дома сто семьдесят лет назад, когда склоны еще не были покрыты лесом: в центре село, спрятанное за липами, слева озеро, в которое впадал тогда еще судоходный речной рукав, справа замок на острове, образуемом Шпрее, рукавом Шпрее и защитным рвом вокруг замка. Кстати, габаритами и предполагаемым внешним видом (судя по форме кирпича, дом построен до 1730 года) богадельня в точности соответствовала той, что описана в «Эмиле». Пётч был уверен, что нашел даже остатки той увитой жимолостью беседки, где состоялось решительное объяснение Эмиля со своим отцом.
Когда речь шла о деталях, он умел говорить увлекательно и образно, и ему удалось свершить чудо (не подозревая, разумеется, что это чудо) — превратить профессора в молчаливого слушателя.
Интерес Менцеля был велик, но еще больше он боялся простудиться. Он уже чувствовал на плечах сырость, и, поскольку оставшаяся в машине жена каждую минуту сигналила, он решил вернуться.
Вскоре они остановились на широкой аллее посреди села, где в скупом свете уличных фонарей сквозь запотевшие стекла можно было полюбоваться контурами дома пастора, церкви и старого господского дома. Как раз на этом месте, объяснил Пётч, молодой граф Барфус выпрыгнул из кареты, когда вернулся из Франции и увидел пылающий замок. А вон к той липе справа, должно быть, прислонился в темноте двадцатилетний Макс, когда пробрался из Шведенова, чтобы увидеть хотя бы тень Доретты в окне пасторского дома. Но тропинки к Требачской роще, где, прошептав: «Теперь я твоя навеки», Доретта обручилась с ним, больше не существует, она ответвлялась вон там впереди, где теперь стоит новый магазин. На месте рощи совсем недавно построена башня.
После многих лет исследования встретить наконец человека, который знает объект твоих изысканий столь же глубоко, как ты сам, было знаменательным событием равно как для Менцеля, так и для Пётча, — это можно сравнить с радостью человека, путешествующего, не зная языка, по чужой стране и встретившего там соотечественника, который его понимает и с которым можно разговаривать, словно ты дома: он понимает все оттенки, до него доходит каждая шутка, каждый намек.
Они говорили о Максе и Доретте, о графе Барфусе, об Эмиле и полковнике как об общих близких знакомых, обсуждали (намеками, большего не требовалось) разговоры, приключения, жесты и выражения лица таким тоном, будто они обменивались собственными сокровенными воспоминаниями. Один начинал стихотворение, другой восторженно подхватывал его. Они коснулись и неисследованных вопросов, кратко высказывая свои соображения. Действительно ли он встречался, как можно предположить по одной записи в парижском дневнике, с Робеспьером? Кого он имел в виду, говоря о «высокородной женщине», графиню Липрос или, может быть, королеву Луизу? Где находятся последние дневники? Кто тот друг, который издал сохранившиеся письма? Какова точная дата смерти их кумира, где он похоронен?
Радость эти беседы доставляли обоим одинаковую, но потребность в них была разного рода. Если Пётч давал выход распиравшему его желанию поделиться своими знаниями, то Менцель с первого же момента шел к определенной цели. Кажущийся беспорядочным разговор незаметно направлялся им. Вопросы, которые он ставил, не адресовались впрямую Пётчу — это были своего рода тесты. Он испытывал потенциального союзника. И Пётч это испытание выдержал в целом блестяще, хотя и не во всех областях одинаково. Никаких объяснений не требовалось при упоминании даже третьестепенных фигур — любая дата, любое место действия назывались правильно, безошибочны были и сведения социально-исторического и политического характера. Но когда речь заходила об историографии, философии и немецкой литературе, Пётч оказывался не на высоте. Биографические же детали и их отражение в творчестве испытуемый знал лучше испытателя. Правда, профессор не обратил на это внимания.
— Нет, в другой раз! — Это сказала жена, хотя вопрос был адресован не ей, а мужу, который с улыбкой лишь пожал плечами. В своем безмерном воодушевлении, лишившем его способности почувствовать настроение фрау Менцель, Пётч предложил осмотреть замок, до которого можно было добраться только пешком через двор бывшего поместья. Даже указание на близость замка (всего лишь метров двести) не могло повлиять на решение фрау Менцель. Одной только мысли о том, сколько грязи налипнет на рубчатую подметку резиновых сапог и окажется в машине (чистка которой была ее обязанностью), плюс еще желания поужинать было бы достаточно, чтобы она осталась непреклонной. К тому же она — с полным основанием — чувствовала себя забытой.
Правда, она привыкла, что в ее дом приходили ради мужа, а ее делом (она была детским врачом) интересовались лишь тогда, когда она была нужна (то есть когда милые детки болели), но это всегда были хорошо воспитанные люди, старавшиеся скрасить ей второстепенную роль тем, что время от времени заставляли мужа отвлечься от профессиональной тематики, поболтать о том о сем, наводили разговор на общие медицинские темы, чтобы дать ей возможность вставить слово, или по крайней мере пытались флиртовать, хвалили придуманное ею (хотя и не ею сшитое) платье или отмечали ее моложавую стройность. А для этого Пётча она, казалось, вообще не существует как самостоятельная личность. Если он, живописуя исторические детали, смотрел на нее своими глубоко сидящими глазами, он смотрел так же, как и на ее мужа. В этих глазах она была не красивой женщиной едва ли старше самого Пётча, а всего лишь супругой или придатком (в гневе это выражение показалось ей особенно метким) профессора. Пётч считал само собой разумеющимся, что она обладает такими же знаниями и одержима такими же интересами, и он был настолько нечуток, что не заметил, как быстро в ней пробудился рефлекс, выработанный осточертевшими ей шведеновскими проблемами: простого упоминания имени историка было достаточно, чтобы вызвать у нее неодолимую зевоту, которую никаким напряжением воли нельзя было подавить. Не обратил Пётч внимания и на неоднократные поглядывания на часы. Ее непрерывное молчание лишь подстегивало его непрерывное словоизвержение. Только ее решительное «нет» в ответ на предложение осмотреть замок заставило его умолкнуть, причем так внезапно, что она пожалела о своей грубости. Поэтому, прощаясь, она излишне долго распространялась по поводу того, что для ее мужа (не для нее) их встреча много значит.
Когда Пётч снова стоял под равномерно падающим дождем, Менцель еще раз открыл дверцу и ошарашил его вопросом: где он собирается напечатать свои изыскания?
Графически наиболее выразительной передачей реакции Пётча были бы три строчки вопросительных знаков. Ибо он не знал, что ответить, он даже не смог сказать, что еще не думал об этом.
Менцель же в свою очередь не смог верно истолковать это молчание. Он счел это тактикой, внушающей уважение.
— Мы еще поговорим об этом. Когда вы приедете?
— Скоро, если позволите.
— Позвоните прежде.
Впервые в жизни Пётчу была вручена визитная карточка. Он бережно спрятал ее во внутренний карман своей куртки. Час ходьбы до Шведенова не показался ему долгим. Едва ли он заметил, что дождь перешел в снег. Он пытался определить тему статьи, которую напишет. Пройдя затопленный участок пути у торфяного болота, он уже знал, как озаглавит ее — «Поиски одной могилы».
Четвертая глава. Золотые мечты
Вместе с фрау Пётч в наш рассказ входят сразу четыре других человека, которых во избежание перенаселения лучше было бы обойти, если бы мы не боялись исказить сцену возвращения домой, когда в душе Пётча пробились ростки, коим со временем предстояло вымахать в ядовитые растения внушительных размеров.
Имена этих четырех: Альвина, Фриц, Людвиг и Доретта. Это были мать, брат и дети Пётча; обслуживаемые снующей между столом и плитой хозяйкой дома, они сидели в кухне за обеденным столом, шумно и много ели, запивая колбасным бульоном, и не прервали разговоров, когда в кухню вошел Пётч, насквозь промокший и продрогший, но согреваемый мыслями о статье. Взрослые, то есть мать Альвина (называемая бабулей) и братец Фриц, говорили о продаже сена, дети — об интимных делах липросских учителей. Принять ли предложение Паквица об обмене (сена на поросенка) или лучше подождать весны, когда сена будет мало и оно вздорожает? Родится ли у учительницы русского языка ребенок или нет, и если да, то когда и от кого?
Переполненному впечатлениями и мечтами Пётчу не терпелось поделиться ими, а его втягивали в разговоры, которые его совершенно не занимали. Он ел и пил, высказался по поводу рыночной конъюнктуры, уклонился от конкретных суждений о степени правдивости школьных слухов и ждал конца обеда, казавшегося ему, как никогда, долгим. Впервые он признался себе, что всегда страдал в этом кругу, выбрав для этого признания классическую формулу: чужой в собственном доме.
Наконец обед кончился. Бабуля прошлепала в гостиную к телевизору. Братец Фриц, натянув кепку и куртку, двинулся в пивную. Дети после многократных призывов отправились спать. Он остался наедине с женой. Теперь он мог говорить. Но прежде чем позволить Пётчу заговорить, надо объяснить, что означают его первые слова («твой знаменитый однофамилец…»). Дело в том, что фрау Пётч, по имени Элька, родилась хотя и не в Шведенове, а в районном центре Беескове, в девичестве носила фамилию Шведенов, как, кстати, и две из одиннадцати семей, населявших Шведенов. Тот, кому знакомы эти края, знает, что это не столь уж необычно. В Липросе тоже есть семья по фамилии Липрос, в Арндтсдорфе есть пекарь Арндтсдорф, а если в Гёрце отправиться на кладбище, можно найти там напоминание о многочисленных покойниках, называвшихся так же, как место их рождения. Этот факт не ускользнул от внимания Франца Роберта, первого исследователя Шведенова, и побудил его предположить, что утверждение, которое распространили друзья историка и писателя после его смерти, будто Макс фон Шведенов — это псевдоним и означает он только то, что Макс происходит из Шведенова, — утверждение это неверно; согласно теории Франца Роберта, Шведенов происходил из шведеновской крестьянской семьи по фамилии Шведенов и присвоил себе приставку «фон» из юношеского тщеславия. Поскольку документальные подтверждения отсутствовали, это положение было столь же недоказуемо, сколь и первое, тем не менее профессор Менцель охотно принял его, то есть зачеркнул «фон», зато присвоил писателю почетное определение «мелкобуржуазно-революционный демократ барщинно-крестьянского происхождения», вследствие чего фрау Пётч превратится в прапраправнучку Шведенова, когда он спустя несколько месяцев, в начале лета, представит ее большому обществу как урожденную Шведенов из Шведенова, чтобы затем, обратясь к Пётчу, шутливо заметить: теперь мы наконец знаем, что приводит к научным открытиям, а именно любовь к женщинам.
Замечание остроумное, но в данном случае неверное: Пётча привела к писателю не любовь к жене. Уж вернее было бы сказать: писатель привел Пётча к жене. Ибо нельзя отрицать, что фамилия избранницы имела значение для молодого человека. Робкому ученику средней школы-интерната эта фамилия не только дала повод сблизиться с ее носительницей, — фамилия придала ей особый интерес в его глазах. Он почитал Макса фон Шведенова и сам происходил из Шведенова, могла ли Элька Шведенов, и так не лишенная привлекательности, не стать в его глазах особенно привлекательной? И разве исключено, более того, разве не вполне вероятно, что писатель Макс и девушка Элька состояли в каком-нибудь родстве? Можно, однако, надеяться, что даже твердая уверенность в этом не сыграла бы решающей роли при выборе. Будь Элька черства, болтлива, толста или одержима стремлением к роскоши, любовь наверняка не вспыхнула бы. Он любил ее не из-за фамилии, но фамилия была одним из источников его любви; и он настолько был одержим своими изысканиями, что лелеял мысль (хотя и не высказывал ее): а может быть, наши дети в родстве с Максом фон Шведеновом.
Когда родился второй ребенок, Доретта, он уже не думал этого, потому что тем временем ему пришлось, хотя и с неохотой, признать, что опровергаемая Францем Робертом легенда, будто Макс фон Шведенов — это псевдоним, к сожалению, справедлива.
И потому, когда дети наконец улеглись, бабуля задремала перед телевизором, а брат Фриц продолжил свои переговоры о сене с Паквицем в пивной, он начал в этот дождливо-снежный вечер свой рассказ не словами «твой знаменитый предок…», а заговорил об однофамильце жены, который теперь прославит и его самого.
Поскольку настроение у него было хорошее и его позабавило сравнение своей будущей малой славы с будущей великой славой писателя, он засмеялся, и его жене было бы очень к лицу, если бы она посмеялась вместе с ним. Однако она этого не сделала. Не переставая мыть посуду, не обернувшись, она спросила, склонясь над тазом: «Как так?» — что тоже неплохо, ибо вопросы свидетельствуют об интересе, и теперь он мог приступить к рассказу, начиная от застрявшей машины до вопроса, где он собирается публиковать свой труд. Он рассказывал живо, подробно, передавая и слова, и интонации, но, когда он дошел до того, как дверца машины (в его рассказе) захлопнулась и он блаженно стоял под дождем, переполненный счастьем первой профессиональной беседы о Шведенове и захваченный золотой мечтой напечататься, жене ничего другого не пришло в голову, как заметить: а отвезти своего спасителя домой господин профессор не догадался.
Вместо того чтобы ответить, Пётч размечтался вслух о планах предстоящей статьи, с упоением излагал сложные ходы своей мысли, которые уже привели его к постижению простого факта, что писать стоит лишь о том, чего никто другой не знает. Сам профессор Менцель (чье имя он никогда, даже в кухне, не называл без титула) будет поражен! Он, ученый, узнает от него, деревенского учителя, нечто новое, можно сказать сенсационное, если ему удастся доказать, что не только имя, но и год смерти Макса фон Шведенова установлены неправильно (эта мысль совершенно неожиданно озарила его в темноте под дождем).
На этом месте Пётч сделал паузу, чтобы дать жене возможность выразить свои эмоции. Она воспользовалась ею, но не для возгласа удивления или вопроса, свидетельствующего об интересе, а для того, чтобы (после слова «дождь») дотронуться до его пуловера и, ощутив его влажность, посоветовать сменить его.
Воодушевления Пётчу хватало на двоих, и потому, когда жена (а вслед за ней и муж) отправилась в спальню, открыла шкаф, достала пуловер, подождала, пока Пётч стянул влажный и надел сухой, вернулась в кухню, это прервало мытье посуды, но не рассуждения Пётча, доведшего свою тему до раздела: «Документы». Франц Роберт не нашел никаких документов. На то обстоятельство, что в день, который Макс фон Шведенов неоднократно называл своим днем рождения, в липросской церковной книге (Шведенов не имел собственного прихода) было записано рождение некоего Фридриха Вильгельма Максимилиана фон Массова, сына полковника в отставке и управляющего лесничеством Шведенов Королевства Прусского, — на это обстоятельство Франц Роберт не обратил внимания, вероятно, потому, что вслед за этой записью другой рукой и другими чернилами помечено: умер в 1820-м в Берлине. Ибо он, по-видимому, не сомневался в правильности распространенного друзьями Шведенова сообщения: писатель погиб в 1813 году под Лютценом.
Фрау Пётч кончила мыть посуду, вытерла стол, подмела пол — все время сопровождаемая речами мужа, который стоял возле таза с полотенцем в руках, но посуду так и не начал вытирать, ибо им владело нечто более высокое — например, десятки свидетельств: военное прошлое отца, упоминаемые в письмах родственники, позволяющие полагать, что речь идет о влиятельной аристократической семье, художественно малозначительная, но в биографическом аспекте, по-видимому, многозначащая повесть «Потерянная честь», в которой некий полковник фон М. (!), уволенный в отставку якобы за трусость в битвах под Иеной и Ауэрштедтом, борется за свою реабилитацию, и многое другое.
Кухня-столовая была достаточно просторной, чтобы ходить по ней взад-вперед, что Пётч и делал, развивая перед женой план предстоящей работы. Каждый раз, проходя мимо жены, давно забравшей у него кухонное полотенце, он получал в руки тарелки, чашки или миски, которые, продолжая говорить, относил в шкаф и там расставлял их так нескладно, что вскоре жена, не перебивая его, подошла и навела порядок, в то время как он, проговаривая, уточнял свои мысли, намечал разбивку статьи на главы и прикидывал, какие усилия потребуются, чтобы просмотреть все берлинские книги регистрации смертей за 1820 год, — усилия, которые могут оказаться и тщетными. Ибо доказательство того, что некий Максимилиан фон Массов умер в Берлине, еще не опровергает утверждения, что Макс фон Шведенов пал в 1813 году за короля, отчизну и свободу. Возможно, ему придется реконструировать жизнь этого фон Массова.
— Мне придется много разъезжать, Элька, — закончил он, когда жена, стоя уже в дверях, еще раз посмотрела, хорошо ли убрана кухня. Осмотр не удовлетворил ее, и она снова взялась за веник, поскольку его научная ходьба оставила следы.
Но она не проронила ни слова о резиновых сапогах, а усадила мужа на стул и стянула их с него.
— Может быть, лучше заняться сперва списками павших, — сказал он, когда она принесла ему домашние туфли.
Пятая глава. Деревенские известия
Липросское почтовое отделение обслуживало также Шведенов и Гёрц. Заведующей почтой и почтальоном была фрау Зеегебрехт. Лучше ее никто не был информирован о жителях всех трех общин. Но считать ее хорошим информатором, разумеется, нельзя — она настолько серьезно относилась к почтовому запрету разглашения чужих секретов, что делилась лишь частью известного ей. О людях, которые ей нравились, она рассказывала только хорошее, о других — плохое, но и то и другое не в полном объеме. Таким образом, она могла считать свою профессиональную совесть чистой, а слушатели должны были понять, что она знает больше, чем говорит. Имена она называла неохотно, но за два десятилетия своего пребывания на посту заведующей установила такую четкую систему описаний, что всякие ошибки исключались. А когда собеседник, догадавшись, называл имя, она торжествующе восклицала: «Но это сказали вы, а не я!»
Наряду с традиционными источниками информации — открытками, телеграммами, посещениями на дому (почтовые ящики она принципиально игнорировала) — монополия на телефон также служила утолению ее жажды знаний. Ведь в Липросе и Шведенове личных телефонов нет. И если не хотелось улещивать бухгалтершу сельскохозяйственного кооператива, или школьную делопроизводительницу, или секретаршу общинного совета, то приходилось звонить от фрау Зеегебрехт, которая обязана была при сем присутствовать, поскольку она не имела права оставлять без надзора почтовую кассу, когда в помещении находился клиент. Она звонила на коммутатор в Беесков, обменивалась новостями со знакомыми телефонистками или знакомилась с незнакомыми, а когда абонент оказывался на проводе, неохотно передавала трубку и, даже и не пытаясь скрыть своего любопытства, усаживалась рядом с говорящим — с озабоченным или улыбающимся лицом в зависимости от темы разговора. Ей явно стоило великого труда не вмешиваться, но, серьезно относясь к своим обязанностям, она превозмогала себя и после окончания разговора к теме его возвращалась лишь в том случае, если чувствовала, что не досадит этим клиенту.
Любой разговор по телефону был для Пётча волнующим событием, а уж с профессором Менцелем тем более. И особенно трудно было вести разговор при свидетеле, стараясь не дать пищи любопытству.
Восьмидневная отсрочка, которую Пётч считал необходимой для соблюдения приличий, была наполнена разнообразнейшими размышлениями о характере предстоящего разговора, которые, однако, не привели ни к каким результатам, ибо реакцию профессора невозможно было предугадать. В конце концов он зашел в своем пессимизме так далеко, что решил: надо сперва осторожно напомнить Менцелю о встрече под дождем. Поэтому он отказался от придуманных в первые дни остроумных вариантов своих начальных фраз, обыгрывающих тождество имени писателя и названия местности, и твердо остановился на неоригинальном начале: «Простите, пожалуйста, за беспокойство, господин профессор, меня зовут Пётч, может быть, вы помните: я учитель из Липроса, с которым вы на прошлой неделе говорили о Шведенове».
Все это он в точности и сказал после того, как фрау Зеегебрехт получила у телефонистки информацию о снегопадах последних дней и нерасчищенных улицах, вернее, все это он в точности хотел сказать, но едва успел произнести свое имя, как профессор прервал его словами: «Как хорошо!» Пётч очень обрадовался, и маленький рот фрау Зеегебрехт растянулся в улыбке.
Она подвинула свой служебный стул так, чтобы можно было удобно сидеть и вместе с тем видеть разговаривающего по телефону. Ее взгляд был благожелателен, его же — судорожно метался мимо нее, к окну, к полу или потолку. При всем том, что Пётч был сосредоточен на важном разговоре, в глубине души его мучило сознание, что он невежлив по отношению к женщине, терпеливо выжидающей на своем посту, хотя информационная ценность разговора для нее ничтожна. Ее лицо свидетельствовало об этом: с каждой минутой оно становилось все более недовольным.
Ибо, кроме слов: «Простите за беспокойство, господин профессор, меня зовут Пётч…» — и его минутной радости, что-то ей тоже сказавшей, она слышала лишь часть этого безбожно дорогого — потому что длинного — диалога, носившего необыденный (она это понимала) характер, — часть, которая ничего не означала или что-то скрывала. «Да… Да… Конечно… Я понимаю… Разумеется. Непременно… Вот как!..» — и это продолжалось пять, десять, двенадцать минут, без малейшего смысла для нее. Фрау Зеегебрехт редко приходилось так скучать при телефонных разговорах.
Пётч, напротив, совсем не замечал, как бежало время. «Как хорошо!» — сказал Менцель и, обойдясь без всяких банальных вопросов о здоровье или погоде, сразу заговорил об их общем деле, то есть о своей книге, которую он окончательно отделывает, шлифует стиль, вносит небольшие поправки и в содержание, уточняет биографические детали, увиденные им в новом свете после разговора под дождем у Трех вязов («Вам, наверное, доставит удовольствие услышать это, господин Пётч»). Правда, в его произведении биографическое отступает перед идеологическим на задний план, тем не менее оно играет свою, хотя и небольшую, роль. И поскольку это наверняка интересует Пётча, а рукопись как раз у него под руками, Менцель тут же прочитал упомянутый пассаж и еще один, тесно связанный с ним, но нуждающийся в некоторых предварительных замечаниях, чтобы Пётч понял направленную против буржуазных историков иронию, а это в полном объеме возможно лишь при уяснении структуры всего отрывка, который надо рассматривать в контексте рассуждений об историзме, образующих своего рода аппендикс.
Так это и продолжалось минута за минутой, и, хотя Пётч никогда не слышал об историзме и понятия не имел, что такое аппендикс, он время от времени произносил свое «да, да, да», причем это кратчайшее из всех слов было слишком длинно для тех пауз, которые Менцель допускал между частями своей речи. Но интерес Пётча был не менее велик, чем радость оттого, что Менцель воспринимает его как собеседника, и он ничего не замечал. Он ведь и не собирался излагать по телефону волновавшие его проблемы. Для этого требовался визит к Менцелю, о чем в заключение и зашла речь. Столь же внезапно, как и начал, профессор оборвал разговор и спросил, может ли Пётч прибыть к нему в среду, в 16 часов, и попрощался. Лишь по размеру счета Пётч узнал, как много своего драгоценного времени пожертвовал ему профессор.
Но прежде чем об этом сообщили с коммутатора, прошло несколько минут. Вот они-то показались ему действительно долгими. Потому что теперь ему пришлось разговаривать с фрау Зеегебрехт, находившейся в скверном расположении духа. Улучшить его можно было бы, поведав ей о своей беседе. Он же не сделал этого, а заговорил об уровне воды в Шпрее, о состоянии школьного питания и о предполагаемой беременности учительницы русского языка — без малейшего успеха. Эти устаревшие новости не могли расшевелить фрау Зеегебрехт, и потому она в последующие дни поделилась с благорасположенными к ней шведеновцами обрывками новейших известий, не называя никаких имен; однако, соединив эти известия воедино, можно было понять: какой-то профессор пишет в Берлине книгу об их селе, и некий неназываемый учитель снабжает его материалом — значит, будьте осторожны!
Шестая глава. В преисподней
Не только для того, чтобы читатели лучше поняли восторг Пётча, но и ради их собственного удовольствия хотелось бы, чтобы эта глава помогла им наглядно представить себе, какие прекрасные и драгоценные вещи увидел деревенский учитель в среду ровно в 16 часов, приведя в действие звонок на садовой калитке профессора Менцеля. Из боязни опоздать он прибыл слишком рано, но, чтобы не показаться назойливым, предпринял прогулку по поселку с виллами, простирающемуся до леса, стараясь упорядочить мысли, которые собирался изложить профессору, но при этом так запутался, что, погрузившись во внутренний хаос, совершенно не видел открывшейся перед ним красоты. Медная ручка звонка, представлявшая собой кольцо из сплетенных девичьих фигур с маленькой, в булавочную головку, грудью, для него ничем не отличалась от тех пластмассовых кнопок, что продавались в липросском кооперативе. Стоя у ограды с искусным орнаментом, он видел дорожки между цветочными клумбами, тщательно ухоженный (даже зимой) газон и мог бы полюбоваться неоготической виллой, если бы взгляд его не сосредоточился лишь на крошечной части ее, а именно на двери, где мог появиться профессор.
Таким образом, пока что он был слеп к красотам, но не глух к благозвучию звонка, который он привел в действие, подняв кольцо из переплетенных девичьих фигур. Сквозь послеобеденную пригородную тишину до него донеслось трезвучие гонга в сопровождении радостного собачьего лая, сперва приглушенного стенами дома, но внезапно загремевшего из каменных привратных столбов у самого его уха.
Электроакустическое разговорное устройство, несколько десятилетий свидетельствовавшее об особой изысканности жилища, теперь знакомо любому жителю высотного дома и нисколько его не пугает. Но Пётч, деревенский житель, отделенный почти десятилетием от поры четырехгодичного студенчества в Берлине, хотя и знал о существовании подобных устройств, никогда не имел с ними дела, и потому неожиданное усиление лая испугало его и он не сразу догадался, что и куда говорить, когда сквозь шум и лай раздался женский голос: «Кто там?»
Последовало второе «Кто там?» и раздраженное «Да кто же там?», пока Пётч не нашел не замеченную прежде переговорную решетку и столь же громко не прокричал в дверной косяк свое имя. Обнародованная таким способом неосведомленность имела свои преимущества: голос дал Пётчу подробные указания, как открыть дверь, что он в точности и выполнил. По дорожке, выложенной красными и серыми гранитными плитками, он дошел до дома, из которого ему навстречу прыгнул длинношерстный сенбернар величиной с теленка, быстро притихший, когда Пётч стал поглаживать и похлопывать его.
Красота собаки — вот единственное, что из всех красот, в течение нескольких часов окружавших его, он отметил в своем сознании, и то не без расчета. Он боялся первых минут разговора, обычно заполняемых ничего не значащими любезностями, на что он, с глазу на глаз с профессором, в особенности с этим профессором, не чувствовал себя способным. Но поскольку шведеновские крестьяне, вступив в кооператив и имея теперь больше досуга, обратили свою нереализуемую частную инициативу на разведение породистых собак, локальный универсализм Пётча распространился и на эту область любительского промысла. Он разбирался в собаках и надеялся, что сенбернар, которого при известной осторожности он уже мог держать около себя, станет незаметным поводом для того, чтобы начать целенаправленный разговор.
Но этот расчет, к сожалению, оказался неправильным, ибо Менцель, как только появился, во-первых, прогнал собаку в ее чулан (по размерам равный, кстати, детской в доме Пётча) и, во-вторых, умудренный посетителями, которых, как правило, осеняла та же оригинальная выдумка, что и Пётча, сразу заявил, что сенбернар принадлежит его жене, а сам он собак и вообще животных не любит, да-да, не любит ничего из того, что в отличие от культуры в узком смысле слова называют природой, и это означало, что все восторженные слова о газоне, розах и остальной растительности в доме и саду можно сберечь на тот случай, если жена почтит их своим присутствием.
Пётч пытался казаться веселым, а не смущенным. Но это ему не удавалось. Неестественный смех не очаровывал Менцеля, но и не разочаровывал. Вместе с сознанием своего превосходства в нем скорее росла симпатия к Пётчу, и он делал все, что, по его мнению, могло бы порадовать молодого человека. Даже продемонстрировал ему сокровища дома.
Разумеется, при этом он подавал и себя, да еще таким образом, что Пётч счел собственным открытием то, что заметил. Он обнаружил в профессоре странное сочетание черт характера, слывущих несоединимыми: поначалу он обозначил их такими понятиями, как цинизм и наивность, но они настолько неточно определяли сущность профессора, что ему постоянно приходилось, поясняя их себе (а потом Эльке), обращаться к примерам. Так, Менцель, едва показав, сколь проницательно он распознает лесть, тут же, если речь заходила о предметах, которые он считал своей собственностью, требовал таких неумеренных восхвалений, что Пётч не постеснялся мысленно назвать это желание детским — конечно, после того как убедился, что Менцель всерьез добивался комплиментов. Правда, произошло это нескоро, потому что Пётч не мог поверить, что подобное тщеславие возможно у столь знаменитого и уверенного в себе человека. Зато потом он хвалил как только умел, вот только умел он, к сожалению, плохо. И хотя вскоре понял, что здесь никакое преувеличение не может быть чрезмерным, он не сумел бы произнести соответствующих слов, приди они ему в голову.
Первая остановка при обходе дома привела его в смущение, ибо он еще думал, что в ответ на любезный вопрос профессора: «Как вы считаете?» — должен проявить свои критические способности. Речь шла о сокровище особого рода — об экономке, голос которой напугал Пётча еще у калитки. Теперь же Менцель представил ее со словами: «Наша незаменимая фрау Шписбрух», а как только она вышла, добавил, что, собственно говоря, ее зовут Шписбрюх, но он не мог допустить подобного оскорбления человека его именем и потому в первый же день объявил ей, что изменением одной буквы приведет ее имя в соответствие со стилем дома. И вот на это Пётч реагировал неверно: вместо того чтобы одобрительно посмеяться, он вспомнил аристократов, называвших всех своих слуг Антонами.
Это вызвало столь явное недовольство, что подобной ошибки он больше не совершил, зато допустил другую. Проходя через первую комнату, заставленную прекрасной старинной мебелью, он, к несчастью, вспомнил остроту Шведенова о том, что качество книги зачастую находится в обратной связи с качеством стола, за которым она написана. Менцель промолчал, но на его лице было написано: я и сам могу быть остроумным.
Пётч не обиделся. Он теперь понял свою роль и старался играть ее получше. Комментарии Менцеля указывали ему направление прицела. Он хотел, чтобы в нем ценили не владельца, а образованность, вкус и остроумие. Он любил понимающую улыбку, восхищение, любознательные вопросы. То, чему Пётч здесь с трудом учился, вовсе не было лицемерием. Он ведь и в самом деле был исполнен восторга и почтения. И искренне смеялся анекдотам, связанным с каждой вазой, каждым предметом мебели. У него была уйма вопросов о фаянсе и инкрустациях, об ампире и бидермайере. Учился же он явственно выражать свои чувства в благодарность за извлекаемую пользу. Ибо этот отличный педагог увеличивал его познания в области искусства и литературы, развивал его чувство стиля, на примере одного портрета Ранке мог объяснить буржуазную иконографию или рассказом о каком-нибудь письмоводителе 1810 года раскрывал жизненный уклад в наполеоновские времена.
Но все это было лишь началом. Главное же было впереди: библиотека. Иной библиофил при виде ее немел от зависти. Но не Пётч. Он охмелел от счастья. Никогда он не играл так хорошо свою роль, потому что начисто о ней забыл.
После краткого осмотра всего фонда в целом Менцель подвел его к святыне: к первоизданиям периода с 1789 по 1815 год. Здесь были редкие, никогда больше не публиковавшиеся книги таких историографов, как Бюлов, Массенбах, некоторых философов, много журналов, мемуарная литература, Гёте, Шиллер, Форстер, Рихтер, Клейст и Кёрнер, оба Шлегеля, Тик — длинные ряды книг, и, наконец, — Пётч затрепетал от благоговения — Макс фон Шведенов: «Барфус», «Эмиль», «Союз мира» в переплете того времени, журналы с «Историей коалиционных походов», публиковавшейся с продолжением. Пётч не знал, что сначала взять в руки.
Собирать первоиздания Шведенова — было не хобби для его исследователя, а необходимостью, ибо только два романа (единственные, которыми владел Пётч) были переизданы на рубеже веков Францем Робертом. Остальные Пётч мог читать только в читальном зале государственной библиотеки. Это надо иметь в виду, чтобы понять, почему он, сидя на ступеньке лестницы, листал книгу и выглядел как человек, достигший наконец своей цели.
Но у Менцеля были твердые планы. «Вниз, в преисподнюю!» — скомандовал он, поглядев на часы, и, видя, что Пётч не в силах оторваться, добавил завлекающе, что там он найдет еще больше книг М. Ш.
Подразумевался при этом погреб, которым профессор, по его словам, владел столь же безраздельно, как Аид подземным царством. Элизиум, то есть финская баня, был удостоен лишь одного взгляда, затем путь вел мимо котельни к дощатой двери, которую Менцель открыл со словами: «Вы вступаете в тартар». Здесь был его рабочий кабинет — помещение без окон, с побеленными стенами, скудно обставленное: длинный стол с пишущей машинкой, магнитофон, стопки бумаги и книг, стул, табуретка, полки с книгами, тетрадями, папками — вот и все. Ценность помещения заключалась в его тишине, изолированности.
Едва они сели, как пришла фрау Шписбрух, молча сервировала кофе, вид у нее был такой, словно с первого же дня ей было запрещено открывать рот в этом помещении. Менцель опять посмотрел на часы и сказал: остался всего час, потом придет машина, чтобы везти его на телестудию. Предстояло еще многое обговорить — пункты первый, второй, третий, четвертый, которые он так четко разделил и отточенно изложил, что его речь можно было бы назвать готовой к печати, будь такое определение уместно, если учесть содержание, которое хотя и касалось общественности, но для нее не предназначалось. Рассуждения Менцеля носили на себе незримый гриф «Совершенно секретно!», а Пётч при всей взволнованности полностью сознавал, какая честь ему выпала. Он столь же мало обратил внимания на жесткость табуретки, как и на вынужденное молчание, позволявшее ему лишь время от времени вставлять свои «да».
Когда он в половине седьмого в сопровождении собачьего лая покидал «преисподнюю» и дом, чтобы совершить свой обратный четырехчасовой путь — на электричке, автобусе и велосипеде, сумка его отяжелела, потому что к букету альпийских фиалок, который он забыл вручить, добавились две книги Шведенова и трехтомная машинописная рукопись. Но на душе было легко и весело. В поезде он читал важные для его замысла «Посмертно опубликованные письма к друзьям» 1815 года, в предисловии к которым содержалось единственное сообщение о загадочной смерти Шведенова. В Арндтсдорфе он сел на оставленный там велосипед и, катя морозно-ясной ночью по лесу, обдумывал, в каком порядке наилучшим способом преподнести Эльке свою программу, состоящую из четырех пунктов и разукрашенную описаниями профессора, экономки и виллы. Лишь очутившись в теплой, пахнущей пирогами кухне, где все еще трудилась Элька, он почувствовал голод. Но не о нем Пётч произнес свои первые слова, а о городе, откуда прибыл:
— Что ты думаешь о переезде в Берлин?
Седьмая глава. Воздействие альпийских фиалок
Элька Пётч относилась к числу людей, которые говорят о себе, что они стоят обеими ногами на земле. Это означает: они не цепляются за воспоминания, не забегают мечтами в будущее, живут настоящим, делают (очень расторопно), что требуется, и крепко спят. Они не терзаются вопросами и сомнениями. Они радуются праздникам, протягивают ножки по одежке и никогда не сокрушаются о принятых решениях — последнее дается им легко, ибо серые или черные последствия этих решений они не покрывают сверкающей позолотой предвкушения. В противоположность мечтателям, утопистам, умникам, мерящим реальность масштабами своих желаний (всегда ее превосходящих), они довольствуются тем, что есть, и любы дому своему и миру. Они никогда не ноют и не жалуются, никогда не пытаются, держась за свои идеалы, подпилить или хотя бы поменять сук, на котором они сидят. Элька никогда не спрашивала даже о погоде. Для нее не существовало плохой или хорошей погоды — речь могла идти только о неподходящей одежде.
Следуя великому примеру своей матери, которая прилежно, мужественно, стойко и без жалоб вырастила четверых детей и терпела бездельника мужа, она не позволяла себе ни болезней, ни брюзжания. Хотя у нее было только двое детей, она, отказавшись от своей профессии преподавателя физкультуры, возглавляла семью в шесть человек. Ей было не в тягость одной вести большой дом мужниных родителей с огородом в два моргена, двумя разваливающимися хлевами и развалившимся сараем, собакой, двумя кошками и тринадцатью курами. Муж и деверь, как заведено, зарабатывали деньги, бабуля была стара, дети малы, но при надобности Элька умела заставить всех пятерых потрудиться в доме и во дворе.
Односельчане любили Эльку, ибо она охотно вникала в их дела. С чужими она умела разговаривать лучше, чем с мужем, — о детском ли питании или о ценах на дрова. Измеряя шагами поленницу, определяя на глаз количество кубометров, она производила впечатление человека, разбирающегося в жизни. К ней ходили посоветоваться о лечебных травах, о грибах, о сливовом муссе. Занятая по горло, она всегда находила время для других. Не поторапливая, она умела не затягивать разговора.
Более длительные беседы она вела по воскресеньям после обеда — в гостях и на прогулке: она строго соблюдала все предписанные воскресеньями и праздниками радости. Уже с утра глаз ласкала чистота в доме и во дворе. Исполненное торжественности приготовление обеда венчала единственная за всю неделю совместная трапеза в большой зале. Мытье посуды откладывалось на понедельник. Когда Фриц забирался на кушетку, бабуля задремывала в кресле, муж по обыкновению уходил в свою рабочую комнату, она наряжалась, звала собаку и детей и отправлялась то далеко, до самых гор, откуда открывалась путаная сеть ручьев, через которые торфяное болото изливало свои воды в Шпрее, то в Гёрц к подруге. Там сперва, шаг за шагом, осматривали сад, восторгались им, а то и критиковали его, потом усаживались за кофейный стол, за которым она могла сидеть долго, пока собака и дети веселились у деревенского пруда. Исходивший от нее воскресный покой передавался другим, снимал с них груз постоянной гонки; муки собственной неудовлетворенности стихали перед ее довольством жизнью. Подруги говорили о том о сем, разумеется о детях, о старении, но никогда не заходила речь о браке Эльки, в котором физическая близость давно была забыта.
Она наверняка считала это совершенно нормальным, ибо другого и не знала. С этим покончено, ну и ладно, такова жизнь, у них есть двое детей, больше не будет. Смирение в этом пункте вполне вписывалось в равномерное течение ее жизни.
И вот это равномерное течение нарушил муж — неумышленно, конечно. В тот вечер, когда Пётч, вернувшись из Берлина, задал свой вопрос, он не думал о душевном покое жены. Ему даже и не нужен был ответ. Его не интересовало, как относится Элька к возможному переезду. Ему хотелось говорить, хвастать успехами, расписывать свое счастье. Не мнения ему нужны были, а только внимание. И Элька правильно сделала, что не попыталась дать ответ, которого и не знала. Она сказала: «Ты, должно быть, голоден» — и подала на стол.
Вопрос мужа не сразу вызвал в ней заметное беспокойство. Она привыкла многое не принимать всерьез. И ей легко было держать себя как обычно: прилежная слушательница, от которой не требуется особой заинтересованности. Но она старалась не пропустить решающих ходов в шведеновской игре. Когда от второстепенных вещей (показавшихся ей менее веселыми, чем он их описывал) Пётч перешел к главному, она отметила про себя два тревожных симптома: его чрезмерную веселость и тактичные (правда, никогда до конца не удающиеся) попытки избавить ее от скучных литературно-исторических деталей. Но она не заметила, что четыре предназначенных для ее внимания пункта он расположил таким образом, чтобы о наиболее важном для нее заговорить в конце.
Совершенно необходимо, излагал Пётч, заедая цитаты из Менцеля бутербродами с ливерной колбасой, «вдолбить Шведенова в сознание нашей общественности», притом вдолбить столь основательно, чтобы отныне ни один историк и литературовед его не обходил, ни один учебный план не считался полным без его имени и чтобы через год были проведены в государственном масштабе торжества по случаю 165-летия со дня его смерти. Само собой, Менцель активизирует все средства массовой информации. Остальное довершит его книга «Бранденбургский якобинец».
Тем самым Пётч дошел до собственных задач. Он отложил в сторону бутерброд с сыром, смахнул крошки с губ, вытер замаслившиеся пальцы и вынул из сумки рукопись ныне знаменитой монографии о Шведенове. Шестьсот с лишним листов машинописной копии занимали три папки. После общего первого пункта программы (кампания за популяризацию Шведенова) следовал второй: Менцель вверяет Пётчу будущее каноническое произведение — на предмет исправления ошибок, проверки биографических дат и фактов. Пётч не скрыл от Эльки, сколь горд он этим доверием.
— Куча работы.
— Что значит работы? Я сгораю от любопытства.
— А третий пункт?
В нем-то и сказалась маневренность Менцеля. Как Элька поняла, было бы неразумно воздействовать на общественность усилиями лишь одного человека. Нельзя допустить подозрения, будто дело тут в чьей-то причуде. Поэтому не самолично профессор, а один его знакомый подал в «Урании» идею серии докладов на тему «Забытые писатели — открытые заново» и в качестве блистательного начала предложил научно-популярный доклад, патронирование которого Менцель, хотя как будто и неохотно, все же взял на себя, но докладчиком предложил другого человека, чтобы создать видимость уже существующего широкого интереса. Элька сочла это очень ловким маневром, потому что на самой себе заметила: восторженное увлечение мужа Шведеновом показалось ей менее смешным, когда она узнала, что он не одинок в своем пристрастии. Отгадать имя предполагаемого докладчика ей было нетрудно, поскольку она видела его, сияющего от радости, перед собой.
Тем временем настала полночь. Они не смотрели на часы, но узнали об этом по вернувшемуся из пивной деверю и брату, привлеченному в кухню запахом пирога. Фриц и не подумал, что мешает. Любое общество было ему по душе, и поэтому ему никогда не приходило в голову, что сам он может оказаться некстати. Вдохновленный пивом, он болтал без умолку, преимущественно о задуманных им сделках, связанных с сеном и свеклой и свиньями (которым никогда не дано будет осуществиться), и так долго восторгался запахом пирога, что Элька достала его и даже сварила для всех троих кофе. Пётч был слишком счастлив, чтобы рассердиться, но вполне сумел разыграть подлинную усталость. Фриц, не в состоянии представить себе, каково ему будет в шесть утра, когда придется снова сесть на свой тягач, безуспешно протестовал против внезапного окончания беседы.
Обсуждение супругами четвертого пункта пока так и не состоялось. Само место действия (спальня), слова, жесты, цветы — все это заставило отложить разговор. Окольными путями мысль Пётча добралась до газона Менцеля, и Пётч вспомнил про свои альпийские фиалки. Жене профессора он не смог их преподнести, зато теперь их получила его собственная жена. Поскольку она не знала (и никогда не узнает), что куплены они были не для нее, в голове закружилась мысль: в Берлине он думал не только о Шведенове, но и обо мне! От этой мысли она заметалась, подалась к мужу. Они и не знали, что еще способны на такое.
Последующие полчаса ошеломили и осчастливили их. Но когда единое целое снова распалось на два отдельных существа и в пустоту, оставляемую угасающим желанием, хлынули мысли, оба, сами того не замечая, все больше и больше стали отдаляться друг от друга. И если в нем снова пробудился прежний восторг, вознес его в мыслях на светлые высоты славы, то она очнулась в низинах духа, полных тоски, недоверия и страха. В муже духовный подъем лишь разрядился физически, чтобы снова охватить его с прежней силой. А в жене что-то изменилось, сбив ее с толку, началось нечто новое, и она еще не знала, хорошее оно или плохое. Она потеряла что-то, потеряла надежность. Будь она в силах говорить, она потребовала бы от него чего-то невозможного, клятв в любви, например, или заверений, что он больше не допустит, чтобы заглохли чувства. Но она молчала, ждала, чтобы он по крайней мере коснулся рукой ее волос, дав тем самым понять, что она еще существует для него, однако она уже осознала свое несчастье, состоявшее в том, что при таком муже она постоянно обречена на эту тоску. Она запретила себе распускаться, призвала себя к порядку, обязала себя быть трезвой, твердила себе об опыте. На помощь пришли недоверие, страх перед изменениями. Все опасности — в слове «Берлин». Если между вопросом мужа, заданным по прибытии домой, и альпийскими фиалками существует связь, тогда его намерение серьезнее, чем она полагала, тогда риторическим в вопросе была лишь форма, тогда, значит: мы переезжаем в Берлин! Стало быть, цветы предназначены только для того, чтобы умаслить ее, быстро улетучившаяся нежность была не чем иным, как средством убить в ней сопротивление в самом зародыше.
Пётч и не подозревал, что означал бы в этот момент для жены один только его жест. Рука, которая должна бы коснуться ее волос, поглаживала щетину на его подбородке. Его мысли, спустя несколько мгновений облеченные в слова, были не с нею, а с профессором Менцелем, четвертый пункт программы которого настало наконец время возвестить.
Словно разговор их был прерван лишь только возвращением Фрица из пивной, Пётч продолжил теперь рассказ о наиважнейшем из важнейшего — о предложении профессора превратить исследователя-любителя в ученого, то есть принять Пётча в свой институт.
— Понимаешь ли ты, что это для меня значит, Элька?
Это она хорошо понимала. Но так как она понимала и
то, что это значит для нее самой, и так как она все еще была поглощена попытками утопить надежды, родившиеся в ней несколькими минутами раньше, она не ответила, что нисколько ему не помешало, а лишь побудило подробнее растолковать детали, сообщить, что вопрос окончательно еще не решен (не из-за него, он-то сразу согласился), и объяснить, о каком институте идет речь.
— Может быть, ты слышала о ЦНИИ или ЦИИсИс? Нет? Я тоже не слышал до сегодняшнего вечера. Тогда ты не знаешь еще, что означает и МП. Так шепотом, прикрывая рот рукой, называют новое место работы твоего мужа (где он, кстати, скоро должен будет получить ученую степень). Сейчас объясню тебе. «Ц» значит центральный, единственный в республике, не относящийся ни к какому-нибудь университету, ни к какому-нибудь другому учреждению, «И» — это ясно. Между первым и вторым «Ис» нужно мысленно подставить маленькое «и». И если ты знаешь, что тот, о ком идет речь, то есть Шведенов, был историком, а история называется также историографией, то ты уже знаешь, что означает первое «Ис». Сложнее дело обстоит со вторым «Ис» — оно связано с твоим мужем, который преподает историю в школе и, следовательно, должен что-то знать о пригодности истории для преподавания — об историоматии. Итак, Центральный институт историографии и историоматии — вот как эта штука называется и царит надо всем, что изучает историю, и пишет о ней, и обучает ей, включая институт и специальные журналы. Она заполняет брешь, которая зияет между этими учреждениями и министерством, и первым ее узрел профессор или, как говорят злые языки, узрело — по его наущению — начальство. Ибо шепотом произносимое в университетских и академических коридорах МП сокращенно означает сообщество, именуемое Менцельским приходом. Но вот что самое восхитительное в этом человеке: он сам рассказал мне это — и от души смеялся.
Восьмая глава. Интерпретация
Три недели спустя Пётчу пришлось внести поправки в мысленно нарисованную им картину институтского здания. Он представлял себе нечто солидное, не обязательно с колоннами перед порталом, но по крайней мере с большой стеклянной дверью и издали видной надписью. И вот он увидел обшарпанное строение канцелярского типа, в котором, кроме ЦНИИ, размещались всякие торговые фирмы, редакции и конторы. Маленькая деревянная дверь была облеплена вывесками. Стенная газета на лестничной площадке призывала к повышению производства пластмассы и эластика. Коридоры без окон благоухали соусами. Он пришел в обеденное время, и надо было ждать.
Он не удивился, что его имя ничего не сказало секретарше, указавшей ему на стул для посетителей, но равнодушное молчание, с которым она восприняла его замечание, что он вызван к директору института, смутило его, так как он приготовился к расспросам. Вызван — это, в конце концов, может каждый заявить, а потом станет пустячными делами отнимать у профессора время. Он ожидал, что его по меньшей мере спросят, какое время ему назначили. После обеда, ответил бы он не без гордости, ибо считал пиком доверия то, что профессор не указал точно часа и минут.
Думать о доверии не так уж непозволительно человеку, которому за последние двадцать дней профессор пять раз звонил (по школьному телефону), первый раз — уже через восемнадцать часов после посещения Пётчем «преисподней», то есть в час дня, во время последней перемены. Менцель хотел знать, как понравился Пётчу (который успел пока только бегло и не по порядку пролистать рукопись) «Бранденбургский якобинец».
— Прекрасно, — сказал Пётч, гордый своей способностью быстро найтись, хотя он не любил лгать.
— Какую страницу вы читаете?
Пётч понял, что профессор не представляет себе, как это человеку, держащему в руках его рукопись, работа или сон могут помешать читать ее, и быстро ответил:
— К сожалению, только шестьдесят третью.
— Значит, мою критику Генца вы уже прочитали. Как я разделался с ним, блестяще или нет?
— Блестяще — точнее не скажешь.
— Я рад слышать это, в самом деле, я очень рад! Желаю удовольствия от остальных пятисот тридцати страниц и всего хорошего!
Вот как это просто, подумал Пётч, когда первый страх прошел. При следующих телефонных разговорах ему было легче. Теперь больше незачем было умалчивать действительное положение дел с чтением: он всегда знал, за что именно Менцель хвалит себя. А когда возник вопрос о неточностях, Пётч уже мог бы кое-что сказать профессору. Но Менцеля не интересовали критические замечания, да он и не оставлял между своими словами достаточно больших пауз, чтобы такие замечания можно было вставить. Для маленьких же пауз Пётчу надо было бы точно знать, что именно ему не нравится. Ибо кратко выражать он умел только ясные мысли. А его критика была в высшей степени сумбурной. От страницы к странице ему становилось все более не по себе, однако его преклонение перед Менцелем было столь велико, что он не решался облечь свои ощущения в слова. Как известно, трудно хулить, когда хочешь хвалить.
При пятом звонке Пётч смог доложить, что чтение, исправление ошибок и контрольная проверка закончены, и Менцель позвал его в институт.
— Я буду там после обеда.
И вот оно, обеденное время. Оно чувствовалось по запахам, о нем говорил вид секретарши, которая питалась хрустящими хлебцами, читала газету и ни словом, ни взглядом не удостаивала посетителя, пришедшего в неурочный час, чтобы по возможности продлить время разговора. Ведь обсуждению подлежали не только его поправки, хотя и это займет немало; он хотел также помочь конструктивной критикой — по одному вопросу, который его особенно занимал. Это будет нелегко. Он не хотел обидеть Менцеля и потому собирался сомнения выразить в форме вопросов. Чтобы Менцель считал, будто сам помогает, когда в действительности помогали ему.
Звяканье ключей в коридоре словно послужило сигналом для секретарши, чтобы вспомнить о Пётче. Она направила его этажом выше, где его приветствовала пестро одетая, ярко раскрашенная и очень эмоциональная дама. Пётча подавила ее импозантность. Теплый материнский тон, призванный, видимо, уменьшить робость Пётча, только усилил ее. Она держала его руку до тех пор, пока не узнала, кто он и чего хочет, и за те минуты, что прошли, пока не вернулся с обеда д-р Альбин, Пётч ничего не услышал о Менцеле, на которого пытался навести разговор, зато много заслуживающих внимания сведений о ней, фрау д-р Эггенфельз, правой руке Менцеля во всех делах, при решении которых требуется такт и шарм. Из подвального ребенка (существа, недоступного воображению Пётча) она, не без помощи Менцеля, выросла в официально признанного ученого с тремя публикациями, вызвавшими большой интерес, хотя еще не достигла даже возраста Пётча (тем более удивительны были ее материнские манеры).
Стремясь уклониться от взглядов этих больших, томных очей, Пётч задавался вопросом, одолел ли бы он стеснение, охватившее его в этом помещении, если бы осел здесь и поближе познакомился со всеми здешними дамами. Покидая через три часа дом, он так и не смог ответить на свой вопрос. Обстановка в расположенных на трех этажах комнатах, где он побывал, была ему столь же неясна, как и его отношение к людям, с которыми он встретился.
Д-р Альбин, называвший себя заместителем Менцеля, а на самом деле ведавший административно-кадровыми делами, знал о намерении Менцеля повидаться с Пётчем. Он вежливо сказал: «Я рад, что вы пришли, господин Пётч» — и сообщил ему, что профессор здесь, но у него много дел, и поэтому он просит Пётча обсудить поправки с одним из своих сотрудников, коллегой Браттке, пока он не выкроит время лично повидать его. Альбин усадил Пётча в кресло для посетителей, сел за свой стол и позвонил коллеге Браттке, с которым говорил на «ты» таким тоном, будто обращался к нему со словами «милостивый государь!». И даже когда Альбин второй раз сказал: «Я рад!», никакой радости не чувствовалось. Он сказал: он рад, что осенью сможет приветствовать Пётча как коллегу, желая, видимо, дать понять, что явного неудовольствия он не испытывает.
Ледяная корректность Альбина не остудила горячей радости Пётча, вызванной этим замечанием. Его повторная попытка облечь свою радость в слова заполнила время до появления Браттке, появления акустически почти неприметного, но визуально броского.
Браттке ходил бесшумно, потому что его большие ноги были обуты в войлочные полусапоги. С Альбином он не заговорил, Пётчу что-то пробормотал, вероятно поздоровался, и предложил следовать за собой. Он тут же повернулся к выходу, явно стремясь как можно скорее покинуть комнату доктора. Пётч едва успел обменяться с Альбином прощальными любезностями.
Браттке привлекал внимание прежде всего своим ростом. Чтобы казаться неприметнее, Браттке старался, согнув спину, держать голову на уровне людей нормального роста. Но это лишь выделяло его облик, равно как и его причуды: неслышная походка в войлочной обуви, непомерно большой пуловер, греющий еще и зад, болтающаяся на груди цепь с очками для чтения.
Оригинальность рабочей комнаты Браттке, путь к которой пролегал через путаную систему переходов и лестниц, заключалась в ее беспорядке. Комната была битком набита книгами и бумагами. К письменному столу пришлось пробираться извилистой дорогой. Стул надо было сперва выкопать из книжных гор. Но поиски рукописи Менцеля заняли на удивление мало времени.
— Ну, начнем! — бросил Браттке, на сей раз внятно, в облако пыли, поднявшейся при раскрытии папки.
Пётч не осмелился вносить поправки прямо в текст Менцеля. Он написал их четким почерком на отдельных листках, которые приложил к соответствующим страницам. Браттке не испытывал подобной нерешительности. Без вопросов, без комментариев вычеркивал и вписывал он то, что диктовал Пётч. Это были мелочи, и Пётч, увидев, что Браттке все молча принимает, скоро отказался от намерения облекать свои замечания в форму предложений.
Лишь несколько моментов, казавшихся ему неясными, он опустил, чтобы потом обсудить их с профессором.
Когда очки Браттке с цепью снова закачались на пуловере, он начал разговор, поначалу показавшийся Пётчу скорее похожим на допрос.
Что он думает? О чем? О книге шефа, разумеется. Пётч несколько раз начинал фразу, нашел наконец слово «значительная», однако счел его слишком слабым и заменил определением «великолепная». Но оно было чересчур сильным, и он попытался ослабить его уточнением «с одной стороны», однако Браттке сразу перебил его вопросом: а что «с другой стороны»?
Пётч не обладал способностью ответить просто: «Я точно не знаю», а Браттке был столь жесток, что не прерывал его длинное, сбивчивое, бестолковое разъяснение. Он ждал, пока все многочисленные половинки и обрывки фраз, безуспешно кружившие вокруг этого «с другой стороны», иссякнут, и сказал: теперь он понимает, почему шеф так восторгается им.
Пётч услышал это не без удовольствия. О чем и свидетельствовало его лицо. Он охотно спросил бы: действительно восторгается? Но он подавил в себе вопрос, ибо почувствовал, что замечание Браттке носило вовсе не дружеский, а скорее иронический характер.
Браттке не пустился в дальнейшие объяснения. Он встал, тихими шагами вышел из комнаты и вернулся с кастрюлей воды, поставил ее на электрическую плитку, скрытую за грудой книг у окна. Ища за рядами папок банку с чаем и чайник, он задал два вопроса: любит ли Пётч чай и в самом ли деле он, как утверждает Менцель, сельский учитель?
И если разговор не так скоро утратил характер допроса и экзамена, то виноват в этом прежде всего, пожалуй, Пётч, которому робость мешала самому выбирать тему или задавать вопросы. Своей пассивностью он вынуждал собеседника быть активным. К тому же его молчаливая сдержанность возбуждала любопытство, которое было ему приятно, и он считал своим долгом его удовлетворять. И потому в ответ на вопрос о чае он не только кивнул головой, но и подробнейшим образом (времени было достаточно, а тема не таила для него никаких трудностей) рассказал о своих привычках: кофе по утрам и после обеда, вечером при напряженной работе — крепкий чай. Вопрос о профессии и местожительстве он воспринял как вопрос о своей жизни и стал про нее рассказывать, сосредоточившись, как и следовало ожидать, на описании бытия ученого-самоучки, посвятившего себя Шведенову.
Браттке стоял у плитки, слушал и время от времени спрашивал: а как вы относитесь к алкоголю? Что вы думаете об учебных планах по истории? Чем вас, собственно, привлекает этот институт? Потом он искал чашки, потом сахар. Ложечек он не нашел. Они насыпали сахару прямо из коробки и размешали перочинным ножиком.
— Вы знаете Эйнхарда? — спросил Браттке.
— Не знаю, но мне кажется, что…
— А Нитхарда?
— Погодите, кажется, это имя мне встречалось.
— Эйнхард и Нитхард: они оба — мой Шведенов. А мне приходится, как видите, поправлять запятые в менцелевских фолиантах, делать сноски и составлять указатели.
На сей раз Пётч быстро сообразил, что хотел сказать Браттке.
— Вам, наверное, показалось, что я строю себе иллюзии, но вы ошибаетесь. Я знаю, что мне нужно много учиться, и рад этой возможности.
— Наивный вы ангел! — сказал Браттке, поднес чашку к губам, отпил глоток и добавил еще сахару. — Шеф упорно ищет то, чего не находит во мне, а именно человека, с радостью несущего подневольную службу и из почтительности не отваживающегося на критические суждения.
— Вы имеете в виду меня?
— Мне кажется, вас следует предупредить.
Пётч уставился в чашку и задумался. Затем сказал:
— Если бы я только понимал, что вы хотите этим сказать! Вы считаете, что работать с охотой и любовью — это плохо?
Браттке ухмыльнулся. Ему, кажется, понравилось выражение «с охотой и любовью».
— С охотой и любовью служить, вот что я имею в виду! Превратить внешнее принуждение во внутреннюю отраду! Не только носить оковы, но еще и любить их!
— Вы хотите сказать: свободен тот, кто глумится над своими цепями?
— Не свободен, но остается самим собой.
Бедный Пётч! Хотя он внимательно слушал (ему ведь хотелось у каждого чему-то научиться), даже вставлял иной раз в беседу ту или иную цитату, ему было не совсем ясно, какое отношение все это имеет к нему и к этому длинному господину. Прежде чем высказаться, он попросил прощения, в ответ на что господин Браттке очень обстоятельно растолковал своему гостю то, что он называет «механизмом души». Если поверить ему, надежды, которые Менцель внушил Пётчу, являются причиной того, что Пётч так почитает Менцеля, почитание же мешает критике, а это и есть превращение физического рабства в рабство духовное. Он, Браттке, напротив, с самого начала следил за тем, чтобы у него всегда оставалась свободная зона. Оградой, всегда охранявшей его от чужого вторжения, была утыканная шипами критика.
— Критика, да, конечно, — сказал Пётч. — Ведь хочется помочь, улучшить.
— Помочь Менцелю? — Браттке опять ухмыльнулся. — Вблизи него человек нуждается в самообороне.
Пётчу вовсе не легко было снова признаться, что он все еще не понимает, но ему пришлось это сделать. Может быть, Браттке объяснит ему на каком-нибудь примере, что именно он хочет сказать.
Хотя движения Браттке были очень спокойны, совсем не торопливы и лицо сохраняло выражение превосходства, все же было видно, что он ждал этих слов. Вместо ответа он вынул ключ из кармана, открыл ящик стола и вслед за рюмкой, кофейным фильтром и дыроколом вытащил оттуда несколько густо исписанных листов. Он зацепил дужки очков за уши, но читать пока не стал, а объяснил: он занимается этим не для опубликования или архива, а лишь для упражнения, для умственной тренировки, то есть творит отбросы, но человеку, который после шестисот страниц Менцеля хочет удостовериться в собственных мыслительных способностях, это крайне необходимо. Он ведь должен был многократно прочесать менцелевский томище, как это вынужден был сделать Пётч.
— Пожелал сделать, — перебил Пётч, но Браттке не обратил внимания, он продолжал говорить, говорить с горечью, о работе на шефа, которую называл гужевой повинностью, и незаметно снова дошел до своих Эйнхарда и Нитхарда, до «Vita Caroli Magni»[211] и «Historiarum Libri»[212], то есть до девятого века, раскапывать и распахивать который ему не давал возможности его феодал.
В ответ Пётч мог сказать только «вот как» и сделать грустное лицо. Для него было новостью, что историю в Германии стали писать так давно, и он решил запомнить это. Браттке еще раз хлебнул чая, поправил очки и начал читать. Он читал быстро и тихо, без всякого тщеславия, сперва рецензию, компетентность которой опрокидывала его утверждение, будто он хорошо разбирается только в раннем феодализме:
Забытый — больше натуральной величины
Славу распределяют не по справедливости: личность, о которой толкует данная книга, известна лишь нескольким специалистам, личность же, написавшую эту книгу, знают миллионы телезрителей. Вот уже несколько лет болтливый профессор читает нам лекции по истории, и я знаю людей, которые, будь этот цикл передач прекращен, писали бы на телевидение сердитые письма. Я принадлежу не к их числу, а к тем брюзгам, которые не пропускают ни одной передачи лишь для того только, чтобы снова и снова убедиться: меньше профессорского остроумия дало бы больше — больше истории и больше науки.
Но теперь критикам, подобным мне, профессор предоставил шестьсот страниц учености. Нелегкий орешек, но игра стоит свеч. Менцель убеждает: вырвать у прошлого исторические и поэтические труды Макса Шведенова (1770–1813) было необходимо. Обращение Менцеля к совести нации должно побудить любителей литературы заняться творчеством прогрессивного бранденбуржца. Оно их не разочарует, но, оглядываясь назад, они изумятся тому анализу, какому оно подвергнуто у Менцеля. Мне его книга, объясняющая все и вся до конца, задала великую загадку: как это возможно, чтобы человек, разбирающийся в искусстве (иначе он не открыл бы его), мог писать о нем в столь чуждом искусству духе? Разгадки я не знаю, однако предполагаю, что она заключена не в одном только Менцеле, она лежит глубже или, если угодно, выше, а именно во взгляде, который у Менцеля находит лишь крайнее выражение: будто поэзию (как и жизнь) можно объяснить каким-нибудь тезисом.
Тезис Менцеля гласит: Шведенов перенес идеи Французской революции в литературу освободительных войн. Под эту гребенку он стрижет все его творчество, и кто с ним знаком, тот знает, каким обкорнанным оно выходит после этой стрижки. Все противоречия, многозначность, вся прелесть и красота отбрасываются, все буйное укрощается, любая неровность сглаживается. Остается в лучшем случае героичность, человечное же полностью исчезает.
Разумеется, каждый профессор волен исследовать любое произведение только с одной стороны. Но Менцель не исследует, он декретирует. Он, правда, не фальсифицирует (если доказывает, то доказывает филологически безупречно), он лишь опускает то, что для него неважно, а «неважно» для него то, что не подкрепляет его тезис или противоречит ему.
Речь идет не об антихудожественной ложной посылке, что политически самый прогрессивный поэт непременно и самый крупный (ее мы охотно простили бы историку Менцелю), — речь идет о методе, который мог бы создать школу, поскольку едва ли еще у кого-нибудь обширнейшие познания так тесно переплетаются с демагогическим талантом, как у него.
Я сказал: его доказательства точны, но не только в этом дело. Он выдвигает и недоказанные утверждения, которые при первом упоминании очень четко называет недоказанными, а потом сто раз использует как доказательства. Вот один из примеров: он предполагает, что Шведенов, происхождение которого неясно, выходец из семьи барщинных крестьян, и затем это свое предположение (очень сомнительное) превращает в аргумент и в конечном счете выводы о творчестве писателя базирует только на нем.
Но если этот маневр легко разгадать, то человеку, не знающему Шведенова, не разобраться в тех манипуляциях, которые предпринимаются с его произведениями, с «Барфусом» например: Менцель уделяет ему почти половину своей книги, триста страниц, примерно столько же, сколько в самом романе. С великим тщанием и убедительно исследовав философские и литературные традиции, на которых зиждется «Барфус», Менцель переходит к интерпретации, на которую прежде всего и опирается смелое название его книги. Фабула романа в его изложении такова: путешествуя по Европе с целью завершить свое образование, молодой граф Барфус становится якобинцем, в ответ на что его реакционная мать сжигает себя и его наследство, замок Липрос; он возвращается, женится и привносит свои революционные идеалы в прусское восстание против Наполеона. Итак, политический роман, думает читатель, не знающий его, и приходит в замешательство, знакомясь с ним. Ибо он читает прелестную любовную историю графа Барфуса и Доретты, дочери пастора, начинающуюся возвращением из поездки во Францию и завершающуюся свадьбой.
Это не означает, что Менцель придумывает то, что ему требуется, все написано в книге, на его цитаты можно положиться, но, к сожалению, можно положиться и на его способность раздуть их значение, вовсе не свойственное им в самом романе. Возможно, мысль профессора методологически исходит из следующего: дабы читатель не проглядел место, где речь идет о революции, он посвящает этому месту сорок пять страниц. Политические мотивы страшного поступка душевнобольной матери сконструированы остроумно, хотя и неубедительно. Я вычитал у Шведенова только возмущение предстоящим мезальянсом сына, на деле таковым не являвшимся, поскольку пасторская дочь в конечном счете оказывается высокородных кровей, чего Менцель, правда, не скрывает, но (и это я ставлю ему в упрек) и не берет в расчет, по понятным причинам, в своей интерпретации. Этот факт может разрушить его тезис о привнесении революционных идеалов в прусское восстание, более того, пользуясь менцелевской методой, этим фактом можно доказать прямо противоположное: примирение героя со старым порядком.
Великая поэзия противится подобному обращению — это обнаруживается, когда читаешь ее. Тогда славят Менцеля как открывателя и при виде открытого богатства забывают, сколь непозволительно он его уменьшил. Но опасность состоит в том, что человек, ищущий в литературе отражения жизни, после менцелевского сочинения не обратится к книгам Шведенова. Ибо хвала профессора есть, в сущности, не что иное, как хула. Будь Шведенов таков, каким его видит Менцель, его возрождение было бы подобно мертворождению. У Шведенова выведен математик, который сводит всю красоту к геометрическим формам. Его называют то Одномерным, то Плоским червем, то Бумажным человеком. Менцель не говорит о нем. Мне же под конец видится следующая картина: прочный и солидный постамент памятника. Сам же памятник больше натуральной величины, но из бумаги и не похож на того, чье имя носит. Но кого же он напоминает? Черты ведь знакомы? Лишь вспомнив о телевидении, понимаешь: этот бумажный памятник поставлен его строителем самому себе.
Браттке снял очки и посмотрел на Пётча. Пётч был растерян. Он чувствовал, что не имеет права сидеть у этого человека, тем более молча, без возражений. А возражения не приходили ему в голову. Он не знал: то ли ему не хватает только слов, то ли самих мыслей. В лучшем случае он мог сказать: я не согласен с вами! Или честнее: я не хочу быть согласным с вами!
Но Браттке не дал ему много времени на размышления. Он сказал:
— А вот пародия. Надеюсь, вы узнаете знаменитый образец. Смеяться вы не обязаны. Я уже сам это сделал, когда писал. Итак:
Призыв Красной шапочки к национальному восстанию
(Литературная интерпретация в духе проф. д-ра Винфрида Менцеля)
Буржуазная германистика никогда не понимала национально-революционного содержания наиболее популярного творения Шведенова. Она только и сумела интерпретировать «Красную шапочку» как детскую сказку и тем самым обнаружила свою неспособность обсуждать вопросы подлинной литературы. Игнорировав призыв к действию, содержащийся в этой величайшей политической сатире немецкоязычной части мира, она сама себя сдала в утиль истории науки.
Что же на самом деле происходит в этом глубоко народном и вместе с тем насыщенном символами поэтическом творении? Чтобы понять его начало, надо вспомнить цитировавшееся письмо от 9 ноября (!) 1799 года, в котором Шведенов рассказывает о разговоре с аристократами и отмечает, что их мины по мере того, как он высказывался, становились все более и более кислыми. Отдавая дань поэтической образности, он для разъяснения ситуации использовал метафору из чисто буржуазной отрасли — производства уксуса. Фермент его речи квасил физиономии эксплуататоров — таков смысл, но вместо слова «фермент» он употребил старинное наименование — «уксусная матка». Какую же тему мог развить одержимый мыслями о революции юноша перед представителями паразитической верхушки, как не тему переворота, демократических действий! Уксусная матка, или просто: мать — вот образ, воплощавший для него идею революции.
С матери и начинается настоящее действие этого творения. Она — мать — дает ход акции солидарности. Она направляет дитя. Она указует ему путь. Она наставляет его на целеустремленные, неукоснительные деяния. «Не сходи с дороги… Не смотри по сторонам».
Чтобы растолковать и самому несообразительному читателю, что именно революция дает здесь сигнал к действию, Шведенову приходит гениальная мысль сделать ребенка, отправляемого в поход, девочкой, «бесштанником», то есть санкюлотом, который несет в своей корзинке не ржаной (немецкий) хлеб и пиво, а пшеничный (добрый французский) хлеб и вино!
Время Шведенова — это и время романтизма, открывшего немецкий лес. В нем среди немецких дубов, отгороженная от мира ореховой изгородью, стоит избушка бабушки. Саркастическую насмешку изливает поэт на это захолустное счастье. В то время как волк уже плотоядно рыщет вокруг добычи, а прогрессивное молодое поколение, презрев опасности, пустилось в путь, старуха лежит в своей филистерской постели, спит и видит сны, она не в силах даже открыть дверь. Без всякого сопротивления она позволяет волку проглотить себя. Только заскорузлое невежество реакционной клики германистов может не слышать здесь звона колоколов Иены и Ауэрштедта.
Но Шведенов бичует не только общественные условия Германии. Оружие его иронии направлено и на тех стихоплетов, которые, вместо того чтобы бороться за права народа и национальное освобождение, ищут голубой цветок. Свидетельством глубокого понимания манипуляторских методов, к каким прибегают деспотические властители, является то, что у него именно волк, олицетворяющий Наполеона, советует девочке: «Посмотри-ка на прекрасные цветы, растущие кругом, почему ты не смотришь вокруг? Мне кажется, ты и не слышишь, как чудесно поют птицы». С непревзойденной остротой и точностью тут уловлены звуки идеологической классовой борьбы, еще и сегодня и здесь доносящиеся до нас по эфиру.
Но дальше еще лучше. Когда после известной, потрясающе комичной сцены, во время которой произносится знаменитое слово о большом бабушкином рте и опьяненный победой Наполеон засыпает, приближается вооруженный спаситель — не какой-нибудь королевско-прусский полицейский или гренадер, а охотник. Таким образом, напрашивается ассоциация с дикой, удалой лютцовской охотой, и на ассоциацию эту наверняка рассчитывал страстный провозвестник народного вооружения. Но чтобы не возникло никакого сомнения в том, что борьбу за национальное освобождение необходимо связать с борьбой за социальное освобождение, поэт снова демонстративно взмахивает знаменем революции, при освободительной акции лютцовцев еще раз пуская в ход один из выразительнейших символов революции — якобинскую шапочку. Свидетельствующая о высоком художническом мастерстве фраза гласит: «Сделав несколько разрезов, он увидел блеснувшую красную шапочку». Красная шапочка! Разве случайно этот знаменательный символ вынесен в заглавие поэтичного творения? Таков был Макс Шведенов!
Со времени Тильзитского мира на повестке дня истории стояли проблемы восстания в двойном смысле слова. Восприняв их не только теоретически, но и практически — как художник-повествователь и борец за свободу, Шведенов стал великим духовным вождем, в котором столь нуждался в свой тягчайший час поднимающийся класс буржуазии.
Читая, Браттке на сей раз то и дело поднимал глаза и наблюдал за Пётчем. Он видел, какое впечатление произвел на слушателя. Пётч не веселился, но и не растерялся. Он был возмущен и считал своим долгом выразить свое возмущение. Это так легко, сказал он, чернить светоносное и осквернять возвышенное. Он подумал, что тем самым расквитался за свое прежнее молчание.
Браттке не обиделся. Он аккуратно запер бумаги и ограничился замечанием: он вовсе не стремится переубеждать других, в конце концов, Пётч сам захотел познакомиться с его образом мыслей на примерах.
Путь к профессору снова повел их по лестницам. В переходах у Пётча возник еще один вопрос. Как почти всегда, ему пришлось искать слова, и, как часто с ним случалось, в голову приходили не собственные слова, а чужие. Вопрос, заданный им Длинному, однажды задал ему самому Менцель. Он тогда промолчал, Браттке тоже не дал ответа, а задал контрвопрос, на который не знал ответа и Пётч.
— Вы собираетесь напечатать свою работу?
— Может быть, вы мне скажете — где?
Кабинет директора Браттке опять постарался покинуть как можно быстрее.
— Я позволяю себе держать и фрондеров, — сказал добродушно Менцель. Он сразу же взялся за папки с поправками, заглянул в них и тотчас восхитился — собственным текстом.
— Вы тоже считаете, что пассаж о Беренхорсте удался? — задал профессор тон хвалебному гимну, который предстояло петь Пётчу. Он охотно запел его, но уже не так радостно, как прежде, потому что время шло быстро, а ему хотелось еще обсудить поправки к тем местам, которые ему были неясны. Когда дело наконец дошло до них, эта часть аудиенции заняла больше времени, чем Пётч предполагал: не из-за него (ему позволялось говорить лишь до тех пор, пока профессор не схватывал сути), а потому, что к каждому вопросу Менцель привязывал целый доклад, с готовыми к печати экскурсами в отдаленнейшие области, точнехонько приводившими в конце к тем самым пунктам, что подлежали разъяснению. Пётч сидел с открытым ртом, изумлялся, радовался и — учился. А когда Менцель упомянул о будущем сотрудничестве, у Пётча покраснели щеки и он усердно закивал.
В самом начале, еще во время приветствия, для разговора был отведен один час. Пётч вскоре забеспокоился, что ему не останется времени для критического замечания. Один раз он тщетно попытался вставить его попутно, в другой раз забыл о нем, потом снова подступился к формулированию его, но был прерван, так как Менцелю пришлось к ранее сказанному добавить анекдот, который опять-таки увел в новые области. Остроумие его так и било ключом, а когда оно иссякло, Менцель встал: время истекло.
Однако к многочисленным хорошим свойствам Пётча относилась еще и дисциплинированность. Если он что-либо задумывал, то, едва представлялась возможность, приводил это в исполнение. Поэтому он подавил робость и, когда Менцель протянул на прощание руку, выложил свою критику.
— Один только вопрос еще. Из чего вы исходили, когда не упомянули, что смерть Шведенова под Лютценом научно не доказана?
— И это вас тревожит? — спросил Менцель с улыбкой, смутившей Пётча. Ничего, кроме соответствующего истине «Я-не-знаю…», он ответить не мог. Пётч надеялся узнать что-нибудь о намерениях Менцеля, боялся, что тот обидится, но никак не ожидал, что это его просто позабавит.
— Каждая книга, — сказал Менцель, не выпуская руки Пётча, — имеет определенный адрес. Моя книга написана не для вас, господин Пётч.
Осторожности ради теперь улыбнулся и Пётч. Если это шутка, ему не хотелось выглядеть человеком, не понявшим ее.
— Вы ведь тоже хотите, — продолжал Менцель, — чтобы имя Шведенова украшало учебные планы.
— Конечно, но…
— Ну вот видите!
С этими словами его отпустили. Он был в таком смятении, что пошел не той лестницей и оказался в подвале с углем. Замешательство вскоре прошло, но следы его остались, пока незримые.
Девятая глава. Поиски одной могилы
Пусть читатели, которые не совсем поняли последние высказывания Менцеля, поступят так, как Пётч: забудут их и вместе с ним предвкушают те радости, которые еще предстоят ему до начала его институтской деятельности (так деловито он называл начало своей новой жизни). Наряду с речами о радостном будущем, которые Элька переносила молча, это были (по восходящей линии их значимости): во-первых, подготовительные занятия, необходимые для его научной карьеры, в особенности связанные с историей исторической науки; во-вторых, работа над докладом о Шведенове и, в-третьих, самое прекрасное и волнующее — исследования, относящиеся к смерти Шведенова.
Но все это потом, ранней весной, было отодвинуто на второй план телеграфным извещением.
В один из апрельских дней, когда в палисаднике еще цвели последние подснежники и дети уже находили под неубранной прошлогодней листвой первые крокусы, фрау Зеегебрехт пополудни прислонила свой велосипед к воротам и поспешно направилась через двор к двери дома, чтобы достичь ее раньше, чем Пётч, который спускался из своей рабочей каморки, но по причине крутизны лесенки не мог это сделать быстро. Соревнованием на скорость решался вопрос, где произойдет вручение телеграммы (которое никогда не бывает столь торопливым и малословным, как в городе) — во дворе или прихожей, как того хотелось Пётчу, или в кухне, куда фрау Зеегебрехт, если ей не препятствовали, немедленно проникала. Ибо там она всегда находила что-то интересное для себя. Увидеть, вымыта ли уже обеденная посуда и печется ли пирог, для ее личной информационной службы было так же важно, как и беседа с глазу на глаз с бабулей Пётч о том, как невестка ведет хозяйство, — беседа, которая, если ей не помешать, могла длиться долго и вытащить на свет божий немало интимных подробностей семейной жизни.
Ища для доклада фразу, способную передать уныние летних сосновых лесов, Пётч устремил свои глаза поверх них, увидел подкатывающую на велосипеде почтальоншу и успел вовремя спуститься, тем самым выиграв состязание. Таким образом, он встретил ее во дворе, где пес-почтоненавистник яростно рвался с цепи, и фрау Зеегебрехт с успокоительными словами: «Ничего плохого» — передала адресованную ему и заклеенную согласно предписанию телеграмму.
Успокоительные слова были продиктованы добрыми намерениями и вполне уместны. Нужно долго иметь дело с людьми, которые всегда спешат, всегда при деньгах и охотно общаются по телеграфу, ибо умеют быть краткими, чтобы не испытывать страха перед телеграммами. Пётч еще испытывал его; нетерпение, подогреваемое то боязнью, то радостью, было велико, но еще больше — нежелание обнаружить перед фрау Зеегебрехт свои эмоции, которых она откровенно ждала. Однако сказать только «спасибо» и улизнуть в свою каморку он тоже не мог. В конце концов женщина целых полчаса колесила по песчаным дорогам.
Когда он, решив не вскрывать телеграмму в присутствии почтальонши, произнес несколько слов о погоде и дорогах, она нетерпеливо спросила, даст ли он сейчас ответную телеграмму. Это заставило его разорвать конверт и с равнодушнейшим в мире лицом прочесть радостное сообщение.
— Вот уж Элька обрадуется, правда? — сказала фрау Зеегебрехт с гордостью, словно она не передала, а сама послала добрую весть.
Совсем не отвечать на вопрос Пётч считал низостью, но иначе поступить не мог. Он пробормотал что-то о сумасшедших людях, посылающих телеграммы, когда вполне можно обойтись письмом, и, продолжая говорить о непроезжей липросской дороге, препроводил оскорбленного почтового работника до ворот. Затем он бросился бежать, но не к своей фразе об унылых соснах, а к Эльке, перед которой мог дать выход своей радости.
Телеграмма была от Менцеля и гласила: «Пятнадцатого июня мне исполнится пятьдесят. Если сможете отказаться от цветов и подарков, жду вашу жену и вас в девятнадцать часов. Ваш Менцель».
В этот день Пётч над докладом больше не работал. Он набрасывал варианты ответного письма, которое никак не получалось, как он хотел, остроумным. В конце концов была послана телеграмма: «Большое спасибо. Мы приедем. Ваш Пётч». Потом начал тревожить запрет на подарки. Элька не хотела считаться с ним, перед ней возникла страшная картина: длинный ряд поздравителей, каждый несет цветы и подарки, и только деревенские супруги Пётч стоят с пустыми руками. Нужен по крайней мере условный подарок, который можно будет извлечь в случае необходимости. Муж ее, напротив, хотел держаться слов профессора, но аргументы выслушивал. После долгих колебаний ему пришла в голову мысль, носившая компромиссный характер. До дня рождения оставалось еще восемь недель. До тех пор можно закончить свои исследования, связанные с датой смерти Шведенова. Если он передаст юбиляру свою статью, это хотя и будет сюрпризом, но не подарком.
Поскольку Элька ничего лучшего придумать не смогла, она согласилась и попыталась заинтересовать мужа заботами о своем туалете, но это ей не удалось. Когда она демонстрировала ему то, что у нее есть и что она считала совершенно неподходящим, он отвечал: «Почему же?» — и снова заговаривал о своих штудиях, недостаточно быстро, по его мнению, продвигавшихся.
К началу восьминедельного финишного рывка он достиг уже многого. Он просмотрел и разобрал биографический материал у предшественников. Теперь он знал, что все, кто писал о Шведенове, некритически черпали данные только из одного источника: из предисловия к письмам, подписанного не фамилией, а только инициалом М. Лишь один человек задумался, когда обнаружил, что цитировавшееся в последнем письме стихотворение Кёрнера опубликовано несколькими месяцами позже; но и он подверг сомнению не дату смерти, а счел фальшивкой само письмо.
Справочники того времени тоже не помогли. Если в них и упоминался искомый, то с указанием: «Пал на полях сражений 1813 года», и только в «Ученой Тевтонии» после даты стоит вопросительный знак.
Следующая кружная дорога Пётча пролегла через армию. Судя по письмам, фон Шведенов записался в Бреслау в четвертый добровольческий егерский полк. Потребовалось много труда в библиотеках и архивах, чтобы установить, что этот полк в 1814 году вошел в состав регулярного двадцать восьмого уланского полка, чью историю, вместе с историей добровольческого полка, старательные люди написали — если и не прекрасно, то очень точно — лишь в кайзеровские времена. Это продвинуло Пётча на шаг вперед. В истории были зарегистрированы поименно все потери во всех войнах. У Пётча дрожали руки, когда он листал страницы со списками убитых в 1812–1815 годах. Битве под Лютценом отводилась отдельная глава, но самая маленькая, текст набран крохотными буковками и читался с трудом; считалось, что полк участвовал в сражении, но прибыл слишком поздно, с противником в соприкосновение не вступил и никаких потерь, кроме егеря Вильгельма Шюддекопфа, которого переехала обозная повозка, не имел. Все.
В этот день Пётч опоздал на вечерний поезд и поехал только ночью. Со свойственной ему основательностью он просмотрел списки всех павших героев, сложивших голову между Москвой и Парижем сначала за французского императора и прусского короля, затем за прусского короля и свободу и, наконец, за одного лишь прусского короля. Их было много. Но ни одного фон Шведенова. Сравнив местности и даты, встречающиеся в письмах и в истории полка, и увидев, что они в точности совпадают, так что ошибка в номерах полков исключалась, Пётч сразу же сделал первый шаг во второй части своего исследования, с новой целью еще раз пройдясь — уже уверенный в успехе — по офицерским спискам, в которых фон Шведенов не упоминался. И палец его в самом деле скоро остановился на имени искомого: «младший лейтенант Фридрих Вильгельм Максимилиан фон Массов, род. в 1770 г. в Шведенове, Курмарк, 1814 ротм., 1815 демоб., ум. в кач. вице-през. Крлв. В.Ц.К. 1820 в Берлине». Пётч был счастлив.
Вот чего он уже достиг к началу восьминедельного срока. Он понимал теперь, что его гипотеза правильна: не поэт, а только его вымышленное имя умерло героической смертью, он же сам продолжал жить, отрекшись от прошлого, под унаследованным именем. Не хватало только доказательств.
Плохо то, что род фон Массовов был широко разветвленным и иные следы после множества затраченных Пётчем усилий оказались ложными; они увлекли его даже в Польшу, где компетентные архивариусы посоветовали ему, что нужно искать в Берлине. Там он снова продвинулся на один шаг. Он установил, где 14 ноября 1820 года похоронили вице-президента В.Ц.К. Он уже видел мысленно, как через несколько минут будет стоять перед могилой, плита на которой, может быть, даже решит загадку трех букв, и, сориентировавшись по городскому плану, взял такси. Прошло действительно всего несколько минут — и он очутился перед стеной, более высокой, чем обычные кладбищенские стены. Ворот в ней не было, равно как и учреждения, готового хотя бы принять заявку. То, в которое он обратился, не поняло его. Он не хочет в Западный Берлин, заверял он снова и снова, он хочет только осмотреть одну могилу, которая, если она еще существует, принадлежит государству, чьим гражданином и он является, но кладбище, к сожалению, отгородили, из соображений безопасности, да, конечно, он ведь не против, он заверяет, что не угрожает безопасности. Присущая ему настойчивость привела его наконец к офицеру, готовому выслушать его, даже понять, но помочь и он не мог, зато охотно дал совет. Если успеха вообще возможно добиться, то только официальным путем, сказал он. Пётч должен подать заявление в тот орган, для которого он ведет розыск, заявление будет рассматриваться обоими соответствующими министерствами, это продлится долго и, вполне возможно, ни к чему не приведет, но другого пути нет. Пётч заявил, что он и есть тот самый орган, чем навлек на себя подозрения, и перестал настаивать. Просмотр книг о немецких кладбищах стоил ему нескольких дней. И ни к чему не привел.
Эти и подобные им разочарования и радости заполнили его отпуск, вечера, выходные дни, праздничные дни. К работе в школе он относился теперь легкомысленно, это значит: усевшись по окончании занятий на свой велосипед, он тут же выбрасывал школьные дела из головы. Дело дошло до того, что он чуть не забыл предупредить директора о своем уходе.
Узнав от мужа, что директор, как и следовало ожидать, отнесся к запланированному бегству из школы не только неодобрительно, но наотрез отказался отпустить Пётча, Элька ничего не сказала, но в ней зародились надежды, которые уже на следующий день пришлось похоронить. Пётч не пытался проломить крепкие решетки народного образования, он попросту обошел их, он поднял не бурю, а трубку телефона, и завертелся круг телефонных переговоров, захвативший одного профессора, одного министра по имени Фриц, двух государственных секретарей и одного окружного инспектора народного образования и закончившийся там, где начался, то есть в Липросе. Рассказывая об успехе, Пётч упомянул о каком-то «проводе» наверх, и Элька справедливо сочла, что ему не к лицу перенимать речевые обороты профессора Менцеля.
Все это дало Пётчу возможность выиграть время. Мысль, пришедшая ему ночью, отняла в эти дни у него много часов. Речь шла о самом простом и легком: надо просмотреть библиографии и каталоги и поискать, нет ли там книг этого Массова. Он нашел их, причем действительно только (как сейчас все сходилось!) за период 1815–1820, и удивительно много — целых семь, пусть лишь брошюр, к тому же в последней из них были указаны должности автора и развернутое наименование места его службы. Загадочное В.Ц.К. расшифровывалось как Высшая Цензурная Коллегия. Пётч не заметил комичности, заключенной в этом открытии, и прошло немало времени, прежде чем он понял, что перерождение этого человека и его творчества отражало все злополучное развитие тех лет. Ибо политические брошюры Массова соответствовали его должности. Явственно, хотя и не громогласно, «бранденбургский якобинец» отказался от своей юношеской прогрессивности и теперь самым отвратительным образом предавал бунтующих студентов, клеймя их якобинцами.
В связи с этими сочинениями, которые подкрепляли гипотезы Пётча, но доказательств не давали, он получил (было уже начало июня) один важный документ из местности, куда он однажды писал, но ни на что не рассчитывал. Некий старик по имени Альфонс Лепетит прислал из Люнебургской пустоши письмо с двойной франкировкой, которое находилось в пути дольше, чем если бы шло морским путем из Австралии; оно содержало фотокопию некролога на смерть вице-президента Массова. Несколько десятилетий назад Лепетит защитил диссертацию на тему «Вильгельм Гумбольдт и Карлсбадские постановления 1819», Пётч читал эту диссертацию и запросил доктора: встречалось ли ему имя цензора Массова. Встречалось, и Лепетит, ставший тем временем пишущим пенсионером, заинтересовался познаниями Пётча о Массове — в связи с подготовкой сборника под названием «Реставрация в Германии». «Можно ли в нем напечататься?» — спросил Пётч, но безответно, поскольку спросил лишь самого себя и Эльку. Его письмо в Пустошь содержало много вопросов и примечание (продиктованное осторожностью), что его исследование проблемы Шведенов — Массов еще не закончено.
Через несколько дней оно было закончено. Некролог на смерть блаженной памяти господина фон Массова блистательно завершил круг предположений Пётча об идентичности. Как и следовало ожидать, там мало говорилось о периоде до 1813 года. Говорилось о путешествиях и пребывании в родных пенатах, неподалеку от отчего дома, где фон Массов занимался «научными и искусствоведческими штудиями». Затем речь шла о некой Элизабет фон Квандт из Альтмарка, который Массов в 1815 году предложил «руку для заключения брачного союза». При этом имени Пётч оторопел, ибо не мог вспомнить, где оно встретилось ему. На четвертый день, когда он рассказывал на уроке истории о Яне Гусе, слово «Богемия» привело в движение цепь ассоциаций, подсказавших место поисков — опубликованные письма Шведенова, где упоминалась Э., которая писала ему из Франценсбада полные любви письма, последовала за ним и Бреслау и, когда полк уходил, проливала горькие слезы. Лишь в последнем письме анонимность наполовину раскрывалась: «Ты спрашиваешь о ее имени, мой друг. Ее зовут Элизабет фон К.; но это имя, даст бог, она будет носить только до моего возвращения».
— Но ей пришлось ждать еще два года, — торжествующе воскликнул Пётч, показывая Эльке это место. Затем он с гордостью прочитал последние страницы своего труда, где свел воедино все, что свидетельствовало об идентичности Шведенова и Массова. И хотя последних доказательств еще не хватало, аргументация была все же убедительной.
Элька поздравила его и тоже порадовалась — не успеху, а вызванной успехом веселости мужа, которая шла на пользу детям, а также и ей самой.
Десятая глава. Маленький Винни
Диктатура моды действует так же, как и другие: сперва она принуждает к внешнему подчинению, затем, после периода привыкания, подчинение становится внутренним. Что прежде являлось принуждением, теперь — свободная воля. Что некогда казалось непривычным, безобразным, комичным, теперь красиво. У одного этот процесс происходит медленнее, у другого быстрее, иные вообще едва ли осознают перемену и не знают даже, сколь послушно они следуют вкусам времени. Человека, который дорожит самостоятельностью мысли и чувства, охватывает ужас, когда он видит старые картины, старые фильмы, о которых нельзя сказать, что когда-то они не отвечали его чувству красоты. Иные считают попросту комичным все несовременное и всегда живут с ощущением, будто думают они не согласно моде, а правильно.
Лишь однажды, ребенком, человек со всем неведением врастает в моду, которую он, конечно же, воспринимает как единственную и правильную. Знаменательна первая сознательно пережитая перемена. Старое отбрасывается, его считают вкусом отцов, устаревшим, презренным, а потом и смешным, жадно хватают новое, как думают — собственное, бунтуют, а в действительности оказываются опять-таки конформистами. Бросают вызов старой диктатуре, потому что уже подчинились диктатуре новой.
Однако в нынешние времена жизнь человека длится дольше, чем мода, и требуется особая податливость, чтобы следовать каждому из ее веяний. Не всякий это умеет. Большинство людей все же не полностью поддаются ее влиянию, они останавливаются на достигнутой второй фазе и позднее, при новых переменах, пытаются обходиться вариациями. Поскольку мода имеет смысл только в том случае, если человек общается с другими людьми, избежать ее диктата лучше всего удается, когда живешь одиноко, никем не интересуешься или встречаешься с людьми, у которых так же мало времени для следования моде, как у тебя самого.
Темный костюм Пётча уже более десяти лет был ему к лицу при югендвайе, конфирмациях, похоронах, на танцевальных вечерах и семейных празднествах. Теперь же Элька вдруг обнаружила, что Пётчу совершенно невозможно пойти к Менцелю в этих узких брюках, остроносых туфлях, в этом гастуке-шнурке. Сперва он рассердился и не хотел ни о чем слушать, потом заколебался и в конце концов попросил ее съездить с ним в город за покупками. Выбор был невелик, ему понравилось лишь немногое, но его размера не оказалось. Усталые и раздраженные, они вернулись вечером из Беескова и через несколько дней поехали в Берлин, где носились из магазина в магазин, чтобы в конце концов купить то, что видели уже в первом магазине: костюм и длинное платье. И если Элька теперь вечерами примеряла то одну, то другую вещь, с удовольствием заново училась краситься, то Пётч облекся в свою новую одежду лишь в день менцелевского праздника и чувствовал себя разряженным, как клоун.
В четыре часа приехало такси, чтобы отвезти принарядившихся супругов на вокзал. Детям родители показались смешными. Исходивший от матери аромат духов они назвали вонючим. Бабуля озабоченно качала головой, считая, что эти сумасбродства никогда до добра не доводят. Пётч нес большую дорожную сумку. Кроме набело переписанной и переплетенной статьи, там лежали карманный фонарь и сапоги Эльки (для обратной ночной дороги).
Был будний день. Они сидели в поезде, в котором ехали к ночной смене живущие в деревнях рабочие. Иные из них когда-то были одноклассниками Пётча, некоторые — его бывшими учениками. Они думали, что Пётчи едут на свадьбу. Дабы не вдаваться в подробности, он хотел подтвердить это, но Элька рассказала, как в действительности обстоит дело, и это произвело впечатление, так как один из слушателей видел Менцеля по телевизору. Другой, считающий себя человеком бывалым, заявил, что дамы этого круга придут все в платьях до лодыжек. Тогда Элька, которая подвязала платье под пальто, чтобы не бросаться в глаза, продемонстрировала его, и все зааплодировали, как на показе мод. Ее нашли красивой и сказали об этом. Она обрадовалась, но это не прибавило ей уверенности: ведь ни Пётч, ни эти мужчины не были людьми компетентными.
Они молча шли по поселку, сплошь застроенному виллами, которые и в будни выглядели празднично. Пахло розами. Водораспылители испускали волны влажной прохлады. Тихо жужжали машинки, подстригая газоны. На террасах сидели семьи, звучала музыка, смеялись дети. Возвращающиеся с работы мужчины выходили из машин и были одеты, как гости на именинах. Элька, в последние недели понаторевшая при покупках, оценивала покрой брюк, воротнички на рубашках, цвет и ширину галстуков. Ни в Беескове, ни в берлинских универмагах она ничего подобного не видела. Они шли медленно, чтобы не прийти слишком рано. Они ни в коем случае не хотели заявиться первыми.
Дом профессора Менцеля можно было узнать еще издали по множеству стоящих перед ним машин, среди которых выделялся один огромный черный автомобиль, хотя маленьких машин здесь не было. То и дело подъезжали такси, высаживая гостей. Когда открывались дверцы, сперва показывались туфли дам (нередко то золотые, то серебряные), затем ноги, над ними руки, придерживавшие юбки, кстати не всегда длинные. Кроме Пётчей, никто не прибыл пешком.
Они пошли медленнее, чтобы переждать наплыв. Они никого не знали и со своей большой сумкой вполне могли незамеченными пройти мимо. Эльке очень хотелось этого. Еще можно было поспеть на восьмичасовой поезд. Она чувствовала себя здесь лишней и неуклюжей. Она видела, с какой уверенностью и свободой держались гости. И не имело значения, что некоторые были одеты весьма небрежно, иные мужчины даже без галстуков, — наоборот, она понимала, насколько в этом кругу они чувствуют себя дома, чего ей никогда не удастся. Выходя из такси, гости весело махали рукой фрау Менцель, стоявшей в калитке сада. Некоторые мужчины целовали ей руку, женщины обнимали ее. Разговаривали громко и непринужденно. По сравнению с ними Элька казалась себе скованной и нескладной. Чувство неполноценности она хотела компенсировать злостью. Она вдруг ощутила пропасть, отделяющую ее и таких, как она, от людей, собравшихся здесь. Она была им чужая. Они не только иначе одеты, они и двигались иначе, говорили на другом языке, который она, правда, понимала, но пользоваться им не могла. Это были обитатели мира, знакомого ей лишь по телевидению. Люди, которые сидели на конгрессах, держали речи, во время перерывов улыбались в камеру, махали рукой с трапов, знали ответ на любой вопрос, пользовались самолетами, как другие люди — трамваем, они всегда дружелюбны, всегда излучают уверенность, в Москве чувствуют себя больше дома, чем она в Берлине, но ездят и во Франкфурт, в Канн, в Венецию, не стыдясь своих привилегий. Они исполнены уверенности, потому что осознают свою важность. Они никогда не попадут в такое положение, в каком она, Элька, сейчас находится. Даже вне своего круга они не чувствуют себя чужими, слабыми. Ведь это благодаря их способности планировать стало так хорошо: в каждом доме холодильник и телевизор, во многих перестроенных конюшнях автомашины. Это они были теми миссионерами, что могли подать совет аборигенам, внедряли бесплатно и необходимую культуру, да еще и гордились этими выполняющими свой долг людьми, которые ночью в снег и в дождь ехали в отдаленное село, чтобы заступить на раннюю смену в наисовременнейших телятниках, которые крепко спали по утрам в автобусах, отвозивших их на комбинат. Элька становилась все более несправедливой. Она задавалась вопросом, было бы то прелестное дитя, о котором рассказывала высоченная женщина, столь же прелестным, если бы его зимой невыспавшимся каждый день возили в переполненном шестичасовом поезде в детский сад. Она представила себе, как вон та разряженная старая дама в летнюю жару ожидает автобуса, чтобы попасть к зубному врачу, а тот красавчик работает школьным истопником, а министр едет после работы в битком набитом трамвае. Последнее, пожалуй, было уж слишком, ведь при своем окладе он мог бы купить себе дешевую машину, успела еще подумать Элька, когда ее губы уже складывались в приветственную улыбку. Но улыбнулась она попусту, поскольку сперва приветствовали Пётча.
Фрау Менцель протянула руку так, что было ясно — она не ждет, чтобы он поцеловал ей руку; она выразила уверенность, что муж будет рад. Пётч уже почти держал ее руку в своей, как вдруг вспомнил, что надо сперва представить Эльку. Он сделал это со всей возможной неуклюжестью, и замороженная улыбка Эльки наконец оттаяла.
Она даже поговорила с фрау доктор: первую фразу сказала о погоде, вторую о розах и третью о своей огромной дорожной сумке, в которой не запрещенные подарки, а сапоги для дальней обратной дороги. Фрау Менцель вспомнила о плохих дорогах, о трясине, из которой их вызволил Пётч, и похвалила супругов за благоразумие, подсказавшее им оставить машину в гараже. Элька решила, что не стоит развеивать ее заблуждение.
В дверях дома стояла строгая и мрачная фрау Шписбрух и указывала пребывающим гостям дорогу. Ничто в ее лице не обнаружило, что она уже знакома с Пётчем. Молча взяла у обоих верхнюю одежду. Они были единственными, кому пришлось что-то сдать.
Первая комната почти полностью была освобождена от мебели. В нескольких оставленных креслах сидели пожилые люди; другие стояли группами, громко разговаривали и смеялись. Эльке казалось, будто ее включили в фильм; будь она невидимым зрителем, она бы, может быть, и наслаждалась им. Но как действующее лицо она не годилась. Если она не хотела играть роль комического деревенского персонажа, ей следовало сделаться по возможности невидимой. Вот она и забралась в угол и чувствовала себя там прескверно. Ей, правда, становилось легче от мысли, что все кругом мелют чепуху, что прекрасные одежды зачастую украшали убогие тела и что она здесь самая молодая, но уверенности это ей не придавало.
Она никогда не видела профессора, но легко узнала его по толпе поздравителей. Тот, чья очередь подходила, долго держал, что-то говоря, его руку и разражался хохотом в ответ на шутку, которой профессор одарял каждого. Дамы в заключение получали от него поцелуй. В общем гуле Элька слышала его голос, но не разбирала, что он говорил. Во всяком случае, что-то веселое. Весело было и то, как он после каждой поздравительной процедуры пытался разжечь трубку, и это ему никак не удавалось, потому что протягивал руку уже следующий гость. И он снова торопливо засовывал трубку в карман или оставлял ее во рту до тех пор, пока не наступал черед нового поцелуя.
Как и следовало ожидать, запрет на подарки многократно нарушался. Цветы уже заполнили все дорогие вазы на подоконниках. Фрау Менцель с отчаянием восклицала, что придется пустить в ход банки для консервирования. Профессор шутливо бранил каждого дарителя, но потом внимательно выслушивал его объяснения (если они были не слишком длинными). Ибо, естественно, здесь никто не дарил то, что дарят бабуле или братцу Фрицу: конфеты, галстуки или импортную водку. Даже маленьких антикварных вещей и редких книг лежало на отведенном для подарков угловом столике немного, причем все они заключали в себе особый смысл для Менцеля. Решающим для дарителей была не денежная ценность подарка, а эмоциональная, pretium affectionis, как сказал один из ученых гостей, тут же объяснив этот термин старой юриспруденции: предметы, обладающие малой или никакой ценностью, но много значащие для особы, ими владеющей. Так, например, кто-то нашел истрепанную детскую книгу с популярными аляповатыми картинками, но особенность ее состояла в том, что когда-то она больше других нравилась мальчику Винфриду. Кто-то принес газету 1950 года, в которой Менцель, взяв заглавием слова Гёте «Меня не беспокоит, что Германия будет единой», одобрительно комментировал высказывания Сталина по германскому вопросу. Но наибольший успех имела фотография из тех же времен, вставленная в золоченую рамку в стиле барокко. Оптимистическую улыбку, которую демонстрировал на фотографии член Союза свободной немецкой молодежи Менцель (на фоне развалин, транспаранта и знамени), иначе как идиотской не назовешь. Фотография была пущена по кругу, и профессор, в комическом ужасе закрыв глаза рукой, сказал: «Историческая улыбка победителя».
Дружный смех дал профессору шанс раскурить наконец трубку. Он уже сунул ее в зубы, достал зажигалку — и вдруг увидел Пётча, пробравшегося к Эльке в угол, и ринулся к ним сквозь толпу. Зажигалку и трубку он снова засунул в карман, чтобы обеими руками схватить руку Эльки. Не давая ей времени для поздравления, он потянул ее на середину комнаты и попросил тишины, которая быстро и наступила.
Известно, что он рад каждому, кто пришел его поздравить (начал он, кланяясь то в одну, то в другую сторону), и каждый гость знает, что особенно дорог ему. Но иной раз в этом особенном заключается еще и особо особенное, и таковым сегодня для него является визит этой молодой женщины, которую он хотел бы представить уважаемым присутствующим, поскольку она вместе со своим супругом, спрятавшимся там сзади, впервые в этом доме. Особенное в этой женщине не молодость и красота, как, наверное, сразу же подумали его старые друзья, — то и другое достаточно ярко представлено в этом кругу. И не потому он специально представляет супругов, что они олицетворяют собой новый для него жизненный круг, а именно молодую интеллигенцию нашей страны. Он делает это скорее потому, что как раз в тот год, когда он, после десяти лет работы над своей книгой о Максе Шведенове…
В этом месте один из гостей громко застонал в наигранном отчаянии, что вызвало всеобщий смех, но не сбило с толку юбиляра. Сперва он тоже засмеялся, но затем погрозил тому господину пальцем, как грозят детям, повторил прерванную фразу, потом сам себя перебил, чтобы крикнуть нарушителю тишины, которого назвал Фрицем: сегодня его день рождения, и он может каждому докучать Шведеновом столько, сколько захочет, что опять-таки вызвало веселья больше, чем, собственно, давала повод шутка.
Он делает это скорее потому, продолжил он, дружески положив руку на плечо Эльке, что эта молодая женщина не только прибыла из деревни Шведенов Беесков-Сторковского района, но и сама урожденная Шведенов. Короче говоря, он имеет удовольствие приветствовать в своем доме прапраправнучку историка и писателя, что он и делает.
Элька попробовала запротестовать, когда раздались аплодисменты, но Менцель с милой заговорщицкой гримасой положил ей палец на губы и снова потребовал внимания: он забыл назвать сегодняшнюю фамилию потомка писателя. Ибо, как ни трудно это представить себе, она пожертвовала своей выдающейся фамилией во имя любви. Он на ее месте не сумел бы это сделать, даже если бы появился такой мужчина, как он сам. Итак, теперь ее зовут фрау Пётч, а ее мужа он назвал бы, если бы мог — но это невозможно — отвлечься от себя, лучшим знатоком Шведенова в наши дни, о чем он здесь упоминает лишь для того, чтобы сказать: теперь мы знаем, что приводит к научным открытиям — любовь.
Новым взрывом аплодисментов Менцель уже не смог насладиться, ибо прибыли новые гости: знакомая по телеэкрану даже Эльке актриса, посылавшая во все стороны воздушные поцелуи, а потом так повисшая на шее Менцеля, что ее ножки оторвались от пола; затем пожилая ненакрашенная и неукрашенная женщина, судорожно пытавшаяся сохранить на лице улыбку, очень высокий бородатый юноша в джинсах и пуловере, так ловко уклонившийся от менцелевского поцелуя, что последний угодил в пустоту. «Первая жена с сыном», — услышала Элька чей-то шепот.
Господин, который недавно так забавно застонал, спросил у Эльки, был ли у ее родителей домашний алтарь для святого Шведенова, и долго смеялся, услышав, что Элька только от мужа узнала об этой знаменитости. Полная дама, представившаяся как фрау Такитакская из Москвы и источавшая захватывающий дух сладкий аромат, доверительно сообщила Эльке, что господин, с которым она, Элька, только что беседовала, — это сам министр. Глубоко декольтированная блондинка с девически стройным телом и лицом старухи с лукавой улыбкой советовала Эльке остерегаться профессора: «Поверьте мне, вы милы ему не только своим девичьим именем, уж я знаю нашего Винфрида!»
Элька очень страдала, не умея шутливо отвечать на шутливые слова, с которыми к ней обращались. Ей удавалось лишь немного варьировать одобрительный смех. Но поскольку одним этим смехом беседа поддерживаться не может, никто не оставался долго около нее, и она снова подалась в свой угол, где уже стоял ее муж, но не один. Высокий худой мужчина с согнутой спиной занимал его историями про профессора, все время называя того шефом или князем. Услышав имя Браттке, которое она знала по рассказам Пётча, Элька сразу же посмотрела на его ноги и с разочарованием увидела, что они обуты не в войлок. Не было также и цепи с очками. Лишь пуловер свисал на пядь длиннее пиджака, и разговор снова зашел о рабстве, которое муж Эльки хотел добровольно принять.
Это были первые невеселые слова, услышанные Элькой в этот вечер. Они отдавали горечью и, вероятно, имели целью предостеречь, что пробудило в Эльке симпатию к Браттке и надежду на будущее.
— Стало быть, вы не советуете?
— Безуспешно, как я вижу, — ответил Браттке и показал Эльке на мужа, который с улыбкой превосходства уже минут десять заверял его, что, с тех пор как Менцель шепнул ему, что место ему теперь совершенно точно обеспечено и д-ру Альбину скоро понадобятся документы для оформления, ничто уже не сможет замутить море радости, в котором он плавал.
Даже о жилищных возможностях Менцель уже подумал. Фрау Унферлорен, которая дважды в неделю приходит к ним для помощи фрау Шписбрух и помогает в праздники на кухне, хочет перебраться в деревню и, возможно, согласится на обмен с Пётчами.
— Ты бы поискала ее, — сказал Пётч Эльке, и Элька не ответила: «Ты бы сперва спросил меня, хочу ли я вообще в Берлин!», а промолчала и повернулась, как и все остальные, в сторону профессора, который захлопал в ладоши и пригласил к столу.
Длинный стол тянулся из одной большой комнаты в другую. Менцель сидел на украшенном цветами стуле во главе стола, а другой конец возглавляла — что с умилением было отмечено — его мать, беловолосая старушка, которая сначала церемонилась, а потом стала развлекать Пётча, сидевшего сбоку от нее в конце стола, историями из детства Винни; одну из них она повторила несколько раз, чтобы привести ею в восторг все сидевшее за столом общество.
Действие ее разыгрывалось во времена, когда Винфрид был еще маленьким, таким маленьким, что не доставал даже до стола, и особенно плохо это было по воскресеньям, когда приходили дяди и тети и две бабушки и, громко разговаривая, сидели за кофе, а он, маленький, одиноко стоял у стола (братьев и сестер у него не было), впадая во все большее отчаяние, и слезы текли по его бледным щекам, пока однажды он не вскарабкался на стул, забил кулачками по столу и закричал: «Теперь буду говорить я!», а когда стало тихо и папа сказал: «Итак, Винни, теперь будешь говорить ты!», он стоял с покрасневшим лицом и глотал и глотал воздух и не мог ни слова сказать — сегодня этому нельзя поверить, но он действительно не произнес ни слова, ни звука, пока все не засмеялись, а у него начался такой припадок отчаяния, что пришлось уложить его в кровать.
— И вот ему уже пятьдесят, — завершила она свой рассказ, особую прелесть которому придавал саксонский диалект, — я могу рассказать и другие истории, я знаю их множество, но Винни разрешил только эту, и я боюсь, что он сейчас снова застучит кулаками по столу и закричит. Вы не видите, а я уже вижу в его глазах злой огонек, и потому я закончу. Да и еда остывает.
Последнее, правда, было неверно, ибо сперва на очереди были разнообразные закуски, все равно подававшиеся холодными, за исключением черепашьего супа, который не успевал остыть в маленьких чашечках, потому что его, не прерывая разговора и смеха, можно было пить с ложечки или, изящно вытянув губы, отхлебывать из чашечки. Но уже вскоре после сообщения матери и последовавшей словесной перестрелки с сыном начали вносить главные блюда, от перечисления которых мы избавим читателей, чтобы у них зря не текли слюнки. Лучше эту главу закончить, ибо большая юбилейная речь во славу Менцеля заслуживает отдельной главы. А по поводу еды следует еще добавить, что, хотя она и была такой изысканной, какой у других почти никогда или вообще никогда не бывает, причины завидовать тут нет, потому что мало радости получаешь от деликатесов, если приходится постоянно демонстрировать веселье и сосед, которого не знаешь, придает большое значение тонкой застольной беседе. Пётчу же, кстати, уж и вовсе было не до радости, так как его подарок — или не подарок: статья — все еще лежал в дорожной сумке в гардеробе, и он напряженно ждал случая незаметно выйти, чтобы положить папку на стол с дарами.
Элька, напротив, наслаждалась возможностью есть то, что не ей пришлось готовить. Она скоро узнала, кто из подающих к столу женщин фрау Унферлорен. Это была худенькая блондинка, которая всякий раз краснела, когда кто-нибудь к ней обращался. Эльке, как и каждому, кто знакомился с ней, сразу же пришло в голову, что ей бы больше пристало называться фрау Ферлорен — Потерянная, а не фрау Унферлорен — Непотерянная.
Одиннадцатая глава. Хвалебная речь
С забавной бесцеремонностью профессор Менцель начал свое главное выступление. Когда министр, постучав по своему бокалу, попросил слова, он отказал ему: Фриц ведь скажет только то, что утром уже опубликовали газеты, он же, наилучший знаток этой пятидесятилетней жизни, может дать немало дополнительной информации.
Само собой разумеется, никто ему не помешал, таким образом, профессор Менцель сам произнес юбилейную поздравительную речь, что не лишено смысла: ведь цель юбилейных и надгробных речей — восхваление, а никто не умел это делать так хорошо, как он, если дело касалось его. Все гости единодушно признавали, что его знаменитый шарм с годами не потускнел. Они охотно поддавались его чарам, смеялись, когда представлялся повод, позволяли себе реплики (которые он тут же подхватывал и парировал, словно был подготовлен к ним), радовались удачным оборотам и один раз даже посерьезнели, когда он упомянул некоего дорогого покойника. Хорошо подготовленной, но будто импровизированной речью он управлял выражениями лиц и настроением.
Несмотря на седые волосы и полноту, в его облике было что-то молодое, даже юношеское. Его испытанный в лекционных залах и радио- и телестудиях голос был ясен и громок, четкое произношение приятно окрашено налетом средненемецкого диалекта, многопериодные фразы искусно построены, словарь обширный, опирающийся на все лексические слои, включая грубые (остроумно примененные) ругательства. Он стоял на своем почетном месте непринужденно, пиджак расстегнут, рубашка на мясистой шее раскрыта, узел галстука расслаблен. Одна рука в кармане брюк, другая, с трубкой, скупыми жестами сопровождала его речь. К каждой остроте он подступал издалека или шел напрямик, возвещая ее лукавой улыбкой, словно говорящей: меня заранее забавляет то, что я скажу, а вы сейчас сразу затрясетесь от смеха, погодите только! Когда же смех разражался, он сам не смеялся, а с достоинством пережидал его, как пережидают аплодисменты, без смущения, но как человек, который эти аплодисменты заслужил и вправе ими наслаждаться.
Откровенность, с какой он радовался аплодисментам, была по-детски трогательной, но хорошо рассчитанной. Своей радостью он отвечал на дружелюбие, проявляемое слушателями, показывая тем самым, что их реакция правильна. Он, хороший оратор, свидетельствовал, что они хорошие слушатели. Достойные его. Скромность была бы не только лицемерием с его стороны, но и невежливостью по отношению к ним. Поскольку они знали и ценили его достоинства, ему не пристало делать вид, будто сам он не знает и не ценит их. Прикидываться дурачком значило бы считать своих гостей дурачками.
Те же самые причины заставляли его усиленно хвалить себя. Его успехи — вот что выделяло его из массы ученых. И тот, кто почитал его, делал это из уважения к успехам и, стало быть, имеет право послушать о них — в форме, соответствующей веселому часу. Само собой разумеется, что преобладал при этом не тон утренней газеты, а (всегда лестный) тон «мы-ведь-в-своем-кругу». Он смело выбалтывал секреты — если они были десятилетней давности. Недостатка в знаменитых именах не ощущалось, и профессор умел использовать их для собственной славы, вкладывая, например, в уста Вальтера Ульбрихта (чью манеру говорить он мастерски копировал), в свое время вручавшего ему Национальную премию, перечень всех должностей, которыми Менцель был тогда облечен, а их было множество, начиная с постов в вузовских и государственных комиссиях и до главного редактора двух журналов. Бурный восторг в заключение речи относился как к достославному прошлому Менцеля, так и к его ораторскому таланту. Гости аплодировали немножко и самим себе, ибо во время речи юбиляр то прямо обращался к одному из присутствующих, то напоминал другому о давнем происшествии, искусным приемом вызывая в каждом чувство сопричастности к хвалебной речи. Поскольку он, разумеется, не обошел молчанием и свою книгу и достаточно часто цитировал Шведенова, то и к Пётчу он обращался неоднократно. Сперва Пётч испугался, потом смеялся, кивал головой, а под конец даже возразил короткой шведеновской фразой. С этого момента он избавился от своей неуверенности. Он больше не чувствовал себя чужим. И когда Менцель закончил, он с величайшей естественностью поднялся и спокойно вышел, чтобы перенести свою статью из гардероба в переднюю комнату. У него нашлись даже слова признательности для фрау Шписбрух, но они, правда, впечатления не произвели.
Фриц, министр, потом все же получил, конечно, слово. Он ничего не говорил из того, что было напечатано, а вспоминал забавные случаи из времен их тридцатилетнего знакомства, но ему, как и всем выступавшим после Менцеля (а их было немало), трудно было хоть кое-как держаться на установленном юбиляром уровне — собственно, это никому и не удалось. Мало помогало им и то, что они сами это замечали и признавали («Ты, Винфрид, рассказал бы это, конечно, остроумнее!»), и последующий час прошел бы очень скучно, если бы Менцель не приправлял ироническими словечками частично импровизируемые, частично украдкой читаемые по бумажке короткие речи.
Праздник длился еще долго, но с окончанием застолья веселье пошло на убыль. Общество распалось на группы. В передней комнате начались танцы. Капелле из трех человек (представленной Менцелем со словами: «Как раз настолько старомодна, насколько можно себе позволить в пятьдесят лет») наказано было играть танцевальную музыку двадцатых — пятидесятых годов. С удовольствием и хорошо танцевавшая Элька вышла из комнаты только для того, чтобы найти кухню, где фрау Унферлорен, все время беспричинно краснея, сообщила ей, что, происходя из деревни, она жаждет вернуться туда и охотно поменяла бы свою двухкомнатную квартиру в центре города на квартиру в деревне, если там можно будет держать кур для себя и кроликов — для сыночка. В ответ на Элькино подробное описание (где фигурировал и неженатый деверь Фриц) двора и дома она предложила обменяться визитами для осмотра жилищ.
В поисках уборной Пётч попал в библиотечную комнату, уселся там и углубился в «Увядший весенний венок». Элька, желавшая поделиться сообщениями по поводу жилья, не нашла его. Зато его нашел Менцель.
Двенадцатая глава. Верная дружба
— Я не хочу вам мешать, — сказал Менцель, — читайте спокойно. Мне тоже сейчас нужен покой. После такого дня, как сегодня (я говорю о нем в прошедшем времени, ибо я свое дело уже сделал), — после такого дня я чувствую себя опустошенным. Я выдал то, чего от меня ожидали, и теперь во мне ничего больше нет. Преимущество такого состояния в том, что пустоту легко обозреть. Когда полностью выкладываешься, ничто в тебе тебе не мешает.
Я так и думал, что найду вас здесь. Ради вас я сегодня не запер библиотеку, хотя всегда это делаю. Не только из-за людей, которые не считают кражу книг воровством. Я не выношу пьяных в своей библиотеке. Меня заставляет запирать почтительность — скажем так. За этими стенами и здесь, внутри, разные миры. Я бы назвал их миром священным и миром нечестивым. И вот вы сидите здесь, и я этого ожидал.
Вы даже не замечаете, что я сделал вам комплимент. Вместо того чтобы посмаковать его, вы смотрите на меня так, словно библиотека — ловушка, а вы — угодившая в нее мышь.
Вы, конечно, думаете, я слишком много пил, но это неверно. Я выпил ровно столько, сколько требуется, чтобы снести барьеры, которые сам же и воздвиг. Я напился только мужества для того, чтобы обозреть себя изнутри, но увидел я, как уже сказал, пустоту.
Сегодня мне исполнилось пятьдесят, и вы, наверное, думаете обо мне то же, что я в вашем возрасте думал о пятидесятилетних: вот уж действительно зрелые, то есть сложившиеся, люди, они точно знают, чего хотят, не ведают больше любовной тоски, тщеславия и, возможно даже, становятся мудрыми. Стоит вам только вспомнить, как я сегодня ломался перед этими людьми, и вы поймете, какая это чепуха. А зачем? Только чтобы не испортить хорошего впечатления, какое я на них произвожу, только чтобы они не могли сказать: он уже не тот, каким был когда-то. Хоть волком вой, ничего не поделаешь: я завишу от этого впечатления, я им живу.
Вы не обратили внимания, что стихи, которые вы держите в руках, не рассмотрены на моих шестистах страницах, едва упомянуты? Конечно, обратили и подумали: к поэзии у Менцеля нет склонности, и потому он ее игнорирует. Но вы ошибаетесь, причина в другом: они для меня слишком святы, чтобы вот так рубить их на кусочки. Я знаю их не только лучше, но и раньше всего другого из Шведенова. С «Весеннего венка» все и началось, чертовски давно это было. Когда я оставлю вас в покое, откройте стихотворение «Родные места». То, что там говорится о вязах, в том месте, которое начинается строчкой «Весело ввысь вознеслись вы из крепких корней», — вот так, я считаю, должен уметь жить человек, расти из самого себя, а не из других, опираясь на самого себя, независимо. Шведенов сам тоже этого не умел, но он сумел это сказать.
Стихи подарил мне друг. Когда-то у меня был друг, один-единственный, кто заслуживает такого наименования. Это было примерно в конце войны, перед концом или после него. Он не только привел меня к Шведенову, он сам имел в себе что-то от шведеновских вязов, право слово, но успехов никаких не добился. Так и хочется сказать: естественно! Из него вообще ничего не получилось, теперь он уже умер и, следовательно, опять мне близок. (Это «следовательно» вы когда-нибудь поймете.) Я и сегодня не знаю, каким он был. Знаю только, что он был полной противоположностью мне. Если ключевое слово к моему характеру — честолюбие, то к его, вероятно, — любовь (но не знаю к кому) или, может быть, достоинство. Иной раз я ловлю себя на том, что разговариваю с ним, после того как снова кривлялся, как клоун, по телевизору. Мне было шестнадцать лет, когда мы подружились. Вы знаете песенку: «Нерушимой быть должна дружба верная»? Так я тогда и считал.
Потом я его потерял. Обычное дело.
Ведь дорога наверх так узка, что по ней можно идти лишь одному. Тут уж никого не возьмешь с собой. Правда, сперва думаешь, что ничего, кроме места работы и оклада, не изменится, но это оказывается иллюзией. Ибо дружба основывается на общих интересах, а их теперь нет. Профессиональные проблемы стали другими, а о машинах и коллекциях фарфора не поговоришь с человеком, который экономит на всем, чтобы купить холодильник. И как тут посплетничаешь о знаменитых специалистах, если другой их не знает? К тому же удача вызывает у неудачливого почтительность или зависть. А если и не вызывает, удачливому все равно кажется, что вызывает, и результат все тот же: незаметное отдаление. Связи тоже меняются. Люди, которыми ты раньше восхищался издали, приглашают тебя в гости. Это почетно и обременительно. Денег, которых ты надеялся иметь теперь достаточно, по-прежнему не хватает. Раз тебя угощают шотландским виски, ты тоже должен им угощать. И если у твоих новых знакомых висят оригиналы, тебе уже самому не нравятся репродукции, которыми ты до сих пор украшал свои стены. Но не только в деньгах дело, приходится снова и снова бороться за признание. Если внизу ты был первым, то ступенькой выше ты оказываешься вначале последним. Друзей и женщин можно оставить на нижних ступеньках, но не свое честолюбие.
А жить с ним не всегда легко. Недавно я проводил отпуск в горах. Отель стоял на крутом склоне над котловиной. Я жил на двенадцатом этаже. Покрытые лесом горы по другую сторону долины казались то далекими, то на расстоянии руки. В течение трех недель я ежедневно сидел на балконе на солнце, и страх перед пропастью подо мной ни на минуту не отпускал меня. Я все время старался не смотреть вниз, а только вдаль, и никогда это мне не удавалось. Когда прохожие останавливались на ведущей через долину дороге, чтобы посмотреть вверх, на роскошное здание отеля, мне чудилось, что люди (они казались мне меньше спички) смотрят как раз на меня и словно ждут, что я встану на перила балкона и полечу над долиной в горы. Я крепко вцеплялся руками в шезлонг, чтобы не поддаться искушению.
Но я отклонился, простите. Я хотел использовать эти навязчивые идеи как образ, но они не годятся, скажу лучше так: мне всегда удавался полет, но я никогда не попадал туда, куда мне хотелось попасть. Как вы думаете, почему я написал эту книгу? Шестьсот страниц, десять лет работы, ладно, скажем — шесть лет. Только потому, что я понял эфемерность всех других успехов. Непреходящее создается только книгами.
Не прикидывайтесь более испуганным, чем вы есть. Вы ведь давно все знаете обо мне. С первого дня вы относитесь ко мне как к больному, требующему бережного отношения. И я действительно болен, вернее, изранен. Я добровольно приковал себя к скале под названием Общественное мнение, и орел Честолюбие выклевывает мне печень.
Вот видите, каков я: едва покончив с самоанализом, я сразу же сделал из него представление, на сей раз патетическое. А все это лишь вступление к вопросу, который я хочу вам задать, хотя отношение к нему имеет только то, что я рассказал о моем друге, которого вы мне напоминаете. Мой вопрос: не хотите ли выпить со мной на брудершафт? — в сущности, нелепая затея, о которой даже не знаешь, не скрывается ли за ней наряду с надеждой еще что-то, например попытка вступить во владение чем-то чужим, тем, что противоположно мне, что заключено в вас, а во мне отсутствует. Этим-то он и обладал, я имею в виду своего друга, который, кстати, перешагнул через перила балкона, вовсе не надеясь, будто умеет летать.
Итак, если вы принимаете мое предложение, просто как таковое, а не как честь, и если вы, кроме того, в состоянии забыть, что через несколько недель я стану вашим шефом, то я сейчас принесу два стаканчика, чтобы все было честь по чести, иначе ничего не получится. Как известно, меня зовут Винфрид, и вот я разоблачу себя во всем великолепии: я открою тебе, что не знаю твоего имени.
Эрнст? Серьезный?
Когда имена со значением метки, я их особенно не люблю. Куда охотнее я называл бы тебя Фредом — так звали того, кто умер. Но если бы я это сделал, ты опять обвинил бы меня в аристократических повадках. Я тогда обиделся — конечно, потому, что ты не так уж не прав. Но тогда она и возникла — потребность выпить с тобой на брудершафт.
Вот что говорил, без всяких пауз, ночью в библиотеке, Менцель. Собрав все свое мужество, Пётч сказал: «Винфрид!» — и чокнулся с ним.
Тринадцатая глава. После праздника
Уже брезжило утро, когда Пётч по городской железной дороге поспел к первому поезду. Ему не хотелось встречаться со знакомыми. Поэтому в Кёнигс-Вустерхаузене он пробрался вперед, сел в вагон для некурящих и закрыл глаза. Но все напрасно. Его увидел бывший ученик и потащил назад, где курили и пили пиво. Мужчины, с которыми они ехали из дому, теперь возвращались с ним обратно. Он пропраздновал ровно рабочую смену. Впервые в жизни он пил до завтрака пиво. О сне нечего было и думать. Поскольку Эльки рядом не было, ему пришлось самому рассказывать, сначала, конечно, о ней — почему она не с ним, — что было сложно, ибо он не смог не коснуться планов переезда. Намеки в расчет не принимались, пришлось отвечать на расспросы. Проще было удовлетворить любопытство касательно подававшихся напитков. Он просто перечислил все знакомые ему марки вин, пива, шнапсов, так как был уверен: у Менцеля имелось все, что существует на свете.
От вокзала до Арндтсдорфа его подвез мотовелосипедист. Дорога через лес торжественно венчала праздник. Музыкой ведали птицы, восходящее солнце позаботилось о световых эффектах. То на красном фоне возникал, подобно черной колоннаде, ряд высокоствольных деревьев, то над темным заповедником золотым куполом вспыхивали освещенные вершины, то дорогу перед ним пересекали световые барьеры, ломая которые он отбрасывал метровые тени.
Когда братец Фриц встал, кофе был уже готов. Бабуля, как обычно, пришла, лишь услышав голоса детей. Как обычно по утрам, все были ворчливы. Необычным был только вопрос, который задавал каждый, входя в кухню: где Элька? И каждый получал ответ: «Это я вам после объясню».
Да и как объяснишь утром, когда все спешат, почему Элька сразу после праздника поехали с фрау Унферлорен в ее квартиру в центре города. Фриц завел уже свой тягач, когда вышли дети. Дочь Пётча, которой нужно было в Арндтсдорф, с бутербродами в руке понеслась к автобусу. Потом отец с сыном на велосипедах отправились в Липрос.
Дома осталась лишь одна слегка сбитая с толку бабуля, не знавшая, без указаний Эльки, что с собой делать. Она давно позабыла времена, когда была полновластной хозяйкой дома.
Бабуля хотела помыть посуду, но для этого надо согреть воду, а она не знала, как справиться с новой газовой плитой. Попробовала разжечь печь, топившуюся углем, но огонь не грел, печь только дымила. Вместо того чтобы открыть закрытую заслонку, она, решив, что засорилась вытяжка, стала чистить печь. Сняла железные плиты, открепила кафельные затворы перед вытяжными каналами и с величайшим трудом, но сумела открыть заклинившую вьюшку у подножия дымовой трубы. Когда внучка днем вернулась домой, бабулю едва видно было сквозь тучи сажи и копоти, а вода для посуды так и не согрелась.
Разгром не омрачил настроения Пётча.
— Элька приведет все в порядок, — сказал он, накормил мать и дочь хлебом с колбасой и лег спать. В пять часов он отправился из дому с двумя велосипедами и вернулся с Элькой и пивом.
— Пиво? С чего это вдруг? — спросил Фриц за ужином.
Пиво предназначалось для него: неполная компенсация отмененного по воле брата похода в пивную, так как предстояло обсудить важное дело. Элька привела печь в порядок, убрала кухню и вымыла посуду. Потом в комнате начался семейный совет, вскоре превратившийся в семейную драму.
Поняв, что сын и невестка хотят покинуть ее, бабуля заплакала сразу, Элька — немного погодя, не называя причин. Их было много, этих причин, но охватить их можно одним понятием: предвосхищенная боль разлуки.
Супруг и сын по справедливости воспринял слезы как упрек и ответил на него бурным взрывом, который в свою очередь вызвал еще более бурный поток слез. Пётч забылся до того, что вскричал: семья завидует его успеху, — и тотчас устыдился. Но когда, совершенно растерянный, он спросил: «Ты ведь поедешь со мной в Берлин?» — Элька, правда заставив его долго ждать ответа и не сказав «да», внятно кивнула.
Один только братец Фриц попивал пиво и оставался спокойным. Услышав о берлинской партнерше по обмену, он спросил: «Незамужняя? А сколько ей лет?» Бабуля вытерла слезы, сказала — как это ужасно, когда в доме чужая, — но тут же поинтересовалась, крепкая ли она женщина.
Когда же в следующее воскресенье эта чужая прибыла — без мужа, с ребенком, — бабуля молчала, но при осмотре все время семенила сзади и внимательно приглядывалась.
Рядом с массивным Фрицем фрау Унферлорен выглядела девочкой. Каждый раз, когда она краснела, просвечивающие сквозь тонкую кожу жилки исчезали. Робость не позволяла ей посмотреть на кого-нибудь. Если она отваживалась задать вопрос, то обращалась к Эльке. Всему, что ей показывали во дворе и в доме, она давала одну оценку: прекрасно, прекрасно, так что нельзя было понять, нравится ли ей то, что показывали. Только помещение для кур и кроликов ее явно заинтересовало. Фриц, к удивлению всех, знавших его флегматичность, надавал кучу обещаний, касавшихся ремонта сарайчиков. Он посадил себе на плечи толстенького сыночка фрау Унферлорен, успевшего за час подружиться со злым цепным псом. А потом на кооперативном грузовике отвез гостей к вокзалу.
— Дело ладится, — сказал он по возвращении брату. — Как только мы перестроим твою рабочую каморку в кухню, она переедет. Как ты думаешь, к осени ведь можно справиться?
Четырнадцатая глава. Заявление
Наступившая на следующее утро жара не помешала Пётчу в его работе. Он заполнил анкету, написал заявление, написал автобиографию и штудировал историю историографии. Теперь он знал, кто такие Эйнхард и Нитхард, и, если бы в институте ему повстречался специалист по Слайдану или Иоганнесу фон Мюллеру, он мог бы уже со знанием дела кивать головой и кое-что сказать о жизни кайзера Карла V и об истории Швейцарской конфедерации.
Но когда он, быстрее, чем ожидалось, вновь посетил институт, подобного рода специалисты ему не встретились (или он не распознал их). Он был вызван телеграммой д-ра Альбина, в которой цель вызова не указывалась. Когда фрау Зеегебрехт, потная и раздраженная, доставила ему извещение, он не смог скрыть разочарования. Ибо ждал поздравительной телеграммы: «Поздравляю открытием!» — или по крайней мере: «Приезжай поскорее, необходимо поговорить о твоем исследовании!» А в телеграмме Альбина даже не говорилось, прочитал ли вообще Менцель его статью.
Температура воздуха в последние дни была такой, какую почтальонша обычно сравнивала с температурой духовки. В городе Пётч убедился в точности этого сравнения. Тепловыми источниками здесь служили также асфальт и стены домов — и притом ни малейшего дуновения. Правда, в институтском здании было несколько прохладнее, зато там Пётча мучил запах, определить который он не мог. Лишь когда фрау д-р Эггенфельз вложила свою влажную руку в его, он понял, чем пахло: потом.
Он встретил ее в длинном коридоре, ища комнату Альбина. Хотел, поздоровавшись, быстро пройти мимо, но она остановила его, и за несколько минут, в течение которых он стоял перед ней, узнал, что в этом громоздком теле бьется сердце, хотя и травмированное тяжкой юностью и не переносившее жары, но открытое для каждого, кого гнетут заботы, а значит, и для него.
— Если вы нуждаетесь в совете, коллега Пётч, — сказала она, снова крепко пожимая ему руку, которую так и не выпускала, — то вы не первый, кто найдет его у меня.
Пётч поблагодарил за предложение, но тотчас пренебрег им: он не спросил дорогу к комнате Альбина, а продолжил самостоятельные поиски по запутанным переходам, еще более обеспокоенный, чем прежде. Почему это он человек, которого гнетут заботы?
Конечно, первые слова, которые он скажет Альбину, у него уже были наготове. Он не упомянет о надежде на беседу с Менцелем по поводу своей статьи и сделает вид, будто думает, что его вызвали по поводу поступления на работу. Но когда он наконец нашел комнату Альбина и после короткой паузы, потребовавшейся для того, чтобы причесаться, вошел в нее, он услышал только приветствие, ибо Альбин, обсуждавший что-то важное с четырьмя коллегами (среди них Браттке), бросил взгляд на часы и с холодной вежливостью попросил его подождать, указав на стул.
Альбин разъяснял план основных исследований на будущее пятилетие, которые надлежит немедленно развернуть, и Пётчу было неясно, следует ли ему проявить интерес к этой штурмовой атаке (как ее то и дело называл Альбин) или нет. С одной стороны, ему ведь не положено слушать разговор о служебных делах, с другой — он ведь не может не слушать, когда речь идет о работе, которой он добивается.
Браттке избавил его от этих сомнений. В жару он не носил войлочной обуви. Он был в пляжных сандалиях на босу ногу; встав из-за стола совещаний, он, шумно шлепая ими, пересел к Пётчу, чтобы пошептаться с ним.
— Слушайте внимательно, — сказал он, словно понял, что беспокоит Пётча, — вам надо знать, что вас здесь ожидает — не в качестве сотрудника, как это здесь неправильно называют, а работника феодала Менцеля, который, разумеется, пребывает вне стен института и, когда надо заниматься бессмыслицей, право руководить предоставляет своему надсмотрщику.
Поведение Браттке было в высшей степени неприятно Пётчу. Он не осмеливался ни улыбнуться, ни шепнуть что-то в ответ, не осмеливался он и посмотреть на Альбина, который еще продолжал говорить, а потом сделал такую длинную паузу, что она походила на упрек. Но он не высказал его, лишь подождал, пока Браттке заметит, что умолк Альбин из-за него, и, когда Браттке, ухмыльнувшись, кивнул, он продолжал свою речь на безупречном литературном языке, пока его не перебил телефонный звонок. Он снял трубку, сказал: «Так точно, Винфрид» — и объявил перерыв.
Трое мужчин ушли. Браттке остался сидеть около Пётча и шепотом поносил своего шефа, который в отличие от того говорящего по телефону ученого нуля, охотно окружающего себя безликими людьми, потому что они легко поддаются управлению, хочет оживить свой княжеский двор яркими личностями. Менцелю приятнее слушать лесть от умных подданных, нежели от дураков, и блистающее в его окружении остроумие усиливает его собственный блеск. Бунтовщикам дозволено носиться с мыслью когда-нибудь разорвать цепи, и придворный шут Браттке имеет право на дерзости, ибо кто бранит снизу, тоже признает его величие. «Только нельзя становиться ему поперек дороги. Понимаете, Пётч? В этом святилище все работают во имя лишь его славы, а не своей».
Пётчу не нравилась манера, в которой Браттке говорил о Менцеле. Пристрастная, язвительная, она имела привкус богохульства, всегда выдающего болезненную привязанность к божеству, которое она хулит. Пётчу не хотелось подвергать опасности свое чувство уважения к Менцелю, а так как оно включало в себя и уважение к его заместителю, он вынужден был потом, в коридоре, возразить Браттке. Произошло это после того, как д-р Альбин, держа трубку у уха и закрыв рукой микрофон, сказал: «Господин профессор Менцель просит узнать у вас, коллега Пётч, можете ли вы сегодня в 18.30 прийти к нему домой»; Браттке заявил, что Альбин сдает, ибо в его обычно столь нейтральном голосе прозвучал оттенок злорадства, и Пётч, ничего подобного не услышавший, почел себя обязанным защитить Альбина.
— Не думайте, что я хочу вас напугать, — сказал Браттке. — Вы, конечно, правы: Альбин был корректен, как всегда, но во мне говорит печальный опыт, состоящий в том, что шеф приглашает в свой погреб только того, кому собирается сломать шею, а то и позвоночник.
О заявлении Альбин не спросил. Пётч вспомнил об этом, уже добравшись до выхода. Вернуться снова в лабиринт он не отважился и, чтобы не тревожить Альбина, отдал бумаги какой-то секретарше.
Пятнадцатая глава. Предостережение
Поглощая в закусочной на вокзале свой ужин (два бутерброда с сыром и пакет молока) и позднее, сидя в электричке, по дороге в лесной поселок, Пётч ни о чем другом, кроме как о подарке профессору ко дню рождения, о своей статье «Поиски одной могилы», думать, конечно, не мог. Он мельком подумал о дальнейшей работе над ней (с применением метода стилевых сравнений), но в основном мысли его были заняты, вполне понятно, вопросом, как Менцель станет реагировать на его работу. Он перебрал в уме примерно двадцать возможных реакций. Той, что последовала, среди них не было.
На сей раз он не растерялся перед переговорным устройством. Приводя в действие звонок, он придумал, как коротко сформулировать свое желание сделать статью основой диссертации. Когда прожужжал аппарат, он удрученно подумал, что не сумеет достаточно естественно произносить «ты».
С фрау д-р Менцель он встретился весьма непринужденно. Она очищала ранние розы от старых соцветий, и Пётч, проявив находчивость, спросил о почве — он в этом разбирался. Несколько минут они поговорили о садовых работах, о собаках и погоде, затем об Эльке, занимавшейся перестройкой его рабочей каморки в кухню для фрау Унферлорен. Пётч обещал передать привет жене. Подошел сенбернар и дал себя погладить, потом появилась мрачная и неприступная фрау Шписбрух. Она препроводила Пётча в «преисподнюю». Кофе уже стоял на столе. Профессор молча и дольше, чем в прошлый раз, размешивал молоко и сахар. Но Пётч вспомнил об этом, когда все уже было позади.
Попытки Менцеля казаться спокойным увенчались успехом, голос звучал ровно. Он сразу приступил к делу, то есть к разносу статьи, который он начал по испытанному образцу с осуждения формы. «Стиль, к сожалению, никудышный» — таковы были его первые слова, за которыми последовало много других на ту же тему. Пётч часто не в ладах с употреблением времен, с сослагательным наклонением он почти все время попадает впросак, слишком часто применяет субстантивированные прилагательные, и иначе как болезненным профессор (с соответствующим выражением лица — выражением лица человека, разумеется, совершенно здорового, презирающего болезнь как слабость) не может назвать пристрастие Пётча к словам, оканчивающимся на «-ние». Поскольку все претензии Менцель иллюстрировал примерами, его маленькая лекция о языке заняла больше половины отведенного для беседы времени. Затем он, опять-таки обходя содержание, перешел к методологической части, где отметил путаный ход исследования, не обнаружил предпосылок и с сожалением констатировал негативную исходную позицию.
Хотя Пётчу с каждой минутой становилось все неприятнее, он очень старался уберечь свое уважение к Менцелю. Он имел представление о том, как следует правильно реагировать на критику, и хотел наилучшим образом осуществить его. Он внимал с интересом, время от времени кивал головой в знак понимания и делал себе заметки. Он давал критику выговориться и убеждал себя, что острое, но деловое осуждение продиктовано стремлением улучшить работу. Он все еще надеялся, что за критикой формы последует хвала содержанию. Но он недолго тешил себя этим заблуждением.
— Что подразумевается под негативной позицией? — спросил он, избегая «ты», но ответа не удостоился, ибо профессор не желал спутать свой план, следуя которому он даже отметил недостаточную общественную значимость работы Пётча, возвел понятие «любовь к детали» в «одержимость деталью», вкрапил выражение «мелкотравчатость», упрекнул в отсутствие концепции, вынес вердикт: «жалкий позитивизм!» — и в конце похвалил усердие Пётча, к сожалению впустую потраченное на дело, которое никого не интересует.
Пётч не очень ясно представлял себе, что такое позитивизм. Но он знал, что должен протестовать, и воспользовался маленькой паузой, которой профессор обозначил переход к следующему разделу плана, чтобы заявить — он мог бы назвать трех человек, которых это интересует: кроме Менцеля и Пётча, это господин Лепетит, готовый опубликовать его работу в Гамбурге, на что профессор с улыбкой возразил: зачастую проще найти издателя, чем читателя.
Пётчу и в незначительном разговоре едва удавалось найти веселый ответ на веселое замечание, теперь же это начисто исключалось его растерянностью, еще больше усилившейся после того, как Менцель в доброжелательном тоне стал излагать свои советы. Они касались темы диссертации Пётча и исходили из того, что бессмысленно брать за основу копание в таких мелочах, как поиски даты смерти. Особенно подходящей он считал тему «Наследственная зависимость крестьян до реформы в Среднем Бранденбурге в свете исторических сочинений Шведенова», однако заслуживал внимания и «Обзор источников исторических трудов Франца Меринга, с особым учетом сочинений Макса Шведенова».
В ответ на совет продумать эти предложения Пётч молча кивнул. Но когда Менцель дал понять, что аудиенция окончена, Пётч, против своего обыкновения без всякой подготовки, выпалил вопрос: разве о содержании работы совсем нечего сказать?
— Ладно, — резко ответил Менцель, забыв на мгновение о своей невозмутимости. — Ладно, скажу, если тебе угодно, хотя я охотнее избавил бы тебя от этого. Чтобы пощадить тебя, скажу коротко: в работе содержатся опасные гипотезы историка-любителя, доказать которые он не способен. Тебе достаточно?
Пётч не ответил ни «да», ни «нет». Он вообще не мог сейчас ничего сказать. Менцель же на прощание еще и пошутил:
— Статья ведь подарена мне? Значит, она принадлежит мне, и я могу с ней делать все, что считаю нужным. Самое лучшее для тебя, для меня и для науки будет, если я положу ее в мою библиотеку и оставлю там — до скончания века.
Ночью Пётч не мог вспомнить, как оказался в постели, не помнил все фразы Менцеля, потому что они одна за другой безостановочно прокручивались у него в голове. Этот механизм не поддавался управлению, Пётч был перед ним беспомощен, как перед физической болью.
Шестнадцатая глава. Письма
Нарушить сон Эльки мог бы только муж более бесцеремонный, чем Пётч. Лишь утром она заметила, что с ним что-то произошло, и забеспокоилась. Он мало ел, был угрюм, не обращал внимания на детей и не хотел рассказывать о поездке. Но больше всего ее беспокоили его глаза — они не устремлялись, как обычно, задумчиво вдаль, а отражали тревогу. Нервы — так сперва назвала это про себя Элька, но потом решила: страх. Может быть, страх перед приближавшимся публичным выступлением в театре?
В среду Пётч ездил в Берлин. В ночь на четверг он был как в лихорадке, в следующую ночь ему удалось избавиться от хаоса в голове, в которой снова и снова прокручивались менцелевские фразы, и встать. Он еще раз прочитал статью и сделал первые наброски писем. В пятницу вид мужа испугал Эльку: он походил на желудочнобольного и вел себя как душевнобольной. Он не отвечал, когда к нему обращались, не говорил ни слова, сразу после школы сел за пишущую машинку и ничего не ел, только выпил много крепкого чая. Когда Элька в субботу утром встала, он уже (или еще) был на ногах. В воскресенье днем он закончил писать, молча поел, лег в постель и уснул. Элька пошла с детьми на реку. Когда она вернулась, муж удивил ее просьбой прочитать написанные им письма.
Рабочая каморка Пётча уже перестраивалась, поэтому вечером он сидел в комнате брата, уехавшего на конец недели в Берлин. Это была самая большая, самая холодная и темная комната в доме, прежняя гостиная, зеленый плюш которой не утратил затхлого запаха нежилого помещения. Элька зажгла свет и стала читать. Два письма (пока без обращения) начинались с одинаковой фразы: «Настоящим позволяю себе послать Вам прилагаемую статью для возможного опубликования», но в дальнейшем тексте, где сперва подчеркивалось значение Макса фон Шведенова, а потом кратко обрисовывалась недостаточная изученность его, имелись различия, хотя и несущественные. Если в одном письме речь шла об историке Шведенове и его вкладе в историческую науку, то в другом говорилось только о поэте и романисте. Заканчивались оба письма одинаковой фразой: «Я уверен, что опубликование моих исследований будет способствовать более интенсивному освоению этой части нашего культурного наследия».
Первое письмо было адресовано в редакцию научно-исторического журнала в Лейпциге; второе направлялось в ежемесячный научно-литературный журнал в Берлине; третье, без даты, предназначалось, как объяснил Пётч, на крайний случай.
Эльке пришла в голову неприятная мысль, что муж позвал ее, чтобы узнать ее мнение о третьем письме. Но она ошибалась. Решение Пётча было неколебимо. Ему нужен был совет относительно формальной стороны дела, он хотел узнать у Эльки (которая, разумеется, знала еще меньше, чем он), существуют ли какие-нибудь правила переписки с редакциями. Надо ли, например, указывать свою профессию и возраст? Есть ли какие-нибудь нейтральные в отношении пола формы обращения к редакторам, если тебе неизвестно имя и поэтому не знаешь, как писать: уважаемый или уважаемая. Как заключить письмо? И предпосылать ли подписи слово «Ваш»?
Элька оставила при себе мнение, что три письма — довольно жалкий результат работы нескольких дней и ночей, и отважно затараторила, ибо очень хорошо знала: не совет ее важен, а проявление интереса. Она так обрадовалась, что Эрнст нарушил молчание, и даже выдвинула свое определение стиля, наиболее подходящего для писем: естественность, и стала горячо защищать его. Получилась настоящая беседа, в ходе которой она наконец узнала, как обстоят дела между мужем и Менцелем. Она не произнесла вертевшиеся на языке ругательные слова о профессоре, но запомнила их, ибо была уверена, что они ей еще понадобятся. Элька навсегда запомнила и этот вечер, потому что ей в последний раз довелось увидеть, как муж освободился от своей одержимости Шведеновом. Он сидел на кушетке не то чтобы веселый, но с прекрасным чувством исполненного долга, и слушал рассказ жены об их детях, у которых — к тревоге Эльки — начинался период половой зрелости. «В самом деле?» — спросил он с удивлением и стал считать быстро промчавшиеся годы, пока не вспомнил пассажи из «Эмиля», где речь идет о несостоявшемся отцовском счастье.
Ответы на оба письма не заставили себя долго ждать. Еще прежде, чем прошла жара, оба журнала прислали приветливые послания, испортившие Пётчу каникулы. Редакция литературного журнала сообщала, что его статья направлялась на консультацию компетентному в этой области специалисту, господину проф. Менцелю, который убедительно доказал, что она не годится для опубликования. Примерно таково же было мнение историков, но в их письме отсутствовала ссылка на Менцеля, что и понятно, поскольку профессор состоял у них официальным членом редакционного совета.
Через день было отправлено третье письмо, с проставленной датой и приложением, заказное и срочное, — господину Лепетиту.
Семнадцатая глава. Добрая звезда
Кампания за Шведенова началась в воскресенье. Для первого вечера из цикла «Забытые поэты — открытые заново» были напечатаны плакаты. В течение двух недель с афишных тумб строго смотрели большие глаза забытого. Жирными литерами сообщалась фамилия ведущего вечер, более мелкими — докладчика. К тому времени, когда столичные газеты сообщили о предстоящем мероприятии и профессор рассказал по радио о содержании доклада, билеты в маленький театр были уже распроданы.
Накануне, то есть в субботу, в Шведенов проследовал автомобиль. Сухие дороги не таили в себе особых трудностей. Песчаные участки можно было объехать. Стоявшая уже несколько недель жара высушила даже лужи в торфяных низинах. Воздух был неподвижен, и поднимаемые колесами клубы пыли долго не оседали.
Дети Пётча играли на улице. Ярко накрашенная дама, сидевшая за рулем, обратилась к ним за справкой.
— Где живет господин Пётч?
— Какой? Фриц или Эрнст?
— Эрнст.
— Оба живут здесь.
Выложенный булыжником двор мало годился для босоножек на высоких каблуках. Спотыкаясь и скользя, напуганная свирепо лаявшим псом, дама добралась наконец до дверей дома, где, выпрямившись, смогла вернуть своей пышной фигуре достоинство. Это удалось ей настолько хорошо, что Элька перед ней показалась себе уменьшившейся в объеме.
Имя дамы ничего не сказало Эльке, и, поскольку она не скрыла своего неведения, она тут же в дверях узнала, где фрау д-р Эггенфельз встречалась с ее мужем. Дважды в институте, и они сразу так хорошо поняли друг друга, что она сочла своим долгом навестить его, раз уж находится в этой местности, в этой прекраснейшей местности, которая, конечно, хорошо известна сотруднице Менцеля, даже если она и не бывала здесь, потому что все здесь дышит Шведеновом.
— Эрнст, иди сюда, к тебе гости, — позвала Элька, чтобы угомонить даму, очи которой сияли таким восторгом, что ей стало неприятно, да и дел по дому было немало. К сожалению, Эрнст, по-видимому, не услышал зова и дал посетительнице время повосторгаться еще и кухней, размеры и красный каменный пол которой вызвали воспоминания о юности, отнюдь не легкой. «Да и у кого она была легкой?»
Понимая, что за этим последуют подробности, Элька взяла даму за влажную руку, лежавшую на ее руке (видимо, для того, чтобы Элька и физически почувствовала восторг гостьи), и потянула очень тронутую таким дружеским жестом фрау Эггенфельз в комнату, где увлеченная телепередачей бабуля лишь сердито буркнула что-то в ответ на приветствие фрау доктор.
Пётч работал в комнате Фрица, который в последние недели неизменно уезжал из дому на выходные дни. Элька вызвала мужа. Нежданный визит столь внезапно вырвал его из прошлого столетия, что он не сразу сориентировался в дне сегодняшнем, он растерялся и только кивал головой, вместо того чтобы ответить на слова, сопровождавшие долгое рукопожатие: да, он тоже рад, рад не меньше гостьи.
Это совершенно не соответствовало его чувствам, тем не менее Элька, увидев мужа, смущенно стоявшего рядом со столь внушительным воплощением женственности, переменила свои намерения. Она не вернулась к своим домашним делам, а уселась и стала помогать Пётчу, который пытался выяснить, чего, собственно, дама хочет.
Если измерять значение произнесенных слов их количеством, можно было подумать, что гостья хочет осмотреть шведеновскую старину. О поэте и его родине она говорила безостановочно и если ненадолго отвлекалась от этой темы, то снова и снова возвращалась к встрече с Пётчем в коридоре института и к данному ею тогда обещанию. Пётч не показывал вида, что не помнит про обещание, и не отвечал на ее задушевный тон, хотя обычно старался быть дружелюбным.
— Разве кофе сегодня не будет? — спросила бабуля, когда кончилась передача, и только теперь заметила гостью. Она ей не понравилась — это сразу было видно. Дама была накрашена и курила. Большего основания для неприязни бабуле не требовалось. И чтобы продемонстрировать свою неприязнь, она стала капризничать, как ребенок. Кто это, спросила она у Эльки, и хватит ли пирога на столько народу? Потом заявила: в комнате плохо пахнет, не поясняя, что имеет в виду — сигаретный дым, пот или духи. Все эти выходки фрау Эггенфельз словно не замечала, и тогда бабуля обратилась к ней прямо:
— А зачем вы помешали моему сыну работать?
— Чтобы дать ему добрый совет.
— Напрасно стараетесь.
Пока фрау Эггенфельз приветливо и терпеливо выслушивала, что сын (сидевший с потемневшим лицом, но не смевший остановить мать) всегда имел собственную голову на плечах и отвергал советы, Элька пошла на кухню сварить кофе. Она уже нарезала пирог, когда пришла фрау доктор и попросила разрешения помочь. Ей разрешили взбить сливки, с чем она неплохо справилась. Если ей поверить, она умела даже печь пироги и помнила наизусть рецепты, которыми тут же и поделилась с Элькой. Но лучше всего фрау доктор умела, конечно, говорить: ее речь всегда была выразительна и исполнена восторга, неизвестно, правда, к чему относившегося — к предмету разговора или к ней самой, так искусно умевшей со всеми обо всем говорить, в том числе и с Элькой о ее муже, от которого она в таком восторге, в таком восторге, что глаза ее наполнились, но не излились (пока) слезами и не попортили мастерски нанесенного грима. Элька была очарована этими большими круглыми глазами (кстати, карими), которые господствовали на всем, несколько толстоватом, лице и, казалось, для того только и были предназначены, чтобы выражать чувства, постоянно волновавшие женщину. Поражала быстрота, с какой волны души накатывали на глаза и, откатываясь, высыхали, так что переход от растроганности к, скажем, злости собеседник замечал скорее по ее глазам, чем по словам.
Итак, энергия и целеустремленность, а также усердие отсутствующего хозяина дома — вот чему возносилась теперь хвала на кухне — в виде вступления, как скоро выяснилось. Ибо вслед за большими похвалами коллега Эггенфельз выразила большую, большую тревогу. По вине обстоятельств, возможно усугубленных благодаря его склонностям, предмет восхищения оказался изолированным в своей работе, одиночкой, чуть ли не человеком, варящимся в собственном соку, стоящим перед угрозой отрыва от жизни, во всяком случае — отдаления от нее, и потому, как бы это сказать, склонным к самоуверенности. Эту столь удручающую ее, Взбивательницу сливок, тревогу легко может унять хороший коллектив, который, как известно, умнее любой самой умной особи, старательно занимающейся наукой в своей тихой каморке.
В устах переполненной чувствами фрау Эггенфельз такие избитые понятия, как «коллектив» и «тихая каморка», облагораживались, утрачивали всякую стереотипность и казались новыми и свежими. Да Эльку они нисколько и не шокировали. В отношении языка она не была особенно чувствительной. Но ее неприятно поразило, что кто-то мог так носиться с собственными чувствами, так свободно говорить о них, и она возмутилась: с какой стати эта женщина считает себя вправе обрушивать свои чувства на ее, Элькиного, мужа?
— Зачем вы мне это рассказываете?
— Потому что я считаю: место вашего мужа в нашем институте.
— Но ведь это уже решено?
— Да, — просто и кратко ответила фрау Эггенфельз, но таким колеблющимся, незаконченным тоном, что это прозвучало как «да, но…». В ее просохших глазах стоял страх, и голос ее дрогнул, когда она сказала: «Я боюсь»; она отодвинула в сторону веничек и вплотную приблизилась к Эльке.
— Вы должны мне помочь, — прошептала она. — Ради вашего мужа!
Она усадила Эльку на стул, взяла себе другой и села напротив Эльки — так близко, что колени их соприкасались. Она заговорила очень тихо и очень торопливо, как женщина с женщиной, и очень при этом потела. Отдав должное скромности Пётча, она повела речь о боязни и страхе. Разумеется, она боится не Элькиного мужа, она боится за него, испытывает страх за него. Ему может повредить уже упомянутая самоуверенность, его неосмотрительность, его упрямство. «Вы понимаете?»
Элька не понимала, и ей шепотом рассказали, насколько серьезно положение — так серьезно, что у фрау Эггенфельз душа болит. Ведь профессор Менцель написал книгу, а муж Эльки написал на ту же тему статью — фрау Эггенфельз, правда, ее не читала, но она знает, что профессор считает ее контрпроектом его собственного труда. Конечно, это законное право Самокопателя, и разобраться во всем мог бы помочь научный диспут, для которого нет более подходящего места, чем институт с его коллегией специалистов, с его замкнутостью.
— Семейную ссору, — шептала фрау Эггенфельз, — ведь не выносят за стены дома, не выходят с ней на улицу.
— Вы имеете в виду журналы? Так они же не печатают статью.
— Это забыто! — вскричала гостья, показав, что ее лицо может выражать и великодушие. — И угроза вашего мужа напечататься по ту сторону границ тоже забыта, хотя…
Элька, к сожалению, никогда не узнала, чем должна была закончиться фраза, ибо фрау доктор на этом месте была прервана и продолжить фразу ей потом так и не довелось. Бабуля громко потребовала кофе, непочтительно остановив прекрасное течение речи. На экране скоро должен был появиться телелесничий Кикбуш, и к тому времени с едой следовало покончить.
— Да-да, иду, — крикнула Элька, освободилась от ученой дамы и засуетилась. Фрау доктор тоже помогала, и через несколько минут они уже сидели за столом, бабуля — нервная и раздраженная, Пётч — угрюмый, фрау Эггенфельз — восхищенная уютным семейным кругом, развлекать который она почитала своим долгом. Элька не была столь спокойной, какой казалась. Чтобы побороть свою досаду, она решила смеяться про себя над Эггенфельз. Она теперь знала цель ее визита и могла потешаться над усилиями, которые та прилагала, чтобы связать нити то и дело обрывавшегося разговора.
Но она ошибалась, думая так. Потешаться она не могла, хотя усилия ораторша прилагала немалые. Она даже не могла восторгаться ее актерской игрой. Весь спектакль все больше и больше ожесточал Эльку. Когда искусная говорунья от цветочков на посуде через цветы в саду и на кладбище перешла к ненайденной могиле Шведенова, а от нее, словно ненароком, к предстоящему докладу на вечере и явила глубокую растроганность этим венцом многолетних изысканий, Элька положила конец делу, сказав:
— Мне кажется, фрау Эггенфельз хочет предостеречь тебя, чтобы ты завтра не сказал больше того, что написано в книге Менцеля.
Как ни удивительно, фрау Эггенфельз не обиделась. Она скорее с благодарностью улыбнулась Эльке и сказала:
— Не предостеречь я хочу, а посоветовать.
Пётч захотел тоже наконец высказаться, но пока это ему не удалось, так как сначала пришлось выслушать, что он не первый, кому она дает добрые советы. Уже не один молодой человек, сперва горевший желанием прошибить стену лбом, потом приходил благодарить за ее осмотрительность и предусмотрительность и за ее терпение. Один из них даже придумал прозвище, под каким она известна в институте, да и за его пределами; в прозвище, конечно, содержится преувеличение, она от души смеялась, когда впервые услышала его, но оно продиктовано добрыми чувствами, ничего не скажешь. Ее называют Доброй звездой института.
— Пять минут осталось, — сказала бабуля, имея в виду начало передачи.
— Вы приехали по поручению профессора? — спросил Пётч, как только получил эту возможность.
Оказалось, глаза фрау Эггенфельз умеют излучать и достоинство.
— Кто может отличить, дорогой коллега Пётч, поручение от побуждения, когда долг и внутренняя склонность совпадают?
Она помолчала для вящего эффекта, но Элька разрушила художественную паузу:
— Я считаю, надо говорить только то, что думаешь.
— Речь идет о будущем вашего мужа! — умоляюще произнесла фрау Эггенфельз.
— Ну уж! — сказала Элька, разливая всем остатки кофе, и не стала объяснять, что означает ее пренебрежительный жест. — А ты что скажешь? — обратилась она к мужу, но ответа не получила. Потому что Пётч и не слушал больше. Он задумчиво уставился в пустоту, затем вдруг встал, пробормотал что-то о работе и проверке по справочникам и ушел.
Бабуля включила телевизор. Элька взялась за посуду. Фрау Эггенфельз помогала ей. В кухне она спросила, действительно ли статья появится в Гамбурге. После ответа Эльки лицо ее исказила боль. Что бы сказал муж Эльки, спросила она, если бы приготовленную для него еду жена отдала враждебно настроенным соседям, но пропустила мимо ушей ответ Эльки, что со всеми соседями она в хороших отношениях, и со словами: она очень рада, что ее миссия окончена, — гордо направилась к выходу, однако ушла не сразу, ибо сочла необходимым еще раз пожать Пётчу руку.
— Я прошу вас, будьте завтра благоразумны, — сказала она вызванному Пётчу. — Я бы очень хотела передать профессору Менцелю что-нибудь положительное.
— Я сделал находку, — сказал Пётч, — один дядя из Померании навел меня на новый след. Можете передать: скоро я получу его, доказательство.
Фрау д-р Эггенфельз испустила глубокий вздох. И приступила к заключительному слову. Она, которая, как уже знают супруги, выросла из подвальной сироты в ученую с тремя значительными публикациями и выдержала полную волнений и душевных потрясений жизнь, сейчас здесь, у дверей дома, где речь идет о будущем одаренного молодого ученого, падет жертвой своих чувств — все это она не только сказала, но и наглядно показала, испуганно массируя пальцами участок толстого слоя мяса и жира, под которым, по ее предположению, скрывалось сердце. Вызвала же это ее опасное состояние, разумеется, самоуверенность Пётча, которую она на прощание, глядя грустными очами, не побоялась назвать стойкостью.
— Какое благородство тратится впустую, во имя неблагородного дела! — воскликнула она.
Тут оно и случилось: из ее глаз полились слезы. Но они, к счастью, не могли причинить больших разрушений, ибо под руками оказался кружевной платочек.
Вечером Пётч ни словом не упомянул о визите, а когда Элька заговорила о беседе в кухне, он заметил только, что эта женщина похожа на мадам де Сталь — о ней он много знал, так как она встречалась со Шведеновом. Пестрый платок, которым были повязаны ее черные волосы, напомнил ему тюрбан де Сталь на знаменитом портрете Жерара. У обеих женщин некрасивое лицо оживляли карие глаза. Силу обеих женщин составлял дар слова. Разница состояла лишь в том, что одна была умна, другая же — сентиментальна.
— Меня куда больше интересует, последуешь ли ты завтра ее советам, — сказала Элька.
— Мой доклад ведь уже готов.
— Знаешь, — сказала Элька, — что бы ты ни сделал, все мне по душе. Для меня не имеют значения ни геройство мужа, ни его ученая степень.
Восемнадцатая глава. Гроза
На следующий день, в воскресенье, профессор Менцель и Пётч увиделись в последний раз. Закончилось знакомство, которое при иных обстоятельствах могло бы стать дружбой, — закончилось немногословно, но при громе и молниях.
— Вчера в театре было как в театре, — сказал Браттке, когда в понедельник обсуждали в институте вечер. — Трагедия для посвященных, с незримым трупом. Властелин может быть доволен: он избавился от вши, сидевшей в волосах. Бедная вошь!
Волна жары и зноя отступала. Солнце, которое уже и видеть не хотелось, затянулось дымкой. Утром южный ветер усилил влажную духоту. Даже дети плохо спали. Одна лишь Элька была бодра.
— Ко всему привыкаешь, — говорила она в ответ на жалобы.
Фриц не мог не выполнить просьбу отвезти брата и невестку в Берлин. С недавних пор он обзавелся старой машиной для своих поездок на выходные дни. На сей раз он тоже уехал в пятницу вечером, но в воскресенье днем вернулся. Он давно заказал на доклад брата два билета, дурашливо осклабившись при удивленном вопросе Эльки: «Два?». В его машине сквозило и грохотало. В ней не потеешь, но разговаривать не удается, можно только перекрикиваться.
В театре Фриц волновался больше, чем брат. Он бегал и искал повсюду особу, объявленную им спутницей, и забыл даже пожелать брату удачи. Тот и не заметил этого. Его занимали другие проблемы. Во-первых, пробиться в театр! При входе его не пропустили, потому что у него не было билетов, а сказать «Я докладчик!» он не мог. За дело взялась Элька, ввергнув его в смущение, ибо заговорила она не шепотом, а полным голосом, так что все вокруг слышали и оглядывались на него. Найдя служебный вход, Элька вняла просьбе мужа и оставила его одного. Ему не хотелось, чтобы она присутствовала при встрече с Менцелем, которую он представлял себе ледяной.
Но он снова ошибся в профессоре. Он ожидал, что натолкнется на высокомерие, но никак не на сердечность. Профессор же, представляя Пётча работникам театра, лучился ею. Он спросил, очень ли волнуется Пётч, предложил коньяку и не преминул осведомиться о мнимой прапраправнучке виновника торжества.
Алкоголь сразу ударил Пётчу в голову. От жары, которая в маленьком помещении за сценой была еще сильнее, чем на улице, у него пересохло во рту, он насквозь пропотел. Он стоял на дрожащих ногах, прислонившись к стене, не в силах следить за разговорами об освещении, управлении занавесом и проекционном изображении. Потом работники театра ушли. На несколько минут он остался наедине с профессором.
— Можешь мне не говорить, каково у тебя на душе, — сказал Менцель, вытирая платком лицо. — В одном отношении я чувствую себя так же, как ты: как и ты, я должен демонстрировать сейчас публике единодушие со своим противником (как это повседневно бывает в браке и государственных делах). Но в остальном тебе, конечно, намного хуже. После проигрыша подпольных битв ты должен решить, нападать на меня публично или нет. Такие решения даются нелегко. Если бы ты спросил моего совета, я бы сказал: оставь, ты ведь только проиграешь. Дураки в зале все равно не поймут, чего ты хочешь. А между нами все будет кончено. Ты, конечно, очень зол на меня. Я был суров с тобой, но иначе нельзя. Я говорил не со злым умыслом, а серьезно, очень серьезно. Ты носишься с фантомом, считая, насколько я тебя знаю, будто это и есть правда. Для меня же дело заключено в большем: останусь я или не останусь в науке и в памяти потомков. Посадив Шведенова на почетное место, я обеспечил себе почетное место в истории историографии. Я поседел за этой работой, и вот приходишь ты из своей деревни и хочешь разбить все вдребезги (охотно верю — без дурных намерений). Так пойми же: я не остановлюсь ни перед какими средствами, чтобы помешать тебе в этом.
Последние слова профессор проговорил очень быстро, так как их уже звали. Занавес был поднят. Пора было идти на сцену.
В первые минуты выступления сознание Пётча функционировало не полностью. Он, правда, чувствовал, что у него дрожат руки, рубашка прилипла к спине, но он не слышал ни слова из вступительной речи Менцеля, да и собственные начальные фразы не мог потом вспомнить. Первое, что он заметил, — он читал очень громко. Но читал он гладко и не слишком быстро, это его успокоило, и он отваживался время от времени поднимать глаза от рукописи. Из темноты стали выступать лица. Он видел, как вытирали платками вспотевшие лбы. Его радовала тишина в зале как свидетельство внимания слушателей.
Он читал механически и мог даже думать о посторонних вещах, причем так ясно и остро, как ему никогда больше не дано будет. Он вдруг понял, почему профессор пытался скрыть его изыскания: книга Менцеля не только по фактам оказалась бы устаревшей еще до своего появления — если верны утверждения Пётча, рухнет вся ее концепция, поскольку развеется миф об образце героической жизни.
Пётч полагал, что эта мысль только сейчас пришла ему в голову, и сам удивился, обнаружив, что она уже раньше жила в нем, ибо влияние ее чувствовалось в монотонно зачитываемом докладе. Доклад в значительной мере основывался на том факте, что смерть Шведенова фальсифицирована, и многие утверждения Менцеля, без упоминания имени, ставились там под сомнение. Может быть, это был первый шаг к опровержению Менцеля. Но Пётч не думал о втором. Он хотел не опровергнуть Менцеля, он хотел его переубедить. Однако для этого ему все еще не хватало последнего доказательства. И докладчик стал о нем мечтать.
Голос Менцеля вернул его к действительности, и он понял, что доклад закончен, что он свободен. Разумеется, Менцель не упустил возможности нанести ему еще один удар, но, как человек порядочный, имени не назвал. И, кроме Пётча, только посвященные знали, кого он имел в виду, когда говорил о людях, которые копаются в мелочах, фетишизируют детали и тем самым — вольно или невольно — загоняют Шведенова в сети реакции, что, по мнению Менцеля, обречено на провал, поскольку благодаря его, менцелевскому, «Бранденбургскому якобинцу» прогрессивный историк и поэт скоро станет неотъемлемой частью традиций социалистической культуры.
Надо быть Менцелем, чтобы после столь серьезной тирады суметь развеселить публику, и она отблагодарила его смехом при первых же остроумных намеках на множество литров пролитого пота. А для шутки, которую Менцель приберег к финалу, на помощь ему пришли небеса. В тот момент, когда он смело свел воедино надежду на начало новой жизни Шведенова и на конец жары, разразилась шумная гроза. Поднялось такое ликование, словно наступившая прохлада — заслуга профессора. Принимая аплодисменты, профессор не преминул выразить душевное согласие с докладчиком.
Элька стояла с Фрицем и его спутницей в гардеробе. Она уже пережила сюрприз, который ожидал Пётча. Он заметил фрау Унферлорен лишь тогда, когда она, покраснев, повисла на руке Фрица и попросила прощения за то, что они так долго скрытничали.
Поняв наконец, в чем дело, Пётч сказал: «Ах, вот оно что, вы оба…» — и хотел было произнести нечто вроде поздравления, но в круг вступил профессор Менцель и, дружески обняв Пётча, попросил разрешения увести на несколько минут звезду вечера, поскольку его требуют фоторепортеры.
Хоть это и излишество, там действительно был фотограф, которого Менцель накануне просил содействовать популяризации Шведенова. Профессор свою повинность уже отбыл, теперь на очереди — учитель и ученик: на сцене, перед сценой, с серьезными лицами, смеясь, стоя, в дружеской беседе со слушателями. Две пленки были израсходованы. Но фотографий Пётч никогда не увидел.
Одним из слушателей, дружескую беседу с которыми изображал Пётч, был Браттке, но он-то не только изображал, а и на самом деле говорил, правда с таким брюзгливым лицом, что фотограф сделал ему замечание.
— Будь я бессовестным, — говорил Браттке, наклонившись к Пётчу, — я бы гордился тем, что участвовал в процессе воспитания, результаты которого вы нам сегодня продемонстрировали. Но поскольку я не таков, я извлеку два урока из сегодняшнего событий. Первый: не обучай критике человека, не умеющего смолчать; второй: моральная победа и самоубийство почти синонимы. На прощание я могу только сказать, что, хотя мне было бы приятнее, если бы мы не прощались, я советую вам радоваться такому финалу. Вы бы ведь никогда не стали полезным пишущим рабом наподобие Слайдана. Когда Карл V назвал его (остроумно, как это случается с шефами) своим личным вралем, Слайдан не возразил. Боюсь, он был горд этим.
Профессор Менцель не затруднил себя столь длинной прощальной речью, зато он был не брюзглив, а приветлив, когда говорил:
— Извини, что я не сказал тебе о фактических ошибках, которыми пестрит твое сочинение. Может статься, они мне когда-нибудь понадобятся — для разноса, к которому, естественно, меня вынудило бы опубликование твоего доклада. Вот это и было бы верной дружбой, сумей это понять. Доброго пути домой, в твою деревню, и — прощай!
Элька ждала на улице. Гроза прошла. Воздух стал влажным и прохладным. Разбрызгивая лужи, подъехал Фриц. Элька полагала, что мужу пошла бы сейчас на пользу рюмка водки, но Пётч хотел поскорее домой. Да и фрау Унферлорен очень устала.
У дверей ее дома Фриц выключил мотор.
— Мы оба, — сказал он торжественно и, чтобы показать, кого он, кроме себя, имеет в виду, посмотрел на фрау Унферлорен, которая вложила свою руку в его и смущенно потерлась щекой о рукав его пиджака, — мы оба хотим вам кое-что сообщить.
— Поздравляем! — сказала Элька.
— Спасибо, но это еще не все, — ответил Фриц. — Перестройка кухни теперь уже ни к чему. Знаете, мне надоел тягач. Я пересаживаюсь на такси. Хочу сказать: я переселяюсь к ней в Берлин. Вас это очень удивляет?
— Нет, вовсе нет, — сказала Элька, а у ее мужа опять оказалась под рукой цитата, на сей раз из шведеновского «Увядшего весеннего венка»: «Ах, боже милый, как славно сходится одно с другим». И до следующего утра он больше ничего не сказал — во-первых, потому, что всю дорогу машина очень тарахтела, во-вторых, дома Элька, как только легла, сразу уснула.
Чем он всю ночь напролет занимался, стало известно лишь утром после завтрака. На вопрос Эльки, что теперь с ним будет, он ответил:
— Я должен как можно скорее найти фактические ошибки, о которых говорил профессор. Необходимые поправки я осторожности ради пошлю Лепетиту телеграммой. Мне надо еще раз проверить все даты и события. Ошибки могли вкрасться и в родственные отношения: они очень запутанные. Так как старик фон Массов, полковник в отставке, был четыре раза женат и все его жены имели братьев и сестер, Шведенов был богато наделен дядьями и тетками. Различать их непросто еще и потому, что тетки со стороны матери выходили замуж за дядьев со стороны отца (и, стало быть, тоже носили фамилию Массов), к тому же, на беду, вторая жена, мать Макса, была не только в замужестве, но и урожденная фон Массов, кстати, она сестра прусского министра юстиции, роль которого в жизни Шведенова пока неизвестна, но, вероятно, важна. В ранних дневниках Шведенова упоминается дядя, советующий ему изучать юриспруденцию. Он именуется штольповским дядей — видимо, по названию города в Померании. Если будущий министр юстиции тоже происходит оттуда, то надо поискать его корреспонденцию. Может быть, в прусском государственном архиве?
Вот как длинно и еще длиннее отвечал Пётч утром в кухне на вопрос Эльки о его будущем. Вечером она снова попыталась заговорить об этом, но услышала только новые подробности о министре. Потом она махнула рукой. Она знала, что теперь муж будет бесконечно повторять одно: я должен ему это доказать, я должен ему это доказать.
Девятнадцатая глава. Кладбищенский покой
Спустя несколько дней фрау Зеегебрехт доставила в Шведенов письмо, прибывшее из Люнебургской пустоши, следующего содержания:
«Глубокоуважаемый господин Пётч!
То, что я только сегодня подтверждаю получение Вашей статьи „Поиски одной могилы“, можно оправдать перегруженностью работой по изданию обширного труда (20 листов). Но ничем нельзя оправдать то, что я так долго оставлял Вас в неведении относительно характера данного труда. За первое упущение я прошу Вас простить меня, второе я хочу исправить этим письмом.
Замысел сборника „Реставрация в Германии“ продиктован убеждением, что ныне политика в Европе должна покоиться на трех столпах: безопасность, стабильность и мир. В поисках традиций подобного политического гуманизма я остановился на тех силах, которые определили судьбу Германии в самый длительный период мира в XIX веке, — в период так называемой Реставрации, то есть после Французской революции и накликанной Наполеоном почти тридцатилетней военной смуты. Совершенно очевидно, что тогдашнее положение Европы в некоторых аспектах схоже с нашим положением после гитлеровской войны, но лишь немногие решаются признать, что тогда, как и сегодня, единственное спасение состояло и состоит в здоровом консерватизме. Тогда существовали силы, которые пронесли через революцию и вызванный ею национализм идею старой Европы. Их олицетворением может служить одно имя: Меттерних. Нам следовало бы перенять его герб. Задача моей книги — очистить это имя от грязи, которой его забрасывали в течение полутора столетий писания истории. Бидермайер — эпоха, вызывающая сегодня ностальгическую тоску, эпоха покоя и защищенности, — творение его рук. До сих пор его величие было заслонено от нас прусско-немецким национализмом и верой в прогресс. Поскольку гитлеровская война разрушила первое, а атомная смерть и отравление окружающей среды — второе, мы только сегодня можем заново осознать величие этого подлинного князя мира.
Я говорил о своей книге, теперь перейду к Вашему сочинению, которому, скажу заранее, не отказываю в уважении. Я читал его не только с интересом, но и с возраставшим напряжением и, глубоко зная то время, могу с определенностью сказать: хотя вам и не хватает последних доказательств, нет никаких оснований подвергать сомнению результаты Вашего исследования. Когда бы в будущем ни упоминалось имя Макса фон Шведенова, придется, памятуя о Ваших заслугах, обращаться к Максимилиану фон Массову. Позвольте мне первым поздравить Вас с этим.
Таким образом, не факты вызывают в Вашей работе мои сомнения, а Ваше отношение к ним. Вы позволяете (помня о Вашем положении, я бы добавил: вынужденно) предрассудкам затуманить Ваш в остальном столь ясный взгляд. Иногда это выражается лишь в выборе слов (например, когда Вы называете мир внутри Германии кладбищенским покоем), но главным образом это касается интерпретации фактов. Так, Карлсбадская конференция является для Вас „апогеем духовного угнетения“ и началом „мрачных времен“. Дорогой господин Пётч, мне больно читать это! Не потому, что Вы придерживаетесь другого мнения, чем я, но потому, что Вы лишь вторите черно-белым, черно-бело-красным и красным историкам и при этом совершенно забываете, против кого направлено то, что Вы именуете „деспотией“, — против националистических горлодеров, которые, не будь они остановлены, могли бы стать настоящими деспотами, ибо их целью было всем и каждому навязать свою догму. Как ни парадоксально звучит, но с такой точки зрения Карлсбадские постановления о цензуре решающим образом способствовали сохранению духовной свободы, и Шведенов-Массов, старавшийся претворить предписания в жизнь, не предал, как Вы считаете, достойные идеалы: он пришел к ним только в старости, и потому он вполне заслуживает почетного места в моей книге. Но для этого требовалась бы более свободная от предубеждений позиция, чем та, на которой Вы стоите или, точнее, можете стоять.
Посему возвращаю Вашу заслуживающую внимания работу с выражением глубочайшего сожаления, не предлагая Вам изменить ее в обозначенном мною смысле. Даже если бы Вы этого захотели, Вы не сумели бы. Для этого Вы слишком в плену у веры в прогресс, которую я не разделяю, но стараюсь уважать.
С глубоким почтением приветствует Вас Ваш Альфонс Лепетит».Двадцатая глава. Камни
Весной, когда солнце впервые выманивает горожан на вольный воздух, или осенью, в грибную пору, случается, что дорогой между Липросом и Шведеновом идут или едут чужие. На перекрестке, названия которого — Драйульмен — они не знают, их внимание привлекает человек, занятый чем-то на проросшем корнями лесистом пригорке склона, спускающегося к низине у Шпрее. И если привыкшие к этому зрелищу местные жители, не сходя со своих мопедов или тягачей, лишь взмахивают рукой для приветствия, то пешие или моторизованные путники из Берлина или Франкфурта с любопытством поднимаются на пригорок, чтобы посмотреть, что здесь человек, один в лесу, может копать или долбить. А тот, покрытый потом, не обращая ни на кого внимания, расчищает фундаментные стены дома и затем копает между ними дальше. И, стоя на набросанном им земляном валу, каждый второй зритель вспоминает шутливое слово «кладоискатель». Если лопата наталкивается на препятствие, землекоп откладывает ее в сторону и осторожно выгребает камень руками, булыжники он небрежно кидает в лес, кирпичи же, даже в обломках, бережно очищает, осматривает со всех сторон и укладывает друг на друга. На приветствия отвечает коротко, но дружелюбно, охотно подсказывает дорогу, однако в разговоры, отвлекающие от работы, не вступает.
Он какой-то затравленный, говорят люди липросскому трактирщику, справляясь о лесном землекопе, — это видно по движениям, по глазам, глубоко сидящим на небритом лице. Трактирщик с пониманием кивает и заверяет, что человек этот, бывший учитель, а теперь тракторист, безвреден; он, правда, слегка заучился, но в остальном, в жизни и в работе, вполне справен, жена у него молодчина, напоминает ему о еде и питье, даже приносит их, когда он в субботу и воскресенье копает наверху, так что о нем беспокоиться не приходится. На вопрос, что же он с таким рвением ищет, трактирщик только пожимает плечами. Он об этом знает так же мало, как и его местные клиенты, давно переставшие строить догадки.
В курсе дела только некий господин Браттке из берлинского ЦИИИ, иногда наезжающий в Шведенов: он охотно рассказывает об этом интересующимся — в надежде, что они еще раз заедут в Драйульмен и порадуют Пётча каким-нибудь сообщением, хорошо бы касательно некоего штольповского дяди — виновника нынешних изысканий Пётча.
Имя дяди — Юлиус Эберхард Вильгельм Эрнст фон Массов, он происходил из померанского города Штольп, стал в Берлине министром юстиции и, если верны гипотезы Пётча, был тем дядей Макса, который упоминается в его дневниках. В письмах дяди, после долгих поисков найденных Пётчем в одном старом штольповском альманахе, дважды речь идет о племяннике Максимилиане, который, к ужасу семьи, упорно занимается сочинительством, живет в лесу, в одиночестве, и заболел с горя, потому что не может жениться на девушке из бюргерской семьи. Местность не названа, зато пересказывается слух, забавляющий всю родню: больной от любви родственник выцарапал на многих кирпичах своего убогого жилища имя любимой.
И вот теперь Пётч разыскивает один из этих кирпичей, который с несомненностью докажет тождество Макса фон Шведенова с Максимилианом фон Массовом. Он знает, что около Драйульмена надежда на успех мала. Там лежат только отброшенные при сносе камни. Большинство их, как известно, пущены в дело в деревне. Пётч уже знает, в какие дома, амбары, хлева они могли быть встроены. Зимой, когда земляные работы придется прекратить, он их осмотрит. Да и хлева, в которых нет больше скота, то и дело сносятся. Кто в выходные дни не найдет Пётча на Драйульмене, пусть поищет его на груде щебня между Липросом и Требачем. Он копается там в строительном мусоре и видит в мечтах свой триумф: держа на ладони кирпич, на котором сто семьдесят лет назад запечатлено было имя Доретты, он вступает в менцелевскую «преисподнюю» и говорит: «Вот оно, господин профессор, вот доказательство!»
Комментарии
Опубликованные в этой книге повести, рассказы и эссе современных прозаиков ГДР о писателях «века Гёте» — всего лишь маленький ручеек в большом потоке исторической прозы, получившей широкое развитие в литературе ГДР начиная с 1940-х годов. К историческим темам постоянно обращались И. Р. Бехер, Б. Брехт, А. Зегерс, Ф. Вольф, В. Бредель, Куба и другие основоположники литературы ГДР[213], стремившиеся осмыслить историю (в том числе и проблему культурного наследия) с марксистских позиций, привлечь внимание к революционным и демократическим традициям в прошлом Германии. Историческая тема занимала видное место в творчестве Ганса Лорбера (1901–1973), получившего в 1971 г. первую премию имени Л. Фейхтвангера за трилогию о Мартине Лютере, Иоганнеса Бобровского (1917–1965), Людвига Ренна (1889–1979), Герхарда В. Менцеля (1922–1982), создавшего романы о Лессинге, Шиллере и Гейне. К исторической тематике в современной литературе ГДР постоянно обращаются Роземари Шудер (род. в 1928 г.), Ганс Пфейфер (род. в 1925 г.), Вернер Штайнберг (род. в 1913 г., романы о Гейне и Бюхнере), Инге фон Вангенгейм (род. в 1912 г., среди многих исторических романов ее перу принадлежит и роман о Лессинге), Отто Готше (род. в 1904 г.), Мартин Штаде (род. в 1931 г.) и многие другие[214].
Помимо представленных в данной книге писателей, в 1970–1980 годах историческая и историко-литературная проблематика все чаще занимает и таких авторов, как Фриц Рудольф Фриз (род. в 1935 г., известны его книги о Сервантесе и Лопе де Вега), Иоахим Вальтер (род. в 1943 г., в 1982 г. вышел в свет его роман о крупном немецком поэте конца XVII — начала XVIII века Иоганне Христиане Гюнтере), Карл Микель и другие.
Эрик Нойч
Форстер в Париже (1978)
Жизнь и творчество Иоганна Георга Адама Форстера (1754–1794) всегда привлекала внимание представителей передовой общественной мысли. Общеизвестен большой интерес к нему и высокая оценка его творчества и практической деятельности Ф. Энгельсом, Г. Гейне, Ф. Мерингом, А. Герценом, Н. Г. Чернышевским и др. В литературе ГДР создано несколько произведений, посвященных наиболее драматичным эпизодам жизни Г. Форстера. Известный писатель и литературовед Ганс Юрген Геердтс (род. в 1922 г.) написал роман «Рейнская увертюра» (1954), изображающий революционные бои в Майнце в 1792–1793 гг. Тому же периоду в основном посвящен и исторический роман Фридриха Дёппе (род. в 1922 г.) «Форстер в Майнце» (1956), переизданный в 1960 г. под названием «Майнцские якобинцы». Кроме того, известна и исторически-биографическая повесть Хельмута Митке (род. в 1897 г.) «Волнующие годы» (1956).
Эрик Нойч (род. в 1931 г.) — лауреат Национальной премии ГДР, автор романов, повестей и рассказов на современные темы, в том числе «Биттерфельдские истории» (1961), «След камней» (1964), «В поисках Гатта» (1973), «Мир на Востоке» (часть I, 1973; часть II, 1978) и др. Созданный Э. Нойчем психологический портрет Г. Форстера полемичен. Эту скрытую в повести полемическую направленность Э. Нойч раскрывает в эссе «Георг Форстер сегодня» (1978). Он хочет напомнить об одном из ярчайших примеров реалистической и революционной традиции в немецкой литературе, противопоставить ее антиреалистическим тенденциям в творчестве отдельных молодых писателей. Следование революционной традиции далось Форстеру ценой величайших личных жертв, отказа от благополучия, разрыва с былыми друзьями и единомышленниками, ценой величайшего мужества, которого не может быть без цельного мировоззрения и ясных нравственных убеждений. В публикуемой повести Э. Нойча последовательность событий заметно нарушена, поэтому приводим основные даты жизни и творчества Форстера.
1754 — 27 ноября в деревне Нассенхубен около Гданьска (Данцига) родился Иоганн Георг Адам Форстер.
1765–1766 — путешествие с отцом (Иоганн Рейнгольд Форстер, 1729–1798) по России по приглашению русского правительства для составления отчета о немецких колониях на Волге и о богатствах Поволжья.
1766–1772 — пребывание с отцом в Англии.
1767 — Г. Форстер публикует свой перевод на английский язык сочинения М. В. Ломоносова «Краткий российский летописец».
1772–1775 — принимает участие (вместе с отцом) во втором кругосветном плавании Джеймса Кука.
1777 — в Лондоне (на английском языке) опубликовано «Путешествие вокруг света».
Знакомится в Париже с Г. Л. Бюффоном и Б. Франклином.
1777–1778 — путешествует по Германии в поисках постоянной работы. Знакомство с Терезой, дочерью профессора филологии, в Гёттингене.
1778–1784 — преподает естественную историю в Касселе. Знакомство с Г. К. Лихтенбергом и Ф. Якоби.
1781–1791 — сотрудничество в «Гёттингенском вестнике искусства и литературы».
1785 — женится на Терезе Гейне.
1785–1787 — преподает в университете в Вильно.
1788 — начинает работать библиотекарем в Майнце.
1789 — «История искусства в Англии», «Искусство и эпоха», первый выпуск сборника эссе «Мелкие статьи».
1790 — путешествует по Европе с Александром Гумбольдтом.
1791 — опубликовал перевод драмы древнеиндийского поэта Калидасы «Сакунтала» («Шакунтала»).
1792 — 21 октября французская армия вступила в Майнц.
1791–1794 — книга художественной публицистики «Суждения о Нижнем Рейне, Брабанте, Фландрии, Голландии, Англии и Франции в апреле, мае и июне 1790 года».
1793 — 17 марта избран вице-президентом рейнско-немецкого Конвента в Майнце; 30 марта — выступление в Национальном Конвенте в Париже о присоединении рейнско-немецкой республики к Французской республике; 23 июня — Майнц захвачен войсками прусско-саксонской коалиции.
1793–1794 — пишет «Изложение революции в Майнце» (опубл. в 1843 г.). Создает серию статей «Парижские наброски», статью «Взгляд на природу в целом»; второй и третий тома «Мелких статей».
1794 — 12 января Георг Форстер скончался в Париже.
Петер Хакс
Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гёте (1977)
Жизнь и произведения Гёте постоянно привлекали внимание писателей ГДР, с семидесятых годов живой интерес к его творчеству заметно усилился. Свою роль здесь сыграли «Новые страдания юного В.» Ульриха Пленцдорфа, стихотворения Фолькера Брауна и др.[215]
Один из крупнейших современных драматургов ГДР Петер Хакс (род. в 1928 г.) неоднократно обращался к жизни и творчеству Гёте.
Психологическая монодрама П. Хакса «Разговор в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гёте» была впервые с успехом поставлена в Дрездене в 1976 г. В основу пятиактной пьесы положен вымышленный рассказ близкой знакомой Гёте Шарлотты фон Штейн (1742–1827) о ее отношениях с Гёте с 1775 по 1786 г., когда Гёте вдруг неожиданно для всех уехал из Веймара в Италию; П. Хакс внимательно изучил их переписку и умело использовал ее в пьесе.
Шарлотта фон Штейн сыграла заметную роль в становлении личности Гёте. Богато одаренная натура, она не только вдохновила Гёте на ряд стихотворений и послужила прообразом героинь некоторых его драм, но и сама писала драмы (например, «Дидона», 1794); ее муж, Иосиас фон Штейн, был главным начальником конюшни (оберштальмейстером) герцога.
В постраничном комментарии частично использованы примечания Э. В. Венгеровой в кн.: Хакс П. Пьесы. М., Искусство, 1979.
Герхард Вольф
Бедный Гёльдерлин (1972)
Обращение к творчеству Гёльдерлина, не понятого современниками и надолго забытого потомками, имеет в литературе ГДР свои давние традиции. Стоит напомнить лишь такие имена, как Рудольф Леонгард (1889–1953) и Иоганнес Р. Бехер, а затем С. Хермлин, Ф. Браун и др. И. Р. Бехер постоянно возвращался к раздумьям о Гёльдерлине (см., например, сонет «Гёльдерлин») в своих эстетических работах и дневниковых заметках разных лет.
Герхард Вольф (род. в 1928 г.) — известный литературовед, автор книг и статей о поэзии ГДР и ФРГ, о творчестве Э. Арендта, Г. Маурера, И. Бобровского и др. Он постоянно выступает и как писатель, совместно с Кристой Вольф, например, ими создано несколько киносценариев. В повести «Бедный Гёльдерлин» Г. Вольф продолжает разрабатывать беллетристическую технику литературного монтажа, найденную им в одной из книг о И. Бобровском («Описание одной комнаты. 15 глав об Иоганнесе Бобровском», 1971), где в беллетризованное биографическое повествование вкрапляются (выделенные курсивом или никак не помеченные) отрывки из произведений писателя, выдержки из писем и документов, отзывы друзей и современников.
В повести «Бедный Гёльдерлин» особое композиционное значение имеют выделенные курсивом отрывки из книги Вильгельма Фридриха Вайблингера (1804–1830), талантливого немецкого поэта, прозаика и очеркиста, учившегося в 1822–1826 годах в университете в Тюбингене (где, как мы знаем, с 1806 года жил больной Гёльдерлин) и оставившего книгу заметок, наблюдений и раздумий о жизни и творчестве великого поэта «Жизнь Гёльдерлина, его поэзия и его безумие», опубликованную в 1831 году. Вкрапленные в книгу подлинные свидетельства современника, испытавшего в своем творчестве сильное воздействие Гёльдерлина (например, роман в письмах «Фаэтон» написан под очевидным влиянием «Гипериона»), придают исторический масштаб и достоверность книге, и так уже насыщенной подлинными историческими документами. Чтобы пояснить технику документального монтажа Г. Вольфа (не всегда легко поддающуюся расшифровке), приведем лишь один пример. Г. Вольф цитирует два отрывка из письма Гёльдерлина Сюзетте Гонтар, написанного в 1799 году и, по-видимому, неотправленного: «А знаешь, в чем таится корень зла?.. и тогда ужас пронзает все мои члены, и я выкликаю страшные слова: живой мертвец!» Между этими двумя абзацами — двумя отрывками из письма горячо любимой женщине — всего лишь одна фраза, принадлежащая собственно Г. Вольфу: «С кем это он говорит?» Читателю, не знающему досконально все творчество и переписку Гёльдерлина, не догадаться, что здесь вкраплены отрывки из письма конкретному лицу, Сюзетте Гонтар, но читателю понятно, что здесь идет возвышенный и откровенный разговор с другом. Далее следует (за несколькими вводящими фразами Г. Вольфа) небольшой отрывок из перевода оды Пиндара, сделанного Гёльдерлином. И тут же — комментарий самого Гёльдерлина к переводу Пиндара, введенный Г. Вольфом словами: «Сам он истолковывает их так: страх перед правдой…» Таким образом, публикуемая повесть — тщательно продуманное и композиционно четко организованное художественное произведение, к тому же предельно насыщенное достоверным документальным материалом.
Криста Вольф
Нет места. Нигде (1979)
Тень мечты (1978)
«А грядущее начинается уже сегодня» (1979)
Жизнь и творчество Генриха фон Клейста стали предметом серьезных раздумий и дискуссий в немецкоязычных литературах XX века. И. Р. Бехер еще в 1911 году написал «Гимн Клейсту», в котором трагическая неудовлетворенность писателя, приведшая его к самоубийству, изображается как необоримое стремление человека к совершенству, к преображению своих внутренних духовных возможностей в активную общественную позицию. О Клейсте писали Р. М. Рильке, Т. Манн, А. Цвейг, Б. Узе, Ф. К. Вайскопф и многие другие прогрессивные писатели; полемика А. Зегерс с Д. Лукачем по проблемам реализма была особенно острой по вопросу о творческом методе Клейста, о продуктивности его реалистических сторон для развития литературы социалистического реализма. В литературе ГДР интерес к Клейсту особенно усилился с середины 1970-х годов в связи с подготовкой к 200-летию со дня рождения писателя. Была подготовлена интересная антология «Генрих фон Клейст в оценке немецкоязычных писателей» (1977), издано новое четырехтомное собрание его сочинений (1978), фундаментальное исследование Рудольфа Лоха «Генрих фон Клейст. Жизнь и творчество» (1978); в журналах и сборниках опубликовано немало статей о Клейсте, в театрах созданы новые инсценировки его пьес.
Криста Вольф (род. в 1929 г.) — одна из крупнейших современных писательниц, лауреат Национальной премии ГДР, автор известных романов «Расколотое небо» (1963), «Размышления о Кристе Т.» (1969), «Узоры одного детства» (1976), повестей, новелл, многочисленных эссе. К немецкому романтизму она активно обратилась с начала 1970-х годов в сборнике новелл «Унтер-ден-Линден» (1974), по-своему продолжающем сборник новелл А. Зегерс «Странные встречи» (1972). Здесь К. Вольф прежде всего привлек Гофман, художественный метод которого она переосмысляет в «Новых житейских воззрениях одного кота» (1970).
В эссе о Каролине фон Гюндероде и Беттине фон Арним и в повести о Клейсте К. Вольф размышляет о нескольких важных для нее проблемах (см. предисловие). Интерес к личности Гюндероде, ее окружению пробудился под воздействием А. Зегерс, о чем пишет сама К. Вольф: «Я поехала как-то в Винкель на Рейне, долго отыскивала и нашла наконец на кладбище могилу Гюндероде: ее имя постоянно встречалось мне в эссе и письмах Анны Зегерс. Анна упоминает ее среди других имен немецких писателей того же поколения, которые „окровавили свои головы о стену общественной действительности“ и не смогли достичь классического совершенства в своем творчестве». Тщательно подготовленный К. Вольф однотомник избранных произведений Гюндероде[216] и роман в письмах Беттины фон Арним «Гюндероде»[217], несомненно, пробудили в ГДР серьезный интерес к творчеству этой талантливой и незаслуженно забытой романтической писательницы.
Насколько документированы оба эссе, настолько пронизана творческим вымыслом и художественным воображением повесть о Клейсте, хотя и в ее основе — внимательное изучение творчества и переписки Клейста, Гёте, Савиньи, семейства Брентано и т. д. К. Вольф сама указывает, что в основе ее художественной гипотезы лежит предположение Эдуарда фон Бюлова, одного из биографов Клейста, издавшего в 1848 году «Жизнь и письма Генриха фон Клейста»: «По дороге домой Клейст заболел в Майнце очень тяжелой болезнью, от которой надворный советник Ведекинд излечил его лишь через шесть месяцев, и на это время он исчез из поля зрения всех своих друзей.
В это время, вероятно, он познакомился с Гюндероде и влюбился в дочь священника в местечке под Висбаденом…»
Современные исследования не подтверждают гипотезу Эдуарда фон Бюлова, но тут уж вступают в свои права законы художественного творчества, и достоверность вымысла К. Вольф, может быть, заставит по-новому увидеть и какие-то литературоведческие проблемы.
Приводим некоторые даты жизни и творчества Клейста, помогающие воссоздать реальный исторический контекст повести.
1777 — 18 октября во Франкфурте-на-Одере в семье потомственного прусского офицера родился Генрих фон Клейст. В семье было семеро детей.
1788 — смерть отца.
1788–1792 — обучение в Берлине в пансионате.
1792 — летом записан ефрейтором в гвардейский полк в Потсдаме.
1793 — весной принимает участие в так называемом Рейнском походе против французской революционной армии.
1792–1799 — служба в прусской армии; приступает к активному самообразованию.
1799 — поступает на философский факультет университета во Франкфурте-на-Одере.
1800 — обручается с Вильгельминой фон Ценге. Предпринимает путешествие по Германии.
1801 — поездка в Париж. Увлечение идеями Руссо. Вынашивает идею поселиться в Швейцарии.
1802 — в Берне, знакомство с Генрихом Цшокке. В ноябре поселяется в Веймаре, близко знакомится с семейством Виланда. Работает над трагедией «Смерть Гискара». Трагедия «Семейство Шроффенштейн».
1803 — поездка по южной Франции (через Лион в Париж). Пытается поступить на службу во французскую армию. При возвращении в Германию заболевает и задерживается на время болезни в Майнце под присмотром доктора Георга Ведекинда.
1804 — в июне возвращается в Пруссию.
1805 — 1 мая едет в Кёнигсберг для годичной подготовки к государственной службе. Новелла «Землетрясение в Чили».
1806 — 14 октября Пруссия терпит поражение в битве при Иене и Ауэрштедте. Клейст заканчивает драму «Амфитрион».
1807 — арест по подозрению в шпионаже.
1807–1808 — в Дрездене, заканчивает комедию «Разбитый кувшин». Начинает выпускать «Феб, журнал для искусства». Публикует отрывок из повести «Михаэль Кольхаас», новеллу «Маркиза О.»; заканчивает трагедию «Пентесилея».
1808–1809 — драма «Битва Арминия». Поездка в Австрию. Начало патриотического подъема в Германии.
1810–1811 — Клейст в Берлине. Драма «Принц Фридрих Гомбургский». Начинает выпускать «Берлинскую вечернюю газету», где публикует свои статьи, рассказы и анекдоты.
1811 — 21 ноября у озера Ванзее Клейст по обоюдной договоренности застрелил свою смертельно больную возлюбленную Генриетту Фогель и затем застрелился сам.
Франц Фюман
Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман (1976)
«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» (1978)
Гофман — один из крупнейших прозаиков немецкого романтизма — прожил большую и сложную жизнь в истории литературы. Высокую оценку его творчеству дали еще Г. Гейне, В. Белинский и А. Герцен. Его любили Ч. Диккенс и Э. По, Бальзак и Жорж Санд, Бодлер и Оскар Уайльд и многие другие писатели разных стран.
В литературе и литературоведении ГДР творчество Гофмана не сразу получило широкое признание и разностороннюю оценку. В связи с общей недооценкой романтизма в первые послевоенные десятилетия Гофмана (как, впрочем, и Гейне) нередко старались вывести за пределы романтизма, приблизить к реализму, что, естественно, затрудняло понимание особенностей художественного метода Гофмана, в основе своей романтического, приводило к неверной интерпретации отдельных произведений и образов.
Для Франца Фюмана — одного из крупнейших писателей ГДР, лауреата многих литературных премий — обращение к творчеству Гофмана — часть широко задуманной программы по освоению и интерпретации культурного наследия, понимаемого писателем очень широко и диалектично. Ф. Фюман проделал большую работу по художественному освоению античной мифологии: «Деревянный конь. Сказание о падении Трои и о странствиях Одиссея» (1968), «Прометей — битва титанов» (1974), «Возлюбленный утренней зари» (1978, сборник рассказов на мифологические сюжеты). Теоретические проблемы художественного освоения мифов писатель обобщил в эссе «Мифологический элемент в литературе» (1975). Ф. Фюман написал также прозаические пересказы нижненемецкого эпоса «Рейнеке Лис» (1964) и древнегерманского героического эпоса «Песнь о нибелунгах» (1971). Вслед за серией статей о Гофмане (1976–1979) Ф. Фюман написал интересную книгу автобиографических размышлений о творчестве Георга Тракля (1982).
Анна Зегерс
Встреча в пути (1972)
Анна Зегерс (1900–1983) являет своим творчеством яркий пример писателя социалистического реализма, постоянно ищущего и испытывающего новые формы эстетического освоения действительности. В разные годы она обращалась к притчевой форме повествования (например, «Три дерева», 1940), многообразно использовала элементы фантастики, аллегории, разнообразную символику. Введя в литературу ГДР классические образцы широкоохватных эпических художественных полотен («Мертвые остаются молодыми», 1949; «Решение», 1959; «Доверие», 1968), А. Зегерс своевременно выступила и против зауженного понимания реалистического метода, не признающего будто бы никаких условных приемов и форм. Сборник рассказов «Странные встречи» (1972, «Встреча в пути» завершает сборник) сыграл очень важную роль в литературных дискуссиях о возможностях метода социалистического реализма в ГДР. «Странные встречи» убедительно демонстрируют, как можно, оставаясь на почве социалистического реализма, широко использовать элементы фантастики. Рассказ же «Встреча в пути», по сути дела, является своего рода историко-литературным пояснением специфики художественной манеры трех столь различных между собой писателей, между которыми, однако, по воле А. Зегерс возникает и определенное взаимопонимание.
Гюнтер де Бройн
Бранденбургский Дон Кихот (1980)
Бранденбургские изыскания (1978)
Гюнтер де Бройн (род. в 1926 г.), писатель остросовременный, лауреат Национальной премии ГДР, обнаружил отчетливый интерес к историко-литературной проблематике, по сути дела, уже в романе «Присуждение премии» (1972). В 1975 году он выпустил беллетризованную «Жизнь Жан Поля Фридриха Рихтера», значительно приблизив к нам многострадальную и исполненную творческих поисков жизнь замечательного немецкого прозаика конца XVIII — начала XIX века. Повестью «Бранденбургские изыскания» Г. де Бройн ввел проблему освоения культурного наследия в широкий круг этических и нравственных проблем современного социалистического общества. Томик произведений Фридриха де ла Мотт Фуке[218] (послесловие из которого и включено в настоящую книгу) вышел в серии «Бранденбургская поэтическая галерея», которую Г. де Бройн выпускает вместе с Г. Вольфом в берлинском издательстве «Дер Морген». В этой же серии Г. де Бройн издал недавно «Доверительные письма» Кристофа Фридриха Николаи (1733–1811)[219], известного представителя позднего Просвещения в Германии, отважно, но порой односторонне боровшегося с крайностями «Бури и натиска» и романтизма. Николаи принадлежит, например, известная пародия на «Страдания юного Вертера». Г. Вольф выпустил в этой серии книгу «Гейне в Берлине» (1980) и сборник избранных произведений Эвальда Христиана фон Клейста (1715–1759), друга Лессинга и одного из виднейших представителей анакреонтической поэзии XVIII века.
Поскольку жизнь и творчество Фуке советскому читателю почти не известны, приводим основные даты жизни и творчества Фуке.
1777 —12 февраля родился Фридрих Генрих Карл де ла Мотт Фуке.
1779 — Переезд в имение Закров около Потсдама.
1788 — Переезд в имение Лентцке около Фербеллина.
1789 — Август Людвиг Хюльзен становится домашним учителем Фуке.
1794 — Фуке записывается в прусскую армию. Участие в походе против Франции.
1798 — Фуке вступает в брак с Марианной фон Шубэрт в Бюкебурге.
1802 — Развод. Уход из армии.
1803 — Фуке вступает в брак с Каролиной фон Рохов, урожденной фон Брист. Переезд в Неннхаузен под Ратеновом. Рождение дочери Марии Луизы. Первые публикации в журнале «Европа» Фридриха Шлегеля.
1804 — Август Вильгельм Шлегель издает первую книгу Фуке «Драматические пьесы».
1810–1811 — Сотрудничество в «Берлинской вечерней газете» Генриха фон Клейста.
1811 — Издание журнала «Времена года», в котором публикуется «Ундина».
1812–1814 — Издание журнала «Музы».
1813 — Участие в войне против Наполеона.
1814 — Фуке издает «Петера Шлемиля» Шамиссо.
1815 — Фуке издает «Предчувствие и современность» Эйхендорфа.
1815–1816 — Издание «Записных книжек для женщин».
1816–1821 — Издание журнала «В часы досуга».
1816 — Премьера оперы «Ундина» в Берлине. Музыка: Э. Т. А. Гофман; текст: Фуке; постановка: Шинкель.
1829–1830 — Издание «Берлинских листков для немецких женщин».
1831 — Смерть Каролины Фуке.
1833 — Фуке вступает в брак с Альбертиной Тоде в Берлине. Переезд в Галле.
1835–1840 — Издание журнала «Богатства мира».
1839 — Рождение сына Карла Фридриха Вильгельма.
1840–1843 — Издание «Журнала для немецких дворян».
1841 — Переезд в Берлин.
1843 — 23 января умер Фуке.
А. Гугнин
Примечания
1
Укажем лишь несколько произведений, опубликованных в русском переводе: Хермлин С. Скарданелли. В кн.: Концерт для четырех голосов. М., «Искусство», 1972 (радиопьеса о Ф. Гёльдерлине); Пленцдорф У. Новые страдания молодого В. В кн.: Обрести человека. Повести и рассказы писателей ГДР. М., «Прогресс», 1975; Бройн Г. де. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера. М., «Прогресс», 1978; Вольф К. Житейские воззрения кота в новом варианте. В кн: Вольф К. Избранное. М., «Художественная литература», 1979.
(обратно)2
Ленин В. И. Речь на I Всероссийском съезде по внешкольному образованию. — См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд., т. 29, с. 342.
(обратно)3
Жорес Ж. Социалистическая история Французской революции. Т. IV. Революция и Европа. М., «Прогресс», 1981. (Четвертая глава: Немцы левого берега Рейна), с. 189.
(обратно)4
Немецкие демократы XVIII века. Шубарт. Форстер. Зейме. М., 1956, с. 444 (письмо жене из Майнца от 1 января 1793 года).
(обратно)5
Герцен А. И. Собр. соч. в 30 т., т. 2. М., 1954, с. 331, с. 333. Напомним и о большом интересе Н. Г. Чернышевского к личности Г. Форстера.
(обратно)6
Гёте И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда. М., 1969, с. 358.
(обратно)7
Г. Вольф упоминает и тот факт, что Бёлендорф в 1817 г. посетил в Петербурге В. А. Жуковского, который написал для него очень хорошее рекомендательное письмо А. И. Тургеневу.
(обратно)8
В 1806 г. во Франкфурте-на-Майне Беттина Брентано сдружилась с матерью Гёте, записала с ее слов многие подробности раннего детства поэта, которые Гёте затем использовал в «Поэзии и правде». «Переписка Гёте с ребенком», основанная на подлинных письмах, была опубликована в 1835 г. и принесла Беттине фон Арним заслуженную известность. См. подробнее: Пюшель У. Беттина фон Арним, в кн: История немецкой литературы, т. 3, М., 1966, с. 485–491.
(обратно)9
Neutsch E. Fast die Wahrheit. Ansichten zur Kunst und Literatur, Berlin, 1978, S. 237.
(обратно)10
Там же, с. 261.
(обратно)11
Fühmann F. Fräulein Veronika Paulmann aus der Pirnaer Vorstadt oder Über das Schauerliche bei E. T. A. Hoffmann. Rostock, 1979.
(обратно)12
Белинский В. Г. Собр. соч. в 13 т., т. VII, М., 1955, с. 199.
(обратно)13
Пошел! Пошел! (франц.)
(обратно)14
Лихтенберг. — Георг Кристоф Лихтенберг (1742–1799), немецкий писатель и ученый. Совместно с Г. Форстером издавал «Гёттингенский журнал науки и литературы».
(обратно)15
Когда он путешествовал с Гумбольдтом. — Александр Гумбольдт (1769–1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник, один из известнейших ученых своего времени.
(обратно)16
Уполномоченный исполнительного совета (франц.).
(обратно)17
«Спаси себя для Фландрии…» — Слова маркиза Позы из «Дон Карлоса» цитируются по изданию: Шиллер Ф. Собрание сочинений в восьми томах, т. 3, М., 1937, с. 245.
(обратно)18
Сэмюэль Томас Земмеринг (Зёммеринг) — (1755–1830), известный немецкий анатом и физиолог.
(обратно)19
Здесь же был обезглавлен и Люкс. — Адам Люкс (1765–1793), доктор философии, член якобинского клуба в Майнце; выступил в защиту Шарлотты Корде и был обезглавлен.
(обратно)20
«…они не могли понять человека…» — Э. Нойч строит внутренний монолог Форстера на письме жене из Майнца 1 января 1793 г. (см. также предисловие).
(обратно)21
Ведекинд. — Георг Ведекинд (1761–1839), профессор медицины в Майнце. Позднее (в 1803–1804 гг.) вылечил от тяжелого заболевания Г. фон Клейста (см. повесть К. Вольф «Нет места. Нигде» в настоящей книге).
(обратно)22
…в стиле Давида. — Жак Луи Давид (1748–1825), французский живописец, выдающийся представитель революционного классицизма.
(обратно)23
Кайе де Жервиль. — Бон Клод Кайе де Жервиль (1751–1816), министр внутренних дел до 1792 г.
(обратно)24
«Са ира». — Популярная во Франции с 1789 г. песня, названная по припеву, ca ira (примерно: дело пойдет на лад).
(обратно)25
Сен-Жюст. — Луи Сен-Жюст (1767–1794), член Комитета общественного спасения в период якобинской диктатуры, сторонник Максимильена Робеспьера (1758–1794), фактически возглавившего в 1793 г. революционное правительство якобинской диктатуры. Оба казнены термидорианцами — участниками контрреволюционного переворота 9 термидора (27–28 июля 1794 г.), свергнувшего якобинскую диктатуру.
(обратно)26
Дантон. — Жорж Жак Дантон (1759–1794), один из вождей якобинцев, с 1793 г. занял примиренческую позицию по отношению к жирондистам (политической группировке, представлявшей республиканскую буржуазию и находившейся у власти с 10 августа 1792 г. по 31 мая—2 июня 1793 г.), казнен как контрреволюционер.
(обратно)27
Неистовый Эбер. — Жак Эбер (1757–1794), левый якобинец, в марте 1794 г. вместе с единомышленниками выступил против правительства якобинской диктатуры, казнен.
(обратно)28
Генерал Кюстин. — Граф де Кюстин Адам Филипп (1740–1793), бригадный генерал, депутат генеральных штатов от дворянства бальяжа Мец, гильотинирован).
(обратно)29
Мерлин де Тионвилль. — Антуан-Кристоф Мерлин де Тионвилль (1762–1833), французский политик, член Конвента, с декабря 1792 г. депутат Конвента в рейнской армии; некоторое время направлял деятельность якобинского клуба в Майнце, принимал участие в термидорианском перевороте в июле 1794 г., приведшем к падению якобинской диктатуры.
(обратно)30
Здесь.: друг за другом (франц.).
(обратно)31
Путешествие вокруг света (англ.).
(обратно)32
В крепость Кёнигштейн заключена вдова Бёмер, подруга гражданина Форстера (франц.).
(обратно)33
Обоих мучеников революции… — Жан Поль Марат (1743–1793) убит Шарлоттой Корде; Луи Мишель де Сен-Фаржо Лепелетье (1760–1793) был смертельно ранен роялистом.
(обратно)34
Вперед, сыны отчизны! (франц. Начальные строки Марсельезы.
(обратно)35
После Вальми и Жемапа. — При Вальми армия революционной Франции 20 сентября 1792 г. впервые одержала внушительную победу над 1-й антифранцузской коалицией. Под бельгийским селением Жемап войска революционной Франции под командованием генерала Дюмурье 6 ноября 1792 г. разбили австрийские войска и заняли Бельгию.
(обратно)36
Лафайет, Дюмурье… — Маркиз Мари Жозеф Лафайет (1757–1834) в начале революции командовал Национальной гвардией, 10 августа 1792 г. перешел на сторону контрреволюции. Шарль Франсуа Дюмурье (1739–1823) в апреле 1793 г. изменил Французской республике.
(обратно)37
Комитет общественного спасения (франц.).
(обратно)38
Ограниченные (франц.).
(обратно)39
Заведомо, прежде всего, изначально (лат.).
(обратно)40
Вагнер, Лейзевиц, Ленц. — Генрих Леопольд Вагнер (1747–1779), Иоганн Антон Лейзевиц (1752–1806), Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751–1806) — писатели «Бури и натиска», обличавшие в своих драмах пороки феодальной Германии.
(обратно)41
Демулен. — Камиль Демулен (1760–1794) — журналист, единомышленник Дантона, вместе с ним казнен.
(обратно)42
Шометт. — Пьер Гаспар Шометт (1763–1794) — левый якобинец, с декабря 1792 г. прокурор Парижской коммуны, обвинен в попытке противопоставить коммуну Конвенту и казнен.
(обратно)43
Пока едины Робеспьер и Дантон… — Разногласия Робеспьера и Дантона (1759–1794), сочувствовавшего жирондистам, начались с 1793 г. В апреле 1794 г. Дантон и большинство его сторонников (К. Демулен, Фабр д’Эглантен и др.) были казнены.
(обратно)44
Добраться до самого Питта. — Питт Уильям Младший (1759–1806), премьер-министр Великобритании, один из организаторов военных коалиций против революционной Франции, а затем и против Наполеона.
(обратно)45
Герцог… или герцогиня. — Герцог Карл-Август Саксен-Веймарский (1755–1828), проезжая Франкфурт в 1775 г., пригласил Гёте в Веймар, что определило всю его последующую жизнь (см. «Поэзия и правда», книга двадцатая). Жена герцога Луиза Гессен-Дармштадтская (ум. 1830 г.); его мать — вдовствующая герцогиня Анна-Амалия Саксен-Веймарская (1739–1807), заботясь о воспитании детей, еще в 1772 г. пригласила в Веймар Виланда, в 1775 г. передала правление Карлу-Августу, но сохранила свой двор и старалась собрать вокруг себя писателей и художников.
Примечания к пьесе — частично использованы примечания Э. В. Венгеровой в кн.: Хакс П. Пьесы. М., Искусство, 1979.
(обратно)46
Игра в министра. — Речь идет о быстром продвижении Гёте по придворной служебной лестнице: 1776 г. — тайный советник посольства, 1779 — директор веймарского военного и дорожного строительства, 1780 — тайный советник, 1781 — первый министр, возведен в дворянское звание.
(обратно)47
Гумбольдтовой таблицы пальм. — Здесь П. Хакс нечаянно или сознательно смещает временные рамки: работы Александра Гумбольдта (1769–1859) появились в печати значительно позже описываемых событий.
(обратно)48
Такая диета в высшей степени губительна… — П. Хакс вмонтировал в диалог выдержки из письма Гёте Шарлотте фон Штейн от 1 июня 1789 г., т. е. написанного позже происходящих в пьесе событий.
(обратно)49
Раз я подобна Леоноре или Ифигении. — Ифигения — героиня драмы Гёте «Ифигения в Тавриде» (премьера пьесы состоялась 6 апреля 1779 г., сам Гёте при этом великолепно исполнил роль Ореста — см. наст. кн., Корона Шрётер играла Ифигению — см. там же: «театральная потаскушка Шрётер»). Леонора — героиня драмы «Торквато Тассо» (25 августа 1781 г. Гёте читал в Тифурте герцогине Луизе завершенные части драмы). В переписке Гёте и Шарлотты фон Штейн обе пьесы постоянно упоминаются. Первоначально обе пьесы были написаны в прозе.
(обратно)50
Всех этих Гретхен и Клерхен. — Гретхен — возлюбленная Фауста, Клерхен — возлюбленная Эгмонта. Шарлотта фон Штейн в данном случае высказывает свое пренебрежение не столько к героиням трагедий Гёте, сколько порицает его симпатии к простым девушкам из непривилегированных сословий.
(обратно)51
Коцебу. — Август фон Коцебу (1761–1819), популярный немецкий прозаик и драматург, автор многочисленных пьес, некоторое время был драматургом и режиссером Венского «Бургтеатра» и Веймарского театра. Несколько лет находился на службе в России. В 1819 г. убит студентом К. Зандом.
(обратно)52
Госпожа Гехгаузен. — Луиза фон Гёхгаузен (1752–1807) — придворная дама герцогини Анны-Амалии.
(обратно)53
Закончить главу «Вильгельма Мейстера». — Гёте начал работать над «Годами учения Вильгельма Мейстера» в 1775–1777 гг.
(обратно)54
Доктор Циммерман. — Иоганн Георг фон Циммерман (1728–1795), ганноверский врач и философ, Гёте встречался и разговаривал с ним в сентябре 1775 г. во Франкфурте.
(обратно)55
Пастушка по имени Фридерика… резвушка по имени Лили… Бранкони… — Фридерика Елизавета Брион (1752–1813), дочь деревенского пастора в Зезенгейме, любовь к которой навеяла «Зезенгеймские песни» — шедевры лирики «Бури и натиска», вслед за Гёте во Фридерику страстно влюбился друг Гёте Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц (1751–1792), также писавший ей стихи. Позднее Ленц, приехав в Веймар, влюбился в Шарлотту фон Штейн, вследствие чего ему в 1776 г. пришлось оставить Веймар. Анна Елизавета Шёнеман (1758–1817) дочь франкфуртского банкира, Гёте был в 1775 г. помолвлен с ней, но, расторгнув помолвку, уехал сначала в Швейцарию, а затем — окончательно — в Веймар. Мария Антуанетта маркиза фон Бранкони (1751–1793) упоминается в письмах Гёте к Шарлотте фон Штейн как «прекрасная женщина».
(обратно)56
Перевод В. Левика.
(обратно)57
Самсон лишается волос. — В библии (Книга судей Израилевых, гл. 16) рассказывается, как судья Израиля Самсон, отличавшийся непомерной силой, секрет которой заключался в его волосах, полюбил Далилу и выдал ей свою тайну, она усыпила его и филистимлянин обрезал ему волосы, лишив его силы.
(обратно)58
Зейдель. — Филипп Фридрих Зейдель (1755–1820), слуга и секретарь Гёте с 1775 г.
(обратно)59
Мадам фон Кальб… эта Вертерн… театральная потаскушка Шретер. — Шарлотта фон Кальб (1761–1843) обладала талантом сближаться с выдающимися людьми, дружила с Шиллером, Жан Полем; Гёльдерлин воспитывал (по рекомендации Шиллера) ее детей (см. повесть Г. Вольфа «Бедный Гёльдерлин»). Вертерн — по-видимому, Эмилия Вертерн-Байхлинген (1757–1844): Гёте рассказывает предысторию ее второго замужества в письме Шарлотте фон Штейн 9—10 июля 1786 г. Корона Шрётер (1751–1802), певица и драматическая актриса.
(обратно)60
Эйнзидель. — Фридрих Хильдебранд фон Эйнзидель (1750–1828), писатель и переводчик, придворный советник в Веймаре.
(обратно)61
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)62
Перевод М. Гаспарова.
(обратно)63
Синклер, мой Синклер… — Исаак фон Синклер (1775–1815), юрист и поэт, еще во время учебы в Тюбингенском университете установил контакт с якобинским клубом в Майнце. Как и Форстер, он считал якобинскую диктатуру необходимым этапом Французской революции. В 1798–1799 гг. был государственным служащим в ландграфстве Гессен-Хомбург, в 1798–1799 гг. участвовал в работе Раштаттского конгресса (на конгрессе обсуждался вопрос о переходе левобережного Рейна к Франции), на заседания которого его иногда сопровождал Гёльдерлин. В Раштатте они познакомились с прогрессивным вюртембергским служащим Христианом Фридрихом Бацем. В 1805 г. против Синклера возбудили процесс о государственной измене, в котором фигурировало и имя Гёльдерлина, как ближайшего друга Синклера. Синклер до самой своей смерти, как мог, заботился о Гёльдерлине.
(обратно)64
Зигфрид Шмид (1774–1859), поэт и драматург, Гёльдерлин познакомился и подружился с ним осенью 1797 г. во Франкфурте, посвятил ему элегию «Штутгарт» и написал рецензию на одну из его пьес.
(обратно)65
Зекендорф выслан из страны. — Лео фон Зекендорф (1775–1809), поэт и издатель, Гёльдерлин познакомился с ним в 1792 г. в Тюбингене, Зекендорф разделял революционные настроения Синклера и Гёльдерлина. В 1798–1800 гг. Зекендорф жил в Веймаре, общался с Гёте, Шиллером и Виландом, издал несколько литературных альманахов. С 1801 г. он был вюртембергским служащим, в 1805 г. его объявили причастным к «делу Синклера» и выслали из Вюртемберга. В 1807–1808 гг. он издал два «Альманаха муз», где опубликовал ряд стихотворений Гёльдерлина и где впервые были опубликованы стихотворения Людвига Уланда (1787–1862) и Юстинуса Кернера (1786–1862).
(обратно)66
Курфюрст теперь коронован. — Фридрих II вступил на вюртембергский трон герцогом и всегда старался приумножить свои владения, присоединяя свою небольшую армию то к Австрии, то к Наполеону. При этом он постоянно вступал в конфликт с ландтагом (правительством сословных представителей, существовавшим в Вюртемберге с 1514 г. после Тюбингенского договора, по которому герцог не мог принимать важнейшие государственные решения без согласия ландтага). В 1802 г. Фридрих II заключил сепаратный мир с Францией и получил значительное вознаграждение за уступку Франции территории левобережного Рейна. В 1803 г. он был возведен в ранг курфюрста и провел ряд мероприятий по упрочению своей независимости от ландтага. Дальнейшее сближение с Наполеоном привело к тому, что после Аустерлицкого сражения (1805), где на стороне Наполеона была 10-тысячная вюртембергская армия, владения курфюрста Фридриха II значительно расширяются, с 1806 г. он получает королевский титул, упраздняет старовюртембергскую конституцию и распускает ландтаг.
(обратно)67
Я для них умер давно… — Цитата из стихотворения «Скиталец» (вторая редакция), см.: Гёльдерлин. Сочинения. М., 1969, с. 131.
(обратно)68
Бедный Гёльдерлин (франц., иск. нем.).
(обратно)69
Перевод С. Аверинцева.
(обратно)70
Курпринцу Вильгельму. — Вильгельм I вступил на престол лишь после смерти Фридриха II в 1816 г.
(обратно)71
Сочинителя эпиграмм Хауга. — Фридрих Хауг (1761–1829), товарищ Шиллера по Карлсшуле, был библиотекарем в Штутгарте, пользовался известностью как автор эпиграмм.
(обратно)72
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)73
В Вюрцбурге они навещают Шеллинга. — Гёльдерлин знал Шеллинга с детских лет: они вместе учились в латинской школе в Нюртингене, затем в университете в Тюбингене. Впоследствии они и переписывались и неоднократно встречались.
(обратно)74
Приличный, порядочный (франц.).
(обратно)75
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)76
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)77
Поэта Конца он знает… — Карл Филипп Конц (1762–1827), товарищ детских лет Шиллера, был в 1789–1791 гг. репетитором в монастырском училище при Тюбингенском университете, с 1804 г. — профессор классической литературы и красноречия. Как почитатель и знаток классической древности Конц оказал заметное влияние на молодого Гёльдерлина. Конц активно интересовался также швабской историей и ее отражением в народном творчестве и был одним из предшественников Тюбингенского романтического кружка (Л. Уланд, Ю. Кернер, Г. Шваб и др.).
(обратно)78
Ландауэр. — Христиан Ландауэр (1769–1845), прогрессивно настроенный штутгартский торговец сукном, в доме которого нередко встречались швабские поэты и художники. С ним связано несколько стихотворений Гёльдерлина.
(обратно)79
Люневильский мир. — Заключен в 1801 г. между Францией и Австрией после разгрома австрийских войск Наполеоном.
(обратно)80
Речь несвязна моя… — Цитата из элегии «Возвращение», см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 142.
(обратно)81
Скрытый трепет сердец может ли выразить речь? — Цитата из элегии «Возвращение», см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 143.
(обратно)82
Перевод А. Гугнина.
(обратно)83
Я должен отправиться в независимую жизнь… — В текст вкраплены цитаты из письма Бёлендорфу (4 декабря 1801 г.).
(обратно)84
Мощная стихия, небесный огонь… — Далее следует монтаж отдельных фраз из письма Бёлендорфу и отрывков стихотворения «Воспоминания».
(обратно)85
Писатель (франц.).
(обратно)86
В доме пустынно теперь… — Цитируется «Плач Менона о Диотиме», см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 126. Перевод В. Микушевича.
(обратно)87
Цитаты из романа «Гиперион» даны в переводе Е. Садовского.
(обратно)88
Да, сударь (франц.).
(обратно)89
Когда сквозь дали… — Цитируется стихотворение «Диотима из мира иного», см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 179. Перевод Н. Вольпин.
(обратно)90
Перевод Н. Вольпин.
(обратно)91
Есть на свете одно существо… — Цитируется отрывок из письма Нейферу (10 июня 1796 г.), речь идет о Сюзетте Гонтар, см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 484.
(обратно)92
Перевод Н. Вольпин.
(обратно)93
Улучшить мир — дело нешуточное… — Цитата из «Гипериона», См.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 311.
(обратно)94
Войска Журдана. — Жан-Батист Журдан (1762–1833) прошел путь от солдата до генерала (с 1793 г.) и маршала наполеоновской армии (с 1804 г.).
(обратно)95
Ограда, на которую она оперлась… — Цитата из «Гипериона», см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 331.
(обратно)96
Генерал Моро. — Жан-Виктор Моро (1763–1813) стал генералом во время революционных войн 1792–1794 гг., был одним из лучших полководцев Французской республики. Из-за разногласий с Наполеоном был арестован в 1804 г. и по суду выслан из Франции.
(обратно)97
Все пропало, Диотима. — Цитата из «Гипериона», см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 388.
(обратно)98
Перевод Н. Вольпин.
(обратно)99
Приезжает Нейфер. — Христиан Людвиг Нойфер (1769–1839), один из близких друзей Гёльдерлина, в 1786–1791 гг. учился в монастырском училище при Тюбингенском университете. Вместе с Рудольфом Магенау (1767–1846) входил в кружок поэтов вокруг Гёльдерлина, находившийся вначале под влиянием Клопштока, поэтов «Гёттингенской рощи» и молодого Шиллера.
(обратно)100
Перевод Н. Вольпин.
(обратно)101
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)102
Перевод Н. Вольпин.
(обратно)103
Милый Бёлендорф. — Казимир Ульрих Бёлендорф (1775–1825) учился в Иенском университете, где стал сторонником Фихте. В 1798 г., находясь в Швейцарии, пережил Гельветическую революцию, о которой в 1802 г. написал большое эссе. В 1799 г. встретился с Гёльдерлином в Хомбурге. В последующие годы много странствовал, так и не сумев найти ни твердого пристанища, ни службы, ни профессии (см. также предисл. наст. книги). Иоганнес Бобровский (1917–1965) написал в 1964 г. рассказ «Бёлендорф», сыгравший очень заметную роль в дальнейшем развитии исторической темы в литературе ГДР (см. подробнее в кн.: Leistner B. Johannes Bobrovski. Studien und Interpretationen. Berlin, 1981). Влияние этого рассказа Бобровского чувствуется и в публикуемой повести. Как поэт и драматург Бёлендорф успехом не пользовался.
(обратно)104
Перевод А. Дейча.
(обратно)105
Некто Меркель. — Гарлиб Хельвиг Меркель (1769–1850), писатель, критик и издатель, с 1803 г. вместе с А. фон Коцебу выпускал газету «Прямодушный».
(обратно)106
Перевод С. Аверинцева.
(обратно)107
Официальное название г. Елгава до 1917 г.
(обратно)108
Перевод А. Гугнина.
(обратно)109
Официальное название г. Тарту в 1224–1893 гг.
(обратно)110
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)111
Перевод А. Гугнина.
(обратно)112
Они встречают Хорна. — Фриц Хорн (1772–1844), юрист, в последний раз Гёльдерлин встречался и разговаривал с ним в октябре 1802 г. в Регенсбурге.
(обратно)113
Цитаты из «Антигоны» Софокла даны в переводе С. Шервинского и Н. Познякова.
(обратно)114
Юнг. — Франц Вильгельм Юнг (1757–1833), наставник Синклера, человек последовательно демократических убеждений. В 1798–1802 гг. был комиссаром французской полиции. В 1808 г. издал свой перевод «Песен Оссиана».
(обратно)115
Перевод В. Микушевича.
(обратно)116
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)117
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)118
Фридрих Эмерих (1773–1802 или 1803) — см. предисловие. По другой версии Эмерих умер от истощения.
(обратно)119
Архенхольц. — Иоганн Вильгельм фон Архенхольц (1743–1812), прусский офицер, историк и журналист. В 1792–1812 гг. издавал журнал «Минерва», в 1789–1798 гг. издал 20 томов «Анналов британской истории», где опубликованы в т. ч. работы Г. Форстера «История английской литературы в 1788–1791 гг.» и «История искусства в Англии».
(обратно)120
Каждый делает свое дело. — Здесь и далее снова вмонтировано несколько отрывков из «Гипериона», см.: Гёльдерлин. Сочинения, с. 424.
(обратно)121
Камералист. — В XVII–XVIII вв. под камералистикой понимали совокупность административных и хозяйственных знаний по ведению камерального (дворцового и в широком смысле государственного) хозяйства.
(обратно)122
Перевод С. Аверинцева.
(обратно)123
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)124
Марианна Кирмс (род. в 1772 г.), ее муж умер в 1793 г.
(обратно)125
Перевод Ф. И. Тютчева.
(обратно)126
Перевод В. Левика.
(обратно)127
Философские тетради Фихте. — Главный философский труд Фихте (1762–1814) «Наукоучение» опубликован в 1794 г.
(обратно)128
Герцог Карл Евгений (1728–1793) правил Вюртембергом (до 1806 г. сохранялось написание Виртемберг) в 1737–1793 гг. Как основатель Карлсшуле (где в 1772–1780 гг. учился Шиллер) Карл Евгений с ревностью и недоверием относился к Тюбингенскому университету.
(обратно)129
Все мы много согрешаем. — Цитата из библии: Послание Иакова, Гл. 3, 2.
(обратно)130
Перевод В. Левика.
(обратно)131
Эти слова принадлежат Штейдлину. — Готтхольд Фридрих Штойдлин (1758–1796), штутгартский адвокат с широкими литературными интересами и связями, издатель литературных альманахов, поощрявший молодых писателей. Гёльдерлин был знаком с ним с 1789 г. В «Альманахе муз на 1792 год» Штойдлин опубликовал «Тюбингенские гимны» Гёльдерлина, а также стихотворения поэтов из его окружения: Нойфер, Магенау, Карл Рейнхард, Карл Филипп Конц и Вильгельмина Майш. После смерти Шубарта в 1791 г. Штойдлин продолжал его революционную «Хронику», за что в 1793 г. был выслан из Вюртемберга (см. также предисловие).
(обратно)132
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)133
Перевод В. Левика.
(обратно)134
Перевод В. Левика.
(обратно)135
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)136
Перевод К. Богатырева.
(обратно)137
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)138
Перевод А. Гугнина.
(обратно)139
Перевод С. Аверинцева.
(обратно)140
Перевод В. Микушевича.
(обратно)141
Перевод Р. Минкус.
(обратно)142
Перевод С. Аверинцева.
(обратно)143
В соответствующей пропорции (франц.).
(обратно)144
Мурбек, родом из Померании. — Фридрих Мурбек (1775–1827) после окончания университета несколько лет путешествовал, в 1799 г. стал профессором философии в Грейфсвальде. В данном абзаце Г. Вольф вкрапляет цитаты из письма Гёльдерлина брату Карлу от 28 ноября 1798 г.
(обратно)145
Перевод В. Микушевича.
(обратно)146
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)147
Перевод В. Шора.
(обратно)148
Человек, всегда сохраняющий спокойствие (франц.).
(обратно)149
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)150
Перевод А. Гугнина.
(обратно)151
Перевод А. Гугнина.
(обратно)152
Перевод А. Гугнина.
(обратно)153
Перевод Г. Ратгауза.
(обратно)154
Доктор Ведекинд. — См. примеч. 31.
(обратно)155
«Благостна боль — быть человечества сердцем…» — Цитата из «Гипериона» Ф. Гёльдерлина (т. II, кн. 2, шестое письмо к Беллармину, см.: Hölderlin F. Sämiiche Werke und Briefe, Bd. IV Berlin, 1970, S. 258).
(обратно)156
Савиньи. — Фридрих Карл фон Савиньи (1779–1861), юрист, историк римского права, один из основоположников т. наз. исторической школы права. В 1803–1804 гг. был профессором университета в Марбурге.
(обратно)157
Софи Меро (1770–1806), немецкая писательница, в 1803 г. вышла замуж за известного поэта-романтика Клеменса Брентано (1778–1818) после развода в 1802 г. с мужем. Умерла при родах.
(обратно)158
У. Шекспир. «Гамлет», акт III, сц. I. Перевод М. Лозинского.
(обратно)159
Ну а рецензия в «Прямодушном»? — Журнал «Прямодушный» издавали с 1803 г. Меркель (см. примеч. 105) и Коцебу (см. примеч. 51). Клейст относился к обоим издателям резко отрицательно.
(обратно)160
«Луиза» Фосса. — Иоганн Генрих Фосс (1751–1826), известный поэт, критик, издатель и переводчик. Деревенская идиллия «Луиза» (1795) оказала заметное влияние на немецкую поэзию конца XVIII века (в т. ч. на «Германа и Доротею», Гёте, 1798).
(обратно)161
«Пусть весь Кавказский хребет, сам Атлас давит на Ваши плечи…» — Цитируется конец письма Кристофа Мартина Виланда (1733–1813) Г. Клейсту, написанного в июле 1803 г. (см.: Kleist H. von Werke und Briefe. Bd. IV, Berlin, 1978, S. 313).
(обратно)162
«Но красивейшие места Германии…» — Цитируется письмо Каролине фон Шлибен от 18 июля 1801 г. Второе из приведенных предложений Клейст дословно повторяет в письмах Вильгельмине фон Ценге (21 июля 1801 г.) и Адольфине фон Вердек (28 июля).
(обратно)163
Вот так (франц.).
(обратно)164
«Миг после преступления порою…» — Цитата из трагедии Клейста «Семейство Шроффенштейн» (действие четвертое, сцена первая).
(обратно)165
Гёте. Торквато Тассо, акт V, сц. 5. Перевод С. Соловьева.
(обратно)166
Гёте. Торквато Тассо, акт IV, сц. I. Перевод С. Соловьева.
(обратно)167
Совсем как Наполеон под Аккой. — Имеется в виду неудачная осада крепости Акр (Акка) с 17 марта по 21 мая 1799 г., снятая из-за эпидемии чумы и недостатка провианта — поворотный пункт в сирийском походе Наполеона.
(обратно)168
«Какая женщина в свою поверит силу». — Цитата из трагедии «Семейство Шроффенштейн» (действие второе, сцена вторая).
(обратно)169
Вчера читала «Дартулу» Оссиана. — «Дартула» (или «Дар-тула») — одна из 16 малых поэм, опубликованных шотландским литератором Джеймсом Макферсоном (1736–1796) в 1762 г. и якобы сочиненных древнекельтским поэтом Оссианом.
(обратно)170
Читает «Зибенкеза» Жан-Поля. — Роман «Зибенкез» Жан Поля (Иоганн Пауль Фридрих Рихтер, 1763–1825), был опубликован в 1797 г.
(обратно)171
«Идеи к философии истории человечества» Иоганна Готфрида Гердера (1744–1803) публиковались в 1784–1791 гг.
(обратно)172
Фридрих Крейцер (Кройцер, 1771–1858), гейдельбергский филолог и историк, предмет трагической любви Гюндероде.
(обратно)173
Аннета фон Дросте-Гюльсгоф (1797–1848), известная писательница, ее творчество развивалось в направлении к реализму.
(обратно)174
Жребий брошен (лат.).
(обратно)175
Пресвятая дева (лат.).
(обратно)176
Ахим фон Арним. — Людвиг Иоахим фон Арним (1781–1831), писатель-романтик, в 1805–1808 гг. вместе с К. Брентано издал сборник немецких народных песен «Волшебный рог мальчика».
(обратно)177
Попытка «дать прекрасным творениям почву…» — Заключенные в кавычки слова взяты К. Вольф из романа Томаса Манна «Доктор Фаустус» (последний монолог Адриана Леверкюна), см.: Манн Т. Собрание сочинений, т. 5, М., 1960, с. 644.
(обратно)178
Другу юности Гиппелю. — Теодор Готлиб фон Гиппель (род. в 1775 г.), племянник известного писателя (с тем же именем и фамилией), друг Гофмана с 1787 г., только в 1794–1806 гг. Гофман написал 150 писем Гиппелю, дающих богатейший материал для биографии писателя.
(обратно)179
Гельмина (Вильгельмина) фон Шези (1783–1856), немецкая писательница.
(обратно)180
Генерал фон Гнейзенау. — Август Вильгельм фон Гнейзенау (1760–1831), прусский генерал и фельдмаршал (с 1825 г.), один из организаторов антинаполеоновского движения в Германии.
(обратно)181
«Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах». Перевод Д. Каравкиной.
(обратно)182
Фридрих Людвиг Ян (1778–1852), один из патриотов антинаполеоновского движения в Германии, выступал за всеобщее вооружение народа, с 1815 г. подвергался преследованиям.
(обратно)183
Г. Гейне. Германия. Зимняя сказка. Перевод В. Левика.
(обратно)184
Дилетант Вальтер Харих. — По-видимому, имеется в виду исследование: Harich, Walter. E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines Künstlers. 2 Bd. Berlin, o.J.
(обратно)185
Здесь и далее все цитаты из сказки «Крошка Цахес» в переводе А. Морозова.
(обратно)186
Юлиус Гитциг. — Юлий Эдуард Гитциг (1780–1849), криминалист и писатель, написал биографии Гофмана (1823) и Шамиссо (1839).
(обратно)187
Кунц. — Карл Фридрих Кунц впоследствии выпустил книгу: «Из жизни двух писателей, Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана и Фридриха Готлоба Ветцеля» (Лейпциг, 1836).
(обратно)188
Гёте. Фауст. Перевод Б. Пастернака.
(обратно)189
У. Шекспир. Сон в летнюю ночь, акт V, сц. 2. Перевод Т. Щепкиной-Куперник.
(обратно)190
Муж, супруг (итал.).
(обратно)191
К. Маркс. Экономическо-философские рукописи 1844 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. Политиздат, 1956.
(обратно)192
Герой сказки Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок».
(обратно)193
А. Зегерс цитирует произведение Н. В. Гоголя с текстуальными отклонениями.
(обратно)194
Персонаж сказки Э. Т. А. Гофмана «Золотой горшок».
(обратно)195
Фридрих Вильгельм III — (1770–1840), прусский король с 1797 г. В 1807 г. передал Наполеону половину территории Пруссии (Тильзитский мир).
(обратно)196
Фридрих Вильгельм IV — (1795–1861), прусский король с 1840 г.
(обратно)197
Фридрих II — (1712–1786), прусский король с 1740 г. из династии Гогенцоллернов, в результате его завоевательной политики территория Пруссии почти удвоилась.
(обратно)198
Арно Шмидт — (1914–1979), известный писатель и эссеист ФРГ, имеется в виду написанная им биография «Фуке и несколько его современников» (1958).
(обратно)199
Фарнхаген фон Энзе — Карл Август Фарнхаген фон Энзе (1785–1858), литературный критик, публицист, автор ряда биографий.
(обратно)200
Бернхарди — Август Фердинанд Бернхарди (1769–1820), писатель и ученый. В переписке Гофмана упоминается «роман о художнике», отдельные главы которого написаны Фарнхагеном фон Энзе, Вильгельмом Нойманом, Фуке, Бернхарди и Шамиссо.
(обратно)201
Якоб Бёме (1575–1624) — немецкий философ-пантеист, сохранявший тесную связь с теологией. Ряд современных буржуазных философов проявляет особый интерес к мистической стороне его учения. Основное произведение Бёме «Аврора или утренняя заря в восхождении…» (1612) было осуждено как еретическое. Идеи Бёме оказали влияние на последующее развитие немецкой философии (Гаман, Гегель, Шеллинг и др.).
(обратно)202
«У него отваги хватит на сотню львов, а ума — на пару ослов» — цитируется по изданию: Гейне Г. Собрание сочинений в десяти тт., т. 6, М., 1958, с. 254.
(обратно)203
Грильпарцер — Франц Грильпарцер (1791–1872), австрийский писатель.
(обратно)204
Георг Брандес — (1842–1927), датский литературный критик, пользовавшийся европейской известностью.
(обратно)205
Шовинизм и демократизм Арндта и Яна — Эрнст Мориц Арндт (1769–1860), немецкий писатель, историк, общественный деятель, сочетавший в своем мировоззрении патриотически-националистические и демократические идеи. В 1820 г. был снят с должности профессора и привлечен к судебной ответственности, в 1848 г. избран депутатом Франкфуртского национального собрания. Ян — см. примеч. 182.
(обратно)206
Слова Гейне: «Г-н Фуке…» — Гейне Г. Собр. соч., т. 6 с. 252.
(обратно)207
…различию между Купером и Карлом Маем — Джеймс Фенимор Купер (1789–1851), знаменитый американский писатель, классик мировой детской литературы.
Карл Май (1842–1912), автор популярных приключенческих романов, большинство из которых малозначительны по своим идейным и художественным достоинствам. Один из немецких писателей, чьи произведения были особенно популярны в годы нацизма.
(обратно)208
«Но что за чудесная поэма эта „Ундина“!..» — Г. де Бройн цитирует Г. Гейне. Гейне Г. Собр. соч., т. 6 с. 252.
(обратно)209
Вильгельм Гауф (1802–1827), известный немецкий писатель-романтик. «Сообщения из мемуаров Сатаны» были опубликованы в 1826–1827 гг.
(обратно)210
…отцу поэта и критика Вильгельма Шютца — Вильгельм фон Шютц (1776–1847), один из немецких романтиков, в юности был связан с кружком иенских романтиков.
(обратно)211
«Жизнеописание Карла Великого» — сочинение на латинском языке франкского историка и писателя Эйнхарда (770–840).
(обратно)212
«Четыре книги истории» — сочинение на латинском языке франкского историка Нитхарда (ум. в 844 г.), внука Карла Великого.
(обратно)213
См. подробнее: Фрадкин И. М. Историческая тема в современной немецкой литературе. В кн.: Литература Германской Демократической Республики. М., 1958, с. 130–193.
(обратно)214
См. подробнее в кн.: Herring H. Geschichte für die Gegenwart. Histirische Belletristikcin der Literatur der DDR. Berlin, Deitz-Verlag, 1979; Resso M. Immer mal wieder: Poesie und Geschichte. Bemerkungen zur histirischen Belletristik in der sozialistischen Gegrnwartsliteratur. In: Ansichten. Aufsätze zur Literatur der DDR. Halle (Saale), Mitteldeutscher Verlag, 1976, S. 198–261.
(обратно)215
См. весьма содержательное исследование Бернда Лейстнера о жизни Гёте в современной литературе ГДР: Leisiner B. Unruhe um einen Klassiker. Zum Goethe-Bezug in der neueren DDR-Literatur. Halle-Leipzig, Mitteldeutscher Verlsg, 1978.
(обратно)216
Karolina von Günderrode. Der Schatten eines Traumes. Gedichte. Prosa. Briefe. Zeugnisse von Zeitgenossen. Hrsg. und mit einem Essay von CHrista Wolf. Berlin, Buchverlag Der Morgen, 1981.
(обратно)217
Bettina von Arnim. Die Günderode. Mit einem Essay von Christa Wolf. Leipzig, Insel-Verlag, 1981.
(обратно)218
Ritter und Geister. Romantische Erzählungen von Friedrich de la Motte Fougué. Hrsg. und mit einem Nachwort von Günter de Bruyn. Berlin, Buchverlag Der Morgen, 1980.
(обратно)219
Christoph Friedrich Nicolai. Vertraute Briefe von Adelheid B. an ihre Freundin Julie S. Ein Roman. Freunden des jungen Werthers. Eine Parodie. Hrsg. und mit einem Nachwort von Günder de Bruyn. Berlin, Buchverlag Der Morgen, 1982.
(обратно)





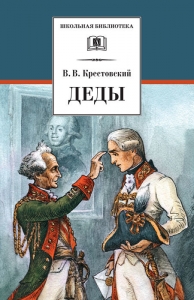

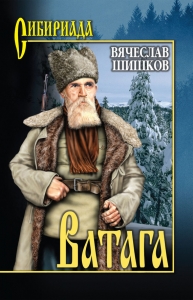
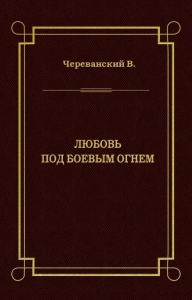
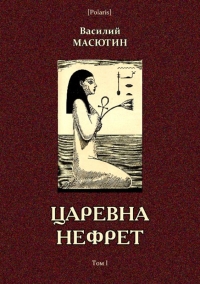
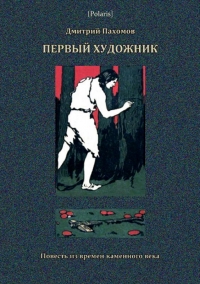
Комментарии к книге «Встреча. Повести и эссе», Эрик Нойч
Всего 0 комментариев