Георгий Гулиа ВИКИНГ
Когда плывешь из Бергена в сторону Олесунна, на тебя непрестанно и пристально смотрят грозные скалы и вырастающие за ними суровые горы. Каменные монолиты скал кажутся темными в зимнюю пору, весной и осенью — серыми, а летом они покрыты зеленью.
Это — по правую руку.
А по левую — сплошная вода. Где ее конец? И есть ли за этой — то молчаливой, то невообразимо ревущей — стихией какая-нибудь суша, какие-нибудь острова или материки? Живут ли на тех островах или материках какие-либо существа? И что за существа?
Кто из обитателей этих скал, что по правую руку, и спрятанных от глаз глубоких фиордов мог ответить на эти вопросы тысячу с лишним лет назад? Что знали обо всем этом первые, самые первые викинги? Те самые викинги, которые, презирая (или понуждаемые презирать) опасность, попытались выйти в далекое море и плыть на запад. Наверное, понимали они, что, может быть, никогда не увидят эти пусть суровые, но родные скалы и самых близких людей: отца и мать, брата или сестру, а может — жену, детей или невесту. Ведь они были такими же людьми, как мы с вами, им тоже бывало больно и смешно, весело и грустно. Они тоже любили, им тоже было жаль близких и землю свою, какою бы неказистою ни была она. Еще задолго до первых плаваний викингов на далеком юге Европейского континента Сенека писал: «…ведь любят родину не за то, что она велика, а за то, что она родина». Можем ли отказать тем, кто уплывал от своих скал за море, в любви к своей, пусть мрачной, земле? Ведь она была их родина!
Какие же чувства владели теми, которые пускались в далекое плавание? Решимость плыть и плыть? Отсутствие страха? Океан был неведом и полон таинственности. Может, нечто схожее испытают и те наши потомки, которые первыми полетят к далеким планетам, чтобы навсегда обосноваться там. Во всяком случае, неизведанное во все времена было неизведанным, и проторенной тропы в нем не бывало и не будет. Это совсем, совсем не просто, а для души и сердца — почти невыносимо.
И тем не менее они уплывали…
Весною, покидая тихие, сказочно прекрасные в своем суровом величии фиорды, викинги прощались со всем привычным. Может, они были слишком любознательными? Или очень жаждали приключений? Уйти, чтобы, может быть, не вернуться? Из любви к романтике?
Наверное, была какая-то важная, очень сильная побудительная причина, толкавшая на приключения. Не без этого! О такой причине мне говорил в Осло известный исследователь первых поселений викингов в Северной Америке Хельге Ингстад. Его размышления по этому поводу получили точное выражение в одной фразе его известной книги. Вот она, эта фраза: «Их не только влекла тяга к новому, не только манили приключения, у них было и ясно осознанное стремление найти добрый край…»
Я думал над этой фразой, плывя мимо норвежских берегов к прекрасному городку Олесунн, который мне кажется воистину северной Венецией. И думал еще над мудрой пословицей: «От добра добра не ищут».
Когда я ступил на землю викингов, когда увидел причудливые ущелья фиордов, как бы наполненные звуками григовской музыки, и клочки плодородных участков посреди первозданных каменных исполинов, когда немного позже я узнал, что значит норвежская зима в этих местах и как бывает оторван человек от себе подобных, как далеко оказывается он даже от соседа, по существу будучи отделенным от него лишь ближайшей горой, мне показалось, что начинаю разбираться в душевной весенней сумятице тех сильных и отважных людей. (Я имею в виду тех викингов, к которым еще не прилипла позднейшая кличка «разбойники».) Именно с наступлением весны они приводили в исполнение свои планы, родившиеся у длинных очагов в зимние дни и вечера…
Жизнь викингов была полна приключений на больших просторах суши и моря. Бывая в различных странах, я пытался увидеть какие-нибудь следы их, чтобы лучше понять, что же это были за люди. Ведь любопытно, например, что осталось от эпохи викингов в Швеции и Дании, Финляндии и Иране, Египте и Тунисе, во Франции и Англии, в Болгарии и Ливане… Не упускал я из виду викингов и в Эстонии, на Нижней Волге и Каспии, на днепровских берегах и в Новгороде…
В музеях Норвегии и Дании находятся образцы оружия и бытовых вещей древних обитателей этих стран и их ближайших потомков — викингов. Здесь можно увидеть почти всё — от простых игл и санок до луков и стрел и различных мечей. И конечно же самую чудесную достопримечательность — настоящие корабли викингов! Они стали доступны благодаря археологическим находкам. Но если бы сами викинги не упрятали их надежно вместе со своими королями-конунгами в огромных могилах-курганах, то археологам нечего было бы и откапывать.
Корабли викингов — некоторые очень хорошей сохранности — выставлены в огромных футлярах-музеях. И тебя невольно охватывает особенное чувство оттого, что можешь постоять совсем рядышком с бортом тысячелетнего возраста, испытавшим силу океанских волн. И нельзя не восхищаться работой корабельных мастеров, умевших сочетать прекрасную форму судна с его поразительной остойчивостью.
Очень хороши экспонаты и в музеях Стокгольма и Хельсинки. А близ финской столицы я видел несколько курганов эпохи викингов, которых пока еще не касалась лопата археолога. Какую же тайну они всё еще хранят?
А что говорить о знаменитых сагах, посвященных далеким, далеким временам, в частности, о сагах Снорри Стурлусона? Это несомненно правдивые рассказы о повседневном житье-бытье и битвах викингов. Музейные экспонаты служат бесценной вещественной иллюстрацией к этим сагам…
Может быть, эта непритязательная история из жизни Кари, сына Гуннара, сына Торкеля, сына Гутторма, и Гудрид, дочери Скегги, ответит на некоторые вопросы, возникающие, когда уходишь мыслями к восьмому веку и представляешь себя живущим на хуторе где-нибудь в древнем Раумсдале или Согне.
Часть первая
I
Он велел подбросить дров в огонь. Вскоре заиграло высокое пламя. Если долго смотреть на пламя, а потом осмотреться вокруг, то кажется, что темень повсюду: не видно углов большой комнаты, не видно черного потолка, и пола не видно. Идолов — этих резных столбов — тоже не видно.
Над очагом висел котел, и в нем кипела вода. Женщины черпали из него кипяток и уносили в соседнюю комнату. Суета в доме стояла немалая.
Гуннар, сын Торкеля, сына Гутторма, сидел у очага на низкой скамье и, подперев подбородок обоими кулаками, неотрывно глядел на рыжее пламя. Казалось, мысли его были далеко отсюда. Но это не так: просто он был сильным человеком и ждал спокойно, что будет.
На дворе бушевала пурга. Январь, разумеется, не лучший месяц в году. Но таким сотворили его боги. И с этим ничего не поделаешь. Сорок зим прожил Гуннар, сын Торкеля, из них хорошо помнит тридцать пять: все тридцать пять январей были студеными, хоть они здесь и мягче, чем в других местах. В январе всегда с особенной силой воют ветры, и оттого на душе делается очень холодно, темень свивает гнездо в самом сердце.
За спиною Гуннара — дверь, ведущая в каморку, где спят четверо детей: три девочки и мальчик. А впереди, если чуть скосить глаза направо, дверь в комнату, где сейчас рожает жена. Ей оказывает помощь повивальная бабка с соседнего хутора — большая мастерица по части изготовления всяческих целебных зелий. Она молча наливает кипяток в небольшой таз и так же молча, не обронив ни единого слова, уходит в соседнюю комнату. Она молчит, и Гуннар, сын Торкеля, молчит. Молчать и думать — в привычке у местных жителей.
А ветер поет грустную песню. Он сочиняет, как мудрый скальд. Непонятная песня, но она под стать январской стуже. Порой даже кажется, что есть у песни слова, которые различимы и которые доносятся сверху, из отверстия в кровле, куда положено вылетать дыму наружу. А нынче дым, как видно, от той унылой скальдической песни сгустился и ест нещадно глаза.
Когда повивальная бабка снова появилась, чтобы зачерпнуть кипятку, Гуннар сказал:
— Женщина, что же происходит там? — Он кивнул на дверь.
Она ответила в том смысле, что за дверью происходит то, что и полагается после девяти месяцев беременности, если женщина здорова и плод ее здоров.
Гуннару эти ее слова показались чуточку насмешливыми, но ему было не до смеха: пятый ребенок — не первенец, и совсем неизвестно, что принесет с собой: радость или горе?..
— Она разрешилась? — спросил он.
— Да.
Он вздохнул. Сказал:
— Я не слышу писка.
— Услышишь, Гуннар. Крик не минует твоих ушей.
Он спросил:
— Девочка?
Гуннару почему-то казалось, что должна родиться именно девочка. Он видел прошлой ночью сон: явился дед Гутторм. Он был в доспехах из бычьей кожи, в руках держал меч. Явился он не в дом, а на болото, что за Беличьей Поляной. Гуннар хотел было принять меч из рук деда, но тот покачал головой и грозно сверкнул очами: ведь он и при жизни был берсерком, то есть бешеным воином. Меч он вложил в ножны и снова покачал головой. И снова сверкнул очами. Затем нагнулся — с трудом, словно у него болела поясница, как это часто бывало при жизни, — и сорвал алый цветок, и подал его Гуннару…
На этом самом месте сон прервался. Гуннар открыл глаза и увидел над собой черные от копоти потолочные балки. Он спросил себя: «Что бы это значило?» Сон озадачил его. Рассказал сон своему старшему брату, который жил поблизости. Звали брата Сэмунд. И он сказал так:
— У тебя родится дочь. Цветок — это знак ясный и точный. Значит — четвертая дочь.
— Разве? — спросил удрученный Гуннар. — Я был бы рад, если бы вообще никто не появился на свет.
— Так не бывает, — сказал ему брат.
— Ты меня не утешаешь…
— К чему утешение? Разве ты женщина?
— Нет, — сказал Гуннар и сделался мрачнее тучи, беременной дождем и градом, — но и мужчина порой нуждается в добром слове.
Сэмунд рассмеялся:
— Не знал, брат, что ты такой неженка. Можно подумать, что ты никогда не бился с врагом, не знал горя или бедности.
— Скажу по правде, брат: знал я горе, хлебал его немало, а бедность — моя всегдашняя сестра. Кажется, она и тебе немного знакома.
— Еще бы! — На бледном челе Сэмунда вспыхнул болезненный румянец. Это у него была некая болезнь, которая душила его по ночам, а иногда и днем, если немного поволнуется. — Мы с тобой, Гуннар, родились на этот свет, чтобы сполна испить огромную чашу лиха. Но не тужи…
Брат стал задыхаться, и Гуннар ударил его ладонью меж лопаток, как если бы тот поперхнулся костью…
Сейчас, сидя у очага, Гуннар все время думал о сне, привидевшемся ему прошлой ночью. (Позже Сэмунд умер на берегу, у самой воды, и о нем больше ничего не будет сказано в этой саге.)
II
Гуннар встал со своего места у очага и подошел к повивальной бабке.
— Асгерд, — сказал он глухо, — не мучь меня: что там у вас?
Асгерд улыбнулась. Это с нею случалось редко, потому что была она немного странной, словно бы не жила меж людей, а скорее среди зверей. Правда, ведьмой ее не обзывали, но побаивались ее глаз изрядно. Не худо было время от времени задабривать Асгерд по прозвищу Старая Карга.
— Потерпи немного, — сказала она, шепелявя. — И подбрось-ка дров в очаг, чтобы сделалось светлей.
Она скрылась за дверью — крепкой, дубовой. И, пока дверь была открыта, Гуннар явственно услышал крик. И он сообразил, что это дает знать о себе ребенок — новое живое существо на берегу этого фиорда, названного Каменным, потому что, кроме камня, ничего путного не было на его берегах.
Гуннар поступил так, как велела Асгерд, и пламя в очаге взметнулось высоко-высоко. Оно осветило просторную комнату, в которой собиралась обычно вся семья.
Вскоре вышла Старая Карга, и с нею еще две родственницы Гуннара и его жены — обе в летах и опытные в повивальном деле.
Асгерд держала в руках дитя — этакое красноватое существо со сжатыми кулаками, оравшее во всю глотку.
Гуннар стоял посреди комнаты, а женщины торжественно несли дитя.
«Его придется поить-кормить», — подумал Гуннар и начал прикидывать в уме, достанет ли у него сил и хватит ли урожая, будет ли рожать тощая земля необходимые злаки для разросшейся семьи. Жена его была женщина сильная, здоровая и могла наплодить много, много детей.
— Мальчик, — сказала Асгерд и указала глазами на безошибочный знак мужского пола. Она протянула дитя отцу согласно обычаю.
Гуннар медлил принимать… Размышлял…
Если отец повернется спиною к ребенку, если не возьмет его на руки, значит, малышу — погибель. В этом случае Гуннар выкопает в лесу могилку и уложит туда живого ребенка. Нет, он не засыплет его землей. Смерть сюда придет сама собою.
«Не возьмет», — решила Асгерд. Две другие женщины подумали точно так же. Одна из них пошла было сообщить роженице.
«Не возьмет», — думала Старая Карга.
Гуннар был словно каменный. А мальчик ревел, словно требовал решения скорого и справедливого. Решения человека, у которого всего две руки да соха, да клочок тощей земли.
Гуннар все думал. И та женщина, что направилась было к роженице, укрепилась во мнении, что Гуннар не примет ребенка. Она приблизилась к двери и на всякий случай оглянулась. Оглянулась в то самое мгновение, когда взялась за ручку тяжелой дубовой двери.
— Назад! — крикнула ей Асгерд Старая Карга и показала ей свои пустые руки.
Окропив дитя водою, Гуннар осторожно взял его к себе. Словно осознав свою судьбу, мальчонка успокоился в больших крепких отцовских руках.
Его назвали Кари. И к началу дальнейшего нашего рассказа исполнилось ему двадцать зим. И был он статен, высок ростом, в плечах чуточку узковат. Кари был единственным сыном в семье — старший брат его по имени Кольбейн утонул в фиорде, и остались у Кари одни сестры.
III
Теперь о Гудрид, дочери Скегги и Бергторы.
Ей минуло пятнадцать зим, когда ее впервые увидел Кари. Это было на другом берегу фиорда, недалеко от хутора Зеленая Низина. Сказать по правде, красавицей ее никто не считал. Но была в ней — в осанке, во взгляде серых большущих глаз, в ее тонкой и высокой шее, крепких икрах и маленьких ножках — некая дьявольская сила, которая привораживала молодых людей. (Впрочем, не только молодых, но и тех, кому перевалило за тридцать зим.) И одевалась она чудно, не так, как все девушки этого фиорда. Бабушка ее была великой мастерицей ткать и окрашивать ткани в удивительные цвета. Для крашения она выискивала такие травы и такие глины, о которых мало кто знал. Кузнец, добывающий железо из болотной тины, меньше вкладывал умения и хитрости в свое дело, чем бабушка Гудрид при крашении тканей для своей любимой внучки.
Гудрид всегда глядела прямо перед собой. При встрече не опускала глаз, подобно некоторым своим сверстницам. И взгляд ее был светел, как родник, голубеющий в дикой каменной чаше.
А появление ее на свет, вернее, первые минуты ее на этом свете отличались от тех, которые пришлись на долю Кари. Об этом можно судить по рассказу бабушки Гудрид, который приводится здесь дословно.
— Мучилась мать ее день, мучилась ночь, а разродиться не могла. То ли таз у нее был мал, то ли плод слишком велик. Что делать? Такова женская доля от сотворения мира… Скегги, и брат его по имени Флоси, и сосед Гицур, сын Ульва, сидели у очага в ожидании доброй вести: ведь должен же появиться первенец!.. Скегги томился ожиданием и попивал брагу, чтобы заглушить в себе тревогу… И брат его Флоси, и сосед Гицур, сын Ульва, тоже пили брагу заодно с ним. Вот как было!.. Когда же наутро после тяжкой ночи явилась на свет девочка, ее по обычаю поднесли к отцу. А пока несли девочку на руках, от двери до середины комнаты — Скегги улыбался, поджидая дитя. И принял на руки маленькую Гудрид. Так было! И радовался он первенцу своему, потому что ждал его. И выбрал имя сам, ни с кем не советуясь. И снова отнесли малютку к матери с превеликой вестью, что отец благосклонен к девочке и она будет жить!
Бабушка широко улыбнулась своим воспоминаниям и продолжала:
— Потом Скегги веселился. Вышел во двор, чтобы немножко остудить голову после бессонной ночи. И с ним были другие мужчины. Все они пили брагу, а Скегги говорил: «Вот теперь я настоящий человек, потому что есть у меня потомство! Дочь будет в мать — такой же красавицей, а ежели в меня, то и тогда не станет она хуже от этого. Не так ли?» Мужчины поддакивали ему, и было у них большое веселье. Скегги поклялся, что будут у него и сыновья, что он вырастит их, если даруют боги воду и пищу, и некоторый достаток. Вот что говорил Скегги! А брат Флоси сказал ему так: «Больно ты, брат мой, размечтался. Давно ли у тебя амбар наполнен хлебом? Ты разве не голодал? Не холодал? Учти: на свете есть такая плохая штучка — недород». — «Нет, — возражал Скегги, — что было, то больше не повторится». Сосед сказал ему: «Скегги, не забывай тех, которые живут в глубине фиорда». А жили в глубине фиорда братья-головорезы из рода Лютинга. Это были бешеные волки-берсерки. Не так улыбнись им, не так скажи слово — живо проткнут грудь или голову расколют, как полено. И как полено — топором! Такими уж они были… Обо всем переговорили Скегги, брат его и соседи. С трудом успокоились. Далеко за полдень. Скегги пошел спать, велев еще раз показать ему крошечную Гудрид. Отец смотрел на нее с нежной улыбкой. Я об этом сказала своей дочери, и она чуть не плакала от радости.
Таков был рассказ бабушки маленькой Гудрид, дочери Скегги. Об этой старухе дальше не будет речи.
IV
Если смотреть на горы, почти всегда покрытые снегом, и плыть в глубь фиорда, то по правую руку будет усадьба родителей Гудрид, а еще выше, но по левую руку, жил некий скальд по имени Тейт, сын Скарпхедина. Ему исполнилось пятьдесят зим. Бороду носил длинную, и волосы были густые-густые, чуть потемнее бороды. Из-под лохматых бровей глядели два острых как шило глаза. Казалось, попадись им на пути — и они пронзят тебя насквозь.
Скальд жил один. Мало кто знал о нем что-либо достоверное. А сам он не любил болтать. Кажется, Тейт жил бобылем всю жизнь. Любил ли он кого-нибудь из женщин? Этого не знал никто. Где его родители, откуда берет начало его род? И этого никто не знал.
Пищу добывал сам — рыбу всякую или дичь. Ягодами питался. А хлеба не сеял. И коров не держал, как и прочую скотину. Дом, который поставил в двух шагах от воды, содержал в чистоте, вовремя менял кровлю или подгнивший столб. У него была одна комната — порядочная, довольно просторная — и две каморки. В одной из них была постель, грубая, как в шалаше в горах у охотников.
Тейт был большой мастак по части добывания самородного железа из болота и делания из него всякой всячины. Занятие это было не из легких, и требовалось нечто серьезное, чтобы подвигнуть Тейта на добывание железа или ковку его. Впрочем, все кузнечные приспособления всегда находились у него в должном порядке и полной сохранности.
Тейт знал многое и видел далеко. Сквозь воду, сквозь камни и дерево видел. На это у него был ум соответствующий, были знания и великая тайная сила в сердце.
О нем еще будет многое сказано в этой саге.
V
Может, сам великий О́дин, восседающий на небе, подслушал давний разговор во дворе Скегги. Ибо рассудил так: пусть старший сын Лютинга, сына Эйвинда, по имени Ульв на переправе через ручей, что втекает с востока в фиорд, повстречает Фроди.
Ульв ехал на лошади то ли с охоты, то ли на охоту. Это теперь уже не столь важно, ибо то, что последовало за этим, имеет большее значение для повествования.
Это был молодой человек во цвете лет и сил, красивый лицом и телом. Был у него лишь один недостаток: немного заикался. Но заикание это даже шло ему, придавая его речи некий младенческий оттенок — непосредственность и добродушие, что ли. На самом деле ничего похожего на добродушие в нем не было и в помине. Ульв был свиреп, точно голодный волк в поисках пищи.
Фроди на ту пору ловил форелей на быстрых и мелких перекатах ручья, который так и назывался — Форелевым.
С виду этот самый Фроди был некрасивым. Его сутуловатость наводила на мысль о том, что какая-то болезнь подтачивает его изнутри. Но так могло показаться только с первого взгляда. Присмотревшись к нему, понаблюдав за тем, как он бил крупных форелей, опытный человек сказал бы: «Упаси меня, великий Один, от нечаянной встречи с ним в темном бору!..»
Подъехав к переправе, Ульв увидел этого самого Фроди. И посудину со свежей рыбой увидел. Он сказал:
— Здравствуй!
Фроди ответил тем же. Ульв сидел на лошади и смотрел сверху вниз. Долго и молча смотрел. Это пришлось не по нраву рыболову. К слову, они были одногодки, на пороге двадцать первой зимы.
— Что это ты уставился на меня?
Ульв промолчал.
— Глухой? — спросил Фроди.
— Да, глухой, — сказал Ульв. — Причем настолько, что хочется оказаться поближе, чтобы получше услышать твои слова.
— Что же, я жду, подойди поближе.
Ульв сказал:
— Ты не совсем правильно понял. Ульв, сын Лютинга, сына знаменитого Эйвинда, желает, чтобы ты сам подошел к нему.
Нельзя сказать, что это разговаривали между собою дети. И тем не менее странно было слушать задиристые речи человеку воспитанному и степенному. Потому что речи эти скорее были детские…
— Может, тебе хочется помериться со мною силой? — спросил Ульв.
— Ты наконец угадал.
Глаза Ульва стали красными от ярости. И это понятно: он был сыном берсерка и сам был берсерк.
— Как же мы будем биться? И когда?
Фроди сказал, что это все равно, что это не имеет для него никакого значения.
— На конях или пешими?
— Тоже все равно.
Ульв задумался. Пока он сидел в раздумье, этот Фроди бил себе форелей, подвернувшихся под руку. Делал он это очень ловко.
Ульв зарычал:
— А знаешь ли ты, Фроди, на чьей земле рыбу ловишь?
— Знаю.
— И что же ты скажешь?
— Скажу, что слишком ты молод, чтобы судить, где чья земля.
— И это все?
— Все.
Фроди казался спокойным, и это еще больше злило Ульва.
— Эй, — сказал Ульв, — приходи сюда завтра в это же самое время. Прихвати меч и копье. Посмотрим, повезет ли тебе так же, как в рыбной ловле.
Фроди молча кивнул и продолжал свое дело.
Ульв тронул лошадь, та ступила в поток и обдала брызгами рыболова. Разумеется, это было оскорбление, и Фроди поклялся проучить Ульва.
VI
Фроди явился домой с хорошей добычей. Уже стемнело, когда поставил ношу у входа. Братья сказали, что дело не столько в счастливом случае, сколько в умении Фроди и его опытности.
И женщины осмотрели прекрасную форель и принялись потрошить ее. Огонь разгорелся ярко, и вскоре запахло ароматной жареной форелью.
Мужчины сели по одну сторону, а женщины напротив — их было видно сквозь пламя. Ужин получился на славу. Тому немало способствовали и брага, и чудесная родниковая вода на женской половине трапезы.
Когда вечеря подходила к концу, Фроди сказал словно бы невзначай:
— Этот Ульв обвинил меня в беззаконии.
Мужчины насторожились. Отец перестал есть, бросил недоеденный кусок рыбы в огонь.
— Какой Ульв? — спросил он глухо.
— Сын Лютинга.
— Узнаю сына головореза. — Отец ухмыльнулся. Однако глубокая борозда пролегла между глаз — вверх от переносицы.
Его сыновья насторожились.
— Он сказал, — продолжал Фроди, как бы кидая слова в яркое пламя очага, — что я, дескать, ловлю форель на их участке.
— Ну, а ты — что?
— Я сказал что-то вроде того, что не понимаю, о чем он это.
— Хорошо.
— Он приказал мне подойти к нему. Он сидел на лошади.
— Как это — приказал! — воскликнули братья Фроди. А один из них — Эгиль — в сердцах хлопнул себя ладонью по колену.
— Очень просто. Приказал, не спускаясь с лошади. И эдак надменно.
— Что же — ты?
— Ничего. Условились завтра биться на переправе.
— Это ты решил верно, сын, — сказал отец.
Братья подтвердили: верно! Иного и не могло быть. Дескать, уж слишком зазнались эти Лютинговы волчата, не к сроку созревшие. Ладно, пусть сунутся. Посмотрим, кому будет хуже, и где чей участок — тоже увидим!
Мужчины принялись обсуждать предстоящий поединок. Был у отца меч — тяжелый, разящий врага нещадно. И копье было длинное, не менее восьми локтей и с железным, тяжелым наконечником, с острым, как гвоздь. Он пронзал врага так, словно втыкался в свежезамешенную глину. И секира имелась отменная; ею можно было даже бриться или одним махом разрубить врага. Тот и ахнуть не успевал. Все три оружия — меч, копье и секира — должны быть при Фроди. На месте противники уговорятся — чем биться.
Далее надо было решить, кто из братьев пойдет с Фроди, чтобы свидетельствовать и в случае нужды вмешаться в дело, если эти бессовестные отпрыски Лютинга нарушат правила боя и вмешаются на стороне Ульва.
— Утро покажет, — сказал спокойно Фроди.
Глядя на него, отец был уверен, что сын одолеет, не посрамит своего рода.
VII
Ульв привязал коня к коновязи как раз в то время, когда братья его боролись на траве. Им некуда было силу свою девать — вот и растрачивали ее в борьбе меж собою, если не оказывалось никого другого.
— Это хорошо, — сказал Ульв, — свой своего не удушит. Однако было бы куда лучше, если бы за хозяйством смотрели, а то последнюю рыбу в реке выловят и последнее дерево в лесу уворуют.
Братья мигом перестали бороться и, тяжело дыша, уставились на Ульва.
— Что это значит? — спросили они.
И Ульв рассказал все как было: как ловил рыбу этот наглец Фроди. И как дерзко вел он себя.
— Как?! Он тебя ругал?!
— Хуже! Он даже не перестал бить форель, хотя я стоял у него, можно сказать, над головой.
Это сообщение потрясло семейство Лютинга. У самого главы семьи, когда он это услышал, глаза сверкнули недобрым светом.
— Я давно замечал за этим стариком замашки, которыми он наградил свое потомство. Сопляка Фроди необходимо проучить, а заодно и его братьев, если вмешаются.
В семье Лютинга тоже нашлось оружие отменное. Не было недостатка ни в секирах, ни в копьях, ни в мечах. Но что выбрать? Какое из них сподручнее Ульву?
Ульв достал свое копье, взял его в руки и всадил в толстую дубовую стену. И дом задрожал. С трудом он вытащил копье из дерева.
— Молодец, — похвалил Лютинг сына.
Ульв молча взял меч и взмахнул им — и рассек воздух со свистом. Это была молния в руках Ульва, а не меч.
— Молодец, — снова похвалил Лютинг.
Потом братья подали Ульву секиру. Ульв одним взмахом рассек еловый ствол.
— Молодец! — в третий раз похвалил Лютинг. Он велел накормить и напоить коня, почистить ему бока и круп и холодной водой полить ноги.
Ульв сказал сердито:
— Я покажу этому Фроди, как ловить форель!
Эти слова пришлись по сердцу всей семье. И женщины стали хлопотать, чтобы подкрепить Ульва сытным ужином. И Ульва, и всех домочадцев во главе с Лютингом.
VIII
Некий рыбак с севера гостил у Гуннара. Он рассказал у очага об удивительном происшествии на море. Вот его слова:
— Если плыть на север, к ледяной кромке, а потом на запад, можно встретить множество живых островов. Они колеблются, к ним можно подплыть и даже спуститься на них. Но берегись! Остров может опуститься, и тогда ты окунешься в воду. Никаких растений не бывает на тех островках, даже трава — и та не растет!
Гуннар, Кари и все домочадцы с удивлением слушали рассказы рыбака.
IX
Кари дружил со скальдом Тейтом, сыном Скарпхедина. Любой может спросить: в чем же был корень подобной дружбы — человека молодого и человека, уже пребывающего в немалых летах?
Впервые Тейт узнал, что существует на свете некий Кари, сын Гуннара, десять зим назад. Именно тогда скальд Тейт вытащил из ледяной воды мальчика, упавшего с дерева и затем без сознания скатившегося с крутого берега в фиорд. Если бы Тейта не было поблизости, если бы не услышал он всплеска воды и не обратил на это внимания — никакого Кари двадцати зим от роду не было бы на этом свете.
Кари тогда не сразу пришел в себя, Тейту пришлось изрядно повозиться, чтобы вернуть к жизни несчастного мальчика. Все это происходило на диком мшистом берегу. Тейту пришлось пустить в ход все свое умение, применить все свои познания, чтобы снова забилось сердце мальчика и снова порозовели его щеки.
Потом он отнес Кари к себе в избушку. Напоил его неким зельем, и Кари обрел наконец дар речи.
— Кто ты? — спросил Тейт.
— Где я? — спросил мальчик, не будучи в состоянии припомнить, что случилось с ним час тому назад.
— У меня, — ответствовал Тейт. — Ты упал с дерева, а потом очутился в воде. Наверное, ты большой шалун.
— Нет, — сказал Кари, — не шалун. Но я вправду забрался на дерево. И полетел вниз. Когда обломилась ветка.
Ему было немного страшновато наедине с бородатым мужчиной, похожим на странного дедушку из какой-то сказки, коих немало сказывалось в доме Кари.
— Я сын Гуннара, — объяснил он, дотрагиваясь рукой до лба, сильно пораненного при падении на камни.
— Гуннара, сына Торкеля?
— Да, Торкель был моим дедушкой.
— Хочешь, я напою тебя отваром, который утолит твою боль в суставах и во лбу?
— Хочу, — сказал мальчик и вскоре уснул.
А проснулся у себя дома: над ним хлопотала мать.
С тех пор и повелась дружба Кари с Тейтом, дружба неравная, и все-таки дружба.
Была в Тейте одна очень привлекательная для Кари сторона: он умел рассказывать складно про чужие земли и незнакомую жизнь. Он знал многое о желтолицых людях на востоке. Мог он рассказать и о странах, где нет ни снега, ни льдов, где круглый год светит жаркое солнце, способное вскипятить в полдень воду в котле. И еще много историй было припасено скальдом. Всего сразу не выложишь, если даже очень этого пожелаешь.
— А когда-нибудь, — сказал однажды скальд, — ты узнаешь нечто, отчего у тебя поджилки затрясутся.
— У меня? — удивился Кари. Эти слова Тейта показались ему удивительными. Поджилки могут трястись от чего угодно: человек испытывает различные чувства, ибо оказывается в различных обстоятельствах, иногда — очень опасных. Так создан мир. И человек вовсе не лишен страха. Но чтобы поджилки тряслись от рассказа — это уж слишком!
— Да, — подтвердил Тейт, — именно они и затрясутся, именно от рассказа, который вызовет страх, не меньший, чем горная лавина, несущаяся прямо на тебя. Но это — страх особого рода. Я бы сказал так: это страх сладостный, страх надежды, страх, избавляющий от отчаяния.
Всего этого понять было нельзя, и Кари прекратил свои расспросы, а Тейт не стал распространяться на этот счет. Он достал некие засушенные листья, растер их пальцами на ладони и сказал, протянув:
— Кари, положи на язык.
Кари исполнил это.
— А теперь прижми язык к нёбу.
Кари прижал.
— Жжет?
Кари кивнул.
— А теперь разжуй и выплюнь.
Кари исполнил все в точности.
— А теперь посиди немного, подумай и скажи, что чувствуешь?
— Что-то очень приятное. Словно брага зашумела в голове. Но не очень, а так — приятно-приятно.
Тейт сказал:
— Вот видишь: жгло, а приятно. Этот лист растет за морем. В нем великая сила. Очень полезная для человека.
А больше Тейт ничего не сказал об этом листе заморском. Ни то, откуда он, ни то, где добыт, ни то, давно ли он у него.
X
А в другой раз скальд Тейт, сын Скарпхедина, сказал Кари так:
— Лес таит в себе огромное таинство. С каждым деревом можно вести беседу. Разумеется, на понятном ему языке. И каждый листочек, каждая зеленая иголочка в лесу содержат в себе нечто, в чем нуждается наша душа, без чего нельзя жить. Каждое дерево отплатит тебе дружбой, если ты будешь ему другом. Лес подобен человеку: ибо есть в нем душа, и зовется она Лесная. И боги живут в той душе, словно птицы в гнезде. Мудрость, великая мудрость в лесу!..
XI
Теперь должно быть понятно, почему Тейт и Кари часто хаживали по лесным тропам. И это стало у них в обычае: идти в лес и добывать, по мнению Тейта, нечто диковинное. А Кари было любопытно. И он еще больше полюбил скальда.
Их путь на этот раз пролегал через Форелевый ручей, в том самом месте, где брод. Когда они были еще далеко от этого места, Тейт остановил Кари и сказал так:
— Погоди. Надо разузнать, в чем дело.
Тейт стал теребить бороду. И водить головой, точно зверь, почуявший опасность. А Кари ничего не слышал и не видел — был он словно глухой и слепой.
Потом они двинулись вперед — осторожно, медленно, чтобы не выдать себя. И там, где лес начинал редеть, чтобы уступить место широкой травянистой речной пойме, притаились они за стволом дерева. А дерево то было в два обхвата.
Только теперь различил Кари людские голоса, немножко приглушенные течением ручья. Что там? Кто там? Что делается на переправе?
— Мы постоим здесь, — сказал Тейт, — незачем связываться с вооруженными до зубов людьми… Ты присмотрись получше…
По эту сторону переправы всадники вели между собою разговор. Поначалу казалось, что все обстояло просто: встретились на переправе знакомые. Но понемногу голоса все больше возвышались. Вскоре разговор превратился в брань, а брань — в жестокую ругань. Очень сердились всадники, и, как видно, друг на друга.
Это были Ульв и Фроди со своими братьями. У каждого сбоку — меч, в руках — копье, а поперек седла — секира. Трое стояли против троих.
Ульв сказал:
— Мало того, Фроди, что ты ловил рыбу на нашем участке, ты даже не встал, когда я приблизился к тебе.
— Да разве ж ты конунг? — усмехнулся Фроди.
— Это неважно. Будь я конунг — не стал бы с тобою речь заводить. Для разговора с такими, как ты, у конунга имеются холопы.
Фроди покраснел от гнева.
— Что ты этим хочешь сказать?
— Напомнить тебе о нашем вчерашнем уговоре. Только и всего.
— Биться?
— Только и всего!
Фроди нашел в себе силу, чтобы немного вразумить этого самонадеянного Ульва.
— Ульв, — обратился он к нему, — я вчера не желал убийства. Я бы мог уложить тебя на месте и сообщить об этом твоей родне или вовсе не сообщать. Но сегодня не прощу ни единого оскорбительного слова.
Брат Ульва сказал:
— Молоть зерно в такое время — не мужское дело. А мы — послушать тебя — похоже, собрались кашу варить. Подобно женщинам. Лучше скажи, Фроди, какое выбираешь оружие.
Уговор состоялся такой: сначала биться мечами. Если ни один не одержит верх, тогда очередь наступит для секиры, а уж после этого для копья.
Братья — и те и другие — отъехали в разные стороны и говорили вполголоса. О чем был совет — того не слышали ни Тейт, ни Кари.
Тейт следил за всадниками холодным, злобным взглядом, а Кари, казалось, вот-вот закричит, чтобы остановить безумцев от кровопролития. Кари был уверен, что житель фиорда с жителем того же фиорда может всегда договориться, не прибегая к оружию.
Тейт, словно бы угадав намерение Кари, крепко сжал его руку и сверкнул глазами: дескать, не вмешивайся, не твое дело!
Кари становилось страшно…
Тейт еще раз взглянул на него сурово. Сдвинул сердито щетинистые брови. Сказал:
— Кари, знаешь ли ты, что такое жизнь?
Молодой человек растерянно молчал.
— А я знаю. Смотри и сделай себе зарубку на носу: это — жизнь!
И посоветовал внимательно следить за тем, как ведет себя каждый на поляне возле переправы через Форелевый ручей.
XII
Фроди сидел на лошади неуклюже, словно бы никогда и не ездил на ней. Это, наверно, потому, что на лодках и многовесельных кораблях чувствовал себя увереннее. Весло как бы продолжало его руку, оно было как живое — очень послушное его воле. Правда, и лошадь не была ему в новинку — с малолетства приучен к верховой езде. Обо всем этом, может, не стоило бы говорить, если бы Ульв не являл собою картину прямо противоположную: он точно составлял единое целое с лошадью, точно у них было одно сердце, одно кровообращение. И меч он держал в руках ладно, как хороший едок деревянную ложку. Глядя со стороны, казалось, что не стоило и затевать этот поединок, потому что исход предрешен: Фроди не совладать с Ульвом.
Вот противники уже соскочили со своих лошадей.
Фроди был бледен, но полон решимости. Ульв глядел исподлобья, как бы решая, рубить ли немедля или чуточку потешить братьев своей неистовой силой и постараться унизить Фроди перед тем, как тот испустит дух…
У Кари все сильнее стучало сердце, словно пробежал длинную дорогу до того самого места, откуда скрыто наблюдал за приготовлением противников к поединку…
— Послушайте, вы! — обратился один из братьев Фроди по имени Эгиль к братьям Ульва. — Что бы ни произошло — никто не вправе вмешиваться.
— Хорошо, — согласились братья Ульва.
Первым сдвинулся с места Ульв. Крикнув что-то, понесся на Фроди. Тот встретил удар хладнокровно — аж искры посыпались. Прийдись такой удар не по мечу, а по самому Фроди, он был бы рассечен надвое. Кари показалось, что молния сверкнула невдалеке. Он даже зажмурился. И украдкой взглянул на Тейта: тот не выказывал никаких особых чувств, будто перед ним не насмерть дрались, а ловили рыбу — форель хотя бы…
— Смотри и запоминай, — прошептал он. И у Кари мороз пробежал меж лопаток.
Между тем Фроди и Ульв снова сшиблись, снова скрестились их мечи, высекая огонь, подобный молнии. Ульв потеснил Фроди, и они оба очутились посредине потока. Фроди неожиданно занес меч и ударил. Удар был встречен мечом Ульва, но, отскочив, меч Фроди плашмя стукнул Ульва по голове. Однако Ульв удержался на ногах. Он предпринял особый маневр: пятясь, возвратился на поляну. Фроди пришлось тоже выбираться на траву — такую зеленую в этот майский день. Под стать траве были и яркое голубое небо, и солнце, испускающее несказанное тепло.
— Он может убить его, — в ужасе проговорил Кари.
— Кто? — спросил скальд.
— Этот… И тот…
— Кари, ты видишь? — И Тейт указал перстом на дерущихся, яростно размахивавших смертоносным оружием.
— Вижу.
— Так вот: это наша жизнь!
Тейт говорил не очень-то ясно, и было непонятно главное: хороша ли эта жизнь, такою ли она должна быть?
Вот дерущиеся сшиблись вплотную, руки их, казалось, переплелись, и оба меча, как один, вознеслись к небу. Так и застыли…
Потом, с силой оттолкнув друг друга, они снова разошлись.
Ульв крикнул:
— Уж больно ты неподатлив! Неужели тебе не надоело?
— Надоело! — заорал Фроди.
На этот раз они сходились боками, подобно двум ладьям. И Ульв, взмахнув мечом, поразил Фроди в плечо. Брызнула кровь, но рана, как видно, была не опасная: Фроди не обратил на нее никакого внимания.
Прошло немало времени, а перевеса не было ни на стороне Ульва, ни на стороне Фроди. Поединок был остановлен по общему уговору и по общему же согласию вскоре возобновился, но уже вместо мечей у каждого из противников в руках оказалась секира…
— Тоже жизнь? — спросил Кари мудрого скальда.
Тот согласно кивнул.
XIII
Фроди загнал Ульва на середину потока. Это не понравилось братьям Ульва. Один из них крикнул:
— Вперед, Ульв, вперед!
— Э, нет! — в великом гневе закричали братья Фроди. — Вы что же это, решили драться рядом с этим ублюдком?!
Один из братьев Ульва по имени Ан направился к братьям Фроди. Трудно сказать, что он вознамеривался сделать…
Братья Фроди решили, что это неожиданное движение в их сторону — явный вызов, и, не долго думая, метнули копья в Ана. Одно из них пронзило ему шею чуть правее кадыка.
Он упал в ручей. Вниз по течению потекла алая кровь, которая, естественно, смешавшись с водой, стала бледнее обычной.
Брат Ана Гудмунд, наблюдавший за поединком с противоположного берега, изрыгая проклятья, бросился на братьев Фроди. Меч у него был и длинный и тяжелый — дедовский меч, разрубивший не одного противника от шеи до самых ягодиц.
Братья Фроди — Эгиль и Одд — успели обнажить мечи…
— Ко мне! — приказал Ульв своему брату Гудмунду. — Слышишь, Гудмунд? Ко мне!
Гудмунд резко повернулся, перепрыгнул через брата, лежавшего в речке, и занял место рядом с Ульвом.
Казалось, Ана, исходившего кровью, вовсе забыли. Не до него было: братьям его предстояло отомстить за него, а противникам — защищаться или нападать. До Ана ли тут было? С ним было покончено. Он был белее снега — ни кровинки в лице…
Вдруг Ульв испустил победный глас: так трубит олень-самец, растоптав своего противника. Его секира начисто отсекла правую руку Одда, и меч Одда канул в поток…
— Страшно, — прошептал Кари. Он никогда не видел, чтобы люди вот так убивали друг друга — точно зверь зверя. Из-за чего же? Из-за форели?..
Он спросил скальда:
— Из-за форели? Все… это… из-за рыбешки?
Скальд покачал головой, не сводя глаз с переправы, на которой рубилась кучка людей, выпестованных матерями в долгие зимние ночи, в стужу и зной.
— Да, да, да… — сказал Тейт. — Смотри, они сбились в кучу… Вот еще один свалился в воду. И другой…
Верно, противники, стоя по колено в воде, яростно сражались. Тот, которому отрубили руку, шатаясь, плелся к берегу. Добредя, уселся на траву. Что-то пытался сделать с культей, кровоточившей обильно, подобно роднику. Вот и другой ушел на берег, не на тот, а на этот. Он прижимал руку к левому бедру. Наконец свалился.
— Может, закричать, и они уймутся! — сказал трясущийся Кари.
— И не вздумай! Вот тогда-то все они ополчатся против тебя. Да, да! Я-то их знаю как облупленных! — Тейт на кого-то сердился. — Знаю всех! Не надо мешать, пусть перебьют друг друга — легче будет другим дышать. Поверь!
Солнце явственно клонилось к западу. Эти, на воде, измотались, выдохлись и, как видно, были поранены — одни полегче, другие тяжелее. Каждый из них, кто еще был в состоянии, выбрался на свой берег. Стонов не было слышно, но дышали все они, как перед смертью. А лошади мирно пили воду и пощипывали траву. Они ничего не имели друг против друга…
— Теперь идем, — сказал Тейт. — Уберемся незаметно. Унесем ноги. Слышишь, Кари? По-кошачьему. Иначе — конец нам!
Тейт и не помышлял об оказании какой-либо помощи раненым. Он силой оттащил Кари от дерева и вместе с ним ушел в лес. Подальше от этого места…
XIV
Они углубились в чащобу, где, казалось, никогда не ступала человеческая нога. Все здесь было скорее от сказки, чем от яви: высокие непроходимые кустарники, могучие стволы деревьев, вдруг вырастающие из-под земли мшистые скалы. Кари постоянно озирался, чтобы запомнить эти места, через которые, возможно, придется им возвращаться. А Тейт шел уверенно, он словно бы видел на земле невидимые знаки, по которым находил верную дорогу.
В лесу было сумеречно, солнце проникало сюда с трудом, и стояла здесь сырость, изрядно дававшая знать о себе. Это была не морская, а особенная сырость, со своим особым запахом. Тоже из сказок, которые рассказывались зимою у очагов.
— Не очень-то приветливый лес, — проговорил Кари.
— Погоди, — сказал Тейт, — может, приветит еще. Надо набраться терпения, как во всяком деле.
И вот они вышли на лужайку — такую зеленую, какая бывает только в мае. Вместо очага посредине пел свою тихую песню прозрачный родничок. Тоненькая струйка утекала куда-то влево, в кустарники. Вместо стен плотным строем стояли огромные деревья, а кровлю заменяло еще голубое небо. Здесь было светло и тепло, сырости не было и в помине.
Кари аж рот разинул от удивления. В один миг он оказался в царстве света и тепла, в царстве жизни — яркой, притягательной, чарующей. Возле родника — там, где он выбился из-под земли, пузырясь и играя мелким песком, — был положен кем-то огромный камень. Словно бы нарочно. На нем можно было и посидеть, и полежать. Но кто принес сюда эту глыбу? Какая для этого потребовалась сила?
Скальд прекрасно понимал состояние Кари: трудно было спокойно перенести резкую перемену: от мрачной жизни с кровью и смертью — к сказочному миру, от сумерек и сырости — к свету и теплу.
Тейт сел на камень и усадил рядом с собою Кари. Он сказал ему:
— Вот маленькое небесное око. — И указал на родничок.
Кари невольно посмотрел на небо, а потом на воду и сравнил их: они были одного цвета.
— Вот истинная жизнь, — сказал Тейт. — Здесь рождается краса — начало всего сущего. Из глубин земли вырывается живительная струйка, и нет силы, которая замутила бы ее.
— А те? — Кари кивнул на лес, в ту сторону, откуда пришли, в сторону, где только что бились насмерть Фроди с Ульвом и их братья.
— Да, — задумчиво произнес Тейт, — они способны на многое. Но ты обязан знать: этот родник сильней. Он могущественнее их, ибо бессмертен. — И озлобляясь все больше! — Ты видел, как издыхал этот задира в потоке воды? Ведь он других топил вот таким образом. А теперь — сам. Нет у меня к нему жалости, и к братьям его, и к Фроди! Совсем нет! Они умеют пронзить грудь более слабому, но, к счастью, им никогда не остановить это светлое течение.
Скальд зачерпнул воды и пригубил ее.
— Вкусна? — спросил Кари.
— Как мед! — ответил восхищенный скальд.
Тогда и Кари испил воды и чуть не задохнулся: она была холодная-холодная. Отдышавшись, как после ожога, он почувствовал истинный вкус: да, это был сущий мед!
Тент сказал:
— Я бы прочел одну из своих песен, если бы они были достойны этой красы: поляны этой, этих зеленых стражей, этого неба и этого небесного ока. Я не хочу нарушать гармонию, которая вокруг нас и которая есть символ жизни. Отражение всегда слабее самого предмета. Источник этот есть начало всему, а все прочее — лишь отражение.
— Ты говоришь о мире? — спросил Кари.
— Я говорю о жизни.
И Тейт снова зачерпнул воды. Ладонь его была груба, и тем ярче искрилась на ней вода, подобная ртути.
— Я не думал, что в этом страшном лесу может быть такая нежная поляна, такой нежный родник. — Это сказал Кари.
— Нарочно привел тебя сюда. Ты должен усвоить одно: когда тебе плохо, когда на душе камень — приходи на эту поляну, наберись здесь светлых мыслей, и тебе будет легче. Запомни. Это мой добрый совет.
— Запомню, — сказал Кари.
— А дорогу найдешь легко. Иди от переправы прямо на север. И ты не минуешь родник. Когда полюбишь — а ты, наверное, полюбишь, — приведи свою избранницу сюда, и оба поклянитесь в любви друг другу возле этого небесного ока.
— А я уже люблю, — признался Кари.
Тейт промолчал. Что он хотел этим сказать?
XV
Отец Фроди, узнав о происшедшем на Форелевом ручье, сказал:
— Сыновья Лютинга теперь поймут, на кого посмели поднять руку.
Жена его, неистовая Торхалла, поклонившись идолу, молвила:
— Я клянусь перед его ликом: мои мужчины сробеют — я отомщу!
XVI
Смерть Ана потрясла семью Лютинга. Глава ее сказал:
— Мне не нужен тинг. Тинг только для слабых. Мы сами разделаемся со всеми мужчинами из этого подлого рода.
И он склонил голову перед идолом, которому поклонялся всю жизнь.
XVII
Кари казалось, — он в этом почти был уверен, — что за этот день повзрослел на несколько зим. Во всяком случае в нем что-то сильно изменилось. Это происшествие на переправе через Форелевый ручей перевернуло в нем всю душу. Он, разумеется, слышал о схватках берсерков, но видеть собственными глазами обильную кровь и слышать собственными ушами лязг мечей ему еще не доводилось. Больше всего волновал его один вопрос: ради чего все это? Ради чего проливалась нынче кровь и ради чего бились на переправе эти ошалевшие люди?
Объяснение скальда не давало четкого ответа на его вопрос. Говорить, что все это жизнь, можно. Но это требует еще и дополнения. Отчего же она такая, эта жизнь? Должно быть, Тейт знал это, но многое, несомненно, держал при себе. Может быть, до поры до времени?..
— О чем задумался? — спросила мать во время ужина.
— Сам не знаю, — ответил сын.
— Мясо стынет…
— Успею…
Отец поглядел на него искоса. А потом проговорил словно бы между прочим:
— Весною в голову лезут всякие мысли. Особенно молодым.
Мать сказала на это:
— Зима слишком сковывает чувства. Они прячутся в глубине сердца, как в норе. С солнцем они выходят наружу, бередят душу…
— Это так, — подтвердил отец.
Потом все продолжали трапезу и, казалось, вовсе позабыли о задумчивом Кари. И вот тогда-то Кари сказал:
— Ульв и Фроди поссорились… Они дрались…
— Ты видел сам? — Отец перестал жевать.
— Да, сам.
— Что же ты видел?
— Как они дрались.
— Эти двое?
— Нет, еще и братья их.
— А ты?
— Я стоял за деревом. Вместе со скальдом Тейтом.
— Они тебя приметили?
— Нет. Тейт не разрешил мне вмешаться.
— Значит, никто не знает, где ты был и что ты видел?
Отец бросил кость в огонь.
— Когда слишком много знаешь, — сказал он, — то придется держать ответ. Рано или поздно. Каждый должен твердо знать: что ему следует ведать, а чего — нет. Такова жизнь. Без этого не проживешь и дня.
«Опять эта жизнь!» — подумал Кари.
— Говори дальше, — приказал отец.
Кари рассказал все, что запомнил из виденного на Форелевом ручье. И о скальде сказал, который цепко держал Кари возле дерева на потаенном месте.
— Скальд умен, — сказал отец. — Все, что слышали, должно умереть возле этого очага. Все поняли?
И, не дожидаясь ответа, встал и ушел в темный угол. И бросил уже оттуда, из угла:
— Забыть о слышанном, забыть о виденном… И не болтать. Не болтать, а заниматься делом. Завтра уходим за рыбой. В море.
XVIII
Было поздно. Кари сидел на дубовом обрубке и смотрел на луну. Она была бледная, как песок на берегу фиорда. Такая бесцветная, бескровная, хилая.
Было ему тяжко. Наверное, очень он глуп — поэтому так тяжко. Наверное, просто цыпленок он — такой несмышленыш, который не может понять, где живет и почему живет. Ведь этак и щенок существует…
К нему подошел отец его — Гуннар, сын Торкеля. Уже немного грузный, морщинистый, пропахший морской сыростью, изъеденный солью… Он уселся рядом с сыном. Долго сопел, а потом сказал так:
— Нас теперь никто не слышит. В доме все улеглись. Наверное, человеку бывает кое-что непонятно…
Сын молчал.
— Да, да. Он живет, он дышит, он любит, он размножается. Часто подобно зверю. Да, да! Может быть, скальд Тейт тебе говорил что-либо иное?
— Нет, не говорил.
— И не может сказать! Ты у меня из сыновей остался один. Ты должен жить, но при этом непременно думать. Все время думать, думать, думать… А почему?
Кари промычал:
— Не знаю.
— Да, бывает и так, что человек не знает. Но случается, что кое-что и узнает. Кое-что вгрызается ему в голову и остается там надолго. На всю жизнь. Если, разумеется, мозги у него на месте.
Кари слушал. Ждал. Что-то еще скажет отец…
— Послушай, Кари, надеюсь, ты не чурбан, подобный тем, на которых мы сидим. Неужели ты полагаешь, что Ульв, Фроди и все прочие головорезы дерутся из-за форели? Нет! Они рассуждают так: отдай сегодня несколько форелей, завтра отнимут у тебя всю твою землю, оберут до ниточки. Тебе известно, что звери оберегают свою берлогу и прилегающий участок?
Кари кивнул.
— Так и они… Эти… Фроди, Ульвы, Аны… Если ты сунешься к ним и сорвешь в их лесу хотя бы одну ягодку — они оторвут тебе голову. Они чувствуют свою силу. Они не могут без нее. Ты это должен понимать. Не маленький.
Кари пробормотал:
— И все-таки — отдать жизнь за несколько рыбешек? Он лежал в воде, и шея его была проткнута… Из нее текла кровь. Вниз по речке.
— Да, так и должно быть.
— Тейт сказал, что это — жизнь.
— А я добавлю: страшная жизнь.
И больше ничего не сказал. Ни слова. Встал Гуннар и пошел спать. В теплую постель к своей жене.
А Кари глядел на луну, и разные мысли толкались в голове его. В беспорядке. А когда он снова присмотрелся к луне, она показалась знакомой. «Да, это она, — подумал Кари, — это она, Гудрид, дочь Скегги». Вдруг сделалось на душе легко-легко. Отвращение, которое он испытывал ко всему сущему на земле, сменилось ожиданием чего-то особенного, необыкновенного. Луна и Гудрид! Что между ними общего? Одна слишком высоко, а другая хотя и рядом вроде бы, но еще более непонятная, необыкновенная…
Понемногу мысли его сошлись на одном: Гудрид. Думал только о ней, а смотрел на луну.
Ночь была светлая, Кари не торопился в свою каморку…
XIX
А уснуть Кари так и не мог. Что-то перевернулось в душе. Он вроде был прежний Кари и не прежний. Как можно жить по-прежнему после всего виденного и пережитого на Форелевом ручье? Пусть Тейт сколько угодно твердит, что это — сама жизнь. Пусть отец объясняет, откуда берутся эта злоба, остервенение, это желание ранить, убить, утопить в воде себе подобного, все равно трудно понять и — тем более! — принять такую жизнь.
До сего дня было все как будто просто: отец, мать, сестры, очаг, бабушкины сказки, выход в море, работа на поле… Ничего загадочного. Все ясно, как летний день. Но недаром, как видно, рассказывались страшные истории за очагом. Битвы между конунгами были любопытными. Поединки берсерков тоже будоражили воображение. Кровь и стоны в сказках — одно, а на Форелевом ручье — совсем другое. Есть над чем призадуматься!
Лежал Кари на спине и смотрел вверх — в черную пустоту. Там было страшно, как страшна оказалась и сама жизнь. Но как это бывает очень часто, из пустоты и мрака показалась звезда. Правда, пока очень маленькая. Огонек, что зажегся вверху, над головою Кари, звался Гудрид. Сказать откровенно, он ее тоже не понимал, так же, как жизнь. Было у них что-то общее: и та и другая были полны всяческого значения, от которого на душе становилось тревожно.
Чем ярче разгорался огонь над головою в темной вышине — тем сильнее билось сердце. Нет, это не был страх. И ничего плохого не внушал ему этот огонек. Но отчего же в нем непонятная трусость? А если не трусость — то что же? Смотреть на Гудрид долго невозможно: поджилки трясутся. Значит — это трусость. И в то же время приятно. Значит — не трусость, а нечто новое, неведомое доселе.
И глаза у нее странные: такие большие, вроде того лесного родника. Она взглянет — точно стрелу в тебя запустит. Но не смертельную, а иную. А какую — точно не известно. Нету ей имени…
Потом — эта ее походка. Башмаки ее стучат, и каждый стук отзывается в его сердце. Это не стук молотка или камня… Это стук приятный. И что-то угадывается за ее легким одеянием, и даже тяжелым, зимним. А что — тоже не имеет пока названия…
За стенкой слышно, как смеется во сне младшая из сестер. Какие-то птицы затеяли возню неподалеку в рощице. Собака скулит у порога…
Кари встает. Выходит в большую комнату, достает ковшиком холодную воду и жадно пьет. Потом разгребает золу, находит горячие уголья, раздувает огонь. И греется.
У золы хорошо. От нее — тепло. И вместо звездочки на него глядят красные уголья. Они становятся все ярче, и от них — все жарче.
А что делает сейчас скальд Тейт, в этот полуночный час? Тоже не спит? Но ведь он же не любит. Никого на свете. Он любит только свои песни. Ради них он, возможно, и не спит…
XX
Кари снова увидел Гудрид. Тоже совершенно случайно.
Он плыл по фиорду. Вдоль берега. На лодчонке, которую обычно привязывают к большой. Солнце светило сразу с двух сторон: сверху и снизу, со дна фиорда. Погода была теплая, земля до последнего клочка покрылась зеленью — очень зеленой.
И меж кустов мелькнула она. Это было недалеко от ее дома. Гудрид собирала ранние цветы. На голове у нее был венок: желто-белый.
Он бросил весла, лодка скользила бесшумно по гладкой воде небесного цвета. Гудрид взглянула на лодку, улыбнулась. Да, он приметил ее улыбку, хотя улыбка была едва уловимой.
Не надо было даже повышать голос, чтобы слышать друг друга. И он окликнул ее.
Она сделала вид, что очень удивлена.
— Далеко ли собрался, Кари? — спросила она.
Он не понял ее. Наверно, оттого, что обомлел.
— Ты не слышишь, Кари?
Нет-нет, он все слышал. Он сказал:
— Я плыву туда.. — И указал на нос лодки.
Это ясно и без его жеста: корма же всегда бывает сзади, а плывут по носу.
Гудрид рассмеялась и сказала:
— Наверное, Кари, ты замечтался. Твои мысли где-то далеко.
— Да, — признался он, притормаживая веслом движение лодки.
— О чем же они?
Кари вообще не умел врать. Тем более — сказать неправду милой Гудрид. Он признался, что очень озадачен неким происшествием…
— Каким же, Кари? — Гудрид шагала вдоль берега по движению лодочки.
Кари рассказал — очень коротко — про то, как бились вчера на Форелевом ручье Фроди, Ульв и их братья.
— Кого-то из них наверняка нет в живых, — заключил Кари.
— А что ты там делал?
— Ничего.
— Разве так бывает, чтоб мужчина ничего не делал?
Кари задумался: сказать ли правду? А не сказать — нельзя. Нечестно. Следовало бы вовремя прикусить язык. Но теперь — делать нечего. И тем не менее он твердо решил не выдавать хотя бы Тейта. Кари сказал так:
— Я брел лесом. И вдруг увидел, как на Форелевом ручье бьются люди. Смертным боем.
— Ты попался им на глаза?
— Наверное, нет.
— Это хорошо, Кари. Незачем лезть в чужие дела, особенно когда тебя об этом не просят.
Всего пятнадцать зим этой Гудрид, а говорит, словно зрелая, опытная. Должно быть, повторяет чьи-то чужие, но умные слова.
— Да, Гудрид, незачем лезть в чужие дела. Я же не люблю, когда суют нос в мои.
— Похвально, Кари. Тебе двадцать? Или больше?
— Двадцать.
— Да? — недоверчиво произнесла Гудрид: Кари выглядит старше.
— Твоя мать знает это не хуже моей, — сказал Кари. — Ведь мы с вами живем рядышком.
Гудрид ничего не сказала, нагнулась, сорвала цветок и присоединила его к своему букету.
Речь его иссякла. Что бы еще сказать? Попросить, чтобы она никому ни слова про битву на переправе?..
— Гудрид, сделай одолжение…
Она остановилась, весело посмотрела на него, и душа у Кари ушла в пятки.
— Говори, Кари.
— Я тебе рассказал большую тайну. Она не только моя. Но еще одного человека. И этот человек просил никому не говорить о том, что мы видели.
— Даже мне?
— Об этом не было разговору. Просто — никому.
Девушка тряхнула косами — они были толщиной с корабельный канат из пеньки.
— Я ничего не видел, Гудрид, — продолжал Кари. — Так наставил меня тот человек.
— Тейт, что ли?
Право же, колдунья эта Гудрид! Она, кажется, все знает, все понимает… Бессмысленно было скрывать, и он сказал:
— Да, Тейт.
Гудрид отыскала в высокой траве еще несколько цветов.
— Хорошо, Кари. Это не узнает никто, если только мы с тобой одни.
Кари вздрогнул. Как так — одни? Кто же здесь третий?.. Может, за кустами скрывается кто-то?..
— Нет, — сказала Гудрид, — мы одни. Но ведь существуют еще и боги. — И она указала на воду, на деревья, на небо…
У Кари полегчало на сердце.
— Это не в счет, — сказал он. — О́дин знает все и без моего признания.
— Это правда, — сказала Гудрид. — Прощай, Кари, мне надо домой.
Он приналег на весла.
XXI
Кари обогнул острый мысок, поросший высоким кустарником.
Он думал о Гудрид. Она казалась ему разумной не по летам. И она, конечно, умнее его. Но ходила ли она на лосося? Ловила ли она треску? Сносило ее волной в разверстую морскую пучину? Мерзла она часами под ужасающим северным ветром? Ей приходилось делить один отсыревший и просоленный волной хлеб на десятерых рыбаков? Нет, не приходилось…
А он? Он может сказать: да, я знал эти беды. Я знал еще и другие. Вместе с отцом тянул соху, когда ее лемех застревал в камнях… И все-таки Гудрид кажется опытнее в житейских делах. Может, всего этого попросту набралась она у длинного очага?
Была в ней и еще одна неразгаданная тайна. Самая главная… Отчего именно о ней думалось так много? Ведь были и другие соседские девушки. Нет, именно Гудрид втемяшилась в голову. Только она! Чем же это объяснить?
Верно, глаза у нее не такие, как у других. Большие, красивые, как у оленихи. И шагает она не так, как все, на высоких деревянных башмаках: ее талия делается особенно гибкой, кажется, что она идет по узкому бревну, переброшенному через лесной ручей. И шея у нее особенная, такая белая, высокая, тонкая… Словом, она очень-очень отличается от своих сестер и подруг. Но сказать определенно, чем именно и что в ней необыкновенного, Кари не мог. А если бы смог, может быть, тогда меньше думал бы о ней…
А голос ее? Такой низкий, чуть с хрипотцой, словно немного простуженный. Ведь голос этот просто сводит с ума. Он слышится по ночам, когда тихо вокруг, и когда очень шумно — тоже слышится. Нет преграды для этого голоса!
И вот тут Кари замечает большую лодку, которая отчалила от крутого берега. Она шла прямо на него. Ему пришлось резко остановить свою лодчонку. И он очутился у правого борта новой, хорошо просмоленной лодки.
Кари узнал братьев Фроди. И еще какие-то молодые люди сидели в ней.
— Эй, Кари! — крикнул ему самый младший из братьев по прозвищу Медвежонок. — Что-то долго ты любезничал с этой Гудрид!
— Я? — невпопад спросил Кари, точно приходя в себя после сна.
На лодке дружно загоготали.
— Слушай, — продолжал Медвежонок, — как полагаешь, ты лишь один на этом свете?
Пара сильных рук прижала борт лодочки Кари к борту большой лодки. Этому Медвежонку шла семнадцатая зима. Был он задирист, как все братья Фроди. Лицо у него было довольно грубое, выдававшее его внутренний склад, его разбойничий нрав. Был он коренаст, невысок ростом и широк в плечах, прочно сбит. Поэтому и прилипло к нему прозвище Медвежонок.
— Послушай, Кари, ты ведь знаешь меня не одну зиму. И братьев моих знаешь.
Кари вдруг взорвало, и он крикнул:
— Знаю! Что же с того?!
Медвежонок удивился. Удивившись, посмотрел на своих в лодке, те тоже удивились.
— Мы не глухие, — сказал Медвежонок.
— Знаю! — снова во весь голос прокричал Кари.
— Что это с тобою? — Медвежонок удивился еще больше.
— Ничего! — еще громче закричал Кари. Это был крик человека, которого вывели из себя.
Медвежонок раздумывал, в каком духе продолжать ему этот разговор с Кари, который, как видно, желал немедленной ссоры.
— Послушай, Кари, я хотел сказать, что уж слишком долго ты любезничал с Гудрид. Может, ты хочешь ответить мне что-нибудь, вместо того чтобы орать на всю округу?
Кари уткнулся взглядом в воду и молчал.
— Я хочу сказать, Кари, что на берегах этого фиорда есть еще мужчины, которым нравится Гудрид.
— Кто они?
— Я, например… Или Фроди… Или Эгиль…
Кари взглянул на Медвежонка, словно в первый раз увидел его. Вполне возможно, что Кари не кричал бы так, заговори с ним Медвежонок по-человечески. Однако в его словах, точнее — в тоне, скрывалось столько издевки, что просто вынести было невозможно…
Так, стало быть, еще кто-то приметил Гудрид, притом не на шутку. Что ж, тем привлекательнее делается Гудрид. Дорого ли стоит плод, падающий тебе в руки безо всяких с твоей стороны усилий?
Кари сказал уже спокойнее:
— Не знаю, как тебя — Медвежонок или Медведь?.. Я бы только попросил говорить со мной подобающим образом. Ведь если человек говорит спокойно и дружелюбно, ему отвечают тем же. Я плыву себе, а ты встречаешь меня непонятными речами. В нашей стороне это не принято…
Медвежонок расхохотался.
— Где это — в вашей стороне?
— На этом фиорде.
— Ого! — Медвежонок подбоченился. — Уж не из конунгов ли ты?
— Пока нет. Но ведь и ты не конунг.
— Я-то? Советую тебе, Кари, поразмыслить над тем, кто я такой и что есть эта земля.
— Особая речь пойдет, что ли?
Медвежонок обратился к своим:
— Он притворяется или же в самом деле слаб умишком?
Один из молодых людей, которого Кари видел в глаза впервые, сказал, заикаясь:
— Ум-мом не с-слаб. П-просто трус-соват…
— Нет, — возразил Медвежонок издевательским тоном, — он не трусоват. Я его знаю. Он зол и храбр, как заяц.
Тут большая лодка чуть не опрокинулась на правый борт: так все покатились со смеху!
— Отпустите, — сказал Кари мрачно. И веслом указал на руки, цепко ухватившие край борта его лодчонки.
— Но прежде, Кари, ты ответишь на мой вопрос: что тебе надо от этой Гудрид?
— Ничего, — признался Кари. И на самом деле ему ничего не надо от Гудрид. Он же не мог сказать этим разбойникам, что он много думает о ней, особенно по ночам, что есть в ней нечто таинственное…
— Гм! — сказал Медвежонок. Его узкие бегающие глаза смотрели куда-то мимо Кари. — Так, стало быть, ничего… Это меняет дело. И ты случайно заговорил с ней?
— Это мое дело, — проворчал Кари.
— Не думаю…
— А вот это уж твое дело, Медвежонок.
— Ладно, — сказал Медвежонок. — Сейчас мы с тобою, видно, не сговоримся. На всякий случай скажу тебе: на этой земле, которую ты назвал своей, хотя ни один из наших конунгов не может позволить себе таких слов, вот на этой земле есть священный закон…
— Какой?
— Простой, Кари, очень простой: сила! Вот первый закон!
— Говорят, сила силу ломит…
— Это не говорят, это просто трусы болтают.
— Что же дальше, Медвежонок?
— Пока все!
Вспомнив вчерашнее, Кари предпочел не задираться без нужды.
— Куда вы собрались? — спросил он.
— У нас дела, Кари.
— Желаю удачи!
Медвежонок решал: обижаться ли на неожиданный оборот в этой словесной перепалке? Кто из нее вышел истинным победителем?
— Я думаю, Кари, мы еще встретимся.
— Не так уж велика земля.
— Ты прав, Кари.
Медвежонок сказал своим, чтобы те убрали руки. Большая лодка взяла направление в глубь фиорда.
Медвежонок даже не удостоил взглядом маленькую лодку.
XXII
Было далеко за полдень, когда лодчонка Кари уперлась носом в песок. Прямо напротив домика Тейта.
Скальд в это время сшивал какие-то шкуры. Он сидел на бревне, что лежало у самого порога.
— Сегодня хороший денечек, — сказал скальд. — Не захочешь — песня все равно сама сложится. Солнце проникает в самую глубину фиорда, оно зовет рыбу к поверхности. Я уже поймал себе на обед и ужин. Эти красавицы польстились на золото лучей.
— Хорошо сказано — золото лучей!
Скальд покачал головой.
— Нет, плохо. Оно уже кем-то говорено. Я лишь повторил. Я приношу тебе свои извинения. Золото лучей — это очень плохо. Это первое, что приходит в голову, когда глядишь на эту прелесть. — Тейт указал рукой на небо, горы, зеркало фиорда.
— Ты слишком строг, Тейт.
— А иначе обратишься в маленького, очень маленького скальда. А я не хочу быть слишком плюгавеньким.
Он пристально вгляделся в молодого человека. Кари отвернулся, сделал вид, что любуется голубизною фиорда.
— Посмотри мне в глаза, Кари.
Кари повиновался.
— Что с тобою?
— Ничего. Ничего особенного.
— А все-таки?
Скальд пригласил Кари на бревно, рядом с собой. Отодвинул в сторону шкуры и массивную иглу, скорее похожую на шило.
— Говори, что произошло? Где, когда?
Кари молчал.
— Кари, я жду. Не положено, чтобы старший ждал младшего.
Кари не выдержал, рассказал все как было, с чего началось, чем кончилось. И про Гудрид ничего не скрыл. Надо отдать ему должное: рассказывал как есть, ничего не прибавляя и не убавляя. Не пытаясь выставить себя в лучшем виде. Только о Гудрид говорил коротко — ничего про ночные мысли, которые его одолевали.
— Этот Медвежонок большой задира, — поразмыслив, сказал Тейт. — Как его брат Фроди. Ведь младший всегда пытается подражать старшему. А Фроди следует примеру отца. У того, у отца, кроме спеси и силы еще и мошна тугая. Где — силой, где — деньгами. Его можно бы назвать даже конунгом этого фиорда. Однако его сынкам иногда туго приходится: ты вчера это видел сам. Два конунга в одном фиорде — многовато. В этом для нас, смертных, вижу некоторую пользу. Впрочем, конунги могут сговориться. И тогда ничего хорошего для нас не получится.
— Он очень смеялся, когда я сказал про свою землю.
— Этого надо было ждать. Нет своей земли, есть земля сильного.
— А я думал…
— Не думай, Кари, не думай… Что было — то было. Я хочу тебе дать полезный совет. Впрочем, учти одно: я не семи пядей во лбу. Если бы был я очень мудр, то кое-что сделал бы для себя. Но ты видишь сам, каков я. Поэтому не очень полагайся на мои советы. На добрые советы всякий горазд. И все-таки выслушай меня.
Тейт поднялся, подвел Кари к самому берегу так, что вода касалась башмаков. Такая тихая чистая вода, словно в чаше.
— Посмотри внимательно в эту голубую глубь. Ты примечаешь маленькие молнии? Это рыбы. Они живут, дерутся между собою, плодятся. Многие кончают жизнь на сковородке. Не думай, что это только рыбья участь. И не вздумай даже помыслить, что мы с тобой живем другой жизнью! Мы тоже мелькаем, но не в воде, а на земле.
Кари слышал удары своего сердца — он с трудом приходил в себя после перепалки с этим Медвежонком. Да и слова скальда не были медом.
— Так вот, Кари, первый закон: жизнь коротка! Это надо усвоить. В противном случае ты вечно будешь в проигрыше.
— Шестьдесят зим — разве это мало?
Скальд усмехнулся:
— Очень.
— А восемьдесят?
— Тоже.
— А сто?
— И сто!
Это было непостижимо: сто зим! Разве кто доживет до сотой? Но ведь по Тейту выходит, что и этого мало. Конечно, скальд своеобразен, если не сказать — чудаковат…
— Есть и второй закон, Кари. Не менее важный, чем первый: жизнь — это грызня. Постоянная, не всегда приятная, но грызня. Из-за куска хлеба и рыбьего хвостика. Слышишь?
— Да, но не совсем понимаю.
— А тут и понимать нечего! Погляди туда: рыбка прыгнула вверх. Взмыла в воздух. А почему? За нею гналась другая, более сильная. А ты думаешь, на земле иначе?
— Ты не в духе, Тейт…
— Напротив! — Тейт простер объятия, словно увидел любимого человека, глубоко вдохнул теплый майский воздух. — Как хорошо! И как мне хорошо! — Его глаза светились истинной радостью.
Да, скальд не кривил душой, ему было хорошо. Но откуда же его невеселые мысли?
— Есть и третий закон, Кари: если будешь угождать всем на этой, твоей земле — погибнешь еще раньше этой рыбки, которая выскочила из воды, чтобы уйти от одной пасти и попасть в другую, разинутую еще шире, чем первая. Ты меня понял?
— Нет, — признался Кари.
— У тебя ко мне есть вопрос?
— А любовь? — спросил Кари. — Разве нет ее? А если есть, то разве не смягчает она нашу участь?
Скальд скрестил руки на груди, тряхнул длинными нечесаными волосами.
— Любовь? Сначала в нее надо поверить.
— А ты сам веришь?
— Я?.. Надо сообразить…
Кари сказал:
— Я знаю: меня любит мать. Меня любит бабушка. Меня любят сестры. Я люблю их всех.
— Что же следует из этого? Все это чепуха!
Скальд видел жизнь глазами жестокими. И сердце его казалось жестоким…
— А любовь к девушке? — спросил растерянно Кари.
И тут скальд расхохотался. Он хохотал, подобно лесному сказочному человеку, которому все трын-трава.
Часть вторая
I
Праздник Середины зимы прошел как нельзя лучше. Отец сказал Кари:
— Давно не бывало такого. Это к хорошему.
Пива и браги хватило. Обошелся праздник без ссор. Может, потому, что зима выдалась снежная, с метелями и мало было посторонних — одни близкие соседи.
Впрочем, еще задолго до праздника появился некий охотник. Он спустился с гор и остался на зиму в доме Гуннара. Это был работящий, средних лет человек, ровный характером и кое-что повидавший на свете. Звали его Грим. Родом происходил из далекого Финмарка, что на северо-востоке. Носил он русскую пушистую шапку и уверял, что понимает язык эстов. Судя по его рассказам, рыбачил он в северных морях, где полным-полно трески и жирного окуня. Но не это было самым удивительным. Однажды у очага, чуточку хлебнув браги, он поведал историю, которая запала в самую душу Кари. Да и другие слушали затаив дыхание. Хотя нечто подобное кое-кто и слыхал прежде, но скорее почитал за сказку, нежели за истинную правду. А Грим уверял, что каждое его слово — чистая правда. Готов, мол, отвечать за все головой. Поскольку рассказ Грима запал в душу Кари, следует привести его дословно.
— Сказывают, — говорил Грим, — будто есть на свете прекрасные земли… Я познакомился на острове Аласте с одним моряком по имени Одд Деревянная Нога. У него ногу отшибло бревном, которое свалилось на него во время шторма. А бревна везли Одд и его друзья из Финмарка на свой остров. С тех пор он сидит дома и ловит рыбу в речке. Перед самым прошлым праздником Середины зимы он сказал мне: «Слушай, Грим, вот гляжу я на тебя и порой диву даюсь: что ты влачишь жалкое существование на наших голых скалистых берегах? Будь я в твоих годах, с твоими крепкими ногами и могучей шеей, давно бы поплыл в прекрасные земли». Так сказал мне Одд Деревянная Нога. Сидели мы с ним перед очагом и пили брагу. Язык у него развязался, у меня шумело в голове, и речи его были приятны. Брага была хмельная и располагала к болтовне всяческой. «Ты это хорошо придумал, — говорю, — насчет прекрасных земель. Но кто пустит к себе? Надо идти в гости или с товаром, или с мечом». — «Верно, — соглашался Одд Деревянная Нога, — если ты говоришь о стране бургундов, франков или готов. Или о стране кесаря. Но есть прекрасные земли, где трава — по пояс, лесов — предостаточно, и они у самого берега. Форель, треску и гольца бери голыми руками. А людей не видно, не с кем даже повоевать…» Я подумал, что это говорит не Одд, а скорее брага, которая язык развязывает, а в голове порождает приятные картины, в том числе и траву, которая по пояс, и лес, сбегающий к самому береговому песку. Я говорю: «Одд, утром мысли свежее и голова служит лучше…» Одд Деревянная Нога рассердился было. «Я, — говорит, — и утром повторю тебе то же самое. Ты думаешь, я пьян? Просто даю тебе хороший совет на тот случай, если ты вздумаешь пожить по-человечески». Тут мы снова выпили в знак примирения. Одд Деревянная Нога перечислил по именам всех своих родичей — живых и мертвых, повторяя: «Разве я пьян?» Потом он сказал, что если сесть на приличный корабль, который из дуба и построен на славу, у которого крепкий прямоугольный парус, и прочная мачта, и тридцать весел, и плыть на запад, все на запад, то можно приплыть в страну сплошь зеленую. Недаром она зовется Гренландией. Если, прибыв в Гренландию и отдохнувши как следует, поплыть дальше на запад, а после круто на юг, то попадешь в страну, где много винограда. Она — за лесистой страной, именуемой Маркланд. Вина на Маркланде — хоть залейся. И нет над тобою ни ярлов, ни херсиров, ни тщеславных грабителей-конунгов и прочих негодяев. Ты сам себе полный хозяин: хочешь — лежи на боку и ешь виноград, а хочешь — лови себе лососей и бей в лесу оленей. Попадаются в той стране низкорослые люди, а есть краснолицые. Но с ними всегда можно договориться — это тебе не наши ярлы или конунги. Я спросил Одда: «Только что выслушанный рассказ — это сущая правда или нечто вроде сказки?» Он ответил: «Я это слышал от многих достойных людей». Сам он не плавал в те края по причине этой самой деревянной ноги, но говорил, что непременно поплыл бы, если был бы здоров, как некогда. И он сказал почему: «Разве это жизнь — среди голых скал и кровожадных ярлов и херсиров, каждый из которых мнит себя конунгом? Здесь надо или самому разбойничать, или жить впроголодь». Так говорил Одд Деревянная Нога. Он это повторил и позже, когда протрезвел.
Грим был не из тех, кто любит болтать пустое. Если он в чем-либо был уверен, то говорил:
— Да, это так.
Если же он слышал что-либо от других, но не видел собственными глазами, то говорил:
— Так сказывают…
В зимние вечера, когда завывала вьюга и голоса скал и лесов причудливо разносились над фиордом, рассказ Грима воспринимался по-особому. Его просили выложить все, что знает про эти земли за морем. Потому что о них нет-нет да судачили разное. Конечно, всякое случается на свете. И нет ничего удивительного в том, что за морем могут оказаться диковинные земли. Любопытно все-таки, есть ли человек, которому довелось побывать в тех землях и благополучно вернуться домой?
На это Грим отвечал так:
— Такого человека я не встречал. Но один южанин, говорят, вернулся. И снова собирается на запад.
Кари навестил скальда Тейта и пересказал все, что говорил Грим про земли на западе.
Тейт выслушал его, не проронил ни слова. Лежал и кашлял, потому что накануне простыл в лесу, проверяя расставленные им капканы.
— Подбавь-ка дров в очаг, — сказал он Кари.
Когда огонь разгорелся, Тейт сказал:
— Наверно, правда. Я тоже слыхал о тех землях. Мало кто возвращался оттуда. Но кто-то должен был вернуться и поведать про это самое. Ведь даже сказка не рождается сама по себе. Ее рассказывает человек.
— Есть в словах этого Грима одна большая правда, — продолжал скальд, откашлявшись. — Наверное, догадываешься сам, какая?
Кари прикинул в уме, что имеет в виду скальд.
— Не ломай себе голову, Кари. Дело ясное: собачья жизнь погонит человека хоть куда.
Кари по совести не мог согласиться со всем, что утверждал скальд. Почему же жизнь собачья? Нет ли здесь преувеличения? Земля, на которой проживает такое существо, как Гудрид, не может опротиветь тебе. Собачья жизнь, — это нечто иное, она полностью исключает Гудрид. Скальд обижен судьбой, потому и говорит так зло. Но ведь судьба бывает различная.
— Когда жизнь опостылеет, Кари, всегда найдется какая-либо земля — далекая или близкая, — куда с удовольствием сбежишь. Ты меня понял?
Нет, Кари не понял скальда. Тот словно чувствовал это и сказал ему:
— Когда-нибудь поймешь.
И снова закашлялся. Да так, что посинел от натуги.
II
Кари хотел понять не «когда-нибудь», а сейчас. Немедля! Жить, не понимая, почему могут опостылеть тебе эти гордые скалы, этот чистый фиорд, эта весенняя трава и белый снег зимою, — невозможно. Ведь этак может статься, что и двор твой и очаг твой тоже опротивеют? Но это же невозможно! Не хватил ли скальд через край? Может, виной всему эта простуда и тяжелый надсадный кашель?
При первой же возможности Кари снова отправился к скальду, прихватив свежеиспеченного хлеба и жбан теплого молока.
Скальд по-прежнему лежал на своем жестком ложе и глядел вверх. Он сказал молодому человеку «здравствуй» и недовольно покосился на жбан.
— Это еще что? — спросил он.
— Так, ничего, — ответил Кари, не обращая внимания на недружелюбный тон скальда.
— Я не люблю, когда меня жалеют, — сказал скальд.
— Это просто гостинец, — объяснил Кари.
— Мне уже лучше, — сказал скальд.
— Это хорошая весть…
— Ничего особенного… Одним человеком — больше, одним — меньше… Какая разница? Что изменится в этом мире?
Кари полагал: что это не все равно, это многое в мире меняет…
— Ошибаешься, Кари. В ошибке повинен не ты, так ошибаются многие, когда ставят себя слишком высоко. Если мы властвуем над форелью и лососем, оленем и треской — это еще ровным счетом ничего не значит. Может быть, именно в этом наше несчастье. Подумай хорошенько…
Кари положил хлеб на скамью у изголовья и молоко тоже поставил рядом.
— Моя мать просила отведать…
— Она добрая, — сказал скальд. — Но этого никто не оценит. Даже ты.
— Почему же? — растерянно спросил Кари.
— Так устроен этот мир.
Кари раздул очаг — благо уголья еще тлели в золе. И когда пламя заиграло, он спросил скальда:
— Я знаю очень немного. Но хочу кое-что знать наверняка. Я не понял из твоих слов, сказанных недавно, почему может опостылеть моя земля? Почему я в один день — прекрасный или черный — смогу сбежать отсюда… Отсюда, где живет Гудрид.
Скальд отломил кусок хлеба, пожевал, пробормотал, что хлеб превосходен, что давно не едал такого. Он поднялся — не без труда — и уселся рядом с Кари, с удовольствием погрел руки. Он сказал:
— Нет ничего прекраснее родного очага.
Выглядел он лучше, чем в прошлый раз, почти как совсем здоровый. Меньше кашлял, дышал ровнее. И пламя сверкало в его глазах — крохотное пламя, но очень веселое: так не бывает у больного тяжко. Этот скальд, несомненно, был человеком недюжинного здоровья.
— Кари, — сказал он, грея руки, — ты очень молод, и в этом твое счастье. Я, можно сказать, стар, и в этом мое несчастье. Нет, я не жалуюсь на слабость в ногах или на боли в пояснице. Я сплю отменно и часто вижу хорошие сны. Как в молодости. Если бы где-нибудь завелась молодая вдовушка, я бы непременно повадился к ней. Да, да! Мой главный недостаток в том, что вижу и понимаю больше многих и знаю, куда мы идем. Вот если бы завязать мне глаза, заткнуть бы мне уши, а разум смутить крепкой брагой — вот тогда я бы почувствовал себя счастливым. Ты понял меня?
— Нет, — признался Кари.
Скальд, однако, был на этот раз терпелив. Он отпил молока и похвалил его. Внимательно посмотрел на Кари — прямо в глаза ему. И сказал:
— Я люблю тебя, Кари, отцовской любовью. Боги дали тебе все: крепкий стан, высокий чистый лоб, ясные глаза, сильные руки и ноги. И растешь — да, растешь все еще! — в доброй семье. И ты уже любишь. Не знаю, любим ли. Но это не очень важно, любовь придет со временем. Ее любовь. И у меня сердце обливается кровью, когда подумаю, что в один черный час нагрянет беда и ты возненавидишь этот мир.
— Как?! — воскликнул Кари.
— Очень просто, — спокойно, даже чересчур спокойно продолжал скальд. — Представь себе… Но нет, я не хочу портить тебе настроение. Не желаю! Может, боги распорядятся иначе. Есть на свете О́дин, и он многое может изменить в человеческой судьбе.
— Ты истинно веришь в богов? — спросил Кари. — Помнится, ты однажды усомнился в их существовании…
— Когда это было? — насторожился скальд.
— У этого самого очага. После неудачной охоты.
Скальд улыбнулся:
— После неудачной?.. Это бывает…
— Ну, а сейчас?
— Мы когда-нибудь поговорим об этом… — уклонился скальд. — Повторяю: боги могут распорядиться нашей судьбой по-своему… И тогда — при особых обстоятельствах — я могу оказаться неправым. И ты сможешь обвинить меня в обмане.
— Никогда! — пылко воскликнул Кари.
— Не торопись! У меня перед тобою еще одно преимущество, которое заключается в том, что я тороплюсь меньше тебя.
— Это хорошо?
— И да, и нет.
В словах скальда было так много неопределенного, этого самого «и да, и нет», что Кари так и не смог уяснить, куда же, к чему же все-таки клонит скальд и почему почти все его ответы содержат оговорки?
— Почему? — удивился скальд. — Ты этого еще не уразумел? Но ведь это же главное! Весь разговор наш именно об этом самом главном!
Кари подбросил дров в очаг.
— Мы с тобой, Кари, говорим о жизни. То есть о самом главном. А ведь она сложна. Очень сложна! И нельзя говорить о ней без оговорок. Это тебе не стрелу запускать в зайца! Да и при этом не всегда знаешь, попадешь в него или промахнешься. Я прожил полсотни зим. Как ты думаешь, смыслю я кое-что в этой самой жизни или нет?
— Наверное, — проговорил Кари.
— Ты мог бы сказать и тверже, увереннее… Впрочем, суть не в этом. Жизнь каждого из нас висит на волоске. Каждого из нас подстерегает смерть. Она, может, уже здесь, за дверью.
Кари оглянулся — живо, точно его окликнули. Никого за спиной! Коричневая тяжелая дверь, коричневые стены. Скальд продолжал:
— Ты не думай, что о ней размышляют многие. Напротив, многим кажется, что ее и вовсе нет в помине. Ты помнишь эту гнусную стычку на Форелевом ручье? Помнишь, как тонул в воде один из этих разбойников? А ведь они и не думали о смерти за ночь до этого! Не думали!
Скальд затрясся от злости. Но на кого же злился он? Может, на самого себя? Кари этого не уразумел.
— Знай же, Кари: самый большой враг твой — тебе подобный. В этом весь ужас! Правда, можно и утонуть, переходя через брод, можно выпасть за борт в морскую воду, захлебнуться в высокой волне. Можно замерзнуть в горах, погибнуть в схватке со зверем. Но нет страшнее зверя, чем злой человек.
Скальд уронил голову на грудь. Он дышал тяжело. Кари было страшно видеть этого человека в столь беспомощном состоянии. Может, глоток молока пойдет на пользу скальду?
— Нет, нет! — Он отстранил жбан. — Не это… Нужна справедливость, но где ее взять? — Тейт улыбнулся кривой улыбкой. — Все это, однако, слова. Нужен совет. Вот он: берегись негодяев! Постарайся поменьше таить обиду. Сделай себе верным помощником работу: она тебя отвлечет от дурных помыслов, она поможет тебе найти свою дорогу в жизни. И не связывайся с людьми богатыми, заносчивыми…
Засим последовало долгое молчание. И Кари задал вопрос, который не мог не задать. Он спросил:
— Я понял тебя, Тейт. Но это возможно?
— Что именно?
— Уберечься от всех этих… Ну, негодяев… Ну, заносчивых, богатых… — Кари все туже сжимал сплетенные пальцы рук.
Скальд был честен. Он сказал:
— Думаю, что нет.
И тут же сам себе задал вопрос: «Так в чем же цена всех моих наставлений?»
III
Дело шло к весне. Это чувствовалось во всем.
Журчание талой воды сливалось в большой говор, словно шумел голосами многолюдный великий тинг.
Снежные шапки на горах делались все меньше. Скоро многие вершины вовсе лишатся их.
За очагом повелись совсем другие разговоры: бесконечные зимние воспоминания о временах минувших, о великих берсерках и страшных лесных чудовищах уступили место ближайшим планам. Куда идти весной на рыбный промысел? Кого и когда навестить? Кто заявится в гости? Будет ли тинг и когда? И о чем пойдет разговор на тинге? Кого придется мирить? Кого придется изгонять за преступления?
Заговорили о прославленных силой и смелостью людях, уходивших в море. Одни из них возвращались, другие — исчезали бесследно, и только вспоминали о них родные да любящие девичьи сердца.
Отец Кари Гуннар, сын Торкеля, сказал:
— Удивительное сказывают о землях и островах, которые за морем… Вроде твоих рассказов, Грим. Об этом я слышал не далее как вчера…
Это было началом рассказа. Поковыряв золу длинной палочкой, Гуннар, сын Торкеля, продолжал:
— Если, говорят, плыть на закат солнца, плыть не день, не два и не три, а недели и месяцы, то корабль упрется носом в берег, в нескольких шагах от сочной травы и чудесных зарослей калины. Тюленей, гольца и трески в тех водах превеликое множество. А если пасти корову, то некуда будет девать молоко — такая сочная там трава!
Гостил в эту зиму у Гуннара, сына Торкеля, как уже говорилось, некий Грим, человек не старый, которому едва минуло сорок зим. У него на правой щеке был шрам — глубокий, бугорчатый по краям. Он говорил, что это ему нанес удар некий берсерк, но что тот берсерк получил свое: меч Грима рассек ему голову до плеч — такой силы был удар. Потом Гриму пришлось откупаться золотом и серебром, но не хватило ни золота, ни серебра. И потом он бежал из тех мест, потому и зимовал у Гуннара. Весною сюда могли заявиться родственники убитого берсерка, и тогда Гриму пришлось бы худо. Поэтому он с большим интересом слушал рассказы об островах и землях за морем, на западе. И сам неоднократно возвращался к разговору о них.
Грим никогда не утверждал, что бывал за морем, — для этого нужен прочный корабль и хорошие моряки, опытные в плаваниях.
— Я слышал еще кое-что, — говорил Грим, — даже такое, что удивляет многих видавших виды. Знаете ли вы, например, каков вкус вина в тех краях?
Кто это мог сказать? А Грим продолжал:
— Сказывают, что необыкновенно прекрасен вкус того вина. За морем есть земли, где родится виноград, подобно южным краям. И это вовсе не сказки, хотя близка к чудесной сказке суть этого дела.
Кари поинтересовался:
— А есть ли хотя бы один человек в наших краях, кто сам все это видел собственными глазами?
Грим сказал:
— Есть. И не только в наших краях. На юге тоже знают секрет заморских земель. Разумеется, наиболее смелые из южан.
Кари снова задал вопрос:
— А долго ли плыть туда?
— Я же сказал, недели и месяцы, — заметил Гуннар. — Но точнее не знаю: недели и месяцы тоже имеют свой счет.
— Трудно сказать — сколько, — поддержал его Грим. — Многое, говорят, зависит от ветров и морской волны. Мореходное искусство подчас походит на сказку: оно приносит удачу так же быстро, как в доброй сказке, но может сыграть и злую шутку, как в злой сказке.
Кари слушал очень внимательно.
Гуннар, сын Торкеля, хоть и сам говорил о заморских землях, но полагал, что в этих рассказах много придуманного. Что может быть доброго там, где на ночь исчезает солнце? И тем не менее мысль о том, что есть нечто живое за морем, сама по себе была занятной. Отчего бы не почесать язык по этому поводу?
— Отец, — спросил Кари, — Тейт полагает, что оскорбленный человек может уплыть хоть куда. Даже за море.
Гуннар задумался. Грим опередил его.
— Это он прав, — сказал Грим. — Возьмите, к примеру, меня. Финмарк — моя родина. А где я живу? Ну, где я живу?
— Здесь живешь. У нас.
— Вот видишь! А там, в Финмарке, чуть не каждый второй носит русскую шапку и плюет на всех, кто ему не по душе. Он сам себе во всем хозяин!.. Да вот, видишь, не ужился я там, пришлось податься сюда. Это же очень просто: даже форель знает, где вода чище. А человек — тем паче.
Даже если все, что говорилось у очага Гуннара, принять за сказку, то, слушая ее, можно все-таки почувствовать, что скальд Тейт в чем-то прав. Как ни крути, а можно уразуметь одно: человеку плохо везде — и здесь, и в Финмарке, и на юге тоже. Многие эсты бегут сюда, на побережье, а многие отсюда уплывают к эстам. Сущая форель: ищут, где лучше!..
— Конечно, — сказал Грим, — если приспичит, то побежишь куда глаза глядят. Но лучше постоять за себя и умереть, если потребуется, на пороге своего дома. Однако это очень трудно. Для этого надо быть не берсерком, но почти О́дином — бесстрашным, мудрым, всесильным!
— Это почему же Одином? — спросил Гупнар.
— Разве не ясно?.. Был у меня друг. Там. В Финмарке. Звали его Кетиль. Был он молод, красив станом, ловок на охоте и рыбной ловле. Жил неподалеку от него богатый сосед. Задумал он купить участок леса у Кетиля. Тот не продал. Затем началась всякая всячина, дело дошло до драки, и Кетиль, защищаясь, убил своего богатого соседа. Ему сказали: «Уезжай, уплывай, уходи — тебе грозит смерть». Он ответил: «Смерть следует за нами. Она тоже может ездить, плавать и ходить». Через неделю на Кетиля напали его недруги. Он умер у своих ворот, но не сбежал в другие края. И прежде чем умер, он послал к самому Одину двух своих врагов. Вот как должен поступать каждый!
Кари слушал, слушал и все наматывал, что называется, себе на ус. Он подумал: «Эти люди — многоопытные. Они много страдали. Отчасти — по своей вине. Может, они никого не любили так, как я люблю Гудрид? Кто любит, тот не может рассуждать таким образом ни о смерти, ни о бегстве в далекие края. Не так уж плоха жизнь, как это им кажется».
И он представил себе Гудрид. И ему до смерти захотелось увидеть ее, поговорить с ней.
Он знал, где наверняка найдет ее.
IV
Он шел вдоль берега моря, и под ногами у него была сплошная галька. Редко попадался песок.
Море было спокойно. Отсюда, от самого берега, где резко очерчивается граница между землей и водой почти неподвижной линией, и до самого горизонта море казалось отлитым из голубого металла — так оно было спокойно сегодня. И небо над ним простиралось безоблачное, с жарким солнцем посередине.
На юг шли корабли — весельные и парусные. Четырехугольные алые паруса резко выделялись на синем море и под синим небом. Непонятно было, какая сила влекла их на юг, потому что погода была, можно сказать, безветренная. А вот гребцы на весельных кораблях работали споро, как один человек: взмах — легкий толчок, взмах — легкий толчок… Все точно, словно весла и не касаются воды. Скользят, скользят корабли, будто сказочные…
Кари шел и думал о том, что скоро, совсем скоро явится настоящая весна. Впрочем, она уже на пороге. А холодок — от снегов, которые тают, но никак не растают на горных вершинах, да от глубоких и длиннющих фиордов, откуда трудно выдворить остатки зимних морозов.
С каждым весенним днем все больше кораблей на море. И на север спешат, но это, наверное, не рыбаки. Для ловли рыбы еще немножко рано. Торговый люд торопится на север, везут южные товары, их можно продать очень выгодно, если опередить других. Корабли торговые легко отличить: они размерами превосходят прочие. Весельных пар — дюжина, а то и поболее, штевни почти одинаковые — носовые и кормовые, то есть мощные, вызывающе высокие. Такие суда мгновенно становятся разбойничьими — только пожелай. И паруса у этих особенные: прочные, на тугих и толстых канатах. И мачта немалая — и по высоте, и в обхвате.
У южан уже взыграла кровь по весне. Надоела им зимняя спячка, вот и не медля собираются в северные воды. Есть среди них и такие, которых юг больше не греет: натворил там что-нибудь и ищет теперь безопасного приюта на севере. И наоборот: если нашкодил на севере, то торопись изо всей мочи на юг.
Об этих странных людях Кари думает легко и весело. Они не очень понятны ему: зачем убивать, зачем бежать куда-то, неужели нельзя без всего этого?
Правда, многоопытный скальд Тейт утверждает, что нельзя. Такова, говорит, жизнь. Но кто делает ее, эту жизнь? Сами же! А потом — бегут. Потом дрожат возле каждого брода, каждого хутора. И спят с мечом дедовским или секирой…
Если спросить Кари, поменял бы он на что-нибудь свой отцовский двор и дом, он скажет: нет, не надо мне даже диковинных южных стран, где вечно светит жаркое солнце! Пусть будет со мною бедный, неказистый хуторок, этот фиорд… И еще — возможность хотя бы разок в неделю, хотя бы украдкой посмотреть на Гудрид! Не это ли истинное счастье?
Те корабли, которые плыли на юг, казались более ленивыми, чем те, которые торопились на север. Возможно, это шли в гости в близлежащие хутора. Может, им хотелось поговорить с людьми деловитыми и решительными о летних морских странствиях. Если собираешься на какие-либо острова, которые, говорят, лежат недалеко в море-океане, то, разумеется, надо сговариваться загодя. Тут нельзя терять времени. И корабли надо смолить как положено, и снастями запасаться — рыболовными и прочими, и товарищей подбирать себе по нраву, чтобы не в тягость друг другу. Одним словом, весна несет с собою не только тепло и свет, но и массу забот.
Там, где берет начало фиорд, Кари увидел людей. Они, должно быть, вытащили свой корабль из сарая, вытолкали поближе к песку, где были уложены сосновые бревна. На бревна эти поставили свою посудину и внимательно осматривали ее. На самом деле иначе как посудиной не назовешь его, этот корабль, весел на нем всего шесть пар, штевни небольшие, от киля до борта — не выше человеческого роста. На таком только и ходить по фиорду, но не по морским бескрайним просторам.
Так полагал Кари.
А вот Соти, сын Скаллагрима, который был не самым ближним, но и не очень дальним соседом Кари, был другого мнения о своем кораблике.
— Каждый хвалит свой фиорд, если он даже и меньше речушки, — сказал Соти, повстречавшись с Кари на берегу. — Это известно. Но скажу тебе, Кари, если проконопатить этот корабль как следует да просмолить его на славу — полетит он, подобно птице над волнами. Подобно нырку, когда тот едва касается волн.
Кари обошел кораблик. Киль был отличный: высотой почти с локоть да и по ширине чуть ли не локоть. Такой дубовый, ухоженный, без глубоких ссадин и добротно окрашенный. И он легко — с кормы и носа — переходил в штевни. Ничего не скажешь — красив!..
— Ты прикинь себе, Кари, — продолжал Соти, который был старше своего собеседника. — Вот сидят у бортов по шесть молодцов, один черпает воду, еще один у руля, да трое на корме. Погляди, сколько рыбы может принять наш красавец. Но если кто позарится на наше добро — тому не поздоровится. Дюжина мечей, дюжина секир, копья, которые хранятся вон в том месте, — все это отобьет охоту любому берсерку.
Соти очень хотелось представить свой корабль в лучшем виде, точно он собирался продавать его. Товарищи Соти были заняты своим делом: осматривали сети, стругали тесаками бревна, волокли из сарая на солнышко, на теплый песок толстенные канаты…
— Послушай, Кари, давай отойдем в сторонку и посмотрим на него.
Они подвинулись чуть ли не к самой воде: отсюда хорошо был виден весь кораблик — от штевня до штевня.
— Ты погляди на киль… Его делал мой дед. Сейчас он лежит в тяжком недуге. Но когда-то он был мастер по корабельной части. Он сам выбирал дуб, который пускал в дело. Он говорил: «Первое в корабле — это киль». Что такое корабль без киля? Это все равно что человек без ног. Понял меня?.. А еще любил говорить мой дед: «Душа человека — его корабль. Что такое человек без настоящего корабля?»
Потом они встали со стороны кормы. Присели на корточки, чтобы лучше очерчивались корабельные бока.
— Присмотрись, Кари… Что такое в сравнении с этими боками лошадиные? А? Даже если это лошадь бешеного берсерка? Потом, видишь, от этого места к бортам остов сужается? Чуть-чуть… А у самых уключин — вдруг расширяется. Как у хрустального бокала, сработанного далекими южанами. Посмотри хорошенько, что напоминают тебе эти линии? — Соти показал на левый и правый борта.
— Лук, у которого натянули тетиву…
— А еще точнее?
— Котел для варки мяса?
— Фу! Это ты чего-то загнул… Подумай, подумай получше…
Кари думал, тер себе подбородок…
— Ладно, скажу, — пожалел его Соти. — Эти бока, весь этот остов при взгляде с кормы напоминает чудесные бедра ядреной красавицы…
И торжествующе посмотрел на Кари синими, как само море, глазами…
Кари немного растерялся. Во-первых, это не очень понятно, а во-вторых, не кощунственно ли сравнивать это бездушное судно с бедрами красавицы?
— Ты в этом деле ничего еще не смыслишь, — снисходительно сказал Соти. — Но что ты скажешь, если узнаешь, что на этом корабле я скоро уплыву туда…
И Соти показал на запад. Показал на море, нет — далеко за море.
Кари не то чтобы обомлел, но на мгновенье замер: шутит, что ли, Соти?
— Нет, — сказал Соти. — Я говорю сущую правду. И я буду не один. А этот красавец себя еще покажет!
Кари долго стоял на месте, прежде чем продолжить свой путь вдоль берега тишайшего нынче фиорда…
V
Он увидел ее издали: она стояла посреди зеленой лужайки вся в белом, вся залитая солнцем. Лодочка Гудрид, на которой она приплыла на этот берег, стояла, уткнувшись носом в песчаную отмель.
Что делала Гудрид? Молилась О́дину? Любовалась высоченной сосной? Глядела в небо? Но что там, в небе?
Они не уславливались о встрече. Просто эта лужайка была ее излюбленным местом. Здесь всегда было солнце, если только оно светило на небе и его не заслоняли тучи.
Кари приходил сюда и поджидал ее. Или, придя, уже находил ее здесь. Вот так, как нынче.
Он шел, не хоронясь за кустами. Шел по гальке, шел, хрустя крупным песком, который попадался под ноги. Она стояла к нему спиной, и казалось, что вот-вот растает, как лесное видение, — так легка, так воздушна эта Гудрид!
Когда Кари подошел совсем близко, она обернулась и улыбнулась ему. Точно ждала его на этом самом месте, точно видела его издали так же, как видел ее он.
У него вовсе запал язык — не сказал даже «здравствуй». Он только видел ее улыбку, только ее губы, красные, подобно клюквенному соку, только зубы, чуть обнаженные и очень похожие на снежинки в январские морозы, когда они сверкают под лунным голубым светом.
На ней было длинное шерстяное одеяние из очень теплой домотканой шерсти. Оно было тщательно отбелено и тоже сверкало. Посреди ярчайшей весенней зелени, вся в белом, Гудрид походила на некую жительницу лесов.
Не зная, что и сказать, он подошел к лодке и тронул ее нос. Потом попробовал, прочны ли уключины? Ему показалось, что на донышке больше воды, чем полагалось бы: значит, неважно просмолена лодка или рассохлась и швы незаметны для глаза, но на воде дают о себе знать.
Он не без труда выдавил из себя:
— Эта лодка требует внимания. Водичка на донышке.
— Правда?
Гудрид приблизилась к лодке, заглянула в нее. Она скрестила на груди руки — перед ним словно сверкнули две белые молнии. И ослепили его на мгновенье.
— И в самом деле вода, — сказала весело Гудрид. — А я и не заметила. Села — и поплыла.
Гудрид глядела не на лодку, а на Кари. Он это чувствовал, хоть и не отрывал глаз от лодки, вернее, от ее днища. Но по правде, сейчас Кари не до лодки. Когда Гудрид рядом — у него мешаются мысли. То ли она умеет привораживать, то ли у него лишь одна слабость вместо силы. Одно из двух…
— Придется ее конопатить…
— Лодку? — смеется Гудрид.
— Да, лодку. — Голос у Кари сделался каким-то глухим, точно он говорил из подземелья. — Сначала конопатить, а потом смолить.
— Это недолго? — спросила Гудрид по-прежнему весело.
— Недолго, если делать как-нибудь, — заметил Кари, — а если как следует, то придется повозиться.
Гудрид приметила в траве цветок и сорвала его. Кари только сейчас увидел в ее руках букетик из маленьких цветов.
— Цветы, — сказал он.
— Да. — Гудрид улыбнулась и прижала цветы к груди.
Он не глядел на нее. Только скользнул взглядом по букетику. «Она собирала цветы», — подумал Кари. И почему-то нахмурился. Бог с ними, с цветами, а как быть с лодкой…
— Надо конопатить, — повторил он деловито.
Он был почти сердит: неужели нельзя присмотреть за лодкой, раз на ней плавают? Нет, Гудрид, конечно, ни при чем, не женское это дело. Но куда смотрит отец, чего зевают братья? Если человек живет у фиорда, в двух шагах от воды, то лучший его друг — лодка. Спрашивается: разве так обращаются со своим лучшим другом?
Кари все это высказал вслух. Немного сердито. Немного озабоченно. И довольно громко…
— Кари…
Он молчал.
— Кари, — повторила она.
— Слушаю.
— Мне кажется, что ты прав. Ведь нет ничего проще, как просмолить лодку. Немного вару, немного пеньки.
— Верно. Мне рассказывали про одного самонадеянного жителя севера. У него был корабль. И он поплыл на нем с двумя сыновьями. Ему говорили знающие дело люди: «Очень сильная течь в корабле». — «А на что же бадейка? — отвечал этот самонадеянный. — Нас трое, и мы выльем всю воду за борт». Сыновья были под стать отцу. Они сказали, что плюют на все, что ходили в море не раз, что море для них что соседняя комната. Такие это были люди.
Он замолчал. Осматривал со всех сторон лодку.
— А дальше? — спросила Гудрид.
— Что?..
— Что стряслось с тем человеком?
— Утонул, конечно. И он, и его сыновья. Не успевали они воду вычерпывать.
Она понюхала цветы, глубоко вздохнула. Все это не ускользнуло ни от его глаз, ни от его ушей. «Нет, — подумал он. — Гудрид существо особенное». И у него сперло дыхание от этой мысли. Он не посмел взглянуть на нее лишний раз.
Она протянула ему цветы:
— Понюхай, Кари.
Он стоял как истукан, не смея шевельнуться.
— Понюхай, какой нежный запах! Такой запах бывает только в эту пору. Потом он делается более острым, неприятно шибает в нос.
Кари походил на обиженного бычка. Глядел исподлобья на воду.
— Понюхай же, Кари…
Он с замиранием сердца наклонился чуть книзу, к ее руке. Вроде бы понюхал цветы. Но ему показалось, что аромат исходит от ее пальцев: они были тонкие, почти прозрачные и нежные, как облака в летний день.
— Гудрид, — промычал он, — ты когда приплываешь сюда за цветами?
Она расхохоталась. А он обмяк, слушая ее веселый смех.
— Кари, я приплыла…
— А когда же еще раз?
— Еще раз? — Гудрид снова прижала цветы к своей груди. — Не знаю. А что?
— Просто так. Хотел сказать тебе кое-что…
— Снова про лодку, что ли?
Она осмелела. Стала перед ним так, что он даже не мог отвести глаза в сторону.
— Зачем про лодку? — проговорил он.
— А про что?
У нее были золотистые волосы, словно бы они из солнечных лучей. Глаза — большие-большие. Он не мог еще раз не посмотреть на пальцы, державшие цветы: неужели они из плоти, как у всех?
Кари сказал, что у него на уме нечто важное. Что он желает открыть ей тайну. Что он мог бы хоть сейчас сказать об этом, тайном, да время поджимает, надо, дескать, торопиться…
— А куда ты торопишься, Кари?
— К скальду.
— Тейту?
— К нему.
— Не люблю его.
— Почему? — поразился Кари.
— Сама не знаю почему. Я боюсь мужчин, которые живут в лесу, у которых нет ни жены, ни детей.
Она подошла к лодке, чуть приподняла подол и уселась на узкую перекладину.
— Кари, ты подтолкнешь лодку?
Он ничего не ответил. Уперся ногами в песок, а руками в нос лодки. И легко спустил ее на воду.
— Надо просмолить, — сказал он громко.
Гудрид взмахнула веслами.
«Кажется, улыбнулась», — сказал он себе, стараясь не глядеть на лодку,
VI
Сколько он простоял столбом на берегу фиорда? Кари этого точно сказать не мог.
Когда же он, услышав какой-то треск за спиной, повернулся к чаще, увидел перед собой трех всадников. Были они одеты так, словно собирались на битву: в руках у каждого секира.
Кари от неожиданности опешил. А потом, хорошенько разглядев бородатые лица всадников и секиры, сказать по правде, оробел. Да, бородачи ничего хорошего не сулили.
— Кто ты? — спросил один из них.
— Я?
— А кто же еще? Не прикидывайся дурачком!
— Я — Кари, сын Гуннара.
— Которого? Того, что на хуторе у моря живет? Близ Безымянной скалы?
— Того самого.
Спрашивавший был рыж, лицо его было округло и походило на медную тарелку, на которой подают яблоки. Его товарищ, напяливший на голову некое подобие кожаного шлема, походил лицом на лося: вытянутые далеко вперед челюсти и приплюснутый нос. Лошадь третьего — совсем молодого щенка с дурацкими глазами — стояла поодаль.
— Послушай, — продолжал рыжий, — говорят, что ты и твой отец Гуннар вместе с соседями собираетесь на ловлю трески… Правда ли это?
— Правда, — сказал Кари, который никак не мог взять в толк, что же, собственно, происходит и чем вызван этот вопрос.
— Если так, — говорил рыжий, — если ты и впрямь собираешься на рыбную ловлю, если ты, сын Гуннара, полагаешь плыть со своим отцом… то не кажется ли тебе странным, что ты находишься здесь, на этой лужайке, а не там, где чинят снасти, конопатят бока кораблям и запасают ворвани на дорогу?
— Нет, не кажется.
— Это почему же?.. Почему ты так говоришь?
— Каждый говорит то, что думает.
Рыжий переглянулся со своими товарищами. Его, казалось, озадачили слова молодого человека — одинокого и безоружного.
— А по моему разумению, Кари, каждый думает, что ему в голову взбредет, но говорит — лишь трижды подумав.
— Так полагают многие…
Лось открыл рот, чтобы проворчать:
— Уж больно мы заболтались.
— Слышишь? — обратился рыжий к Кари.
— Каждый, кто не глух, слышит.
Рыжий удивился.
— Послушай, Кари, или как там тебя зовут!.. Разве ты ничего не смыслишь? Или прикидываешься простачком? Так знай: моя секира рубит от макушки до паха. Не так ли? — Рыжий с этим вопросом обратился к Лосю.
— Так! — поддакнули и Лось и юнец.
— На то и секира, чтобы она рубила, как полагается, — заметил Кари. Был он с виду очень спокоен. — Плох тот, кто, владея ею, не умеет ею пользоваться.
Лось рассмеялся:
— Да это же настоящий скальд! Где он поднабрался всего этого?
— У скальда же, — объяснил рыжий.
«Им все известно, — подумал Кари. — Следили они за мною, что ли?»
— А все-таки, Кари, ты должен дать ответ.
— Какой?
— Когда ты поплывешь со своими?
— За рыбой?
— Да, за рыбой.
— Это лучше всего знает мой отец.
Рыжий, казалось, едва сдерживал себя. Да и конь его нетерпеливо бил копытами землю.
— Хорошо, — сказал рыжий, — положим, ты — несмышленыш. Хотя, наверное, с удовольствием жрешь форель…
— Я не жру, — мрачно сказал Кари.
Все три сотоварища дружно прыснули. Рыжий сказал, что допускает, что Кари не жрет форель, а вкушает ее, подобно иному конунгу. Вполне допускает!
Вдруг он взмахнул секирой — воздух аж засвистел! — и сказал громко:
— Ну, вот что: я соглашусь с тобой, что ты ничего не знаешь о том, куда и когда уплываете вы за рыбой, но ты должен ответить и без промедления: зачем ты здесь, на этом самом месте, на этой зеленой лужайке, в это время?
«Наконец-то он спросил о том, что его больше всего интересует».
— Разве это твоя земля? — спросил Кари.
— Нет!
— Разве я твой раб?
— Нет! — У рыжего брызнула слюна.
— Объясни мне: в чем же я должен давать тебе отчет?
Кари рассудил так: «Если до сих пор они не убили меня, то несомненно хотят услышать от меня нечто…» И в этом он оказался прав.
Рыжий, казалось, набрался терпения. Он сказал:
— Здесь ты был не один.
— Верно.
— Здесь была Гудрид.
— И это правда.
— Что тебе от нее надо?
— Мне? — удивился Кари. Он не рисовался. Нет! Он и на самом деле не знал, что ему нужно от Гудрид. Он тянулся к ней, как растение к свету, к солнцу. Почему тянется растение? Кто на это может дать ответ? Да никто! Сам О́дин, создавший все сущее, едва ли ответит на это.
Почему он тянется к Гудрид? Может, оттого, что зубы у нее, как снежинки белые? Или потому, что голос ее звучит не так, как у других девушек?
Кари на мгновенье забывает, кто стоит перед ним и кому дает он ответ. И простодушно разводя руками и глядя прямо в глаза рыжему, тихо шепчет:
— Не знаю.
Рыжий поразился не столько словам Кари, сколько его позе — беспомощной, непонятно искреннему тону и глазам, чуть увлажненным.
— Не знаешь? — вопросил рыжий.
Он еще раз переглянулся с сотоварищами и пожал плечами.
Кари молчал. Было слышно, как шелестит листва в лесу, как поют птицы…
— Ладно. Заболтались, — сказал рыжий. — Так и быть: поверим, что ты ничего не знаешь. Но отныне знай одно… — Рыжий приподнялся на стременах и снова взмахнул свистящей секирой. — Знай одно и крепко заруби себе на носу: Гудрид не для тебя! Я говорю: ты ей не пара! И еще заруби: есть некий берсерк, который думает о Гудрид больше, чем ты. И который — настоящая пара Гудрид. Если ты захочешь поговорить с ним и услышать об этом сам, собственными ушами — приходи завтра в это же время к броду на Форелевом ручье. На всякий случай можешь вооружиться: тот витязь всегда готов к бою… Понял? А теперь наше последнее слово: оставь в покое Гудрид!
И прежде чем Кари смог что-либо сказать, всадники исчезли в лесу.
Он слышал только топот их коней.
Да и то недолго…
VII
Гуннар явился домой. Было далеко за полдень.
Спросил хозяйку:
— Где Кари?
— Разве не на берегу? — удивилась хозяйка.
— Нет, — сказал Гуннар. — Может, на берегу, но не на том, где ему полагалось бы быть.
VIII
Скальд сказал:
— Эти всадники — не просто дерзкие люди. Они говорили не сами по себе, но по поручению. Если ты спросишь, от чьего лица говорили они, — отвечу тебе так: вспомни случай на Форелевом ручье. Тот, который утонул, тут ни при чем. Но ведь братья его остались в живых. Так кто же из них сватается к Гудрид? Фроди или Ульв?
— Она ничего о них не говорила… — сказал Кари.
— А ты ее об этом спрашивал?
— Нет. С какой стати?
Скальд Тейт очень удивился его словам.
— Послушай, Кари, — сказал он, — ведь ты же приходишь на зеленую лужайку. Верно говорю?
— Да, верно.
— А зачем? Чтобы увидеть Гудрид?
— Да.
— Увидеть, чтобы поговорить?
— Да… Но…
— А поговорить, чтобы кое-что уяснить себе? — жестко продолжал скальд.
Кари покраснел:
— Не знаю.
— Как это так — «не знаю»?
Кари молчал.
— Ты уже вышел из того возраста, когда мало смыслят. Эти молодцы нынче дали тебе понять, кто ты есть. Ты можешь уразуметь, на что они намекнули? Если только все случившееся можно назвать намеком.
Кари было ясно: это все из-за нее, из-за Гудрид. Но ведь он-то, Кари, ничего дурного не сделал. Он и в мыслях не держал, что кто-то еще интересуется ею.
Тейт в нетерпении хлопнул себя ладонями по коленям. Он сидел на бревне перед своей хижиной, и солнце согревало его. Скальд внимательно осмотрел своего молодого друга, словно видел его впервые. И сказал:
— Кари, ты молод. Есть в тебе привлекательность, которая подобает мужчине. А душа твоя чиста, и глаза твои видят только то, что освещено весенним солнцем. Я тебя сравнил бы — не тебя, а твою душу, твое сердце — с чистой поверхностью гранита, на которую еще не нанесли таинственные знаки. Это отличает тебя от многих других в лучшую сторону, но кое в чем и вредит тебе. Пойми, я это говорил не раз: трудно в наше время на нашей земле человеку чистому, честному, доброму.
— Я, как видно, кому-то мешаю…
— Именно! — Скальд снова ударил ладонями по коленям. — Мешаешь и даже очень.
— Что же делать, уважаемый Тейт?
Тейт не задумывается:
— Бросить ее!
— Кого?
— Гудрид!
— Бросить?.. Как?.. Куда?.. Она же не щепка, не камень.
— И тем не менее — бросить!
Если Кари не сразу понял тех всадников, то еще загадочнее выглядел нынче скальд. О чем он говорит? И что значит «бросить Гудрид»?
Скальд пояснил. Оп пытался вразумить молодою человека.
— Бросить — значит оставить в покое.
— А разве она не в покое?
— Но ведь ты-то с ней о чем-то говорил?!
— Говорил.
— О чем же?
Кари пытался вспомнить. А скальд ждал, что скажет Кари. И он дивился тому, что так долго можно вспоминать то, что совсем недавно говорил возлюбленной.
— Она стояла поодаль… Она собирала цветы!.. Дала мне понюхать их… Она стояла вон там, а я вот здесь… — Кари точно обозначил места.
— Постой, — перебил его скальд. Он поморщился, как от очень кислой, неспелой морошки во рту. — Ты совсем не о том… Ты стоял… Она стояла… Я спрашиваю не о том. О чем же был разговор? Ты объяснился в любви?
Кари, кажется, испугался.
— В любви?! — воскликнул он. — Что ты! Этого у меня не было в мыслях! Я смотрел на нее… Светило солнце… Зелень вокруг…
Скальд чуть не расхохотался.
— При чем тут солнце? При чем зелень?
— Да, еще про лодку шел разговор меж нами.
— Про какую это лодку?
— На какой приплыла на лужайку Гудрид.
— И зачем далась тебе лодка?
— У нее была течь…
Опять себя хлопнул по коленям скальд.
— Нет, ты просто мальчик! Я спрашиваю про любовь, а ты — про лодку, про какую-то течь. — Скальд глубоко вздохнул. — Ладно, слушай… Видимо, кто-то из этих, ну, из тех самых головорезов с Форелевого ручья домогается твоей Гудрид. Жениться хочет. Так я полагаю. А ты стал поперек. Это понятно?
Кари чувствовал себя неловко. Никого с Форелевого ручья он не знал по-настоящему. Да и Гудрид ни о ком ни словом не обмолвилась ни разу. И ни на чьей дороге он, Кари, не стоит. У каждого своя дорога. Вот и все!..
— О, великий О́дин! — Скальд воздел руки к небу. — Что слышат мои уши?! Разве я не предупреждал тебя?
— О чем, Тейт?
— Что живем мы в страшном мире.
— Я помню…
— Нет, ты ничего не помнишь!.. Уразумей одно: тебя предупредили. Тебе сказали: уйди с дороги!
Кари поднял булыжник и швырнул его в воду. Далеко полетел камень.
Скальд усмехнулся:
— Силенок у тебя достанет… А вот ума?
— И ума! — самонадеянно сказал Кари.
Скальд скорбно покачал головой: мол, это большой, очень большой вопрос. Ум и сила — вещи разные.
Тейт сжимает пальцы в кулак, аж хрустят суставы. Он говорит наставительно:
— Хорошо вот так: ум и сила! Только так!
— Так что же мне делать, уважаемый Тейт?
Скальд подымается с места, кладет руку на плечо Кари и идет с ним к самому краю воды. А потом — вдоль воды. Он не спешит с советом. Обдумывает слова.
— Вот что, Кари, — говорит он. — Первое: уплывай на рыбную ловлю. Это пойдет тебе на пользу. Второе будет посложнее: не ходи ты на эту зеленую лужайку…
— Как?! — Кари застывает.
— Просто: не ходи! Поищи себе другую.
— А Гудрид?
— Разве она одна на свете?
Кари хватает скальда за руки, сильно сжимает их и, чуть ли не плача, восклицает:
— Одна! Одна! Одна!
IX
Корабль Гуннара уже неделю стоял на берегу. Его общими усилиями — Гуннара, Кари и соседей — вытащили из сарая, где он пробыл всю зиму. Соседи Гуннара, по имени Скамкель, сын Траина, и Map, сын Мёрда, тоже готовили свои корабли к плаванию. Работы хватало на всех: мужчины тщательно осматривали дубовую обшивку кораблей, чинили паруса и рыболовные снасти. Женщины запасали для них еду, латали одежду, вязали теплые чулки.
Гуннар с соседями ходил не раз на север. Были удачи, случались и неудачи. Возвращаясь с уловом, порой недосчитывались одного, а то и двух — ведь море часто требует жертв. Это уже закон, так создал О́дин этот мир.
Скамкель, сын Траина, — мужчина, перешагнувший за сорок зим, многократно плававший и на юг и на север, собственными глазами видавший клыкастое чудовище, живущее во льдах, — сказал Гуннару:
— Не нравится мне твой парус. Не кажется ли тебе, что нижняя часть немного сопрела? А северные ветры как раз того и ждут.
— Вижу, — ответствовал Гупнар, — но не приложу ума, что делать.
— Отрежь эту сопревшую часть, а я дам тебе кусок крепкой ткани. Можно подумать, что такой способ не известен тебе.
Гуннар сказал на это:
— Известен, конечно. Но латаный парус — словно латаные башмаки. Разве это к лицу настоящему моряку?
— Все зависит от того, как залатать. Если хорошо пришить, так шов будет крепче целого места.
— Это верно…
Гуннар любил, чтобы на корабле все было ладно. Чтобы парус как парус, руль как руль: послушный, легкий и в то же время мощный, чтобы мог он сладить с любой волной и любым течением. А еще и корпус: это — главное. Весною здесь обычно на весь берег пахло варом: это Гуннар смолил свой корабль — основательно, со знанием дела, неторопливо. Он был хозяин рачительный, все у него стояло на своем месте и все шло в свое время в дело — до последней щепы.
Была работа у Кари, и немалая: он внимательно, как наказывал отец, осматривал каждый шов, каждый стык и выковыривал все трухлявое или сопревшее за зиму. Кари работал по левому борту, отец — по правому.
— Сын мой, — еще ребенком слышал Карп, — что есть первый друг человека?
— Корабль, — отвечал мальчик.
— А самый первый враг корабля?
— Вода.
— Верно, сын мой. Поэтому никогда не уставай вовремя конопатить днище и борта. И смолить как положено.
Вот они и конопатили и смолили корабль — от зари до зари. А дни уже стояли длинные.
Вечерами у очага рассаживались мужчины. Напротив них — женщины. Пахло жареным мясом. Пахло сладким дымом…
Скамкель — мастак на разные россказни — говорил:
— Когда мы шли на север за треской, занесло нас течением далеко на запад. И ветер дул на запад. Гребцы выбивались из последних сил. И попался нам остров. Очень небольшой, чуть побольше твоего двора, Гуннар. Он лежал немного справа по курсу, и носовой штевень приходился по самой левой береговой кромке острова… И вдруг остров зашевелился…
На этом месте Скамкель умолкал. Дети жались к матери, затаив дыхание, ждали, что же будет дальше, а взрослые улыбались: они надеялись, что все обойдется, все переборет корабль, на котором место кормчего занимал сам Скамкель. Хотя рассказы о живых островах и не были в диковинку, однако лишний раз было любопытно поговорить о них.
Следовало попросить (это уже знали все):
— Дальше, Скамкель, дальше… Что же стряслось с тем живым островом?
— А кто сказал, что он живой?
— Ты сам. Только что.
— Нет.
— Как — нет? Он же двигался.
— Не двигался, а шевелился. Это вещи разные. Ветер шевелит деревья. О́дин может пошевелить даже гору.
— Будь по-твоему, Скамкель. Скажи, ради всех богов, что было после?
— Так слушайте же. Остров и на самом деле зашевелился, как если бы это было живое существо.
— Рыба, что ли? Кит?
— Да, может быть. Но рыба — огромная, необъятная. Только не вся рыба, а ее спина. Это надо вообразить себе! Огромная спина, а какова же сама рыба? От хвоста до морды, которые были погружены в воду. А? Какова, спрашивается? Был с нами некий Торгейр. Детина с мачту, а грудь — пошире и прочнее штевня носового. Он мог один съесть половину жареного лося и выпить полбочки пива. Этот самый Торгейр, увидев остров, который ворочался, подобно огромному моржу, упал за борт. «Торгейр за бортом!» — крикнул рулевой. А уж было сумеречно, солнце давно село на воду и погасло. Наш корабль несло на остров, правда, чуть левее его. А вода уже вся почернела от сумерек, стала точно железная, только урчала немного под днищем корабля…
На этом месте каждый вел себя по-своему: кто неприметно улыбался, кто и взаправду, разинув рот, дивился рассказу, а кто из детей дрожал от страха и крепче жался к старшим. Так бывало всегда, когда рассказывал свои были-небылицы этот самый Скамкель.
Однако же от него неизменно требовали окончания всей этой истории, и Скамкель продолжал так:
— «Торгейр за бортом!» Разумеется, это несчастье. Первое дело моряка — бросаться на помощь. Кидать конец в воду или самому прыгать. Это — смотря по обстоятельствам. И вот случилось так, что все загляделись на этот самый живой остров, как вы его называете. Ведь если это какое-то морское чудище, оно может перевернуть корабль, и тогда помощь понадобится не только Торгейру, а и каждому из нас. Но кто тогда поможет? Лишь бог, великий Один. Да и тот — едва ли… Мы ждали, что будет, а рулевой налегал на весло и направлял корабль левее, все левее кромки. Он знал, что следует делать.
— Постой, Скамкель, если человек за бортом, то как же можно плыть, да еще поворачивать куда-то влево?
— А что прикажешь делать?
— Хотя бы бросить конец.
— Бросить конец? А разве я не сказал, что бросили? Какой же я дурак! Конечно же бросили!
— И он ухватился за него?
— Кто — он?
— Торгейр.
— Ах, он… Нет, он не стал хвататься. Когда мы приблизились к кромке, нам рукой махал сам Торгейр. Он стоял на острове, или на рыбе, или морском чудище, — называйте как угодно! — и махал нам рукой. И при этом что-то кричал.
— Он просил о помощи?
— Кто мог определить это? Нас несло мимо. Не было никаких сил удержать корабль. Он плыл точно форель на самой что ни на есть речной быстрине. Нас унесло далеко, а Торгейр со своим островом исчез в темноте.
— И он остался на острове?
Скамкель молчал.
И вскоре уходил. Все так же молча. Выговорившись вдоволь.
Наверное, была это пустая болтовня, но слушали его с большим интересом.
X
Скальда Кари нашел на болоте. А где же быть ему, если в яме, что за домом, лежат поленья и заготовлена болотная земля?
Эта яма служила Тейту большую службу: он в ней выплавлял железо, которое потом ковал с превеликим мастерством. Недаром же говаривал он: «Я полагаю так: то, что я скую, — получше моей песни, даже той, которая из самой глубины души». Кари не всегда соглашался с этим: у скальда бывали песни незабываемые. А это кое-что да значит!
Тейт стоял в болоте по колено и лопатой добывал бурую землю. И все это он раскидывал вокруг себя, чтобы скорее высохло на солнце.
Скальд объяснил:
— Я хочу выковать для тебя меч. Ты обязан носить его. Не маленький! Да и сам ты, наверное, почувствовал себя не очень уютно, когда перед тобой выросли, как из-под земли, те три всадника. Верно говорю?
— Да, — признался Кари, — у меня по спине пробежал холод. Но не от трусости…
— Это неважно — отчего.
— Нет, важно. От неожиданности, Тейт. Я как бы проснулся от сладкого сна и вдруг увидел этих… Прямо перед собой…
— Теперь это уже не имеет значения… Бери вон те сухие комья и тащи к моей кузне. И постарайся измельчить их в той каменной ступе. И уголь измельчи, пока я копаюсь в этой грязи.
Кари принялся исполнять все так, как велел скальд.
Сухие бурые комья он относил к кузне, точнее — к яме, вырытой у кузни. В этой яме умелый скальд — мастер на все руки — и выплавлял железо.
Яма была особенная. С локоть глубиной и размером небольшая: шаг на шаг. Обмазана была яма желтой глиной, и глина та поднималась над землею, подобно крошечным бортам высотой с пол-локтя. В яме лежали камни, добытые с ближайшей скалы. А под камнями — сухие поленья. Четыре канавки вели к этим поленьям — четыре поддувала, чтобы жарче горело пламя.
Кари стал размельчать комья. Они были на вид прочные, но быстро рассыпались в порошок под каменным пестом. Недалеко был устроен деревянный настил, куда надлежало складывать размельченную бурую землю, которая, как показалось Кари, бурела на солнце все больше. Особенно после того, как ее потолкли в ступе.
Скальд пришел посмотреть на работу своего друга и остался доволен.
— Ты — настоящая мельница, — похвалил он.
— Теперь приняться за угли?
— Пожалуй, — сказал Тейт. — Работаешь ты отменно. Однако надо тебе поучиться и мечом владеть… Да, да. Ты это скоро поймешь и без меня. Да боюсь, чтобы не было поздно.
Кари поднялся и уставился на скальда долгим вопросительным взглядом. А скальд смотрел поочередно то на камни, то на бурую измельченную землю, то на древесные угли. Он, казалось, что-то соизмерял про себя… А потом сказал:
— Я же тебя предупреждал.
— О чем?
— Что ты живешь в страшном мире.
— А Гудрид?
— И Гудрид тоже.
Вот в это никак не верилось. Слова «страшный» и «Гудрид» взаимно исключали друг друга. Не может быть того, чтобы что-либо угрожало этому созданию, которое случайно очутилось на берегу фиорда, недалеко от хутора, где живет Кари! Нет, только самое нежное, самое светлое и самое сладкое, что только бывает на свете, вправе быть рядом с Гудрид…
Он говорил об этом сбивчивыми словами, да так горячо, что скальд удивился.
Тейт отступил на шаг, чтоб получше видеть всего Кари. Он был приятно удивлен: нет, это хорошо, когда молодой человек горячо и даже самозабвенно верит в добро и свет. Он долго разглядывал своего друга, но больше ничего не сказал.
Он направился в хижину и принес миску, наполненную густой жидкостью, дурно пахнувшей. Она тоже была цветом в эту бурую землю, даже чуть потемнее.
— Это я выварил из костей, — пояснил скальд. Он опустил палец в миску, которую поставил наземь, и палец оказался словно в густом меду. Только аромат был вовсе не медовый.
— А теперь продолжай дело, — сказал скальд. — Когда перемелешь весь уголь — кликни меня.
И ушел опять на свое болото.
Кари мельчил уголь, а думал о Гудрид. Кари сыпал уголь на правую сторону настила, а думал о Гудрид. Она стояла перед ним как живая. Ему даже хотелось порой заговорить с ней.
«Как я уплыву на север? — размышлял он. — Если мир так страшен, как о том твердит Тейт, что же станется с Гудрид, когда я буду тянуть сети с рыбой? Нет, мое место здесь, рядом с Гудрид!»
Но тут же кто-то другой, вроде бы двойник его, вопрошал: «А по какому такому праву? И кто она тебе? И на что же у нее родители, братья и сестры?»
Потом снова появился скальд. Осмотрел все, что было уже сделано и им самим и Кари.
— Слушай, — сказал он. — Золото очень дорого. Но есть нечто, что дороже золота, ибо от него зависит жизнь. И твоя и твоих близких. Это есть то самое, что вскоре добудем мы с тобой. И добудем не из чего-либо особенного, а из этой самой болотной земли. Это и есть волшебство. Им овладели люди мудрые и передали его нам, не достойным их… Мы с тобою сейчас смешаем эту измельченную землю с этим измельченным углем. Мы добавим к этой смеси вот эту вонючую жидкость, добытую из костей. Потом мы скатаем из них шары наподобие мячей, которые мастерят из воловьей шерсти. А потом — ты внимательно слушай — потом мы положим эти мячи на камни, которыми выстлано дно этой ямы и под которыми сухие еловые поленья. Мячи переложим древесными углями и снова поверх углей положим мячи. И так до тех пор, пока не сравняется все это с бортами, что слеплены из глины. И тогда мы с тобой подожжем поленья и будем поддерживать жаркий огонь. А еще позже…
Тут скальд от удовольствия прикрыл глаза. Он взял за руку Кари и сильно сжал ее.
— Когда закончится все это волшебство с огнем, болотной землей и углем, — продолжал скальд, — когда уймется огнедышащая стихия и охладится зола, вон там… — скальд указал на дно ямы, — вон там мы найдем то, из чего я выкую для тебя меч. Я закалю тот меч не в воде, а в чистом коровьем молоке. И ты опояшешься тем мечом, и я тогда погляжу на этих трех хвастунов, что предстали перед тобой на лужайке. На этих трех и на других.
Скальд поднял глаза к небу. И в глазах его голубело нечто, чему нельзя было не довериться.
XI
Нынче Гудрид провела на заветной лужайке полдня. И удивилась отсутствию Кари. И ей взгрустнулось. Вдруг ее перестали интересовать цветы, синее небо и синяя вода.
И уплывала она к себе, на тот берег смущенная, чуть ли не со слезами на глазах. А потом подумала: «Чего это я? Ведь мы же не уговаривались…»
XII
Все было готово к отплытию: три корабля стояли на якоре недалеко от берега. Море было спокойное, и корабли, казалось издали, не спущены еще в воду. Их кормовые штевни упирались в самый песок.
Три костра горели на берегу. В огромных котлах варились жертвенные животные, только что принесенные в дар великому О́дину и тем, кто незримо благоприятствует мореходам и милосерден к терпящим бедствие. Особо было воздано должное тем, кто щедр к рыбакам и гонит в их сети рыбьи косяки.
Женщины передавали уплывающим последние мешки с сухими лепешками и вяленым мясом, и сосуды с пресной водой, и ковши деревянные, которые всегда сгодятся плывущим в море, и амулеты с тайными знаками, обороняющими от нечисти.
Скальд Тейт, как всегда, остался верен своему слову: он принес то, что обещал. Это был меч, выкованный им и отменно отточенный. Он был вложен в деревянные ножны, обтянутые оленьей кожей. И пояс, которым надлежало опоясаться носящему меч, тоже был из хорошо выделанной кожи оленя, украшенной серебряными бляхами. Пояс был шириною в три пальца — очень прочный и очень красивый! Такой был впору любому конунгу.
Кари любовался подарком Тейта. Драгоценный подарок! Они вдвоем стояли в стороне и могли спокойно и откровенно поговорить.
Скальд достал меч из ножен и вырвал волос из бороды своей. И коснулся тем волосом лезвия меча, отливавшего чистейшей родниковой струей. Волос легко распался на две части.
— Этим мечом, не будь он таким большим, можно смело побриться, — сказал Тейт. И улыбнулся.
Кари сказал, что ничего подобного никогда не видел.
Скальд сказал:
— Путник, который только-только покидает родной порог, еще многого, конечно, не видел. Но впереди у тебя нескончаемая дорога. Ты увидишь многое, о чем и не помышлял.
Но Кари думал совсем о другом. Он думал крепко. И не мог не сказать об этом. А скальд, казалось, только того и ждал.
— Тейт… — И Кари замялся. «Продолжать ли?» — вдруг промелькнула мысль. — Тейт… Я буду ловить рыбу, черпать воду из корабельного чрева, ставить парус, может, править рулевым веслом, но сердце мое останется здесь…
— С нею? — улыбнулся скальд.
— Да. С нею.
Голос Кари дрогнул. Кари даже немного побледнел.
А скальд все предвидел, знал наперед все его мысли. Кари был для него вроде бы муравьем, за которым скальд следил сверху, с высоты своей жизни, своего опыта.
— Вот что… — сказал Тейт немного в сторону, точно желал, чтобы его услышал кто-то еще, кто-то отсутствующий здесь. — Много еще в жизни у тебя будет расставаний. Надо уметь жить, любить. Но надо научиться и великому искусству расставания. Впрочем, тебе рано еще думать об этом. Плыви спокойно. Помогай отцу. Надо жить. Но чтобы жить, надо и рыбу поймать, и хлеб посеять, и убрать его. И любить надо. Непременно! Что же до Гудрид — я скажу ей: «Кари думал о тебе, уплывая на север. Кари думает о тебе, плавая на севере».
— Это правда, Тейт? Ты скажешь ей?
— Можешь быть спокоен.
Гуннар окликнул сына. И скальд сказал:
— Иди! — И, повернувшись спиною к Кари, удалился, шагая крупно, точно его ожидали важные дела.
— Куда это он? — спросил Гуннар сына.
— Он ушел.
— Я это вижу… А это что?
— Меч.
Гуннар взял меч из рук сына, потянул на себя рукоять.
— Отменный, — сказал он. — Он подарил тебе?
— Да.
— Дорогой же подарок! Этот меч соблазнит любого конунга. Но рыба не боится его. Оставь его дома. Мать сохранит его в моем ларе.
— Нет, — возразил Кари. — Он будет со мной.
— Значит, штучка наговорная, — рассмеялся отец. И махнул рукой: забирай, мол, дело твое.
В это время Свейн, сын Асбьёрна, — старец бородатый и согбенный — провозгласил молитвенное слово, обращенное ко всем богам. Он очень молил их, прося одарить славных рыболовов отменным уловом и оградить от разных несчастий, подстерегающих каждого плавающего в море. И от огромных животных — бородатых и клыкастых, и от невероятных рыб, способных ударом хвоста потопить корабль. Просил уберечь от волн, катящихся на просторе, точно дюны, не знающих преград и поглощающих все живое…
Старец Свейн произносил слова торжественно, во всеуслышание. По правую руку от него стояли мужчины, по левую — женщины и малолетние дети.
Мужчины были спокойны. Женщины волновались. А дети почему-то радовались: то ли трапезе, которая вот-вот последует за словами старца, то ли зрелищу, которое предстояло увидеть. Не каждый день можно полюбоваться на стройные корабли с красными парусами, на бородачей, сидящих с веслами на скамьях, и молчаливых кормчих у рулевых весел.
Старец начал раздавать куски мяса, которое подавали ему прямо из котлов. Он клал их на пустые глиняные тарелки, где уже лежало по большому куску хлеба. Потом Бьярни Хромоногий разлил по чаркам брагу, и выпили все. Пригубили и дети.
А потом рассаживались по кораблям. Прощались с детьми и женами, с отцами-стариками и матерями-старухами и занимали свои места на корабле.
Гуннар был за кормчего и должен был повести свой корабль первым. За ними — два остальных.
Когда все отплывающие перешли на корабли, а их родичи столпились на берегу у самой воды, старец Свейн провозгласил громким голосом, столь громким, что многих даже удивил:
— Я видел сон. Это был вещий сон. И не далее, как нынче ранним утром. На небе светило солнце, а вокруг него сияли звезды. Сияли так, как никогда не сияют они, ибо был день. И я услышал голос, причем явственно: «Это солнце не зайдет никогда, и звезды всегда будут светить ярко». Я скажу вам: это относилось к нам, ко всем нам. А еще я видел рыбу, и она сказала человеческим голосом, нашими понятными словами: «Солнце и звезды помогут кормчим». Слушайте меня внимательно: это так и будет!
В эту минуту старец Свейн выпрямился, точно никогда не был согбенным.
Но вот взлетели кверху весла. Всплеснулась вода: носовые штевни разрезали ее.
Кари смотрел на мать, на бабушку старую, на сестер своих. И вдруг почему-то посмотрел в сторону леса. Было до него шагов двести.
На темном фоне зелени стоял неподвижный мужчина. Это был скальд.
Часть третья
I
Рыбаки вернулись из дальнего плавания с богатым уловом. Ловили они рыбу у берегов острова Сольскель и у острова Хравниста, что возле Земли Наумудаль. И далее на север плавали и видели в море льдины — правда, не очень большие.
Изведали они и штиль, когда вода — что на блюдце, и в бурю шли, когда валы нависали над палубой точно скалы.
Кари выказал себя человеком смелым: твердо держал рулевое весло, когда это поручали ему, и не единожды спасал парус, цепко удерживая его за канат или отпуская канат, чтобы ловко приноровиться к ветру, пытавшемуся изорвать парус в клочья. Словом, Кари вдруг обернулся человеком незаурядных качеств морехода. Может, по наследству от отца.
Плавание, как обычно, не обошлось без беды. Ивар, сын Семунда, из местечка Зеленое Болото был смыт морской волной и пошел ко дну. Объяснить это можно только чистой случайностью, ибо это был муж опытнейший, не раз ходивший на север.
Долгое время вялили и солили рыбу, заготовляя ее на зиму. Кари помогал отцу все дни и ночи, пока улов, приходящийся на долю его семьи, не был должным образом обработан.
Скегги, отец Гудрид, который плавал по своим делам и достиг Халогаланда и жил там у друзей — торгового люда, приходил посмотреть, что делается в доме Гуннара. И очень хвалил он тех, кто плавал в северные моря и целым-невредимым возвращался с добычей. Потом они говорили об Иваре, сыне Семунда, которого смыло волной в сильнейшую бурю.
— Мы сказали ему, — объяснял Гуннар, — чтобы покрепче держался, а еще лучше — привязался бы за носовой штевень, потому что в это время был он за впередсмотрящего. Но он упорно полагался на себя.
— Нельзя упорствовать, — сказал Скегги, — когда имеешь дело с морем. С ним надо уметь ладить. Ведь оно часто походит на человека, потерявшего разум.
— Это так, — согласился Гуннар.
— Иной раз приходится и глотку надорвать, чтобы спасти неразумного или слишком самонадеянного.
— Я это пытался делать, — сказал Гуннар в свое оправдание.
— А то и силу надо применить: ведь море не любит шуток.
— Дело до этого не доходило.
— Что случилось, то случилось, — сказал Скегги. — Видно, так решил сам О́дин… Приятно, что Кари выказал и смекалку и смелость.
— Какую? — спросил Гуннар, словно первый раз слышал об этом.
— Да все говорят…
— Ничего особенного. Так положено в его годы.
— И все-таки — он молодец!
Гуннар промолчал: ведь не очень-то удобно своего собственного птенца хвалить. Пусть лучше об этом другие говорят.
Гуннар поинтересовался тем, что делается в Халогаланде и удачной ли была поездка Скегги.
— Уж куда лучше! — сказал Скегги. — Мне надо было повидать неких купцов, торгующих русскими шапками. Мы ударили по рукам — и много шапок принял я на свой корабль и отправил его в землю Халланд. Там они идут прекрасно.
— Да, пожалуй, ты поступил правильно.
— Так говорят все.
Когда ушел Скегги, напившись браги, Гуннар сказал сыну:
— Этот Скегги явился неспроста.
Кари ничего не ответил. Лишь покраснел. Гуннар не стал донимать сына расспросами или смеяться над его застенчивостью. Он только сказал:
— Ты в море смелее, чем на глазах у Скегги.
— При чем здесь Скегги?
— Нет, я просто так… — Потом отец сделал вид, что озабочен чем-то. И сказал: — Хорошо ли знаешь ты Гудрид?
— Какую Гудрид?
— Дочь Скегги.
Как ответить отцу? Сказать — нет? Сказать — да? Отец есть отец: решающее слово во всяком деле — за ним. Правда, мать тоже не бессловесна. И при всем упрямстве отца почему-то очень многое часто происходит по ее хотению. И отец, кажется, в иное время говорит ее устами.
Кари ответил так, как ответил бы скальд Тейт:
— Разве можно до конца узнать человека, особенно девушку?
— Можно, — решительно ответил отец.
— Тебе виднее, отец. Однако я слышал и кое-какое другое мнение.
— И это мнение тоже верно! — Отец рассмеялся и хотел было на этом закончить разговор. Но, видимо, передумал. И сказал, уже на самом деле озабоченно:
— К нам заходил Эгиль, брат Фроди. Они живут за Форелевым ручьем. Тебе что-нибудь говорят эти имена?
Кари представил себе битву на Форелевом ручье… Алую кровь на воде… Умирающего Ана… Звон мечей и рычание берсерков…
— Это берсерки, отец, — сказал Кари. — Бешеные.
— Верно. Я тоже так думаю.
— Я видел, как они бились…
— Да, да, помню. Может, и ты бился с ними?
— Нет. Я следил издали, из-за укрытия. Вместе с Тейтом. Ведь я рассказывал тебе.
Отец теребил бороду. Нахмурил брови.
— Мне Эгиль не понравился. И слова его не понравились… Он явился, чтобы предупредить… Но я не стал его слушать…
— Что же ему надо было?
— Ничего особенного… Он сказал, что не стоит тебе ходить на лужайку и встречаться с этой маленькой Гудрид…
— Она вовсе не маленькая!
— Возможно, Кари. Но я полагаю так: не думаю, что пришла пора жениться тебе. И еще: может, эта Гудрид способна морочить голову молодым людям?
— Никогда, отец!
— Ты слишком уверен…
— Гудрид мила и добра.
— Возможно. Но отчего же она назначает свидание Фроди на той же самой лужайке?
И отец зашагал к дому, не пожелав дослушать, что скажет сын. Только песок хрустел под его ногами да учащенно и гулко — на весь берег! — билось сердце Кари. А глаза застилала непонятная пелена — темная, противная…
II
Дело не ограничилось появлением Эгиля в доме Гуннара. Оказывается, вскоре после этого заявился к Тейту и сам Фроди. Он прискакал на коне.
Скальд в это время раздумывал над бытием, сопоставляя различные мнения о смысле жизни, и пытался составить об этом предмете собственное мнение.
Тейт удивился: отчего это занесло в его берлогу неистового Фроди? Фроди наверняка знает, куда следует направлять свои стопы. Просто так, по случайности он не спустится с коня, не затруднит себя ненужным разговором.
Свежий шрам пересекал его левую щеку, подобно расщелине на гладкой поверхности. Глаза его были пусты, по ним нельзя было определить — хотя бы приблизительно, — с какими намерениями он явился в лесную избушку.
Фроди стоял посредине комнаты, чуть не упершись головою в потолочную балку. Он молча разглядывал полутемное помещение, словно пытался обнаружить еще кого-нибудь кроме самого хозяина.
Тейт слегка повернул голову в сторону Фроди, словно ждал его.
— День настоящий летний, — сообщил Фроди, продолжая свой осмотр.
Тейт молча наблюдал за непрошеным гостем.
Фроди был вооружен тяжелым мечом. А на правом бедре у него в прочном деревянном футляре, обшитом оленьей кожей, болтался нож с костяной рукояткой. Грудь Фроди воистину богатырская. Такая встречается только у настоящих берсерков. И подбородок был подобающий — мощный, выступающий вперед и величиной с добрый кулак.
— Я сказал, — проворчал он, — что день сегодня настоящий летний.
— Слышал.
— Почему бы не соизволить произнести несколько слов? — все так же ворчливо продолжал Фроди.
— Не согласиться с тобой? — спокойно спросил Тейт.
— Хотя бы…
— Отчего же не соглашаться, если это так? День и в самом деле погожий.
— А я сказал — настоящий летний!
— Тоже верно.
— Подозреваю, что ты хочешь немножко поиздеваться надо мною. — Фроди уселся на скамью и нетерпеливо барабанил по столу пальцами.
— Неверно, Фроди. Если бы мне хотелось поиздеваться над тобою, так я пришел бы в дом твой и вел с тобой разговор в недозволенном, насмешливом тоне.
— Ах, вот ты о чем!
— Совершенно верно, об этом самом.
— Может, мне убраться отсюда? — Фроди возвысил голос.
— Я этого не говорил.
Фроди поразмышлял немного, сильнее забарабанил по столу и сказал:
— Верно, ты не говорил. Но это еще ничего не значит… Тебя звать Тейт?
— Верно.
— И ты скальд?
— Может быть…
— Я уважаю скальдов, — сказал Фроди. — Но некоторым из них следовало бы укоротить языки. Они слишком большого мнения о себе.
— Это бывает не только со скальдами.
— А с кем же еще?
— Есть на свете такие люди… — уклончиво ответил Тейт.
— Это интересно, — сказал Фроди, усаживаясь так, словно ему сейчас подадут брагу или пиво.
— Многое в жизни интересно, Фроди. На то она и жизнь.
Фроди сказал:
— Но и всякая жизнь имеет конец.
Скальд согласился:
— Именно, всякая. Всякая, Фроди.
— И ты пальцем указываешь на меня? — мрачно спросил Фроди. — Скажи-ка поточнее.
— Скажу, если явлюсь к тебе домой.
— Почему не здесь?
— Гость есть гость. Хотя он и незваный.
— Видно скальда по острому языку, — сказал с усмешкой Фроди. — А берсерка, говорят, и по острому мечу.
— Мечи бывают и у скальдов.
— Правда? — Фроди еще раз осмотрел комнату, но меча не обнаружил. — Ладно, — примирительно сказал он. — Я не затем пришел, чтобы затевать с тобою ссору… Кари, сын Гуннара, кем доводится тебе?
— Человеком.
— Это насмешка?
— Нет.
Скальд говорил тихо и внушительно. Трудно было придраться к его словам и выхватить меч в припадке обиды.
Скальд встал из-за стола, прошел в соседнюю каморку и вернулся с обнаженным мечом. Фроди от неожиданности язык проглотил…
— Возьми вон то перышко! — приказал скальд.
Фроди только сейчас приметил перышки, выщипанные из куриной грудки. И, к своему удивлению, невольно подчинился приказу скальда. (Это и в самом деле был приказ, причем властный.)
— А теперь подбрось его! Да повыше!
Фроди беспрекословно выполнил то, что потребовал скальд.
И вот перышко — легкое, пушистое — медленно падает вниз. И тут скальд подставляет острие своего меча — и перышко раздваивается…
— Ого! — воскликнул Фроди. — Меч у тебя отменной остроты. Сам точил?
— И сам же выковал.
Фроди не верилось.
— Дай подержать его.
Тейт вручил ему меч. Фроди со знанием осмотрел его, рубанул им воздух и вернул хозяину.
— Завидую. Прекрасный меч. Стало быть, ты мастак не только по части остроумия. Я рад тому, что ты — понятливый. И даже очень. Поэтому разговор будет коротким… Скажи этому Кари, который зачастил к тебе, чтобы поосторожнее вел себя…
— Осторожность не всегда спасительна.
— И тем не менее!
Тейт прикинулся малопонятливым.
— Значит, дорога для Кари ко мне заказана?
— Нет! Вовсе нет! Пусть болтается у тебя сколько влезет. Но пусть оставит в покое зеленую лужайку.
— Я не знаю такой местности.
— Зато хорошо знает ее Кари.
Скальд заметил:
— Каждый живет так, как ему можется.
Фроди встал и пошел к двери. На пороге обернулся и сказал:
— Уважаемый Тейт, считай, что я предупредил Кари. — Потом он выбрался во двор и крикнул оттуда: — А заодно — и тебя.
Тейт не вышел из хижины. Он слышал, как грозно ворчал Фроди, садясь на коня. Как сопел он, будто всего его распирало изнутри. Хлестнув коня, Фроди умчался по лесной дороге.
Скальд положил меч на стол и продолжал раздумывать над смыслом жизни. Он, казалось, позабыл о берсерке и его угрозах…
III
На следующей неделе Фроди снова явился к Тейту. Теперь уже не один, а с целой ватагой: с Эгилем и еще тремя головорезами, которых скальд видел впервые.
«К добру ли это?» — подумал скальд, хотя гости приветствовали его дружно, как один.
Соскочив с коней, они положили на порог хижины у самых ног Тейта красавца оленя.
— Мы хотим угостить тебя, — сказал Фроди. И обратился к своим дружкам. — А ну, живее! Освежевать добычу! Развести костер! А ты, Андотт, — сказал Фроди здоровенному детине в куртке из бараньей шкуры, — найди пару рогатин и вбей их в землю, да так, чтобы олень уместился меж ними должным образом. Да не забудь и про вертел.
Андотт вошел в лес и вскоре вернулся с рогатинами и отличным вертелом, который уже успел заострить с одного конца.
— Погляди, скальд, — сказал Фроди, — эти ребята готовы на все, чтобы только услужить тебе.
— Вижу, — сказал скальд, которому вся эта нежданная кутерьма не очень-то пришлась по сердцу.
— А вот и пиво! — воскликнул Фроди. — Поставьте бочонок в воду, чтобы оно остыло. А где же брага?
— Здесь брага, — отозвался кто-то.
— Молодец, Лодмунд! Ты всегда начеку! Отнеси посудину вон под то дерево. — И Фроди указал на дуб, стоявший недалеко от берега. — Скажи, скальд, где тебе больше нравится: здесь, на виду фиорда, или дома?
— Ты имеешь в виду…
— Вот именно! — сказал Фроди. — Мы хотим угостить тебя. И себя, разумеется. От всего сердца. Можно посидеть на берегу, здесь не очень прохладно.
Фроди потирал руки, смакуя предстоящую пирушку.
— Что же делать мне? — спросил Тейт.
— Тебе? — Фроди расхохотался. — Быть гостем! Угощаться! Слагать песни, если угодно. И непременно пить брагу или пиво. И заедать олениной. Ведь это сам божок лесной, а не олень!
— Не богохульствуй, Фроди! — сказал ему скальд.
Фроди подбоченился, затрясся от смеха.
— Случайно, ты не колдун? — спросил он.
И тут Фроди поддержали безудержным смехом его товарищи. А скальд стоял молчаливый, поглядывая исподлобья то на одного, то на другого непрошеного гостя.
— Ладно, — сказал Фроди, вытирая рукавом глаза, чуть не слезившиеся от смеха. — Не будем тебе досаждать. Можешь даже помолиться какому-нибудь истукану. Лично я верю только в силу мускулов да оружия. Впрочем, всегда молюсь О́дину перед охотой или битвой. Только он заслуживает большого уважения, ибо этот великий бог не против кровопролития.
— Кто это тебе сказал? — спросил скальд, с лица которого не сходила потаенная хмурость.
— Кто? — Фроди перемигнулся с товарищами. — Бабушка моя сказала. А я ей во всем верю. Она знает такие наговоры и заговоры, что твой домик, пожелай она, вспорхнет к небу, словно птица… Можно даже проверить, но мне не хочется, чтобы ты взлетел на небо вместе с этой халупой.
— И на том спасибо.
Скальд вошел в хижину, оглянулся — не подглядывает ли кто? — достал меч и спрятал его за дверью. Он не знал, зачем это делал, ибо не было пока что основания для беспокойства. К тому же Фроди и его друзья сложили свое оружие на пеньке и настроились на пиршественный лад. «Однако эти разбойники и сами не знают, что сотворят через мгновение. Какие-то сумасшедшие!» — подумал скальд.
Костер горел отменно. Вскоре жаркие уголья устлали землю, и их сгребли в длинную кучу. И пошел от них настоящий огонь, в котором можно было изжарить не одного оленя, но целый десяток.
Оленью тушу проткнули вертелом, а вертел положили на рогатины, вбитые друг против друга на расстоянии двух небольших шагов.
— Теперь поворачивайте его! — скомандовал Фроди. — А мы пока что попробуем браги.
Тейт принес деревянные кружки. Их не хватало на всех. Поэтому хозяин и Фроди взяли себе глиняные чарки.
— Из них брага вкуснее, — сказал Фроди.
Тейта вдруг потянуло к питью. Он решил, что с эдакими молодцами лучше всего вести разговор, будучи чуточку или более чем чуточку подвыпившим.
Фроди высоко поднял свою чарку и, медленно приблизив к губам, осушил до дна. Затем вытер усы, похожие на полуистлевшую солому, и крикнул:
— Хо-ро-ша!
Он дождался, пока опорожнил свою чару скальд, а потом спросил его:
— Ну как?
— Крепкая, — признался тот.
Эгиль сказал:
— Она валит с ног, если не рассчитать свои силы.
— Помолчи, — прикрикнул на него Фроди. — Много ты смыслишь в браге!
… Оленя целиком положили на стол. Он был поджарен так, что у настоящих знатоков потекли бы слюнки: бока, живот, спина, ляжки, шея — все как положено, то есть с хрупкой корочкой, а мясо без кровинки до самых костей.
— Прежде чем мы приступим к еде… А где, кстати, хлеб? Тащите его из сумок! — крикнул Фроди. — Прежде чем мы приступим к маленькому пиру, хочу сделать хозяину маленький подарок.
И он достал из штанины большой перстень с голубым камнем, привезенный из далекого юга, и церемонно передал его скальду. Тот смущенно принял подарок, думая о том, чем же придется ему, в свою очередь, одаривать гостя — самого важного из головорезов.
— Прекрасен, — сказал скальд. — Но зачем такой дорогой? И чем я могу отплатить? Хижина моя бедна. Сам я не конунг. Где возьму подобающий ответный подарок?
— Ты очень и очень богат, Тейт. Но тебе не обязательно одаривать нас. Ежели очень захочется совершить благородный поступок — это очень просто для тебя.
— У меня нет золота.
— И не надо!
Скальд надел перстень на палец левой руки — на средний палец — и невольно залюбовался им.
— Ежели только захочешь, можешь отдать мне вещь, которая для меня дороже во сто крат вот этой дорогой безделицы.
Скальд вопросительно глянул на Фроди.
— Не догадываешься?
— Нет.
Фроди торжественно произнес:
— Твой меч, который разрезает пушинку.
IV
Время было предзакатное. Легкий туман курился над фиордом. Противоположный берег был покрыт темной голубоватой дымкой и казался далеким и сказочным. А горы, уходившие в глубь фиорда, словно ступени, поднимались все выше и выше. А самые высокие вершины были освещены ярким солнцем, отчего сам фиорд уже казался погруженным в вечерние сумерки, хотя до них было еще далеко…
Скальд концом длинной палочки чертил на песке ничего не означавшие линии, а Кари сидел рядом на дубовом бревне.
Мир выглядел тихим, покойным, лишенным бурных страстей, погруженным в созерцание собственной успокоенности. Перед этой величественной тишиной обращались в маленькие, в совсем малюсенькие все чувствования, незадолго до этого казавшиеся очень важными. Сам О́дин пребывал в мире и покое и то же самое ниспослал на землю.
Однако скальд — на то он и был скальдом — воспринимал все по-иному. Этот покой — с его точки зрения, очень хрупкий — он противопоставлял неизменной быстротекучести жизни и превратностям бытия. Покой никогда не убаюкивал его, и когда всем представлялось, что все идет к лучшему, в нем пробуждались самые наихудшие опасения. Он рассуждал как-то странно: если вокруг тишина и покой, значит, они обманчивы, они лишь способны набросить пелену на глаза, подобно той, которая сейчас повисла на том, противоположном берегу. На человека, дескать, неминуемо обрушивается одно несчастье за другим.
Люди считали скальда человеком обиженным судьбой и ворчливым вследствие этого. Он якобы склонен был видеть вокруг больше дурного, нежели приятного, радостного. А существа, к которым принадлежал он сам, то есть людей, почитал обреченными на вечные заботы и жалкое прозябание. Для этого у него, по-видимому, имелись достаточные основания. Может быть, он знал лучше и больше других?
Был ли он женат когда-нибудь, имел ли детей, где его близкие? Кто мог ответить на эти вопросы, если сам скальд хранил по этому поводу полное молчание. А если кто и спрашивал его об этом — переводил разговор на другое или просто проглатывал язык, и от него нельзя было добиться ни единого слова. Жил он бобыль бобылем. Все решили, что взялся Тейт из ниоткуда и уйдет в небытие так же незаметно, как и появился.
В глубине души он завидовал тем, кто младенческими глазами смотрел на окружающее, кто верил в добро и обещал посвятить все свои силы борьбе со злом. Скальд не мог не сравнить их со слепыми котятами, хотя, наверное, подобное сравнение было и грубым и односторонним, не учитывающим многообразие и сложность жизни, о которых любил поговорить сам Тейт. Воплощением наивности и доверчивости был для него Кари. Он верил слову и не мог понять, как это человек причиняет зло себе подобному. А ведь именно об этом без конца толковал ему скальд.
Это была чистая душа, подобная гладкой поверхности, на которую следовало нанести некие письмена. И в зависимости от этих знаков и пошел бы жизненным путем молодой человек. В этом скальд был совершенно убежден. Конечно, хорошо слагать стихи и петь их, хорошо сочинять нечто поражающее воображение. Но еще лучше слепить душу невинную, да так, чтобы обладающий ею вышел бы человеком добрым, полезным для всех. Совесть его должна быть чиста и прозрачна, как лесной родничок, как капля, стекающая со льдинки в теплый весенний день.
Тейт понимал, что такому — почти идеальному — человеку трудно, очень трудно жить среди обыкновенных людей, но чем больше будет хороших, тем лучше! При всех обстоятельствах не надо пасовать перед негодяями, перед разбойниками, перед людьми с испорченной душой.
Кари молча глядел на гладкую, уснувшую поверхность воды. Сегодня она была особенная, как бы слюдяная. Да и сам он казался нынче особенным. Может, оттого, что думал о приятном. О ней. О Гудрид. Что она делает в это мгновение? Думает ли о нем? И что думает?.. А впрочем, почему она должна думать именно о нем? Может, Фроди или Эгиль уже заняли свое место в ее душе?
— Они были у меня, — рассказывал скальд. — Явились неожиданно. С подарком. Закатили пирушку. Еды разной, браги и пива понавезли. Ели и пили. Угощали меня особенно рьяно. Словно я конунг.
— Заявились в гости?
— Да еще как! Целого оленя притащили. Бочонок браги. Бочонок пива! Ешь и пей!
— Что же это они? Отчего вдруг такая любовь?
— В том-то и дело! Я долго спрашивал об этом себя. Потом выяснилось, что Фроди приглянулся мой меч. Дедовский меч. И он вымолил его у меня. Правда, сделав при этом ответный подарок. — Скальд показал молодому человеку перстень на левой руке.
Кари залюбовался золотой штучкой с диковинным камнем. Это было какое-то одноглазое живое чудо.
— Я ничего подобного не видал, — простодушно сказал Кари.
— И я, — сказал Тейт.
— И ты отдал меч?
— А что бы ты сделал на моем месте?
— То же, что и ты.
Тейт сказал:
— Что было — то было. Меч — у Фроди, перстень — у меня. Мы вроде бы подружились. Но все это мне не по душе. Скажи мне, Кари, о чем ты говоришь с Гудрид?
— С кем?
Кари вроде бы оцепенел от неожиданности.
— Да, да, с Гудрид.
— Ни о чем.
— Как это — ни о чем? Ведь если ты наедине с девушкой, то что-то говоришь и что-то отвечает она. Или наоборот. Вот я и спрашиваю: о чем вы говорите между собой?
Кари стал вспоминать.
— Ну, о погоде…
— Так.
— О цветах.
— Каких это цветах?
— Которые на лужайке растут.
— И это все?
— Может, о птичках еще, которые поют весной.
Кари говорил истинную правду.
— Так чего же надо от тебя этому Фроди? Ведь он предупреждал тебя…
— Предупреждал.
— И что же?
— Это дело мое. У каждого человека есть свое дело; у Фроди — свое, у меня — свое.
— Ты так думаешь?
— Да.
И это тоже была истинная правда.
V
— Я видел сон, — сказал скальд. — На ту пору ты плавал на севере. Помню как сейчас: выходит из моря некий мужчина. Не молодой и не старый. Идет прямо ко мне. А я сижу на пенечке. Я даже могу указать тебе это место. Недалеко от твоего двора. Можно сказать, что все было как наяву. Все вокруг знакомо, а вот мужчину того не узнаю. Вроде бы где-то видел, а где — не ведаю. Выходит, стало быть, из моря — и прямиком ко мне. Не сказав даже «здравствуй», начинает свою речь… Не начинает, а как бы продолжает ее. Словно мы только что беседовали и кто-то прервал нашу беседу. «И тогда, — говорит, — мы закинули сети. А когда закинули — Кари вдруг прыгнул за борт. Будто увидел особенную рыбу в воде. Мы ему протянули весло, а он не стал за него хвататься. Наверное, решил утонуть. Но не тонет…» И на этом месте незнакомый мужчина присел на корточки и принялся чертить пальцем на песке какие-то знаки. «Вот это, — говорит, — Кари, а это — сети. Сейчас я покажу наш корабль…» И проводит две линии. Жирные. Большим пальцем. А до этого — чертил мизинцем. А на меня совсем не глядит. Уперся взглядом в самый песок. «Мы кличем его, — говорит, — а он плывет себе. И в ус не дует. А потом — исчез, растаял, словно лед в теплой воде». — «Что же это, — спрашиваю, — выходит, погиб Кари?» — «Да, — говорит, — выходит почти так». И сам на моих глазах тает, точно лед в теплой воде… Я проснулся. Думаю: что за сон? Что означает? Но ни тогда, ни сейчас не нахожу ответа.
Кари тем паче не может найти ответа. Сон как сон: немного странный, немного страшный. Вроде бы ничего особенного.
— Как видишь, не погиб, — говорит Кари и смеется.
— И даже в воду не падал?
— Отчего же не падал? Разок-другой искупался. Поневоле, конечно. Но тонуть не думал. Слишком холодная была вода.
А скальду не до смеха. Не понимает молодой человек, какая туча собирается над его головой. А что она собирается — в этом нет никакого сомнения. Неспроста предупреждали Кари. Неспроста вели разговор о нем Фроди и Эгиль. Они не отступятся, ежели положили глаз на Гудрид. А этот меч, который выпросил Фроди у Тейта, может обрушиться на голову Кари. И очень просто. Кто-то должен вмешаться: или отец Кари, или сам Тейт. Пожалуй, лучше Тейту.
— Мне сон не нравится, — говорит скальд. — И напрасно ты не принимаешь его во внимание.
— Принять во внимание? Как? Что я должен сделать?
— Самое простое — это оставить Гудрид.
— Как это оставить?
— В покое. Отойти от нее. Не ходить на зеленую лужайку. Забыть о ней.
— Этого Эгиля, — говорит Кари, — я не боюсь. И Фроди — тоже. Я никого не боюсь. Есть люди, которые всегда боятся. Это те, которые никого не любят и любить не могут. Они не живут, а только существуют.
Кари говорил столь твердо, что скальд был удивлен. Ведь бывает же так: живешь рядом, часто видишься, думаешь — знаю его. А на поверку выходит: не знал и не знаешь. Точно так же и с Кари. Смотрел на него Тейт, думал: молодо-зелено. А что получилось? Молодо? Да, верно. Зелено? Вовсе нет!.. Скальд слушал слова мужа отчаянного, мужа, идущего на все ради своей любви…
— Значит, ты так сильно любишь ее? — спрашивает скальд.
— Особенно теперь, после того, как эти разбойники предупредили меня, а у тебя выманили меч.
— Не надо торопиться. Голова дана человеку для того, чтобы думал.
— Сколько?
— Сколько надо. Обстоятельства покажут.
— Это верно, — сказал Кари. — Обстоятельства нынче говорят одно: не бойся! Во мне закипает злость. Сердце мое, кажется, делается каменным.
— Ты об этом сказал Гудрид?
Кари удивился.
— О чем? О головорезах Фроди и Эгиле?
— Разумеется.
— Они не стоят того, чтобы произносились их имена в присутствии Гудрид.
— Значит, Гудрид ничего не известно?
— Нет.
— Между прочим, Кари, это неправильно. Есть вещи, которые не следует скрывать от женщины. Ведь то, о чем говорим мы с тобою, касается и Гудрид. Не будь ее — не было бы никаких предупреждений.
— Возможно. Но какой же, по-твоему, выход? Зарыться в нору? Бросить любимую?..
Скальд поднял руку.
— Да остановись ты. И не сердись. На кого сердишься? На меня? Или на Фроди и Эгиля? Они же твоих слов не слышат! А я вроде бы ни при чем. Поэтому выходит, что говоришь ты впустую.
— Нет, не впустую! — Кари посмотрел в глаза скальду, в самые зрачки. — Я это говорю для себя самого. Я, кажется, кое-что начал понимать. Надо мне разобраться во всем самому! И до конца! Разве не ты говорил — к тому же не раз! — что жизнь сложна, что жизнь слишком запутанна и человек в ней что песчинка на морском берегу?
— Да, это мои слова.
— Стало быть, учусь у тебя.
— Я говорю тебе твердо: не связывайся с Фроди.
— Что для этого надо?
— Надо, — сказал Тейт, — оставить в покое Гудрид. Не видеть ее… Это — раз.
— А еще что?
— Забыть о ней. Выкинуть само имя из головы своей.
— А еще?
Скальд подумал. И сказал:
— Этого будет достаточно. Разве мало на свете девушек?
— Нет, много.
— Тогда о чем разговор? Их много, а жизнь у нас одна.
— Это говоришь не ты! — сказал Кари.
— Кто же?
— Твоя жалость ко мне говорит.
— Может быть… — Скальд не стал спорить.
А Кари сказал:
— Слишком высокая цена, а я не настолько богат.
VI
День выдался теплый. Теплее обычного. Скальд верно решил, что именно сегодня может он застать на лужайке Гудрид, — лишь бы явилась туда. Что до Кари — он с отцом уплыл на соседний хутор, расположенный на берегу маленького, очень красивого фиорда. Так что он на лужайку не явится. «Я прожду хотя бы весь день, только бы увидеть эту девушку и поговорить с нею». Так решил скальд. От своего решения он обычно не отступал.
В полдень, когда легкий туман отошел от воды и исчез в высоте над фиордом, скальд направился на лужайку. Он шел лесом, погасив пламя и присыпав золою уголья в своем очаге.
Лес всегда казался скальду необычным явлением живой природы. Это было некое существо — думающее, порой доброе, порой коварное. Лес умеет сохранять свои тайны, нелегко научиться понимать их.
Скальд посвятил лесу немало песен. Все они были обращены к существу живому, как если бы это говорилось о человеке.
Шагая по тропе, часто терявшейся в густых зарослях, он снова и снова думал о лесе, который к тому же был его кормильцем, может быть более верным, чем вода в фиорде…
Лужайка, к огорчению Тейта, была пуста. Он вышел к самому берегу, но и здесь не обнаружил следов Гудрид: лодка ее отсутствовала. Но когда он обратил свой взгляд на просторы фиорда, когда внимательно осмотрел поверхность, что расстилалась прямо перед ним, он увидел некую точку, которая быстро росла и вскоре обрела формы лодочки. «Это она», — сказал себе скальд и отошел в укромное место: за стволы деревьев.
Вскоре лодка причалила к песчаному откосу, и из нее выпорхнула Гудрид. Она как могла потянула лодку на себя, чтобы нос по возможности глубже увяз в песке. И это хорошо удалось ей, хрупкой на вид девушке.
Тейт не смог бы однозначно ответить на вопрос: красива Гудрид или нет? Она, по его мнению, была слишком юна, чтобы говорить о ее женской красоте. Главное, что привлекало в ней, — ее свежесть, ее внутренняя чистота, отражавшаяся в ее серых больших глазах. И стать ее — почти оленья, невообразимая стройность ее форм — от шеи до ног. Глядя на нее, можно было понять молодого Кари, парня славного, далекого от жизненных передряг, подчас удивительных, любопытных, а чаще — просто отвратительных.
Она не видела скальда. Закинула косы за плечи и тихо запела низким голосом. Он не различал слов ее песни, которая походила скорее на журчание лесного ручейка. Вливалась в самую душу, подобно серебристым струйкам.
Скальд вышел на середину лужайки. Остановился. Постоял немного. И тут она приметила его. Но, кажется, ничуть не испугалась, хотя в глазах ее возникло удивление: появление скальда было для нее совершенно неожиданным. Она почтительно поклонилась ему.
— Я знаю тебя, — сказал Тейт отечески мягко. — Ты — Гудрид. И живешь на том берегу.
— Да, — сказала она. — Я тоже знаю тебя. Я сразу поняла, кто ты. Мне Кари о тебе рассказывал.
Он рассмеялся.
— Нашел о ком рассказывать!
— Я даже знаю твои песни. Они очень грустные, и поэтому особенно нравятся мне… И моим сестрам, — добавила она.
Тейт сделал несколько шагов к воде.
— Грусть — это вроде воздуха, — сказал скальд, — она везде и всюду.
— А радость?
Он посмотрел на нее.
— Что — радость?
— Разве она не везде?
Скальд отрицательно покачал головой:
— К сожалению, все обстоит наоборот. Если пойти по нашей земле, обойти ее всю, присмотреться к ее обитателям, то что же в первую голову бросится в глаза? Что увидишь? Что услышишь? Радость? Я спрашиваю: радость?
Девушка задумалась.
А скальд продолжал:
— Нет, главное, что бросится в глаза, — это страх, это грусть, это несчастье и заботы. Знаешь ли ты, милая Гудрид, как тяжко живется человеку на свете?
— Нет, — чистосердечно призналась она.
— Ты слишком молода, Гудрид, тебе хорошо и в отчем доме. У материнского подола редко кому живется плохо. Но ведь не вечно сидеть и тебе у подола.
— Это я знаю.
— Наверное. А хорошо ли ты понимаешь все это?
— Да.
Тут скальд не согласился.
— Молодость преходяща. Старость — не за горами. Неужели тридцать зим кому-нибудь могут показаться вечными? Тридцать зим — всего тридцать. А там — и старость! Вот только тогда, когда звук заступа в руках могильщика прозвучит где-то близко, — вот тогда, Гудрид, человек начинает понимать, что есть жизнь. И тогда каждому хотелось бы иначе прожить свою жизнь, по-иному перекроить ее — да уже поздно! Прошлого не вернешь. Оно сделало свое дело и больше никогда не воротится. Вот так!
— Это страшно! — воскликнула Гудрид.
— А ты думала — как? Цветочки растут только на лужайках!..
Гудрид сорвала голубенький цветок и понюхала его. На лице ее снова отразился покой, снова проявилась доверчивость. Нет, она не очень верила желчному скальду. Кари немало говорил ей о нем. Скальд обижен судьбой — это ясно. Но к чему он клонит? Неужели он подстерег ее, чтобы сказать, что жизнь тяжела и безысходно земное существование? Едва ли только ради этого явился он сюда…
— Послушай, Гудрид, — обратился к ней Тейт и подошел совсем близко. Она могла разглядеть на его лице любую морщинку и слышала его дыхание. — Что ты знаешь о Фроди и Эгиле?
Ему казалось, что поставит девушку в замешательство, что ей невольно придется объясниться по этому поводу. Однако Гудрид стояла все в том же положении, глаза ее были по-прежнему широко открыты, — и ничто не указывало на то, что ей задан сложный и очень важный для нее самой вопрос.
— А кто это такие?
— Фроди и Эгиль? О боги, ты даже не знаешь их?!
Она покачала головой.
— И ничего не говорят тебе эти имена?
Она снова покачала головой.
— Но ведь они же предупредили его?
— Кого?
— Кари.
— О чем?
— Слушай меня внимательно, Гудрид… Фроди, Эгиль, их братья и отец их очень и очень опасные люди. Это нехорошие люди. Им ничего не стоит убить человека, особенно честного, ни в чем не повинного.
— А за что же убивать?
— Это надо спросить у них, — жестко ответил Тейт. — Причину для своего гнева они всегда найдут. Это для них легко. Особенно если на пути у них стоит какой-либо молодой человек, влюбленный в красивую девушку…
Тейт говорил теперь, понизив голос, глядя в сторону моря. Она невольно посмотрела туда же, но не обнаружила ничего, кроме голубой воды, голубого неба и ярко-золотистых барашков высоко-высоко, возле самого солнца.
У нее зашевелились губы и как во сне прошептали несколько слов:
— Фроди и Эгиль… Молодой влюбленный человек… Красивая девушка. — А потом спросила: — Это я девушка, в которую влюблены?
— Да! — решительно сказал Тейт. — Ты!
VII
Скальд сплел руки, опустил голову. Он молча ждал, что скажет Гудрид. Любопытно, понимает ли она, в какую переделку попала? Если Гудрид предпочтет Кари, то Фроди наверняка не даст им житья. А если она повернется спиной к Кари, значит, не любит его. В таком случае, почему бы не сказать ему об этом и тем самым отвратить от него беду?
Гудрид, не подозревавшая о том, что делается вокруг нее, неожиданно повеселела. Кари, Фроди, Эгиль, этот скальд… Как все это занятно! Все они думают о ней, ведут о ней разговоры. А она ни о чем таком и не помышляла! Кто такие Фроди и Эгиль? Они ни разу не сказали ей ничего такого, из чего можно было бы заключить, что они влюблены в нее. Другое дело — Кари. Он очень мил, скромен, даже застенчив. Он ни на кого не похож.
Он — особенный, как этот скальд, его друг и покровитель. Почему он такой мрачный? Что волнует его? Вот он задумчиво шагает по прибрежному песку и глядит себе под ноги, словно боится споткнуться… Шагает вперед и назад… Вот он тяжело вздохнул…
Скальд заговорил:
— Гудрид, я, кажется, сказал все… И хочу услышать, что думаешь ты обо всем этом.
— О чем? — спрашивает Гудрид.
Скальд останавливается как раз против нее, смотрит на нее удивленно. И долго не может вымолвить ни слова.
— Гудрид, разве ты дитя?
— Нет.
— В твои годы… Не так уж малы твои годы.
— Но не очень велики. — Гудрид мило улыбается.
Она срывает листочек с дерева — с большой ветки, свесившейся чуть ли не до земли, и мнет его пальцами. Это, кажется, раздражает скальда.
— Я говорю очень серьезные вещи…
— Знаю.
— Если бы знала, ты вела бы себя иначе.
— Как?
Нет, она, разумеется, глупа еще. То есть настолько, что об этом должен узнать сам Кари и решить, стоит ли дальше видеться с нею на этой лужайке и есть ли смысл досаждать Фроди, навлекая тем самым на себя смертельную беду?
— Что тебе сказать, Гудрид? Многие недоразумения и несчастья проистекают от женщины. Они, то есть женщины, часто, сами того не подозревая, разжигают вражду среди мужчин.
Гудрид бросила остатки листочка и почистила ладони о кору высокой ели, до которой было несколько шагов.
«А она совсем, совсем недурна собой, — сказал про себя скальд. — Но ведь как раз такие женщины и вызывают раздоры…»
— Я бы хотела знать, — сказала Гудрид, поворачиваясь к Тейту, — что может случиться, если Кари все равно будет приходить?
— Что? — Тейт поднял вверх правую руку. — Хорошо, я скажу. Откровенно. Ничего не утаю. Учти, Гудрид, я прожил на свете не так уж мало, многое повидал и могу кое-что посоветовать.
— Я буду слушать внимательно.
— Это хорошо. Так вот, они могут, скажем, поджечь дом, они могут учинить драку…
— Драку? Кари, я полагаю, сумеет постоять за себя.
— Допустим. На первый раз сможет… Гудрид, слушай меня внимательно и постарайся кое-что уяснить, ибо желаю добра и тебе и Кари… Его просто могут убить, чтобы убрать со своего пути. Чтоб Фроди или Эгиль могли взять тебя в жены.
— Как это взять? Я же не вещь какая-нибудь!
Тейт схватился за голову, точно она разрывалась у него от боли. И вскричал:
— Что ты мелешь, несчастная! Ты просто ничего не смыслишь в жизни. Ты погубишь и себя и его!
— Никогда! — Гудрид скрестила руки на груди.
— О, великий О́дин! Что я слышу! Сама святая наивность глаголет твоими устами, Гудрид! Так может мыслить только тот, кто ничегошеньки не понимает в жизни. — Тейт передохнул. — Есть одно сравнение… Оно невольно приходит…
— Какое же? Я не обижусь, — сказала Гудрид, почувствовав, что скальд колеблется.
— Очень простое сравнение, — со слепым котенком… Вот живет котенок — еще слепой. Ничего не смыслит. Понимаешь, Гудрид? Не смыслит! Но то — котенок, а ты не имеешь права походить на него!
Гудрид действительно не обиделась. Она улыбалась, чертила кончиком своего башмака ровные линии на песке. Ей, кажется, даже нравилось, что вокруг нее происходит необычное…
Скальд продолжал:
— Я полагаю, что ты должна учитывать все последствия. И сама должна решать, на что ты можешь пойти. И ради чего.
— Как «ради чего»?
— Вот именно: ради чего? Если вы женитесь…
— Кто это «вы»?
— Ты и Кари.
— Но об этом не было и речи.
— О чем же была речь?
— Ни о чем… О разном…
— Так могут отвечать только дети! Значит, о женитьбе не говорили. А о любви?
— Тоже нет.
Скальд посмотрел на нее сочувственно. «Совсем еще дети, — подумал он. — Кари, значит, говорил правду: они часами болтали о несусветной чепухе…» Скальд сказал:
— Так дальше нельзя. Надо что-то решать: или женитесь, или расстаетесь. Нельзя так!
— А что же Кари?
— Он тоже вроде тебя! — беззлобно сказал скальд. — Он пока что так же, как и ты, живет птичками, цветочками… Это не приличествует мужу! Мужчина должен видеть далеко, он должен быть готовым ко всему. И к смерти тоже.
Гудрид вскрикнула:
— Не говори о смерти! Я боюсь!
А скальд — злорадно:
— И тем не менее!
Гудрид посмотрела на фиорд: сюда, к этому берегу, плыла лодка.
— Он! — сказала обрадованно Гудрид. — Это Кари!
Тейт тоже посмотрел на фиорд. И сказал:
— Гудрид, подумай над моими словами. Лавина готова сорваться. Она вот-вот покатится вниз. И очень важно, чтобы она не подмяла вас! Это тебе ясно?
— Да, — произнесла Гудрид, не слушая его. Ее глаза, полные радости, глядели на приближающуюся лодочку.
Скальд пожал плечами и скрылся в лесу.
VIII
Гуннар, отец Кари, появился на своем поле ранним утром. Туман висел над землею. Даже границ маленького поля не видел Гуннар из-за тумана. А ведь они были отмечены цепью каменных глыб. Он ударил землю тяжелой мотыгой и оперся на деревянную ручку.
Не поздно ли вспомнил Гуннар о земле и мотыге? Учитывая, что он уже сходил в северные воды и запасся рыбой — треской и сельдью, наверное, и поле успеет промотыжить к сроку. Если поможет Кари — тем более.
Туман подымался кверху. Его клочковатый нижний край висел подобно старому тряпью. И с каждым мгновением становилось все светлее — это солнце пробивалось сквозь серую пелену.
Поле, которое все явственнее представлялось взору его хозяина, было выбрано в прошлом году. Никто не заявлял на эту землю своих прав, она была ничья. Вот Гуннар и стал обрабатывать это поле. Просто не было другого. А старое поле Гуннар забросил: перестало давать урожаи. Вот когда и это поле оскудеет — куда тогда деваться, где сыскать новое? Это не просто. Богатые бонды наложили свои лапы на все лакомые кусочки. А кому и чем могут послужить поля, почти сплошь утыканные гранитными зубьями? Какой от них толк?
Вот туман подымается еще выше, и Гуннар прямо перед собою видит своего соседа Откеля, сына Хрута. Тот стоит, как и Гуннар, с мотыгой и озирается вокруг.
— И ты, видно, решил взяться за дело, — говорит Гуннар, смеясь. — Мы с тобой словно сговорились.
— Ничего удивительного, — отвечает Откель. — Раз уж мы соседи и вместе собирали камни, чтобы разграничить наши поля…
— Ты прав, — соглашается Гуннар, — мы сидим в одной лодке, под нами — одно море, над нами — одно небо. Значит, и судьба у нас с тобою — одна.
— Так ведется издавна, — говорит Откель. — Сосед обычно недалеко уходит от соседа. Правда, бывает и так, что бедный бонд влачит существование рядом с богатым бондом или даже конунгом, но это — редко.
— Правда твоя, Откель: если два участка примыкают друг к другу и оба участка такие, что хуже быть не может, то, стало быть, и соседи равны. У нас с тобой даже количество камней на полях одинаковое.
Откель говорит, упершись животом в ручку мотыги:
— Мне приснилось этой ночью, что кто-то кличет меня. Я слышу голос и пытаюсь узнать, кто это. Живое дыхание входит в мое ухо, и я различаю каждое слово, хотя зовут меня от самых ворот. «Что угодно?» — кричу. И слышу голос: «Пора, пора, тебя ждут на поле!» — «Кто ждет?» Называют имя, но не могу понять. Я напрягаю слух. А голос вроде бы близкий, не далекий, но плохо разбираю слово, то есть имя, которое громко доносится. «Неужели это Гуннар?» И сам себе отвечаю: «Нет, это не Гуннар. Гуннар уплыл на север за рыбой». Просыпаюсь. На дворе уже светло… Что означает этот сон, Гуннар?
Гуннар молчит. Туман расходится. Солнце освещает оба поля, лежащие на дне глубокого ущелья.
— Это хорошо, что имени не разобрал.
— Не разобрал! — решительно заявляет Откель. Его карие глаза словно бы подсвечены изнутри. Волосы цвета соломы шевелятся на свежем ветерке. Он сильный. Он работящий. Но одежда на нем — заплата на заплате. (Правда, на дне дубового ларя есть у него одежда, пристойная для тинга или иного праздничного сборища.)
— Сон хороший, — говорит Гуннар. — Я думаю, что он обещает добрый урожай нынешним летом.
А Откель не верит:
— Урожай? На этом поле? Да здесь больше камней, чем земли! Сколько ты получил в прошлом году? На пиво хоть хватило зерна?
— Это верно, — соглашается Гуннар, — поле такое, что хуже не сыщешь. Но что делать? Прежде, чем сойти в могилу, надо перепробовать все. Мы с тобой в ответе перед нашими семьями. Опустишь руки — останешься голодным.
Откель вздыхает. Он глядит на Гуннара и думает: «Постарел Гуннар».
— Все хорошо, — говорит Гуннар, — пусть наша бедность идет рядом с нами. Но что делать, если ко всему вдобавок нам сопутствует и злоба, страшная злоба.
— Это скверно, Гуннар.
— Куда уж хуже! Ты, наверное, наслышан об этом Фроди?
Откель огляделся вокруг, точно опасался, что Фроди подслушает их. И сказал:
— Этот головорез, слышно, прицепился к твоему Кари. Чего ему надо? Из-за чего все это? Из-за девчонки?.. Этот Фроди под стать своему отцу. А отец под стать своему, который был настоящий разбойник. Он отхватил все лучшие земли, которые за Форелевым ручьем. Это был бешеный человек. Кровь приводила его в неистовство, и он мог проливать ее сколько угодно. Разумеется, чужую, не свою. Нет, с ним шутки всегда были плохи. Это — люди с разбойничьими повадками, и мне неприятно, что Кари связался с ним.
— Как это — «связался»? Разве Кари затеял?
— Гуннар, неважно, кто затеял. Важнее — что уже случилось. Неспроста же гарцует поблизости от нас Фроди со своими братьями… Об этом все уже толкуют…
— Что же толкуют?
— Твой Кари перешел дорогу этому Фроди.
Гуннар почувствовал солнце: оно по-настоящему пригрело затылок. Значит, тепло в достатке изливается на землю — пора и за работу…
— Да, пора, — спохватывается Откель, подымая с земли свою мотыгу. — Я был бы дурным соседом, Гуннар, если бы не сказал тебе: будь подальше от этих негодяев…
— Это зависит от меня?
— Скорее от Кари. Он же тебе — сын, а ты ему — отец. Прикажи ему: пусть забудет лужайку на берегу фиорда.
— И что же тогда?
— Тогда, Гуннар, Фроди пойдет другой дорогой. Может быть, на той, на другой дороге какой-нибудь разбойник свернет ему шею. А ты спасай Кари, спасай себя.
Гуннар сопел, смотрел на соседа исподлобья.
— Гуннар, в наше время надо быть осторожным. Надо первому уходить с дороги…
— С чьей дороги?
Откель даже опешил: как, неужели Гуннар не понимает, кому следует уходить с дороги? Не Фроди же!
Гуннар поднял голову кверху, увидел, что туман почти рассеялся под лучами солнца. Земля, даже в ее скромном наряде, и поле, даже с каменными зубьями, были красивы. Руки невольно тянулись к мотыге, а мотыга готова был вонзиться в сырую травянистую землю.
— Надо подумать, Откель, — сказал Гуннар и направился на свое поле, которое было как на ладони и почти с ладонь. А вскоре явился и Кари. С мотыгой в руках.
IX
Гудрид сказала Кари:
— Говорят, что за нами следят чьи-то глаза. — И указала пальцем на лес.
— Мало ли что говорят.
— Я бы на твоем месте все-таки поостереглась. Ведь просто так — ничего не бывает.
Кари посмотрел в темную чащу. Там что-то свистит, шипит, урчит, пиликает… Разные лесные голоса, словом… Если прислушиваться к каждому шороху — с ума можно сойти… Гудрид, которая всегда бывала весела и беззаботна на этой лужайке, нынче выглядит усталой, задумчивой. Может, с нею разговаривали этот Фроди или Эгиль? «За нами следят…» Откуда она это взяла?
— Вот что скажу тебе, Гудрид: может, просто так ничего и не бывает, но придавать значение каждому пустому слову тоже не дело. Так я полагаю. Скажу вот еще что: я угроз не боюсь. Хотя и задираться не в моем нраве. Откроюсь тебе: со мной уже кое-кто говорил и даже пытался припугнуть. Но я не из тех, у кого поджилки трясутся при встрече с каждым лесным обитателем.
— Это касается и людей?
— Люди — не лесные обитатели. Я имел в виду зверей. Люди — это особый разговор. Они опаснее любого зверя. Зверь от тебя бежит, а человек строит козни, ставит западни, призвав на помощь все свое хитроумие. Но должен сказать, что на всякое хитроумие есть и другое хитроумие, силе противостоит сила. Так что не все так просто. Если за нами следят, то, может, и я слежу за теми, кто следит за нами.
«Храбрится», — подумала было Гудрид, но чем дальше, тем больше убеждалась она в том, что Кари не бахвалится. Зачем ему говорить пустое? Вообще-то он не болтлив. Он не умеет морочить голову девушкам красивыми словами. Ведь мужская красота не в словах, но в поступках, не в пустопорожнем велеречии, но в действии. Раз Кари говорит, что не боится никого, значит, так оно и есть…
А Кари продолжал, распаляясь:
— Я знаю, кем меня пугают. Этим Фроди и этим Эгилем. Нашли богатырей! Я видел, как они бьются, и, говоря откровенно, о берсерках был лучшего мнения, они казались мне сильнее. Рычать, фырчать, сопеть и лаять всякий умеет. А вот я не заметил, чтобы мечи их по-настоящему разили. То было больше похоже на драку, чем на славный поединок. Нет, Гудрид, ты меня плохо знаешь. И отец меня плохо знает!
«Нет, Кари — не робкого десятка, — подумала Гудрид. — И говорит он от всей души». И она спросила:
— А к чему весь этот пыл, эти угрозы и заверения в том, что ты бесстрашен. К чему все это? И почему я должна все это выслушивать, почему должны следить за мной? Не знаю, чем я это заслужила?
Гудрид достала из глубокого кармана, пришитого к юбке, красный лоскут и приложила его к глазам.
Он дрогнул. «Плачет», — сказал Кари сам себе.
Возможно, Гудрид и всплакнула. Но нет особой уверенности. Не было ли в этом маленьком невинном поступке женской уловки?
Конечно, так и есть: уловка! И Кари попался на нее. Запросто, как всякий истинный мужчина.
Он принялся отрывать заусеницу на большом пальце левой руки и, глядя себе под ноги, заговорил так:
— Гудрид, я скажу, чем ты все это заслужила… Скажу прямо: ты не виновата. Все это я. Виноват я перед тобой…
Она вроде бы удивилась:
— Ты? Нет, я не верю.
— Гудрид, я слишком много думаю о тебе…
— Обо мне? С чего бы это?
— Сам не знаю. Может, оттого… — но Кари умолк.
Долго молчал он. Язык проглотил, не иначе. Она терпеливо ждала, что же он все-таки скажет. Хотя — можно дать голову на отсечение! — угадывала его ответ.
Кари продолжал глуховатым голосом, словно исполненным мрачных предчувствий:
— Мне сказали друзья… Они все открыли…
— Что же они открыли?
— Ничего особенного. Правду, должно быть, сказали.
И снова умолк.
— Я слушаю, Кари. — Она чертила прямые линии носком своего башмачка — такого остроносого, ладного, плотно пригнанного к ноге.
Он тянул. Должно быть, не легко было в чем-то признаться.
— Гудрид… Мне сказали… Но не знаю, правы ли они… Подозреваю…
— Кари, а не можешь ты поменьше подозревать и пояснее говорить?
— Нет, отчего же? Я могу. Но робею. — Он наконец оторвал заусеницу, и кровь выступила у ногтя.
— Робеешь? А ну, посмотри мне в глаза.
— Зачем?
— Я кое-что узнаю по глазам.
Тут Кари и вовсе уперся взглядом в самую землю.
— Правда, Кари. Я могу судить кое о чем по глазам… Это у меня от бабушки. Она угадывала судьбу по выражению глаз, и по ладоням, и по морщинам на лбу. Она у меня очень занятная. И мудрая.
— Ты у нее и спроси.
— О тебе, что ли?
— Хотя бы…
Гудрид залилась веселым смехом. Он даже не думал, что может так заразительно хохотать Гудрид. «Она очень веселая», — решил про себя Кари. Но глаз так и не поднял.
Она направилась к своей лодке. Уселась в нее. Взяла в руки весла.
— Ты что же, будешь плыть по песку?
— Поневоле поплывешь и по песку. Это легче, чем у тебя слово вытянуть. Нет, к бабушке я не обращусь.
— Почему? — выдавил он из себя.
— А потому, что знаю, что скажет: «Дура! Спросила бы у него сама».
— Ну, так… — Кари глубоко вздохнул, — вот и спроси сама.
Она выпрыгнула из лодки:
— Спрашиваю в последний раз: в чем твоя вина передо мной?
Он собрался с духом. И сказал:
— Меня друзья надоумили…
Она ждала. Оперлась на весло. И ждала. Терпеливо.
Он бросил на Гудрид короткий взгляд:
— Они говорят, что люблю тебя…
Она отвернулась:
— Как это — любишь?
— Так сказали они.
— Вот глупости!
На сей раз замолчали оба. Думали о чем-то своем. Впрочем, Кари ни о чем не думал, голова его была совершенно пуста, подобно давно забытому ларю.
Он понимал, что надо нынче же договорить. Дальше будет еще труднее. И Кари сказал:
— Наверное, люблю, Гудрид…
После долгого молчания она спросила:
— Зачем?
И он ответил довольно бойко, чтобы отделаться от этого тяжелого для него разговора:
— Чтобы жениться.
Она прыснула смехом:
— На ком же, Кари?
— Наверное, на тебе.
Она живо столкнула лодку на воду и, вся пунцовая от смущения, отплыла от берега.
А он все стоял, уткнувшись взглядом в песок.
X
Мать Кари была женщина с первого взгляда тихая, она никогда или очень редко вмешивалась в мужские разговоры. Однако влияние ее в доме было очевидно. Нередко супруг ее говорил ее же словами, и слова эти были мудрые, полезные для домочадцев. Занятая по хозяйству и воспитанием детей, она никогда не забывала, чья она дочь и откуда родом.
Отец ее по имени Хёгни, сын Грани, был человеком трудолюбивым. Он никому, даже сильному конунгу или богатому бонду, не разрешал наступать себе на ноги. Знавшие Хёгни остерегались его язвительных слов и меча, висевшего у изголовья его. Сам он избегал столкновений, но если они случались, то никогда не пасовал. Происходил он из славного рода честных бондов, живших на севере.
Жена Хёгни по имени Унн, дочь Ауд, дочери Торда, жила в этих же местах, где жили они ныне. Ради нее Хёгни оставил северные скалы, берега, богатые треской и сельдью, воздух, звеневший от взмахов гагачьих крыл, и переселился сюда. Он оказался хорошим хозяином: без устали мотыжил свое поле, варил пиво, если на это хватало зерна, и ловил в подходящее время рыбу.
Хёгни был человеком богобоязненным. Он истово молился всем богам и несколько изображений их сработал собственноручно из прочного дерева и поставил у стен вокруг семейного очага. Со временем деревянные боги и покровители потемнели от копоти, и в выражении их лиц появилось нечто, вызывающее к ним еще большее уважение, а на детей нагонявшее страх.
Как-то мать сказала:
— Кари, твой отец сообщил мне нечто, чего я не знала.
Кари молчал.
— Если сын желает жениться, — продолжала мать, — и если он уже выбрал себе невесту, то он обязан сказать об этом своим родным. И не в последнюю очередь — отцу и матери.
— Всему свое время, — сказал Кари.
Эти слова не понравились матери. Она усмотрела в них некую перемену в характере сына, до сего дня послушного и почтительного. Но она не стала пререкаться с ним.
Сказала:
— Ты должен кое-что обдумать, потому что твой отец будет говорить с тобой. И не далее как сегодня.
Вечером, когда вся семья была в сборе у очага, отец Кари обратился с обычной молитвой к покровителям их дома, глядевшим на огонь большими — навыкате — глазами. Затем все принялись ужинать.
После ужина отец сказал Кари:
— Нам надо поговорить с тобой.
Они вышли за порог на вечернюю свежесть и уселись на бревне.
Вверху светила луна. Небо было ярко-зеленым, и было светло, как в пасмурный день. А над крышей, в северной стороне стояло огромное зарево: как бы светилось солнце, которое на самом деле давно опустилось за море. Это было красивое небесное сияние.
Отец начал не сразу. Он обдумывал слова. Однако сын был уверен, что уже все договорено между отцом и матерью и слова заранее взвешены. Собственно, так и должно быть, когда ведешь важную беседу с сыном.
— Меня и твою мать, любящую тебя великой любовью, — начал отец, — многое беспокоит. Наверное, это участь всех родителей. Мне известно, что ты встречаешься с девушкой по имени Гудрид. Я знаю ее родителей. Это достойные люди. Они никогда не надеются не только на милость своих соседей или родичей, но даже на милость самого Одина. Я полагаю, что это хорошо, это свидетельство не только самостоятельности, но и уважения к самому себе. Не зная Гудрид, я допускаю, что она не только мила, но и мудра по-женски, то есть благоразумна.
Отец помолчал, ожидая, что Кари вставит какое-нибудь словечко. И Кари сказал:
— Все это, наверно, так и есть.
— Ну что ж, ну что ж… Во всем, что связано с этим, меня смущает одно: что надо этому Фроди? Я полагаю, что ты его знаешь — его и его повадки.
— Да, отец, — сказал Кари, которому нелегко было вести этот разговор. — Фроди не из тех, кто долго раздумывает, если что-нибудь запало в его сердце.
— Это так. По крайней мере, все держатся такого мнения. Это опасный и коварный человек.
Кари немножечко усмехнулся и заметил:
— Да, нагнал же он страху на многих.
Отца это замечание сына немного задело.
— Мне кажется, что ты берешь на себя слишком много, Кари. В твои годы следовало бы больше слушать старших и меньше высказывать колкостей.
Кари благоразумно промолчал.
— Мы с твоей матерью рассудили так, — продолжал отец. — Если ты решил свататься к Гудрид, то об этом должен сказать нам. Нам необходимо знать твои намерения. При этом тебе следует иметь в виду, что нельзя полагаться на одни чувства. Чем и как ты будешь жить? Что ты намерен делать? Поймет ли она тебя? Не слишком ли избалованна эта Гудрид? И что умеет она делать по дому? Это все не праздные вопросы.
Мать выглянула во двор, постояла немного в дверях и пошла укладывать детей.
— И еще один вопрос, — говорил отец. — Понимаешь ли ты, что стоит на твоем пути?
Сын хотел было сказать что-то резкое, но отец положил ему руку на плечо. Тяжелую крестьянскую руку.
— Не торопись с возражениями, — сказал он, — а лучше послушай… Умные люди говорят, что ты подвергаешь себя смертельной опасности. Эта Гудрид приглянулась не то Фроди, не то Эгилю. Если ты решил — причем твердо — свататься, это дело одно. Если ты ничего пока не решил и готов отступить, как советуют люди, — это дело другое. В этом случае не следует испытывать судьбу и связываться с головорезами. Ты все должен представлять себе совершенно ясно.
Сын сказал:
— Если я посватаюсь, то навлеку гнев Фроди не только на себя.
— Это так, — согласился отец.
— Следовательно, я должен не только ответить тебе, но и спросить кое о чем. Я должен получить какой-то совет.
— Он есть! — сказал отец. — Мы с твоей матерью твердо решили так: если ты сватаешься к Гудрид, то быть по сему! И никакой Фроди, никакой сумасшедший берсерк не заставит нас изменить свое решение. Было бы позором уступать силе, поджимать хвост, подобно испуганной собаке. Мы не свернем с дороги.
Кари сказал, пряча глаза:
— Я намерен свататься.
— Теперь все. Все ясно, — сказал отец и встал.
Он вошел в дом, оставив сына сидящим на бревне.
С гор дул ветерок, наполненный ароматами леса.
Часть четвертая
I
Ранним утром к дому Гуннара, сына Торкеля, подъехал на коне молодой человек, едва достигший двадцати зим. Не спускаясь наземь, он позвал хозяина. Вид у него был не очень-то мирный. Копье, меч, короткий нож на правом боку, кольчуга на груди и щит, привязанный к седлу, свидетельствовали о том, что прибыл он отнюдь не для приискания приюта или длительных бесед. Был он белобрыс, и волосы, пробивавшиеся из-под шлема, казались сотворенными из чистого льна.
Гуннар вышел к воротам, за ним последовал Кари. Хозяйка наблюдала за ними из-за полуоткрытых дверей.
— Ты и есть Гуннар, сын Торкеля? — спросил непрошеный гость.
— До нынешнего дня был им, — ответил Гуннар.
— Я хочу сообщить нечто, что возложено на меня моим великим конунгом…
На это Гуннар сказал:
— Наша земля не настолько бедна, чтобы иметь только одного великого конунга. Если я не ошибаюсь, их немало…
Молодой всадник не смог оценить подспудной насмешки, которая скрывалась не столько в самих словах, сколько в тоне, которым они были произнесены.
Всадник заученно произнес:
— Конунг Вальгард, сын Андотта, изволил прибыть в эти подвластные ему края…
Гуннар перебил его:
— Я знавал Андотта, сына Лодмунда. Я не раз носил ему различные подношения. Но что-то давненько не слыхать о нем.
Тут поближе к ним подошел Кари. Он сказал:
— Говорят, что конунг Андотт был рассечен надвое…
— Неправда! — воскликнул всадпик, и его бесцветные глаза кольнули Кари. — Конунг Андотт погиб в славной битве, в которой лично изрубил в кусочки не менее шести негодяев, а остальных обратил в бегство.
— В бегство? — изумился Гуннар.
— А кто же выпустил дух из Андотта? — небрежно спросил Кари.
Всадник задумался.
— Вспомнил! — сказал он. — На ту пору за толстенным дубом скрывался сообщник врагов конунга, некий коварный берсерк. Он и пронзил конунга. Копье вошло меж лопаток, надвое расщепило позвонки и на локоть вышло с другой стороны. Правда, он смутился, когда оказалось, что наконечник копья обагрен кровью. Конунг не мог предположить, что это была его собственная кровь, — таковы были сила и самообладание конунга нашего и вашего, Андотта.
Гуннар выслушал этот рассказ с приличествующим вниманием. Он не пригласил всадника к себе в дом, не предложил ему ни браги, ни пива. В эти мгновения его больше всего заботило одно: что ему нести, конунгу новоявленному и, наверное, столь же прожорливому вместе со своей челядью, как и его уже покойный отец…
— Уважаемый, — сказал Гуннар, — я бы хотел задать один вопрос. Неужели не нашлось никого поблизости, кто бы оборонил конунга Андотта?
Всадник сказал:
— Битва ярилась великая, и каждый был занят своим делом. А телохранители конунга пали в битве.
— Да, видно, не шуточная была битва…
— Еще бы! — сказал всадник. — Полегло немало, а сам нынешний конунг Вальгард лежал без сознания, уложив дюжину врагов.
— Я вижу — люди вы сильные, — сказал Гуннар.
— Ты прав.
— Однако из твоих слов явствует, что и сильные погибают в сече.
— Это тоже верно! — согласился белобрысый.
— Так что же надлежит нам делать? — спросил Гуннар.
— Весь месяц конунг будет жить в этих краях. Он полагает, что едва ли найдется такой, кто не явится к нему, чтобы он мог полюбоваться на людей, преданных ему и подносящих ему знаки своего внимания. Живет конунг за Форелевым ручьем, на большом хуторе, вам хорошо известном. Покойный конунг любил тот хутор за великие удобства и просторы покоев и за гостеприимство его хозяев… — Потом всадник нагло спросил: — Я что-нибудь сказал неясно?
— Нет, все ясно, — подтвердил Гуннар.
— А кто живет здесь поблизости? — спросил всадник.
— Почтенные люди…
— А что, если вот этот молодой человек, — всадник указал кнутовищем на Кари, — передаст им мои слова, которые я сказал уже тебе. А мне предстоит еще долгое путешествие по лесам и полям.
— Отчего же нет? — сказал Кари.
Всадник предупредил:
— Конунг встает рано, и кладовые его тоже открываются рано…
Гуннар сказал:
— Вот это твое сообщение особенно ценно, ибо нет ничего лучше утренних подношений.
Белобрысый почесал себе нос концом кнутовища и сдвинул шлем чуть набок. Он сказал:
— Я вижу, что имею дело с людьми понятливыми. Если и соседи ваши такие, как вы, то наш конунг надолго запомнит всех вас.
— Вот это очень важно! — сказал Гуннар.
А Кари спросил:
— А что ты больше всего любишь сам?
— Я? — Белобрысый рассмеялся, и водянистые его глаза вдруг ожили. — Как вам сказать?.. Кто откажется от хорошего бычка? Да и молодая конина с брагой имеет свои достоинства.
— А твой конунг? Каков его вкус?
— Конунг учит, что и как следует потреблять, — проговорил белобрысый. — Мы же только глядим на него во все глаза и делаем себе на носу зарубки.
— Ладно, — проговорил Гуннар. — Я свой долг выполню, а мой сын Кари сообщит радостную новость соседнему хутору.
Белобрысый тронул было коня. Да вдруг передумал. И спросил:
— Тут, говорят, живет в лесу некий умелец…
— Умелец? — Кари подошел ближе. — Какой умелец?
— Разве всех упомнишь?.. Он выдает себя за скальда… Но мечи, говорят, выковывает не хуже лучших мастеров кузнечного дела.
Кари сказал:
— Найти его нелегко. Он живет в лесных чащобах и на болотах…
— А дом? Разве он бездомный?
— Я бы сказал — да. А зачем он нужен?
Всадник сказал:
— Сын владельца хутора, где остановился конунг, очень хвалил мастерство этого отшельника. Конунг очень хотел бы видеть его.
— Если он только не в дремучем лесу…
Всадник оглянулся вокруг, что-то прикинул в уме. И бросил между прочим:
— Фроди его из-под земли добудет. Что ему чащоба?
— Фроди наверняка сыщет, — подтвердил Кари.
— Надо двигаться, — сказал белобрысый. — Конунг будет рад вашему приходу…
И ускакал…
— Это была угроза, — сказал Гуннар сыну. — Ты уразумел?
— Немудреная это наука, — сказал Кари. — Каждый уразумеет.
II
Вечером, когда семья отужинала, но все еще сидела у длинного очага, Гуннар сказал:
— Приехал новый конунг этих мест.
— Почему — новый? — спросила хозяйка.
Кари сидел рядом с отцом и ковырял головешкой в золе — забавы ради, думая о своем…
— А потому что старый уже в Вальгалле. Зарублен в битве.
Дети ничем особенным не выказали своего отношения к столь горестному сообщению.
— Туда ему и дорога, — сказала хозяйка.
А мать ее, старая совсем, заметила, что негоже говорить такое даже о плохом конунге. Кто же видел хорошего?
Гуннар сказал:
— Один помер, а на его место заступил другой. И ждет нас к себе в гости.
— Ждет, значит, надо идти, — сказала хозяйка. — Ведь мало хорошего и тогда, когда тебя вовсе не замечают.
— Конунги всех и все замечают, — сказал Гуннар. — Пожалуй, я отвезу ему рыбы. Рыбы у нас вдоволь. И не плохая она, должен сказать. Солонина жирная тоже найдется.
— Если поголодать, то можно и солонины отвезти, — сказала хозяйка.
— Вы с ума посходили! — зашепелявила ее старая мать. — Вы посчитайте, сколько у вас ртов, — тогда и решайте, сколько чего везти.
Гуннар рассердился было на старуху, да промолчал, потому что она была права, однако обстоятельства были сильнее всех ее разумных доводов. Конунг — большой разбойник. Надо ли связываться с ним? Дело не в том, хорош конунг или нет, а в том, что подношения неизбежны, как день, который наступит завтра.
Кари сказал:
— Нельзя нам позориться. Я мог бы заготовить дичи…
— Много ли?
Кари этого не знал. Все будет зависеть от покровителей лесов и охоты. И от священных изображений, которые лупоглазо смотрят на длинный очаг из каждого угла.
— Мы можем сходить на поклон к конунгу и через неделю. И через две.
— Вот и хорошо! Я постараюсь добыть оленину и медвежатину. Да и птиц тоже. Ведь конунг, если я не ошибаюсь, не брезгует ничем.
Гуннар хмыкнул:
— Он сожрал бы все каменья на берегу, если бы смог переварить их. И еще учтите: у него огромная прожорливая свита. Жрут, пьют и в ус себе не дуют.
— Нет, почему же? — возразил Кари. — Они стоят горой за конунга. Это их работа.
— Прекрасная работа, чтоб им пусто было! Ты, Кари, вроде той лошадки, которая ничего, кроме своей дороги, не видит. Ты оглянись по сторонам.
Кари молчал. Сказать ему было нечего. Он знал одно: не следует ударить лицом в грязь… Он умолчал о том, что и семья Гудрид готовит подношения конунгу. Ему не хотелось выглядеть беднее…
— Так, — заключил Гуннар, — решено: мы тут распорядимся с солониной и рыбой. С брагой и пивом — тоже. Что же до дичи — это уж на совести Кари. Уговорились? — И Гуннар посмотрел на сына.
— Да, — сказал Кари. — Не надо, чтобы другие смеялись над нами. Эта челядь конунга, говорят, очень падка на разные потехи. Чтобы не засмеяли!
Старуха сказала откуда-то издалека, из-за чьей-то спины:
— Сказано справедливо, Гуннар, ты не затыкай себе пальцами уши.
Кари сказал:
— Ни к чему споры: дичь будет. Это моя забота.
Гуннар не сводил глаз с самого высокого языка пламени в очаге. О чем он думал? Трудно сказать. А вот сын его думал о ней, о Гудрид. И тоже любовался пламенем, рвущимся кверху.
III
Однажды вечером Гуннар сказал во всеуслышание:
— Слушаю я, слушаю все эти рассказы про заморские зеленые земли и прихожу к такому выводу: туда могут поплыть только богатыри, только люди особенные. Чтобы решиться на такое плавание — сердце надо иметь каменное, чтобы оно не знало усталости. А еще я думаю, что все это — сказки. И, сказать по чести, мне уже начинает надоедать вся эта болтовня.
IV
Кари привиделся сон: сидит он на теплом песке и глядит на голубую поверхность фиорда. А вода чуть шевелится, погода стоит тихая, вверху летнее солнце, вокруг густой запах смолы, а из земли до неба подымаются ровные, точно частокол, сосны. И вдруг огонь охватывает лес, он горит, как огромный очаг, дым валит к самому солнцу. Вот запах смолы исчезает, и в ноздри лезет противный вязкий дым. И Кари задыхается, нет силы держаться на ногах, песок становится нестерпимо горячим, он жжет пятки, башмаки подгорают. И тут прямо на Кари плывет лодка. На большой волне. На самом гребне. На корме восседает Гудрид и даже не гребет… Но как же лодка подчиняется ей?.. Вот она протягивает ему руки. В ее глазах странное беспокойство. Руки ее так белы и так нежны, что сверкают на солнце, подобно слюде. А огонь все ближе… Вот-вот сгорит в бурном пламени трепещущий от страха Кари…
И тут он просыпается.
И не просто просыпается: его тормошит отец.
— Вставай!.. Живее!.. Горим!.. — кричит отец исступленно.
Кари едва дышит — его окутывает дым.
Дым — такой едкий, удушливый — идет откуда-то снизу, проникает сквозь щели в полу и в двери. Он стелется низко — тяжелый, точно горит вар или древесная смола.
Гуннар выскакивает во двор, за ним устремляются домочадцы.
Кари уже во дворе. Горит не дом, а хозяйственная пристройка, которая в двух десятках шагов от дома. В ней хранились рыболовные снасти, пустые деревянные кадки да кое-какой домашний скарб.
Огонь охватил деревянное сооружение со всех сторон.
Погода стояла хорошая, на небе — ни тучки. Так что удар молнии полностью исключается. Если не молния — так что же? Остается предположить одно: поджог! А кому же понадобился он? Что это: неосторожное обращение с огнем или преступление?
Эти вопросы задавал Гуннар сам себе. Ответить на них было нелегко. Да и не до ответов: надо было попытаться спасти что-либо из скарба. Но как?
Кари схватил огромное бревно и с разбегу ударил в дверь, закрытую на замок. Но тщетно: пылающая дверь все еще держалась, она оказалась сколоченной на славу. На сей раз ее добротность обернулась черной стороной.
Гуннар крикнул:
— Брось это дело! Если даже ты и заберешься в кладовую, то живьем сгоришь! Пусть лучше пропадает добро. Теперь уж и вода не поможет.
Убедившись, что огонь не грозит другим постройкам, Гуннар уселся на пень. Что делать: чему быть — того не миновать. Он только поглядывал на огонь.
Вместе с ним вся семья наблюдала за пожаром. Сухие дощатые стены весело трещали, из них сыпались искры, и понемногу обнажался черный бревенчатый каркас, который вскоре рухнет.
Ближайшие соседи спешили на помощь. Но она не требовалась. Поджог был совершен умело, и никакая сила не в состоянии была погасить огонь. Разве что чудо. Но о таком чуде давно не слыхивали на хуторе Гуннара. Да и в близлежащих — тоже.
Когда постройка сгорела основательно и на ее месте обнажилась земля, Гуннар начал рассуждать вслух. Он словно бы цедил слова, обращаясь к хозяйке:
— Ежели… не пламень… небесный?.. Грома не слыхивал никто… И молнии не сверкали… Следовательно… — Гуннар сверкнул глазами, полными гнева. — Следовательно — поджог. Кому это нужно было? Зачем?.. И почему — именно меня, а не другого?..
Хозяйка молчала. Потрясенная ущербом, который нанес этот огонь, она словно бы превратилась в каменный столб. Лишь время от времени она с укоризной поглядывала на Кари. Укорять Кари? Но в чем? Чем накликал он беду на свой хутор?.. У матери на этот счет, кажется, было свое мнение.
— Я спрашиваю — кому понадобился этот пожар?
Кари молчал.
Гуннар не выдержал, выкрикнул разъяренно:
— Разве я говорю что-либо непонятное? Тебя спрашиваю, Кари!
— Я, наверное, знаю не больше тебя…
Угасающие угли покрывались слоем серой золы. Ветер шелестел над пепелищем, подымая кверху тонкие струйки дымков.
— А по-моему, кто-то должен знать побольше…
— Не всех одинаково одаряет О́дин своей мудростью.
— Но зачем притворяться глупым сверх меры?
Кари сказал:
— Если заподозрить Фроди… Если…
— Именно! — проворчал Гуннар. — Ты начинаешь шевелить мозгами. Но учти: сказав нечто справедливое, надо следовать и дальше по этому пути.
Кари обошел пепелище, подобрал обгорелый гвоздь толщиной с большой палец. Он подумал:
«Добрая была постройка. Одолеть ее мог только огонь. Но откуда он взялся?»
Он двинулся в сторону леса. Вошел в лес. Сделал еще несколько шагов и увидел траву, примятую конскими копытами. И навоз конский увидел. Кари обратил внимание и на человеческие следы, глубокие там, где почва была песчаной, и не очень ясные — на траве. Отсюда хорошо был виден весь хутор.
Поджигатели, несомненно, находились здесь. Все указывало на это. Кари обнаружил даже охапку сухого сена. Ее, несомненно, привезли с собой злоумышленники. Потом они обложили строение со всех сторон и подожгли в нескольких местах. Это могла быть только месть. Но месть кому? Гуннару? Кари? Или вообще их роду? Может, и в самом деле родовая месть? Сказать по правде, не совсем месть, но скорее ясное предупреждение. Мстят на дороге ударом копья или меча…
Отец тоже назвал Фроди… Неужели все это из-за Гудрид?
Кари медленно спускается к пепелищу, над которым все еще раздумывает Гуннар и недвижно стоит мать.
Кари говорит как о чем-то простом и почти решенном:
— На хуторе, где живут Фроди и Эгиль, тоже имеются постройки. Да почище наших. Сухое сено тоже найдется. И огонек тоже.
— А после? — вопрошает отец. — Надеюсь, ты не хочешь, чтобы все мы сгорели в огне.
Гуннар убедился в том, что не осталось ни одного горящего уголька, — сплошная зола, совсем остывшая. Соседи уже разошлись, сказав несколько приличествующих данному случаю слов.
— Выходит, нет дороги, которая была бы безопасной в этом мире, — сказал Кари.
— Выходит, — подтвердил Гуннар.
— Здесь делать больше нечего, — сказала хозяйка. Ее голос шел как из-под земли.
Гуннар и Кари медленно повернулись спиною к пепелищу. За ними последовала хозяйка с домочадцами…
V
Тейт работал на болоте. Остервенело копал вязкую землю и швырял ее подальше от себя. Он долго не обращал внимания на Кари. Даже не ответил на его приветствие. Крепко сжимал зубы, точно его мучила боль. Потом вытер рукавом пот со лба, смерил взглядом с головы до ног своего молодого друга, точно видел его впервые.
— Что я говорил тебе? — спросил он.
— Разговоров было много, — сказал Кари, — всего и не упомнишь.
— Я имею в виду один. Определенный. Вспомни, я говорил: оставь в покое Гудрид. Говорил?
Кари кивнул:
— А еще говорил: не связывайся с Фроди.
Кари опять кивнул.
Тейт вонзил лопату поглубже в болото и со злостью отбросил вонючую землю. И, не глядя на Кари, сказал:
— И говорю тебе сейчас: уходи отсюда!
— От тебя?
— Нет, вообще отсюда! Куда-нибудь подальше, где можно жить.
— Но куда же?
Тейт посмотрел на Кари и долго не отводил от него своих глаз.
— Сказать?
— Да.
— За море! Подальше! Чтобы забыть об этой проклятой земле!
И Тейт снова принялся за свое дело.
VI
Лужайка больше не казалась зеленой. Кари ходил по ней взад и вперед, точно запертый в тесный чулан. У него все еще звучали в ушах слова скальда: «За море! Подальше!» Скальд не бросается словами. Значит, он хорошо все обдумал. Но почему же сам не ушел туда, за море, когда еще были у него силы? Скальд на такой вопрос предпочитал не отвечать. Но однажды — это было только однажды — он сказал Кари так:
— Скальду нечего делать на чужой земле. Он живет только на своей, если даже она жжет ему ноги, подобно раскаленной жаровне.
Теперь уже не припомнить: почему, в связи с чем сказал он эти слова. Но это было его твердое мнение: скальд погибает вне своей среды, вне своего народа, подобно рыбе, выброшенной на берег…
На этот раз Кари тщетно прождал Гудрид. Она не могла не приплыть сюда — так полагал он. И тем не менее ее не было. Что же случилось?
Долго еще метался по лужайке Кари — ему так много хотелось рассказать Гудрид. И не столько рассказать, сколько посоветоваться. Ох, как нужен ее совет! Нынче же! Безотлагательно!..
VII
Гуннар уже стоял с топором. Он поджидал Кари. Тот плелся со стороны фиорда, словно придавленный тяжелым бременем.
— Вот что, — сказал отец, — есть лучшее в мире средство от всех напастей…
— Какое же?
— Работа! Вот тебе топор. Мы пойдем вместе в лес и нарубим бревен, обстругаем их и назло врагам построим новую кладовую.
— Назло врагам? Но кто же они?
— Не знаю, Кари, я не видел их лиц. Но догадываюсь. Так же, как и ты.
— Если бы я точно знал…
— И знать не надо! Делай вид, что все от неосторожности нашей. Разве не говорила твоя мать, что ходила в кладовую с горящей лучиной? Она забыла погасить лучину.
— На мать это не похоже.
— Бывает с человеком всякое. Разве все предусмотришь?
— Ты вчера говорил нечто иное, отец.
— Кари, время течет, и мысли текут, и человек делается другим.
Кари уже не слушал отца. В его глазах отражалось безбрежное море, которое уходило на запад, неведомо куда. Отец продолжал говорить, а сын не слышал его слов, и душа его была далеко отсюда.
Гуннар оборотился к морю, чтобы увидеть то, на что засмотрелся сын. Но ничего не увидел, кроме волн и еще красного паруса — четырехугольного, уплывающего вслед за солнцем.
— Ты первый раз видишь это море? — спросил отец. — Что тебя так привлекло?
— Парус.
— Разве это для тебя в новинку? Кто родился на берегу — тому суждено не только видеть паруса, по и слушать трепыхание сурового полотна под неистовым ветром.
Кари не отрывал глаз от одинокого паруса.
— Отец, — сказал Кари. — Что там?
И указал на запад.
— Там? Этого никто не знает доподлинно. Но, как это не раз доводилось слышать и тебе самому, сказывают о каких-то землях..
— Тейт уверен в этом.
— Твой Тейт слишком много знает. Это тоже не к добру… Лучше бери топор и следуй за мной. И еще: держись подальше от скальдов всяких — они никогда не бывают такими, как все. Головы их забиты стихами, а стихи часто доставляют одни заботы. Нет лучше песни, чем та, которую слагают работающий топор и стонущее под его ударами дерево.
— Ты в этом уверен, отец?
— Я могу поклясться перед нашими богами.
— Это — которое вокруг нашего очага?
— Зачем? И перед лесными богами могу. И перед самим О́дином.
Отец говорил твердо. И это несколько смущало мятущуюся душу Кари.
VIII
Гуннар запомнил, как смотрел Кари на парус.
После ужина Гуннар сказал, вытерев губы и руки льняным полотенцем:
— А как ни говори — нет лучше той землицы, где родился ты и где живешь.
Хозяйка насторожилась: зачем повторять всем давно известную истину?
Гуннар продолжал:
— Здесь дорога́ тебе каждая песчинка на берегу родного фиорда. Небо над тобою — родное тебе. А земля — еще роднее. Здесь живут твой отец, твоя мать, братья и сестры. Но ведь и товарищи, выросшие вместе с тобою и вместе с тобою делившие опасности плаваний и охотничьего промысла в горах, — это тоже частица тебя самою, твоей родины. Разве мыслима жизнь без них?
Гуннар посмотрел в сторону сына. Тот сидел, понурив голову, сплетя крепко-накрепко пальцы, и глядел на огонь. Пламя неукротимо подымалось кверху, искры сыпались.
Кари думал о чем-то своем. Ему не было дела ни до искр, ни до пламени. Он думал крепкую думу, как думают бывалые люди в морозные зимние ночи, когда на душе у них мрачнее самой ночи. Он понимал: отец говорил для его ушей, отец имел в виду именно его.
Гуннар все рассуждал:
— Конечно, не всегда родная сторона бывает с тобой ласкова. Об этом даже не приходится спорить. Так сказать, это истина. Но это же вроде любящей матери, которая бранит тебя, желая тебе же добра. Поэтому родная сторона часто сравнивается именно с матерью, вскормившей тебя.
Гуннар продолжал развивать свою мысль в этом же направлении при полном молчаливом согласии жены — она время от времени кивала головой. Остальные члены семьи внимательно слушали своего главу, пытаясь уразуметь смысл его слов.
Но вот заговорил Кари. Он словно бы ни к кому и не обращался. Можно было подумать, что беседует он с очагом. Не расплетая туго сжатых пальцев, глядя прямо перед собою, он сказал:
— Тейт несколько иного мнения.
— Сколько голов — столько и мнений, — заметил Гуннар.
— Но ведь истина одна…
Отец сказал про себя: «Этот скальд втемяшил ему различные мысли, цена которым — ничтожная, дешевле тухлой рыбешки».
— Тейт, — сухо выговорил Гуннар, — человек особого склада. Не скажу о нем ничего худого. Но ведь у него нет жены, он не вырастил ни одного ребенка, живет бобылем. У него на все свой взгляд. А наше положение — иное. Нам крепко следует держаться за землю, даже если она не всегда милостива к нам и весьма своенравна…
— Да, отец, это мысли иного раба, постаревшего под пятой своего господина и не видящего впереди ничего хорошего для себя.
— И это тоже его слова! — воскликнул Гуннар. — Узнаю рассуждения Тейта!
Хозяйка вмешалась в разговор:
— Мне больно слышать худое слово о Тейте. Он внимателен к нам и ничего плохого не сделал нашей семье. Надо ли корить его?
Гуннар махнул рукой:
— Я могу сказать только одно: Тейт сам по себе — человек неплохой, однако он не товарищ Кари — хотя бы по возрасту. И наставник неважный. Да какой из него наставник, если он не пашет, не жнет, семью не содержит. Ведь живет он как птица: что боги пошлют, то и клюет. Разве такой нужен советчик нашему сыну?
На это хозяйка сказала:
— Каждому нужна своя голова. Она — лучший советчик.
— А если своя не созрела для этого?
— Тогда надо ждать, когда она созреет.
— Об этом и речь! — сказал Гуннар. — В семье кто-то должен давать советы, а кто-то должен слушать их!
— Это справедливо, — сказала хозяйка.
У Гуннара с языка готово был сорваться слово, которое, несомненно, взволновало бы сына. Слово о Гудрид. Но не такое это дело, которое должно решаться в присутствии всех домочадцев от мала до велика. Сначала надо обо всем поговорить с самим Кари. Однако Гуннара очень подмывало — просто спасу не было — выложить накипевшее. И он сказал:
— Если мужчина что-то решил, то он должен исполнить свое намерение… Если перерешил что-либо — должен заявить об этом во всеуслышание.
Намек был слишком прозрачным, чтобы не понять его.
— У каждого есть свои намерения, — проговорил Кари. — Один — торопится, другой — размышляет. И правы оба. Неправ оказывается тот, кто совершил ошибку, кто оказался более опрометчивым. Кстати, подолгу раздумывающие тоже могут оказаться опрометчивыми.
— Скальд! — крикнул Гуннар в гневе. — Опять скальд! Это слова самого Тейта! Ты их просто повторяешь!
— Возможно, — согласился сын. — Не зазорно учиться у многоопытных…
— Повторять чужие слова тоже надо уметь! Или они должны быть к месту!
Кари встал.
— Я подумаю, — сказал он.
— От своего просто так, за здорово живешь не отступай, Кари.
— Это верно, — сказала мать.
С той стороны очага отозвалась старуха:
— Я долго молчала. Слушала вас. Внуку своему накажу так: перед силой отступают. Так создано самой природой. А против нее человек слаб.
Гуннар откашлялся, словно собирался произнести речь на тинге. И сказал так:
— Я вижу, что окольная речь, понятная людям сметливым, нынче бессильна. Намеки уже не имеют значения. А жаль! Посему в вашем присутствии скажу нечто. Сын мой, Кари, — вот он здесь, перед вами, — как видно, желает посватать достойную девицу по имени Гудрид. Что же, это дело, по моему разумению, стоящее. Сватовство должно состояться, если намерения Кари не изменились… Правда, налицо обстоятельства, которые заставляют призадуматься. Нашлись молодцы, которые встали поперек. Недавний пожар — дело их рук. Это предупреждение… Это те самые люди, у которых остановился конунг. Пощады от них не жди. Но если Гудрид пожелает и ее родные будут в согласии с нами — тогда можно будет кое-что предпринять. Я советую Кари не отступать. Но для этого нужна полная ясность.
Кари сказал на это:
— Мне нужна неделя.
Гуннар сказал:
— Неделя не вечность. Всякое большое дело требует тщательного к себе подхода. Я полагаю, что Кари имеет полное право на неделю и даже больше. — И добавил: — Если нас к тому времени не сожгут живьем.
Кари вздрогнул. Его точно ударили по лицу.
В доме стало тихо, только пламя трепыхалось, словно птица-подранок.
На этом и закончился разговор в этот вечер.
IX
Тейт сказал Кари:
— Я тревожусь. Есть основания. О себе я думаю меньше — достаточно прожито зим, могу уже не дрожать за свою жизнь. Но ты, Кари, молод, впереди у тебя много-много зим. Я хочу дать тебе два совета: носи с собою меч — он верно тебе послужит. Другой совет: думай о новой земле, думай о заморском плавании. Есть тут один пришелец, он подыскивает себе верных друзей. Корабль, по его словам, очень ладный. Он принадлежит его отцу, а отец отдает ему этот корабль. Думай, Кари, думай! В будущую весну он уплывает. Это храбрый малый, и с ним тебе будет неплохо.
Тейт обещал свести Кари с этим малым — пусть поглядят друг на друга, поговорят. Как говорится, умная беседа — прибыток.
X
Сон в эту ночь привиделся отменный: все было белым-бело, и свет изливался откуда-то сверху бесконечным потоком. Солнца не было видно, но оно как бы пронизывало все: землю, листву зеленую, воду, самое твое существо… Кари это видел как наяву…
Утром пересказал сон отцу, затем — матери и бабушке. Все признали, что сон добрый и предвещает нечто светлое. Будет большая радость. Сам Кари тоже держался такого же мнения. И ему не терпелось поделиться этим с Гудрид.
На заветную зеленую лужайку он, можно сказать, приплыл, как рыба, — легко и быстро. Вся лужайка была залита солнцем и напоминала местность, виденную во сне. Еще несколько весельных взмахов — и лодка уперлась носом в песок. Он посмотрел за борт, на воду и увидел песчаное дно, освещенное солнцем. Вот точно так же светилась вода во сне!
Лужайка была пуста: без Гудрид она всегда бывала пустой. Кари растянулся на земле, сорвал травинку и попробовал на вкус. А глаза его были обращены к небесам — таким голубым, как в ночном сновидении.
«Пробил час, — думал Кари, — нынче все должно решиться. Если сватовство состоится, то без проволочки. Правы те, кто поторапливает. Наверное, прав и Тейт, поторапливающий с отъездом. Он это делает из лучших побуждений. Но надо поступать обдуманно: или они, он и Гудрид, уплывают вместе, или он, Кари, остается здесь. А иначе это будет трусливое бегство. Не так уж страшны эти Фроди и Эгиль со своими товарищами-головорезами, как это кажется иным. Ведь существует тинг, который в состоянии обуздать даже заядлых негодяев. Есть тому немало примеров… Взять хотя бы…»
На этом самом месте на Кари упала тень. Эта тень заслонила от него и солнце, и даже полнеба.
— Прохлаждаешься, Кари?
Кари вскочил так, словно его укололи шилом. И нос к носу оказался с самим Фроди. Тот от неожиданности вдруг на мгновение замер.
Так они молча смотрели друг на друга, а потом Фроди отступил на шаг. И снова сделался прежним Фроди: самонадеянным, насмешливым, небрежным в обращении…
— Ты испугался так, что напугал даже меня…
— Это возможно, — сказал Кари, оглядевшись вокруг.
— Да ты не бойся… Я сегодня добрый…
— Я тоже, Фроди. Просто не ждал такой приятной встречи.
— О встрече судят в конце. После. После того, как разойдутся.
Фроди повернулся в сторону фиорда: вода была чистая, легкий парок курился над нею.
— Не видно ее, — сказал Фроди.
— Ты о ком?
— Не догадываешься? Ну, это уж, братец, слишком!
Фроди подбоченился и насмешливо оглядел Кари с головы до ног. Взгляд его остановился на мече.
— Ого! — сказал Фроди. — Что я вижу?! Ты начал носить меч?
— Как видишь.
— С чего бы это?
Фроди сощурил водянистые глаза и беззвучно рассмеялся, шевеля дурацкими усами:
— Если не ошибаюсь, Кари, ты чего-то опасаешься.
— Не сказал бы.
— Тогда — угрожаешь кому-нибудь?
— Тоже не сказал бы.
Фроди обошел Кари вокруг. Это было обидно: Кари будто не Кари, а какое-то непонятное существо, притом смешное.
— Не узнаешь меня, Фроди?
— Нет, почему же! Узнаю. Послушай, Кари, ты не можешь пожаловаться на то, что не было предупреждений. Ведь, кажется, какое-то строение горело у тебя во дворе.
— Да, горело. И даже очень красиво.
— Вот видишь! И после всего этого ты не забыл про эту лужайку?
— Пожар — одно, лужайка — нечто другое.
Фроди ухмыльнулся:
— Есть люди, которые делают вид, что они глупее, чем на самом деле.
— На земле люди разные, с этим ничего не поделаешь. Каждый действует по своему разумению.
— Но ведь надо же и прислушиваться.
— К чему?
— К словам тех, кто умнее, кто сильнее, кто богаче…
— В этом ты прав. Но у каждого своя голова. И в этом прав я, а не ты.
— Это еще покажет будущее.
Так переговаривались они — внешне вроде бы пристойно, но у каждого из них накипало в душе нечто готовое взорваться. Подобно тому, как весенний лед — вроде бы зимний еще, но в один прекрасный миг раскалывается на множество частиц. В мгновение ока: был лед — и вдруг ледяное крошево…
Фроди исподлобья глянул на воду и сказал:
— Можешь радоваться: плывет!
— Как это понимать?
— А так, — заносчиво сказал Фроди. — Недаром, видно, ты нацепил на себя эту игрушку. — Он кивнул на меч.
— Для кого игрушка, Фроди, а для кого и нет.
— Может, объяснишь, что ты имеешь в виду?
В душе Кари совершалось необычное: в тихой, не знавшей злобы груди рождалась буря. Но внешне пока что почти ничто не выдавало ее…
Он молча наблюдал за Фроди. Было в поведении берсерка нечто странное: так ведет себя или шут гороховый, или человек, задумавший великую подлость. Кари терялся в догадках. Припоминая кровавую драку на Форелевом ручье и то, как вел себя в этой драке Фроди, Кари скорее всего склонялся ко второму, то есть к тому, что Фроди задумал какую-то подлость и дурачится перед тем, как совершить ее. Следовало зорко следить за каждым движением Фроди и в то же время наблюдать за фиордом, откуда вот-вот должна была приплыть Гудрид. Если бы боги были милостивы к Кари, они непременно внушили бы Гудрид мысль о том, что плыть к зеленой лужайке сейчас опасно, не нужно. Но кто может сказать, как относятся боги к Кари и нет ли у него какой-либо вины перед ними?
Небольшое пятнышко на водной глади быстро приближалось. Весла равномерно погружались в воду.
— Ей лучше бы не сходить на берег, — проговорил Кари. И подал рукой знак.
— Чему суждено свершиться, того уже не миновать, — глухо сказал Фроди и присвистнул. И тут из-за деревьев, стоявших стеной, показалось несколько человек. Они сразу же окружили Кари, схватили его. Это случилось столь быстро, что Кари не мог сообразить, что же, собственно, происходит.
Кари увидел Эгиля. И сказал:
— Правду говорят: одного поля ягода.
— Ты у меня поговоришь! — крикнул Фроди. — А ну, ребята, давай кляп! Где кляп?
Эгиль запихнул в рот Кари грязную тряпицу. И тут же связали его так, что Кари даже пальцем шевельнуть не мог.
— А теперь привяжите его к тому дереву, чтобы слышал все. А его самого чтобы не было отсюда ни слышно, ни видно.
Кари оттащили в сторону и привязали прочными веревками к высокой сосне. Слово «привязали» не совсем точно: он был словно спеленат с головы до ног.
XI
Гудрид была почти у берега: один взмах веслами — и днище соприкоснется с песком.
На лужайке никого, кроме солнца и тепла, кроме зелени и мягкой тишины. Это ее немножко озадачило, она привыкла видеть Кари у самого уреза воды. «А впрочем, — подумала она, — Кари мог задержаться». Однако издали ей казалось, что на берегу маячила чья-то фигура. Должно быть, обмануло зрение.
Только ступила она на берег, как навстречу ей вышел Фроди, наблюдавший за нею из-за деревьев.
Он сказал вежливо:
— Здравствуй, Гудрид.
Она озиралась вокруг — нет ли еще кого? Нет, вроде никого. Это ей не понравилось. Встреча с Фроди, да еще на лесной лужайке, да еще наедине — не самое лучшее, о чем мечтается приличной девушке.
Он словно бы угадал ее мысли:
— Не бойся, Гудрид. Тот, кого ты ждала, наверное, недалеко и вот-вот появится.
Фроди был слишком вежлив, и это еще больше встревожило Гудрид. Ибо верно говорят: «Уж лучше волк в личине волчьей, нежели в обличье невинного ягненка». Гудрид шарила взглядом по сторонам в надежде увидеть Кари.
Она была нынче особенно привлекательна. Щеки ее розовели на солнце, волосы золотились, а в большущих глазах будто отражалась вода фиорда — чистая и тихая.
На ней было легкое, чуть не до пят платье, башмаки — из тонкой оленьей кожи, чулки зеленые, шерстяные. Гудрид была красива своей молодостью — невинной, первозданной, как само небо.
— Я знаю, — сказал Фроди, — кого ты надеешься увидеть. Но меня больше интересует иное: что ты думаешь обо мне?
— О тебе? — испуганно вопросила Гудрид.
— Да, обо мне. О знаменитом Фроди! — И он нагло выпятил грудь.
— Каждый чем-нибудь да знаменит, — сказала Гудрид.
— Не каждый, — возразил Фроди.
Он осведомился у Гудрид: не жарко ли ей на солнцепеке и не лучше ли постоять в тени деревьв. Она ответила, что предпочитает это, более открытое место, ибо на то и лето, чтобы немного погреться на солнце, а тени и зимой предостаточно. Даже слишком много…
— Как тебе будет угодно, — вежливо сказал ей Фроди. Ей показалось, что это другой, совсем другой Фроди, а не тот, о ком идет дурная слава.
И она на миг поддалась этому ощущению.
— Фроди, — сказала она, — я действительно жду Кари. Мне казалось, что это он стоял вот здесь, на том месте, где стоишь ты. Но, как видно, я ошиблась.
— Ошибка явная, — сказал Фроди, — поскольку я налицо, а Кари бог весть где.
— Он где-то здесь. В этом я уверена.
— Возможно. Однако есть на свете петухи ранние, а есть поздние. Вторые всегда остаются в проигрыше. Так вот, скажу я тебе, Гудрид, я из петухов ранних. Из тех, кто не спит, а кукарекает всю ночь напролет.
Гудрид стало смешно. И она дала волю своему смеху. Посмеялся с нею вместе и Фроди. А потом сказал:
— Кроме шуток, Гудрид, я хочу посвататься к тебе.
И скосил на девушку изучающий взгляд.
— Что? — спросила Гудрид. — Мне послышалось…
— Нет, Гудрид, не послышалось. Я хочу посвататься к тебе.
— Ты? — с трудом выговорила Гудрид.
— А что удивительного? Разве ты безобразна? Или мало уважаем твой отец? Постой… — Фроди поднял руку кверху, словно указывал на макушку ближайшей сосны, — Постой! Или, может, я недостоин тебя?
Гудрид молчала.
— Я спрашиваю: может, недостоин тебя?
— Я этого не говорю…
— Так что же ты говоришь?
— Ничего.
— Уф! — громко вздохнул Фроди. — Ты было огорошила меня. Я полагаю, что нет в мире девушки, которая не пошла бы за меня замуж…
— Во всем мире?
— Во всяком случае, от Финланда до Агдира, от Гаутланда до Эстланда. Этого тебе мало?
В голосе Фроди послышались новые нотки — угрожающие или просто раздраженные. Ладонь его левой руки сама собою легла на рукоять меча. Бесцветные глаза вдруг зажглись огнем — холодным, отталкивающим. Недаром же Фроди был берсерком…
Девушку пронял холод — до самого сердца. Она вдруг ощутила страшную опасность. Да, этот берсерк опасен не только в битве. Она попятилась к лодке и попыталась вскочить в нее…
— Куда?! — заревел Фроди. Он кинулся на Гудрид, подобно лесному хищнику, и сгреб ее хрупкое тело в охапку.
Она попыталась высвободиться из страшных объятий, но разве ей это было под силу?
Он поставил ее на ноги. Сказал:
— Я боюсь, что ты утонешь в этом фиорде.
Она молчала.
— Я спрашиваю, Гудрид: могу посвататься к тебе?
— Нет, — сказала Гудрид тихо.
— Почему?
— У меня есть жених.
— Этот Кари?
— Да.
Фроди сказал:
— Не только жених, но и конунги порой исчезают неведомо куда. Я уже не говорю об иных незадачливых берсерках. Я, к счастью, к ним не причисляю себя.
Он попытался улыбнуться во всю ширь своего круглого лица.
— Фроди, — сказала девушка, стараясь не глядеть на берсерка, — я — чужая. Ты это знаешь…
— Откуда мне знать?
Девушка набралась духу и выпалила:
— Я выйду замуж только за Кари.
— Подумай, Гудрид…
— Подумала.
— Тебе известно имя моего отца?
— Да.
— Ты знаешь, где я живу?
— Да, знаю.
— И то, как мы богаты?
— Да, знаю.
— Что конунг нашего края часто гостит у нас?
— Тоже знаю.
Он повертел головой, точно отгонял назойливую комариную стаю:
— Значит, ты все знаешь обо мне?
— Возможно, Фроди… Но об этом поговорим потом. А сейчас мне надо плыть домой.
Фроди нахмурился. Его рыжие брови глухо надвинулись на глаза. Он отшвырнул ударом носка большой булыжник. И камень полетел, точно мяч, свалянный из бычьей шерсти. Это был недобрый знак.
— В последний раз, Гудрид: могу я посвататься к тебе?
— Разве это можно возбранить кому бы то ни было?
— Мне важно твое мнение. Тебе это ясно?
Она чуть схитрила. Это было вполне понятно в ее положении.
— Фроди, — сказала она, — разве так сватают? Это же не битва на мечах?
Он прохрипел:
— Это хуже битвы на мечах.
— До свидания, Фроди.
— Вернись!
— До свидания.
— Я сказал: вернись!
Он взял ее за руку и сильно потянул к себе.
А в следующее мгновение бросил девушку на землю. Как обыкновенное полено. У него просто иссякло терпение.
XII
Фроди снова свистнул, и четверо головорезов выросли перед ним как из-под земли.
— Вот она, — сказал Фроди, кивая в сторону распластанной на земле Гудрид.
Был среди этих головорезов и Эгиль.
— Не подохнет, — сказал он брату. — Эта порода живуча.
— Ей нужен Кари, — прохрипел Фроди. — Видите ли, не может она без него.
Головорезы расхохотались.
— Если это так… — начал один из них.
— Да, так! — гаркнул Фроди.
— В таком случае она получит кое-что получше, чем этот ублюдок Кари. Кари перед нами просто котенок!
— Она упряма. Заладила свое и плюет на меня, — мрачно проговорил Фроди. — Я решаю так: каждый должен получить свое.
Эгиль достал короткий, с широким лезвием нож. Он сказал, что нет надобности в особых церемониях. Пусть все увидят, как это делается…
Головорезы жадно обступили девушку. Только Фроди хмуро смотрел в сторону фиорда.
— Хозяин здесь я, — сказал он, — без меня никто даже пальцем не прикоснется к ней.
Эгиль стоял в нерешительности с обнаженным ножом.
— Кто же разденет ее?
— Ты, — бросил Фроди.
Эгиль нагнулся над Гудрид. Он потянул на себя ее белоснежный воротничок и разрезал платье до самого подола. Под платьем оказалась белоснежная сорочка из тонкого льна. Эгиль мигом разделался и с сорочкой.
Когда Фроди оглянулся, поворотясь спиною к воде, то увидел чудный комок — нежный, подавленный, но живой. И глаза увидел девичьи, полные слез, и услышал тоненький плач, напоминающий писк лесной пичуги. На большее, как видно, у Гудрид не хватало сил.
— Поставьте ее на ноги. Пусть покажется нам, какова она на самом деле. Может, и свататься не стоило.
Так сказал Фроди, и его приказание мигом было исполнено. Гудрид стояла нагая посреди залитой солнцем лужайки, и пять пар мужских глаз — похотливых до крайности — глядели на нее неотрывно.
— Шире круг! — приказал Фроди. — На такую кралю любуются с некоторого отдаления.
— Груди что надо, — сказал кто-то.
Фроди посмотрел на косоглазого, произнесшего эти слова. Тот был не только косоглаз, но и слегка горбат, что объяснялось ранением, полученным в поединке. Коричневато-красный рубец пересекал его левую щеку от подбородка до уха, во лбу зияла дырка, точнее, углубление, которое могло бы вместить голубиное яйцо.
— А что ты понимаешь в грудях, — ухмыльнулся Фроди. — Ведь ты, пожалуй, ничего и не видел, кроме кобылиц. Скажешь — нет?
Косоглазый хихикнул. Потер руку об руку, будто мыл их под струей воды. Сказал:
— Фроди, пусть я буду первым. Ты получишь золота, сколько пожелаешь.
Фроди расхохотался. Остальные — тоже.
— Золота? — спросил Эгиль. — Откуда у тебя золото? Может, ты и серебром богат?
— Богат и серебром, — произнес косоглазый.
— Постой, — обратился к нему Фроди, — ты, вечно жующий чужой хлеб, вечно подстерегающий зазевавшихся путников в лесу, чтобы ограбить их, ты — богатый человек?
— Представь себе, Фроди!
— Доказательство? — воскликнул Фроди и протянул руку.
Его дружок возмутился:
— Кто же носит с собою золото и серебро? Я еще в своем уме. Они лежат в надежном месте. Я очень богат, Фроди, и за эту кралю ничего не пожалею.
— Да погоди ты со своими похвалами! — сказал Фроди. — Эта Гудрид, чего доброго, еще возомнит о себе. Дайте посмотреть на нее с другой стороны. Та сторона сказать по правде, мне милее этой.
Под хохот своих подручных Фроди обошел вокруг несчастной полуживой Гудрид и сказал, что доволен и той, и этой стороной, что за такую, действительно, ни золота, ни серебра не жаль.
— Пожалуй, — согласился с братом Эгиль.
— Тебя не спросили! — рассердился Фроди. — Тоже ценитель отыскался! Ты соверши свое, когда позовут. Небось проголодался!
— Очень, — признался Эгиль.
— Для слишком голодного пирог вреден, — объяснил Фроди, размышляя над чем-то. — Пирог для сытых, а для голодных — черствый хлеб. Разве я не прав?
Он не получил ответа на свой вопрос. Да, собственно, ответ его не интересовал.
— Я полагаю, — откашлявшись, сказал Фроди, — что такая голубка любого жеребца выдержит. И не одного к тому же. Вся эта нежность — одна только видимость. Вот вопрос: не понесла ли она от этого Кари?
Гудрид рухнула наземь и разрыдалась таким рыданием, что каменное сердце и то содрогнулось бы.
— Слышите? — скривил рот Эгиль.
— Пусть поплачет, — хихикнул самый низенький из головорезов. — Зато ее ждет большая радость.
— Какая? — спросил Фроди коротышку, — Ты что, ублюдок, много видел таких красоток? Скажи спасибо, что лицезришь ее. Это тебе не вдова-потаскушка, а дочь бонда, уважаемого к тому же. И невеста Кари… Понял?
Фроди опустился на корточки перед девушкой и погрузил свои пальцы в ее шелковистые волосы.
— Все это шутка, — сказал он хрипло (эта хрипота возвращалась к нему каждый раз, когда он волновался). — Гудрид, встань и оденься. Слышишь?
Нет, она ничего не слышала. Тело ее вздрагивало, и Фроди решил, что она жива-целехонька, что все эти рыдания — обычное женское притворство. Или же от страха. Что тоже возможно.
— Одевайся и уплывай отсюда!
Гудрид застыла.
«Ага, попалась», — подумал Фроди и сказал вслух:
— Уплывай. Это говорю тебе я, Фроди.
Она обратила к нему заплаканное, бледное, вдруг постаревшее лицо. В ее глазах были мольба, надежда, недоверие… Все вместе…
— Да, уплывай, — продолжал Фроди. — Эти негодяи тебя не тронут.
Она не верила своим ушам.
— Только с одним условием…
«Каким?» — спросил ее тусклый взгляд.
— Ты будешь моей. Сейчас же. Безотлагательно. И я женюсь на тебе. И ты будешь жить как жена богатого бонда. Да что там бонда! Как жена конунга. Не какого-нибудь конунга-замухрышки, а который с достатком…
«Нет!» — решительно сказали ее глаза.
— Скоро сюда явится Кари… — пролепетала она.
— Дура! — прикрикнул Фроди. — Он давно уже здесь. Теперь пеняй на себя! Эй, ребята! К делу! Первым буду я. Затем Эгиль, а дальше — как кому повезет. Добыча прекрасная! Клянусь О́дином!
XIII
— Ну, что она там? — недовольно спросил брата Фроди.
— Льет слезы.
Фроди стоял по пояс в воде.
— Была без изъяна, — заметил он. — Можно подумать, что я участвовал в кровавой сече.
Эгиль махнул рукой.
— Пусть благодарит богов — не каждая удостаивается сразу пятерых.
Четверо мужчин поплескались в воде и оделись. Только тогда к ним присоединился коротышка. Он подошел, чертыхаясь, и сказал:
— Мне кажется, что мне досталась мертвая.
— От этого еще ни одна девушка не умирала, — сказал Эгиль.
— Это верно! — Фроди вылез из воды. — Однако меня замучила. Мне казалось, что я взламываю дубовую дверь, запертую на щеколду.
Коротышка сказал:
— Надо все-таки посмотреть — жива ли.
— Ты смотри. Ведь ты был с нею последним.
— Я был предпоследним, и тогда она была жива, — сказал рыжий дылда. — Она даже укусила меня за руку.
— Видишь, — обратился Эгиль к коротышке. — Если она мертва, то в этом, значит, повинен ты.
— Да погодите вы! — проворчал Фроди. Он пошел на лужайку и вскоре вернулся. — Она живее нас с вами. Я на нее накинул платье. Как-никак невеста!
— Чья?
— А того, который привязан к дереву.
— Он все видел.
— Это хорошо. Жених должен увериться, что невеста его целомудренна… Была!
Мужчины загоготали.
— Ладно, — сказал Фроди. — Пора домой. Мне кажется, что урок пойдет на пользу этому Кари.
— А если призовет на тинг? — спросил Эгиль.
— На тинг? Пожалуйста! — отозвался Фроди. — Тинг есть тинг.
— И мы явимся?
— Почему бы нет?
— А что делать с ним сейчас?
— С Кари, что ли?
— Меня это мало беспокоит, — сказал Фроди. — Развяжите ему руки, а кляп сам изо рта достанет. А дальше пусть поступает с невестой как ему заблагорассудится.
На том и порешили.
Коротышка разрезал мечом веревку. И вскоре все пятеро исчезли в лесу.
Кари достал изо рта вонючую тряпку и повис на веревке, охватывающей поясницу. Он все больше клонился к земле, а Гудрид лежала без чувств на мягкой и теплой траве.
Потом Кари пришел в себя. Первая мысль, первое желание: убить себя, всадить в сердце меч. Зачем ему жить теперь?
Он ничего не видел все время — плотно закрыл глаза. Но не мог он заткнуть себе уши — он слышал все. Нет, он должен умереть!
Кари с трудом развязывал прочную веревку, от которой вздулись и онемели ноги.
А спустя еще несколько мгновений он плелся к лужайке, к ней, к своей Гудрид. Не ведая зачем, повинуясь некой силе, словно лунатик…
С первого взгляда Кари решил, что Гудрид мертва, и почел это за благо. Но, опустившись на колено, убедился, что Гудрид жива, точнее — что в ней теплится еще то, что называют жизнью. Лицо ее было мертвенно-бледным, с кровавыми подтеками на щеках и на шее. Он бессознательно направился к воде и принес ее в кожаной шапке. Вылил всю на лицо Гудрид.
Она вздрогнула. Сквозь мутную пелену увидела его. И нашла силы, чтобы приказать:
— Уйди! Не смотри на меня!
Он стал к ней спиной и зашептал:
— Гудрид, я слышал все. Я был привязан к дереву, во рту у меня был кляп… Гудрид, ты должна жить…
— Жить! — сказала она, рыдая. — Жить? Для чего?
Он не знал — для чего…
Она всхлипнула и затихла. Он медленно повернулся к ней.
— Отвернись! — приказала она шепотом.
— Гудрид, я отомщу и за тебя, и за себя.
— Зачем?
— Чтобы уехать потом из этой проклятой страны. Чтобы бежать отсюда! Тейт был прав, но я не послушал его: надо было бежать. Бежать вместе с тобою.
Она плакала, плакала навзрыд. А он не успокаивал ее. Можно ли успокоить девушку, ставшую добычей зверья?
— Плачь, — советовал он, — плачь и не жалей себя. Со слезами уходит горе. Хочешь, и я поплачу вместе с тобой?
Что мог он предложить дороже слез? Слез поруганной любви. Слез глубочайшей из обид…
— Гудрид, — сказал он тихо, — скальд говорил, что в жизни случается многое. Он учил, что нет более жестокой шутки, чем жизнь. Я не верил. А скальд был прав.
Потом они долго-долго молчали. Недоставало слов ни ему — для утешения, ни ей — для жалобы.
— Гудрид, — сказал через какое-то время Кари, — если моя любовь может послужить тебе хотя бы малым утешением, то прими ее.
— Ты говоришь о любви?
— Да.
— После всего, что произошло?
— Да.
Она прижалась щекою к земле и зарыдала горше прежнего.
Он наклонился к ней, прижался щекою к ее щеке.
И слезы их слились в один поток…
Часть пятая
I
Был у Кари, сына Гуннара, единокровный брат — сын вдовы, жившей за горушкой недалеко от дома Гуннара. Звали его Сигфус. На две зимы старше Кари — крепыш и большой задира. Не надо ему ни пива, ни браги — в нем всегда, в любое время бушевала страсть к кровавому поединку или настоящей кулачной потасовке.
Он дружил с Кари, почтительно относился к отцу и его жене и ко всему семейству Гуннара. Мать Сигфуса, кроткая и милейшая женщина по имени Йорунн, потеряла мужа через три месяца после замужества. Он не вернулся из плавания на север. Не досталось ему ни единой рыбешки, зато сполна настрадался посреди ледяной воды, в которой и замерз. Не помогли ему ни богатырская сила, ни молитвы, обращенные к Одину.
Гуннар помогал молодой вдове хлебом и рыбой, дичью и даже пивом, дабы дом держался сносно. И, как это часто бывает, дело кончилось тем, что Йорунн понесла от Гуннара. Узнав об этом, жена Гуннара, разумеется, опечалилась. Однако нашла в себе силу, вошла в положение вдовушки Йорунн.
В детстве Кари и Сигфус часто играли вместе, и никто не подавал виду, что они от разных матерей, Сигфус звался «сын Гуннара». От отца унаследовал скуластое лицо, короткие уши и лохматые брови. А Кари больше походил на свою мать, чем на отца. И тем не менее было что-то общее в их облике, хоть характеры были разные.
Кари скрывал от Сигфуса до поры до времени свои походы на зеленую лужайку. Теперь же, когда явился он к Йорунн и вызвал к воротам брата, лица на нем не было. Он скорее походил на кусок льда, чем на живого человека, на существо с теплой кровью.
Сигфус подивился тому, что сводный брат не входит во двор.
— Что это значит? — спросил он. — Разве дорога ко мне закрыта?
Кари молчал.
— Случилось что-нибудь? — спросил Сигфус.
— Да, — ответил Кари, пересиливая себя.
— С кем?
— Со мной.
— Где?
— На зеленой лужайке.
— Его имя?
Кари обхватил руками воротный столб, чтоб не упасть, ибо ноги его подкашивались.
— Их было пятеро, — простонал Кари.
— Пятеро против одного? — Сигфус ничего не понимал.
Сходил в дом за кружкой пива и напоил брата.
— Теперь немного лучше… — проговорил Кари.
— Может, еще?
— Нет.
Кари присел на корточки возле частокола и рассказал доподлинно все, ничего не утаивая. Сигфус слушал его, не веря ушам своим. Он много слышал рассказов о различных злодеяниях, но о таком, о котором поведал ему брат, — не приходилось еще.
Сигфус сбегал в дом, напился пива, чтобы унять великое трепетание сердца и души своей. И принес брату целый жбан.
— Выпей, — сказал он, — ведь человек не может снести такого горя. Пей, и мы поговорим.
Кари прильнул к краю глиняной посудины, словно к роднику лесному.
Потом оба брата долго молчали, глядя на траву, сидя на корточках у потеплевшего на открытом солнце частокола. Кари горевал, а Сигфус — думал…
— Я знаю Фроди, — сказал наконец Сигфус.
Кари ничего не сказал.
— Если ты ничего не поделаешь с ним, то предоставь это дело мне.
— Нет, — сказал Кари.
— Что же тогда?
— Ничего.
— Ладно, Кари, я буду ждать твоего слова… Непростое это дело…
Солнце пригревало все сильнее. Начиналось настоящее лето. Невозможно придумать костер, который мог бы сравниться с солнцем, если даже вырубить лес по берегам фиорда и сложить в кучу его да поджечь…
— Считай, что я погиб, — сказал Кари чужим голосом.
— Как это понимать?
— Как слышал.
«Неужели так напуган мой брат?» — подумал Сигфус.
— Кари, — сказал он, — я хочу спросить: знаешь ли ты, что делать?
Кари замотал головой, точно лошадь на водопое. Но в следующее мгновение сказал:
— Знаю.
— Что же?
Растягивая каждое слово и после каждого слова переводя дыхание, как после крутого подъема, Кари выговорил:
— Я начну бродить по лесу… Может, день, может, два, а может, и неделю… Я хочу повстречать его… Хочу поглядеть на него… А тебя прошу быть рядом… Свидетелем… Не подвергая себя опасности… Просто стоять в сторонке…
Сигфус вспылил:
— Ты меня принимаешь за кого-то другого… Вот что, Кари: дело это непростое. Его не оставляют. Если оставишь ты — не оставлю я. Но, полагаю, ты не из тех… Ладно, буду с тобою… Когда?
— Что — когда?
— Когда отправляемся в лес?
— Домой я не вернусь, Сигфус. Скажи своей матери, чтобы сходила к моим и сообщила, что мы с тобою охотимся в лесу и, может, не скоро явимся домой.
Сигфус подумал. «Пожалуй, так, — сказал он себе, — а иначе невозможно. Иначе жить невозможно…»
— Я схожу к себе, Кари. Оденусь, захвачу с собой меч и еще кое-что…
Ничего не ответил Кари. Сидел себе на корточках, прислонясь спиною к частоколу. Он мысленно уже бродил по лесу, по проторенным и по нехоженым тропам. А рядом с ним — его верный Сигфус, готовый броситься на любого, кто преградит дорогу…
Очень скоро Сигфус явился настоящим воином — грозным, ладным, готовым к битве. Перед ним Кари казался крестьянином с мотыгой в руке…
Сигфус забросил за плечи небольшой мешочек и направился к лесу. К тропе, что вела в самую глухомань…
II
Скальд Тейт был не один. Вместе с ним за столом сидел человек приблизительно тридцати пяти зим от роду и пил маленькими глотками брагу.
Был он сухощав, с обветренным лицом, с горбинкой на носу. Такой черноволосый, черноглазый, с голубоватыми белками. Тейт назвал его имя: Эвар, сын Транда, с острова Торгар, что на севере.
Скальд сказал, указывая на вошедшего Кари:
— Вот он и есть, который желал бы плыть вместе с тобою.
— А тот, другой? — спросил Эвар.
— Это мой брат, — ответил Кари.
Эвар подумал, что Сигфус как раз и не был бы лишним на корабле. Кари показался ему слишком долговязым. Однако молод, а молодые руки на корабле пригодятся. Кари и Сигфус от браги отказались, сославшись на неотложное дело. Они не объяснили Эвару, в чем заключается дело. А скальд был в курсе всего — и происшедшего, происходящего, и того, что еще должно произойти.
Эвар сказал:
— Море болтунов не любит. Я родился на острове Торгар, где тоже не привечают болтунов. А посему, с разрешения Тейта — доброго друга, я изложу суть своего намерения. После чего выслушаю уважаемого Кари, которого так высоко ценит Тейт. А у скальдов, как известно, сердце вещее.
— Это подходит, — сказал Кари. — В моем положении главное — дело.
Эвар поправил его:
— Во всяком положении, Кари. Хотя я не знаю, что приключилось с тобой.
— Так, ничего особенного, — ответил Кари.
А скальд счел необходимым вставить:
— Ничего особенного, Эвар, если не считать крови, слез, позора и унижения, которыми так богата наша земля.
Эвар постучал пальцами по столу. Что-то хотел сказать, но промолчал.
А Сигфус сказал:
— Наша земля, как говорят старые люди, никогда не была скудна унижением и позором, но особенно в этом отношении отличилась она в наши дни.
Тейт развил эту мысль, добавив, что можно натягивать тетиву на луке до определенного предела, после чего она разрывается. Или ломается сам лук. Тетива — это человеческое сердце. Можно человека унижать до определенного предела. А потом лопается, но не сердце, а терпение… Эвар сказал, что можно, конечно, сидеть и ждать у моря погоды. То есть сидеть и ждать, когда лопнет это самое людское терпение и жизнь переменится к лучшему. Можно — а может быть, и должно — на жестокость отвечать жестокостью. В земле Наумудаль, сказать к слову, зим десять назад перебили не менее дюжины богатых бондов, а конунга сожгли живьем. Но ничего путного из этого не вышло: появились новые богатеи и новый конунг…
— Нет, — заключил Эвар, — надо уходить отсюда. Больше того — бежать! И чем скорее — тем лучше! Вот мое мнение!
— И мое, — присоединился к Эвару Тейт.
Он продолжал:
— Я давно говорю Кари: жизнь крайне запутанна, люди запуганы, бедность — в каждом уголке, и из каждого угла на тебя незримо направлено копье или лезвие меча. Разве это жизнь?..
Эвар глотнул браги. И одобрительно закивал головой. Потом сказал:
— Мы никого не уговариваем.
Сигфус посмотрел на брата. Тот сказал:
— Уговаривать некого и незачем. Я пришел, чтобы поговорить о сроке. Только о сроке.
— Он не один, — сказал Тейт. — С ним жена.
— Да, — подтвердил Кари.
Эвар поморщился:
— С женщинами всегда хлопоты… Но если речь идет о бегстве…
— Только о нем, — сказал Кари.
Тейт подивился перемене, происшедшей с его молодым другом: за сутки он стал неузнаваем. Сколько морщин пролегло на его лбу? Сколько же зим прибавилось? Сколько седин? А голос? Ведь и голос сделался другим. Это голос не того, не позавчерашнего Кари, но другого, вдруг возмужавшего. И в глазах его зажглись огоньки, которых прежде не замечалось. Верно сказано: обстоятельства меняют человека, а испытания мужчину делают настоящим мужчиной.
Тейт сказал, обращаясь попеременно то к Эвару, то к Кари:
— Кари решил плыть на запад, плыть до тех пор, пока не повстречается твердая земля, годная для существования. Могу сказать: нет ничего опасней, но нет и ничего благороднее, чем открывать новые земли. Они нужны людям. Я уверен, что скоро многие поплывут на поиски. Я бы и сам ушел куда глаза глядят, но скальд, как преступник, прикован к своей земле — хорошая она или плохая. Песни слагаются только на родной земле, под родным небом. А на новой земле слагать песни только новым скальдам.
Голос его дрогнул. Немного браги могло вернуть ему душевное равновесие, и скальд отпил ее.
— Мне теперь ясно, — сказал Эвар. — Мы отплываем! Решено бесповоротно?
— Да, — кивнул Кари.
— А смерть?
— Какая смерть?
— Обыкновенная, — рассмеялся Эвар. — Плыть на запад, это тебе не по фиорду плыть.
— Наверное, так.
— Смерть вокруг: под килем, у паруса, за бортом. Ты это представляешь себе?
Кари не раз плавал и на север, и на юг. Правда, не так уж далеко, но все-таки… Он спросил лишь одно:
— Когда же мы отплываем?
— Мы отплываем через неделю, много — две. Будешь ли ты готов к тому времени?
Кари посмотрел на Сигфуса. И за него ответил Сигфус.
— Да, будет готов!
— Это хорошо.
Потом они стали обсуждать, где лучше встретиться, где грузиться, откуда начинать плавание. Эвар назначил сбор на север от фиорда, в заливчике, известном на всем побережье как Залив Трех Холмов, ибо окаймляли тот залив, очень удобный для стоянки кораблей, три горушки, поросшие соснами.
Эвар дал слово, что будет дожидаться Кари, который выговорил себе все же несколько льготных дней. Эвар не мог взять в толк, к чему они, зато прекрасно поняли эту просьбу Сигфус и Тейт.
— Что же, — сказал Эвар, — значит, по рукам?
И они ударили по рукам.
III
Скальд Тейт сказал Гуннару:
— Твой Кари бродит по лесу, подобно серому волку. При нем меч и секира. Вместе с ним Сигфус. Они ищут встречи с Фроди. И встреча эта не предвещает ничего хорошего.
— Это так, — согласился Гуннар.
— Я не стал отговаривать…
— Правильно поступил, Тейт. Человек живет на земле только один раз, и эта жизнь должна быть прожита по-человечески.
— И я так думаю, Гуннар.
Оба были весьма озабоченны. Тейт сказал:
— Если Кари останется жив, ему все равно не будет жизни на этой земле.
— Он уплывает, Тейт.
— А как же вы?
— Мы постоим за себя. Сигфус останется здесь, он будет рядом. Будет кому отомстить за нас в случае чего…
— Никто не знает, останется ли Кари в живых… — Скальд хотел сказать, что не очень верит в Кари-бойца, и тем хотел подготовить Гуннара к худшему…
— Жаль, что он раньше не уплыл. Надо было послушаться тебя.
Он добавил, что если бы Кари и проглотил невыносимую обиду — все равно это не было бы жизнью, это было бы существованием, подобным тому, на какое обречены бараны.
Тейт согласился с ним. Он уразумел, что в доме Гуннара все решено, все взвешено и здесь готовы ко всему. Ибо то, что совершил Фроди со своими головорезами, редко случалось на этой земле.
— Теперь Кари нет иного пути, — заключил Гуннар.
Тейт в двух словах рассказал об Эваре и опасном путешествии, которое предстоит его кораблю.
— Возможно, прощание будет подобием похорон…
— У всех у нас вместо сердца — один пепел, — сказал Гуннар.
IV
Скальд Тейт переплыл фиорд и посетил дом Скегги. Гудрид он не видел. С того черного дня она сидела в своей горнице и не показывалась на глаза посторонним. Скегги обо всем был осведомлен. Он тоже, как и Гуннар, полагал, что Кари поступает правильно: если он сумеет сохранить свою душу и отомстить Фроди, то лучшее — бежать отсюда, бежать без оглядки.
— А Гудрид? — спросил осторожно Тейт. — Что думает она?
— Ей нечего думать после того, что произошло. Она заодно с Кари. У нее две дороги: одна в глубокое место фиорда с камнем на шее, другая — за море. Возможно, и за морем ждет ее гибель, но зато гибель без позора. Она только ждет условленного знака.
Поздно вечером, сидя возле очага в полном одиночестве, скальд говорил себе:
«Пусть скудна наша земля, пусть мрачны скалы и пусть холод сковывает зимою, точнее — большую часть года, все живое… Можно счастливо жить и на такой земле. Но вот молодой Кари… Доживет ли он до утра? Где он сейчас? И что будет с ним днем, если доживет до этого дня?.. А дальше? Есть только одна возможность. Одна-единственная и — никакая другая! Совет ему дан верный, решение принято правильное… Теперь все зависит от судьбы…»
И скальд сложил песню про несчастливую землю и сына ее, который вынужден бежать, бежать куда-нибудь подальше… Грустная была песня. Хотя память скальда хранила множество грустных песен, эта была — особенная, душераздирающая.
VI
Кари и Сигфус стали как волки: все рыскали по лесным тропам — и проторенным и малохоженым. Прислушивались к каждому шороху. А конский топот настораживал их до крайней степени — они тут же обнажали мечи. Но тщетно! Фроди, может быть, отсиживается дома, догадывается, что за ним охотится Кари, и тщательно хоронится? Это предположение казалось маловероятным: Фроди был не робкого десятка, шел обычно напролом.
Кари и Сигфус скрытно подступали к родникам в надежде застать у воды Фроди или Эгиля или еще кого-нибудь из их преступной компании.
Не раз переходили Кари и Сигфус через Форелевый ручей и подступали к самому частоколу, за которым жил Фроди. Частокол был высокий и прочный, и следов Фроди не замечалось.
Что делать? Сколько можно бродить без толку?
— Сигфус, — сказал Кари, — я знаю, почему выпали на меня все эти мучения, но ты ни при чем. Ступай себе домой.
На что Сигфус ответствовал:
— Брат мой, я не из тех, кто теплую постель предпочитает тяжелым испытаниям. Прошу тебя, не будем больше говорить об этом.
И они шли дальше — шли влево или вправо, шли в глубину чащи или на опушку. Подолгу просиживали у брода на Форелевом ручье. Они питались лесными плодами и ягодами. Не желая подвергать опасности скальда, они избегали его хижины. А он удивлялся тому, что Кари и Сигфус больше не навещают его.
VII
Гуннар сказал своей хозяйке:
— Я нынче видел сон: на дороге попался мне волк. Он оскалил пасть, и я сказал себе: «Вот самое время всадить ему в глотку дубовую рогатину». Потом я спросил себя, тоже во сне: «А как же это сделать? Где же моя рогатина?» Я колебался. Я многократно задавал себе один и тот же вопрос, но не находил ответа.
Жена сказала ему:
— Сон — вещий. Волк скалит зубы, волк грозится нашему сыну. Но кажется, все обойдется. Я хочу сказать: Кари останется невредимым.
Возможно, такое толкование сна устроило бы кого-нибудь, но не Гуннара. Он желал сыну полной победы над негодяями, а не благополучного для его здоровья исхода. Ведь можно бродить и полгода и год, в то время как Фроди наслаждается жизнью. Гуннара устраивало только одно: справедливое возмездие!
Гуннар теперь больше молчал. Ложась спать, он клал себе под подушку меч, секиру держал под лежанкой, а копье ставил в угол так, чтобы можно было достать до него рукой…
VIII
Эвар в Заливчике Трех Холмов готовил свой корабль к длительному плаванию. Корабль этот, собственно, принадлежал не только ему одному. Совладельцами были некий Мёрд, сын Стейнара, и некий Олав, сын Лодина и Астрид. Они были искателями приключений, охочими до наживы. Возраст каждого не превышал сорока зим. У Эвара были свои соображения относительно будущего плавания. Ему давно не терпелось проверить рассказы о той земле, которая за морем.
Что же до Мёрда и Олава — они верили во всемогущество Одина, который непременно дарует им добычу на неведомой земле. Мёрд был мастак по части кораблевождения, знаток звездного неба. У рулевого весла он не нуждался ни в чьих советах. Мог провести корабль меж двух близкостоящих скал или в узком проливе в самую темную ночь — достаточно было света нескольких звезд на небе (а днем, считал он, всякий может водить корабли даже в незнакомых шхерах).
Среди отплывающих был и десяток парней, которым, подобно Эвару, тоже не терпелось повидать новые земли. Некоторые бежали за море из страха перед местью врагов, которых и в глаза не видывали: ведь мог отомстить чей-нибудь родич за убийство, совершенное кем-то из их родичей…
Словом, Эвар собрал под парус корабля людей разной судьбы и разного взгляда на жизнь. Но удивительными были решимость и нетерпение, с которыми люди ждали часа, когда разрубят швартовые канаты. А покуда этого не случилось, корабль стоял на берегу, и его старательно конопатили.
Эвар как истый и рачительный моряк считал и пересчитывал каждую бочку с солониной, каждую бочку пива, которые надлежало погрузить на корабль. Его спрашивали — не без иронии:
— На сколько лет запасаешь, Эвар?
— На всю жизнь, — отвечал он.
— Разве она так длинна?
— Сколько бы она ни продлилась…
— И вы съедите все это?
— Мы в плавании будем есть еще и свежую рыбу.
— Ну, значит, собрался ты на самый край света!
— Только туда!
Эвар вроде бы пошучивал, но за шуткой чувствовались грусть и горечь. Люди, которые посмышленее, качали головами и говорили про себя: «Прощай, родная земля, прощайте, матери и отцы, братья и сестры… Что же в этом веселого?»
Как ни горестно было предстоящее расставание с суровыми скалами, ледниками и холодными фиордами, тянуло туда, в неведомое. Уже не было страха, который удержал бы этих людей, избравших Эвара своим предводителем, от опаснейшего путешествия на запад, где до земли так же далеко, как до звезд.
— Послушайте, — говорил Эвар за длинным очагом, — кто трусит и не смеет глядеть в пустые глаза смерти, пусть остается. Есть еще время.
Он это твердил неустанно, дабы слабые духом не висели тяжелым бременем на парусе в открытом море. Лучше взять больше солонины и муки, чем лишнего трусливого человека. Так рассуждал Эвар. И поздно вечером, когда угасал огонь и клонило ко сну, его товарищи думали:
«Недаром же Эвар — голова всему нашему делу! С таким и помирать не страшно».
А Эвар с каждым днем все больше стращал необычными испытаниями, говорил о том, что капля дождя в открытом море может быть дороже самого-самого драгоценного камня. Эти слова говорились не впустую. Они заставляли думать, или, как выражались южане, шевелить мозгами.
Все были в сборе и работали не покладая рук. Недоставало только Кари, сына Гуннара…
IX
Гуннар сказал:
— Человек в лесу подобен волку. Он и впрямь становится волком.
— Не всегда, — заметила хозяйка. — Не всякий.
— Из тысячи — один не становится, — сказал Гуннар.
X
Гудрид не выходила из своей горницы. И никто не смел входить к ней, кроме ее матери — мудрой и гордой Ауд, дочери Рагнара, сына Гилли. Ее сосватал Скегги, когда ей минуло тринадцать зим. Она родила трех сыновей и двух дочерей, старшей из которых была Гудрид. Все трое сыновей утонули во время походов в северные моря. Это были настоящие богатыри, но море одолело их. И Скегги спрашивал себя: «Кто же отомстит за поруганную Гудрид?»
У него были родичи далеко на юге. И на севере были. Он послал к ним людей, чтобы сообщить им, что, возможно, понадобится их помощь. Но о Гудрид не велел говорить ни слова.
Гудрид готовилась к плаванию. Она вязала себе теплые одеяния. А думала только о Кари. Ждала вестей от него.
Скегги и Ауд готовили запасы солонины, меда, хлеба и браги и еще отвара из трав на случай простудного заболевания. Они имели в виду и Кари. Поэтому запасы дорожные они не только удвоили, но и утроили. Рассуждали так: «Если судьба от сердца отрывает любимое дитя, то пусть заберет дочь с собою все, что пожелает. Все это сгодится в дороге».
Гудрид ждала…
XI
Вот начало одной из песен, сложенных Тейтом:
Человек приходит в этот мир, подобно подснежнику. Подобно подснежнику, он рвется из мрака и холода К свету и теплу весны. Он растет, подобно сосне-великану… Человек любит землю, его взрастившую, Он отдает ей жизнь, если кто посмеет попрать ее, Эту землю…Дальше речь шла о тех, кто уходит на поиски новых земель, о горечи расставаний, об опасностях, поджидающих на неизведанных путях.
Но человек уходит за море, Уходит в небытие, унося с собой слезы потаенные И горечь зим, Прожитых на земле, вечно холодной как лед…Эту песню, как полагал — и справедливо полагал — скальд, навеяло ему великое несчастье, павшее на Гудрид и Кари, на два любящих сердца.
XII
Кари и Сигфус продирались сквозь чащу к роднику, который люди нарекли Оленьим Глазом. Это название пристало воде, которая вырывалась на свет из каменного корыта. А иначе никак не назовешь это ложе, не превышавшее размерами деревянное корыто, которое женщины употребляют для стирки.
Родник словно бы украсил искусный каменотес: с трех сторон обрамляли его мшистые скалы, высотою в полтора человеческих роста.
Родник давал начало чистой как слеза речке, которая протекала по лесной чащобе. Воистину исток этот был сравним с оленьим глазом — таким живым, лучистым и доверчивым. Он как бы глядел в самое небо, он как бы видел солнце и звезды, а в лунные летние вечера можно было подумать, что месяц опустился в каменное корыто, чтобы умыться в нем и снова вернуться в свое небесное лоно. Это был воистину Олений Глаз! Местоположение родника тоже было примечательным. Это была лесная прогалина шагов тридцать в длину и десять в ширину. Можно сказать, гостиная в доме крепкого бонда — опрятная, всегда тщательно прибранная.
Летом вода была холодная: если сделать хороший глоток, то от нее могли заболеть зубы. А зимою она не замерзала — казалась слегка подогретой. Говорили: родник целебный и сами лесные божества устроили так, чтобы щедрые на дары могли отдохнуть у каменного корыта и полечить раны либо болячки свои.
Кари вышел на прогалину, а за ним Сигфус. И тут они увидели: у родника сидели Фроди и Эгиль, а с ними — еще некий юнец. Те о чем-то болтали, пригоршнями черпали родниковую воду и пили ее. Они не видели нежданных пришельцев, ибо находились спиною к ним.
— Хорошо, когда зверь на ловца бежит, — сказал Кари нарочно громко.
Трое у родника живо повернули головы и увидели двух мужчин, которых признали не сразу.
Фроди первым распознал Кари и сказал:
— Неплохо бы спросить позволения, если топчешься там, где все места заняты.
— Все места в лесу никем не могут быть заняты, — возразил Кари.
— Но в лесу не место дерзить порядочным бондам.
Кари сказал:
— Относительно порядочности мы еще поговорим. Что же до леса, то он принадлежит божествам, а люди лишь вымаливают у них свое местечко.
— Это мудрые слова. Но прежде мудрецу, произносящему их, следовало бы привести себя в порядок. А то, я вижу, ты весь в колючках и грязи. Да и товарищу твоему посоветовал бы то же.
— Я не конунг, и одежда моя простецкая.
— Оно и видно, — засмеялся Фроди. — Но ты и не жрец, чтобы болтать о божествах.
Кари стоял на месте, не делая ни шагу — ни вперед, ни назад. То же самое и Сигфус. А эти, у родника, тоже сидели на камнях, как сидели до появления Кари и Сигфуса.
У Фроди, видно, не было желания продолжать разговор. Он сказал:
— Если дорога ваша пролегает мимо этого родника — она свободна. Но если вы собираетесь расположиться на этом месте — то ошиблись и даже очень. Здесь никому не будет позволено обосноваться даже на короткое время. Разве что конунгу, если пожалует он со своей свитой. — И обратясь к Эгилю: — Ясно ли сказано, Эгиль?
— И ясно и разумно, — со злостью бросил Эгиль.
— Да, я не конунг и не жрец родовой, — сказал Кари. — Я тот, от которого тебе не поздоровится.
Сигфус подивился словам Кари — и тону, и твердости, и угрозе, которые содержались в этих словах. Так мог говорить только известный берсерк, очень славный и опытный боец. Этих качеств за Кари до сего дня не числилось…
— Вы только послушайте! — возмущенно обратился к Эгилю и юнцу Фроди. — Не кажется ли вам, что он грозится?
— Не их надо спрашивать об этом, подлец Фроди, — крикнул Кари. — Не их, а меня! Я тебе отвечу как надо.
Фроди, признаться, не ожидал такого оборота. Чтобы этот Кари посмел вести подобные речи?! Да ведь ясно же, что тот, кто ведет себя так нагло, тот на что-то надеется. А на что надеется Кари? На того, кто стоит возле него?..
— Эй, Кари, я стал туг на ухо. Что ты сказал?
— Отныне твоя кличка — Подлец!!! Это я и сказал. Но я не знаю, долго ли тебе носить ее.
Фроди удивленно переглянулся с Эгилем:
— Нет, ты слышал?
— Даже очень внятно.
— Что же это такое?
— Наглость неблагодарного мышонка, которому ты по своей доброте на днях сохранил жизнь.
— Как же учат такого мышонка?
— Очень просто: плевком. А большего он не заслуживает, если не уберется сейчас же!
Кари обернулся к Сигфусу.
— Эти подлецы, наверно, очень глупы, если надеются запугать меня.
Фроди не выдержал: вскочил на ноги, грозно шевельнул бровями, захрипел, словно ему сдавили глотку. Это был плохой признак, берсерк ведет себя так, когда уже готов биться.
Фроди трясся от злости.
— Эгиль, — прохрипел он, — скажи им в последний раз, чтобы убирались подобру-поздорову. Если они хотят воды — плесни им в лицо.
— Подлец! — крикнул Кари. — Я хочу, чтобы ты припомнил зеленую лужайку, где бесчинствовал несколько дней назад…
— И что тогда?
— …чтобы припомнил Гудрид…
— Эту шлюху? — Фроди расхохотался, однако смех был не из обычных: это было зловещее предупреждение берсерка.
— Повтори еще раз, если только сможешь повторить, — сказал Кари.
Фроди подбоченился:
— Постой, постой! Уж не хочешь ли ты вызвать меня на бой?
— Вызывают честного, а не Подлеца! Разве ты позабыл свое настоящее имя?
Фроди зарычал, пошарил руками вокруг — он уже был вне себя. Гнев помутил его разум, и он понимал только одно: надо прикончить этого Кари!
Эгиль подал ему меч и сам вооружился мечом. А тот юнец, пяля глаза, бледный как снег, хоронился за скалой, нависавшей над родником.
XIII
— Стой на месте, — посоветовал Сигфус своему брату. — Отдай мне Фроди.
— Нет, — сказал Кари, — или я, или он!
Сигфус крикнул Эгилю:
— Не будем мешать!
— Не будем! — согласился Эгиль. А сам подумал: «Этого долговязого цыпленка Фроди разрубит одним ударом. Для этого предостаточно нескольких мгновений».
— Что ж ты там торчишь? — крикнул Фроди, сжимая рукоять меча.
Кари промолчал. Он молил Одина ниспослать только одну-единственную в жизни победу — над Фроди. А потом будь что будет!
Сигфус размышлял:
«Конечно, Кари неопытный боец. Фроди против него — богатырь. Если падет Кари, я вступлю в бой…» Сигфус понимал, что в этом случае против него будет двое, а может — и трое, тот юнец тоже, возможно, подымет меч.
Фроди таращил глаза. Он заорал:
— Тебя вкопали в землю, что ли?
Кари поманил его к себе указательным пальцем. Хладнокровно, с некоторой издевкой. Произнес:
— Навстречу Подлецу я не сделаю ни шага.
У Фроди начала выступать пена на губах, он ревел и рычал. И поносил Кари, как только мог.
Сигфус посоветовал:
— Пусть кипятится. Стой спокойно. Бей из всей силы, когда придет срок.
Фроди орал, как бешеный бык. Обернувшись к Эгилю, он спросил его: видел ли тот когда-нибудь труса, подобного Кари?
— Разделайся с ним, — сказал Эгиль, не спуская глаз с Сигфуса.
— Клянусь Одином, — горланил Фроди, — я еще ни разу не встречал такого противника… Ну ты, цыплячья душа, будешь драться или пустишься наутек?.. Слышишь, тебя спрашивают?.. Да он к тому же глухой!.. Ну, сволочь, открой рот и скажи что-нибудь или же набей его моим калом! Подойди на шаг — и ты его получишь!.. Эгиль, скажи ему, что я щедр, что не пожалею ему кала!..
— О чем говорить? — сказал Эгиль брезгливо. — Это же сущий мертвец.
— Ладно, — крикнул Фроди, — сейчас увидят, как рубят мертвецов.
И он ринулся вперед.
Это был полет глыбы, сброшенной с горы. Казалось, ничто не спасет Кари. Однако Кари сумел увернуться — меч просвистел в воздухе, едва задев плечо: левый рукав Кари окрасился в алый цвет.
Фроди был удивлен: он никак не ожидал, что меч его разрубит воздух и лишь слегка ранит Кари.
— Куда задевалась эта букашка? — воскликнул Фроди. — Не иначе, как в траве.
Он сделал вид, что ищет песчинку в траве, а сам исподлобья наблюдал за Кари.
Тот совершал осторожный маневр, описывая круг, в центре которого был Фроди. Эта игра выводила из себя берсерка: это же не битва, а детская забава…
Фроди пошел на Кари, заставил его пятиться — все назад и назад! Вот уже Кари в двух шагах от болота. Знает ли он, что за ним топкое место?
— Кари! — крикнул Сигфус.
Кари сделал еще шаг назад. Вот-вот провалится в трясину. Но постороннему битва могла показаться пока что довольно невинным занятием, чуть ли не шуткой двух взрослых людей.
— Бей! — посоветовал Эгиль.
И Фроди ударил: сталь сшиблась со сталью и высекла искру, которая сверкнула ярче солнца. Фроди споткнулся, подался вперед против своей воли, и тут Кари успел всадить ему острие меча — лишь острие — в бедро.
— Что?! — взревел Фроди. И начал рубить сплеча — направо и налево. Меч его свистел неимоверно. Попадись под него Кари — и он был бы рассечен надвое. Как былинка.
Кари отступал вдоль болота. Другого выхода не было: как может устоять человек перед разбушевавшейся стихией?
Сигфус подумывал уже о том, чтобы вступить в битву, потому что Кари, несомненно, падет через мгновение, много — через два…
— Эй, ты! — что-то почувствовав, крикнул Сигфусу Эгиль. — Еще шаг — и ты попробуешь моей стали.
— Дурак! — крикнул Сигфус. — Ты же видишь, что я стою на месте.
Фроди подошел к болоту, как бы в обход Кари, с тем чтобы принудить того выйти на середину прогалины.
Кари и сам решил продвигаться к середине. Совсем рядом была кочка, ее следовало пока что избегать. Эта кочка могла сослужить полезную службу.
Сигфус ошибался: Кари жил, да еще и двигался с мечом в руке. Это казалось чудом.
Фроди принялся сквернословить — в полную силу пробудился настоящий берсерк. Это могло быть и хорошо и плохо. По мнению Эгиля, брату следовало сохранять больше хладнокровия…
— Фроди, не торопись… Думай, Фроди…
Фроди не слышал этих слов. Пот обильно выступал у него на лбу и растекался по щекам, застилая глаза. Не мог он взять в толк, какая это сила уберегала тщедушного Кари от его меча. Кари все еще жил, хотя кровь хлестала из его левого плеча. Нет, сейчас или…
И тут Фроди наносит удар, нацеленный прямо в противника. Голова Кари неминуемо должна покатиться на землю, подобно перезревшему яблоку… Но удар приходится по мечу, которым искусно защитил себя Кари. Настолько искусно, что восхитил Сигфуса.
— Молодец, Кари! — вырвалось у него.
— Еще, еще, Фроди! — кричал Эгиль.
Но Фроди решил чуть передохнуть.
— Ну и несчастный же ты! — сказал он и со злобой сплюнул в сторону Кари. — Ты бегаешь, а не дерешься! Блоха собачья!
Кари не остался в долгу. Он сказал:
— Ты скоро найдешь то, что искал, Подлец!
— Болтай, болтай! Что же я найду?
— Смерть, Подлец! Она уже рядом с тобой!
Фроди вытер рукавом потный лоб и, напрягшись, совершил еще один прыжок в сторону Кари. Его туша пролетела несколько шагов, а меч сверкнул высоко-высоко. «Конец», — подумал Сигфус и невольно прикрыл глаза. Но он снова ошибся: Кари отпрянул в сторону и очутился сбоку от противника. И нежданно-негаданно меч Кари, хоть и неглубоко, но вонзился в бок Фроди.
Фроди вдруг застывает на месте. Хватается за поясницу левой рукой. Там тепло, тепло… «Кровь», — говорит про себя Фроди, и сам не верит своему ощущению. Но боли нет. Если бы не кровь, то Фроди и не обратил бы внимания на поясницу.
Ему не раз приходилось биться. Знает вкус крови, главным образом — чужой. Правда, бывала и своя, но не много и не часто. А нынче что-то очень тепло в пояснице. Даже жарко…
Однако не в пояснице дело. Фроди никогда не видел перед собой врага, подобного этому ублюдку. Ну кто такой Кари? Какой из него боец?.. Вот что больше всего возмущает Фроди, вот что бесит его… Не одолеть этого Кари, да возможно ли такое?
И Фроди совершает новый рывок, почти немыслимый. Но при этом почему-то клонится влево. Этот наклон обеспокоил Эгиля. Еще больше взволновала его лужа крови на том месте, где некоторое время простоял Фроди, как казалось со стороны, просто поглаживая рукой поясницу.
Рывок Фроди увенчался некоторым успехом: Кари был ранен в правую ногу, повыше колена. И, делая новый круг, начал хромать. «Ну теперь изрубит его этот Фроди», — с горечью подумал Сигфус.
Фроди застыл. Как вкопанный. И тупо уставился в землю. Он дышал тяжело. Яростно ныло отчего-то в горле. Такого с ним не бывало…
«Этот мышонок слишком верткий, — думал Фроди. — Но ничего, я, кажется, знаю, что с ним делать».
И вот, прыгая из стороны в сторону и неистово вращая мечом, чтобы зарябило в глазах у Кари, Фроди понесся на него, подобно вихрю.
Туго пришлось Кари: уходить влево мешало болото, а правее подстерегал сверкающий меч. Он сделал выпад ногой и прикрыл себя мечом.
Удар Фроди, прозвучавший подобно грому, пришелся в середину меча. Вот тут-то и показало себя великое умение скальда Тейта: сталь в руках Кари зазвенела, словно прославляла мастера, выковавшего ее. Меч Фроди скользнул по мечу Кари, и острая сталь обожгла руку Фроди. Она прошлась огнем по пальцам, и Фроди увидел, как на землю упали три его пальца. Кровь окропила траву.
Фроди орал, ревел, изрыгая проклятья. И себя ругал: за неспособность, за неумелость. И Одина не забыл. Этот бог, видно, покинул его…
XIV
Напутствуя Кари и Сигфуса, скальд Тейт говорил за несколько дней до поединка:
— Вот ты, Кари, идешь, чтобы отстаивать свою правоту, чтобы мстить за обиду, нанесенную тебе и Гудрид. И в этом твоя сила. Ты полон решимости, ты не видишь дороги назад, и кровь этого Фроди для тебя — словно родниковая вода. Ты способен испить ее. Источник твоего озлобления — великая обида. А в чем сила Фроди? В его опыте, в его подлости, в неистовом бешенстве. Подумай теперь: в чем его слабость? В его великой вине, расслабляющей его волю. Нет спору, звериное преобладает в нем. На нашей земле такому не должно быть места. Но я говорил тебе и повторяю еще раз: наша земля пока что не для спокойной жизни. Здесь сила сильных и хитрость хитрых определяют все… Ты остуди свое сердце, противопоставь буйству и подлости хладнокровие и желание отомстить во что бы то ни стало. Думай больше о Гудрид, и это придаст тебе силы. Меч добротен и очень опасен в умелых руках. Помни: у Фроди такие руки. Но против его меча способен устоять другой меч, который в руках честных, непоколебимых… Берсерк особенно опасен для тех, кто поддается страху, кто не понимает, за что бьется. Тебе есть за что сражаться. И в этом твоя сила.
Так напутствовал скальд Тейт. Он не отговаривал от возмездия, хотя и понимал, что Кари может пасть в первой же схватке. Ну так что же с того? Бежать без оглядки, сидеть сложа руки, молча проглотить невыносимую обиду?..
XV
Кари запомнил слова Тейта. Он следовал совету скальда, и тогда, когда налетал Фроди, в Кари все напрягалось, подобно тетиве, и рука его управлялась с мечом.
Одно мгновение, когда скала в образе Фроди, изрыгающего сквернословия, неслась прямо на него, грозя подмять, Кари казалось, что гибель неминуема. И вдруг почудилось, что Гудрид рядом, совсем близко, что он слышит ее дыхание и чувствует запах ее волос. И тут меч Кари взвился кверху как бы сам собою, и неотразимый, казалось, удар Фроди был отражен. Вот тут-то Фроди потерял три пальца на правой руке и, изрыгая проклятья, понесся вихрем мимо Кари. Пронесся и на мгновение очутился спиною к Кари.
Кари увидел могучую шею Фроди всю в поту. Он увидел слипшиеся волосы на затылке. И широкую спину увидел, которую сам Один как бы подставил под меч Кари.
Это было мгновение счастья. Упустить его — значило проиграть поединок, воспользоваться им — выиграть!
Кари, собрав все свои силы, которые были на исходе, обрушил меч на плечо Фроди. Сталь вонзилась в тело, разрушая мощную ключицу и рассекая мускулы, которые были бы впору разъяренному медведю.
Удар оказался настолько сильным, что меч, рассекая ребра и пройдя левее правой лопатки почти у самого спинного хребта, прорвался к тазовой кости.
И тут-то Фроди рухнул. Его правый бок вместе с рукою и мечом упали наземь, прежде чем повалился сам Фроди и головою зарылся в траву…
Эгиль сорвался и кинулся на Кари. Он действовал молча, его меч был на расстоянии одного локтя от Кари.
— Прочь! — крикнул Сигфус. И он живо стал рядом с братом. Он отвел от Кари меч Эгиля и ударом своим рассек Эгиля от плеча до самого паха: из одного Эгиля сразу вышло два, как любили говорить берсерки, хвастая своими победами.
А юнец, наблюдавший за ужасающим поединком, уполз в чащобу, подальше от кровавого побоища. Его и не преследовали ни Кари, ни Сигфус: пусть живой свидетель, окаменевший от ужаса, сообщит людям, что возмездие совершилось.
XVI
Вечером Кари и Сигфус появились в хижине скальда. Кари едва передвигал ноги, опершись на плечи Сигфуса. Он не мог произнести ни слова.
Тейт раздел его. Рана на плече была небольшая, но кровоточащая. Такая же кровоточащая рана зияла на правой ноге, повыше колена. Сигфус был невредим.
— А они? — спросил Тейт, хлопоча над ранами.
— Фроди и Эгиль?
— Их было двое?
— Да, двое, — сказал Сигфус. — Но теперь их нет. Они лежат у родника Олений Глаз.
— Мертвые?
— Их даже Один не воскресит.
— Надо сообщить о возмездии, постигшем подлецов.
— Некий юнец сделает это и без нас.
— Кто он?
— Может, будущий подлец. А может — человек, который, узрев все собственными очами, поймет кое-что в этой жизни.
Скальд наспех воздал молитву идолу, пялившему глаза из глубины хижины, и сказал:
— С такими ранами люди живут десятки зим.
У него были снадобья, излечивавшие раны и различные хворости. Он обильно смазал раны Кари и дал ему крепкой браги. И Сигфусу тоже…
XVII
Гуннар сообщил о случившемся всем ближайшим соседям, а к дому Фроди и Эгиля были отправлены двое, чтобы там знали о поединке в лесу из первых рук. Так велел обычай. Теперь дело за родными Фроди и Эгиля: жаловаться на тинге или предпринять ответные действия, не дожидаясь тинга.
Каждый, кто узнавал о подвиге Кари, говорил: «Возмездие справедливо». И добавлял: «А как же с теми, другими злодеями и товарищами Фроди, которых все еще носит эта земля?»
XVIII
Гуннар, Кари, Сигфус и скальд держали совет: как быть дальше?
— Эти не успокоятся, — сказал Тейт. — Возможно, позовут на тинг.
— Кари будет уже далеко, — заметил Гуннар.
Тейт возразил:
— Да, но останешься ты, останется Сигфус. Останутся ваши родичи.
Сигфус сказал:
— Мы постоим за себя.
Тейт был доволен, с лица земли удалены отъявленные негодяи, жителям фиорда будет легче. Но ведь обычай есть обычай: едва ли родичи Фроди и Эгиля успокоятся.
Гуннар сказал, что не надо сбрасывать со счетов Скегги и его родичей. Они тоже в немалой силе и знают, как постоять за правду.
Сигфус обещал, что сам он не успокоится до тех пор, пока не отыщет еще трех соучастников злодеяния на зеленой лужайке. Каждый, кто совершил тяжкий проступок, должен быть примерно наказан. Тинг тингом, а месть собственноручная — своим чередом… Так полагал Сигфус…
Тейт хоть и был доволен, но все же, как всегда, мрачно глядел на мир. Он не верил в тинг, где господствуют знатные бонды и где слово их весит больше всех прочих слов. Волчий закон действует повсеместно. И об этом не надо забывать. Тот, кто первым перегрызет глотку другому, тот в конечном счете выигрывает. Он предлагал следующее: надо уплывать всем и как можно скорее, а сам он, скальд, найдет прибежище на юге, где у него имеются и друзья и родичи. Другого выхода, как полагал он, нет…
Сигфус с ним не соглашался.
— Как?! — восклицал он. — Уходить с насиженных мест, от родных скал и фиордов только потому, что так угодно кучке негодяев? Разве у лесного родника не был преподан им должный урок? Да еще кем? Кари, который никогда не проливал ни капли чужой крови! Но когда стало невмоготу, он превратился в великана. Надо было видеть, как дрался Кари против многоопытного Фроди, как отражал его удары, как сам наносил раны и в конце концов прикончил подлеца. Нет, если побежит каждый, то земля и фиорды достанутся подлецам. Это — позорное бегство… Надо жить и надо драться за свою жизнь здесь, на этом месте, на берегу этого фиорда, на виду у этих малоприветливых, но милых скал…
Так говорил Сигфус, и говорил он горячо и убедительно.
Тейт задал ему такой вопрос:
— Значит, Гудрид и Кари должны оставаться здесь?
Сигфус сказал, нет, он говорил вообще, но что до Кари и Гудрид — им, наверное, лучше уехать… Но ведь можно и не уплывать на запад, на верную смерть…
— А куда же?
— Разве мало места на севере или на юге? Можно и в Эстланд, и Финланд — это тоже далеко. Но ведь оттуда может дойти весточка — а из-за моря?..
Гуннар слушал молча.
Тейт был непреклонен:
— Я бывал везде и даже в таких местах, о которых Сигфус вовсе не подозревает. Могу сказать одно: здесь нигде не найти справедливости.
А Сигфус стоял на своем:
— Значит, потерять Кари? Кто поручится, что он вернется когда-нибудь из плавания? Ты?
Тейт отрицательно покачал головой.
— Может, ты? — Вопрос был обращен к Гуннару.
— Нет, — проговорил он.
— А ты? — Это уже относилось к Кари.
За последние дни он очень переменился. Вдруг возмужал. Если прежде он произносил какое-нибудь слово, а потом уже думал, то теперь наоборот: сначала думал, а потом — говорил.
Долго молчал Кари. А потом коротко сказал:
— Эвар ждет нас.
Гуннар поднялся со своего места:
— Этим сказано все. Надо собираться в путь.
Он это говорил давно. И не раз.
XIX
Скегги сказал дочери:
— Гудрид, надо собираться. Кари ждет на берегу.
Гудрид, не говоря ни слова, собрала свои вещи.
У Скегги на глаза наворачивались слезы. Мать тихо плакала. Казалось, хоронила кого-то.
А Гудрид была спокойна. Словно каменная.
XX
В назначенный день все было готово к отплытию. Корабль стоял на воде, к нему был перекинут дубовый трап. Первым взошел на него Эвар. Потом заняли свои места гребцы. Рулевой пробовал действие тяжелого весла, прикрепленного у правого борта, в десяти локтях от заднего штевня.
Гудрид и Кари прощались с родными. Скальд Тейт сказал:
— Кари, пуще всего береги Гудрид.
— Пора! — крикнул Эвар.
И вот корабль нагружен полностью. Он сидит глубоко в воде. Ветер дует в сторону запада. Раннее утро. Солнце только-только взошло. На берегу толпился народ. Все родные здесь. И соседи.
Многие говорят:
— Они больше не вернутся.
Другие поддакивают:
— Они плывут за смертью.
А родные плачут.
Вот уже корабль выходит из залива. Вот поднят красный квадратный парус. Кари и Гудрид глядят на берег — такой серый, мшистый, — скалистый — и говорят: «Прощай!» Каждый про себя.
Корабль плывет в открытое море. Освещенный солнцем парус кажется издали каплей крови на фоне голубого неба и синего моря. Под ним стоит Кари, сын Гуннара, сына Торкеля, сына Гутторма, — первый из несчастных викингов.
Осло— Москва — Агудзера 1978–1979Викинг — разбойник? Викинг — несчастный? Вместо послесловия
Известный норвежский исследователь жизни и быта викингов, особенно их поселений в Северной Америке, Хельге Ингстад сказал мне в Осло:
— За несколько веков до Колумба викинги уже побывали в Америке. Но так же, как и Колумб, не знали, где находятся, не знали, что это новый континент. Кажется, это нам удалось доказать во время наших экспедиций на Лабрадор и Ньюфаундленд.
Кто же были викинги? Разбойники, как в средние века называли их в Европе? Любопытные первооткрыватели заморских земель? Или несчастные люди, вынужденные искать прибежище за океаном?
На эти вопросы я не могу ответить однозначно. Отвечать однозначно — значит многого не сказать.
Но прежде всего они были люди. Почти такие же, как мы с вами. Но, пожалуй, более смекалистые, более смелые, более терпеливые и выносливые. Это и понятно: у них не было таких удобств, как у нас, не было навигационных приборов, как у нас, и огромной информации, как у нас. Все в те времена добывалось тяжело и часто личным опытом.
Вот вы были в музее викингов — здесь, в Осло, и Роскильде — в Дании. Вы видели произведения искусных кузнецов, чеканщиков, плотников, кораблестроителей. Разве разбойники способны на нечто подобное?
Жизнь викингов была тяжелой. Не хватало пахотной земли. Утесы да скалы, камни вместо лугов! Как это ни странно — перенаселение! И конечно же кровавая междоусобица: род против рода, часто даже хутор против хутора, король против короля. Таким образом, дальние и опасные путешествия были подготовлены самой жизнью на древней земле Норвегии, Дании и Швеции.
Корабли викингов в то время были самые быстроходные и остойчивые. Они не страшились океанских волн. Они могли близко подплывать к берегу — осадка меньше метра. Могли плыть вперед и, не разворачиваясь, назад, поэтому у кораблей не сразу отличишь корму от носа. Весла и парус были их «мотором». На таких беспалубных кораблях, длиною до тридцати метров и шириною в пять метров, перевозились люди и скот. Среди вооруженной дружины бывали и женщины.
В позднее средневековье викинги становятся грозою Европы. Они высаживаются в Нормандии, Шотландии, Ирландии и других местах. Правда, с пленными викингами европейцы тоже обращались жестоко. Например, с одного пленного предводителя викингов в Лондоне живьем содрали кожу. Жестокость, несомненно, была взаимною.
Я разрешу себе резюме: викинги были люди со всеми недостатками и достоинствами, и они, бесспорно, побывали в Америке примерно за пять веков до Колумба. Последнее, насколько мне известно, уже никем не опровергается и считается научно доказанным.



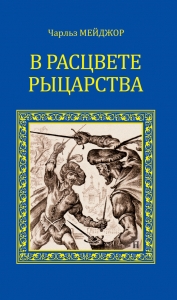

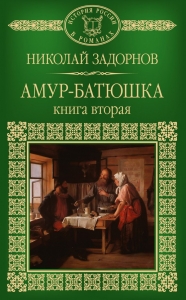



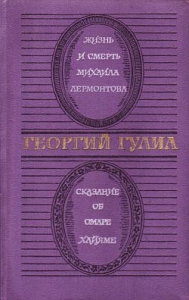
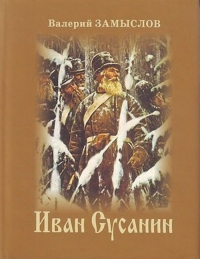
Комментарии к книге «Викинг», Георгий Дмитриевич Гулиа
Всего 0 комментариев