Елизавета Дворецкая Княгиня Ольга и дары Золотого царства
© Дворецкая Е., 2017
© Нартов В., иллюстрация на переплете, 2017
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
Предисловие автора
Роман «Львы Золотого царства», пятый в цикле о княгине Ольге, посвящен описанию поездки княгини в Константинополь (957 год), ее крещению и ближайшим следствиям этого события. Крещение Ольги – один из наиболее значимых по своим последствиям фактов того периода, поэтому миновать его нельзя, но в силу своего содержания оно занимает пограничное положение между исторической наукой и православной культурой. Княгиня Ольга – реальное историческое лицо и при этом святая: история и Церковь – обе предъявляют на нее свои права и каждая имеет свой собственный угол зрения на этот образ. Перед вами именно исторический роман, а не романизированное житие, поэтому крещение рассматривается не с церковной, а с человеческой точки зрения. В наше время вопрос «выбора веры» вновь приобрел актуальность, но передо мной не стояло задачи агитировать ни за христианство, ни против. Княгиня Ольга тысячу лет назад сделала свой цивилизационный выбор, это исторический факт. Я не намеревалась как-то судить ее решение – это значило бы много брать на себя, учитывая масштаб изображаемой личности, – а пыталась рассмотреть, как это произошло и чем сопровождалось.
Принять совершенно иное мировоззрение – само по себе духовный подвиг. А ведь ей еще предстояло жить среди людей, с которыми у нее с тех пор было разное миропонимание. Это нелегко и для обычного человека, а тут речь идет о женщине, у которой христианские обязанности неизбежно вошли в противоречие с обязанностями правительницы языческого государства.
В отличие от церковной литературы и даже летописной ее версии, которые сосредоточены только на крещении как цели поездки, наука знает: крещение Ольги было лишь частью масштабных международных переговоров, которые велись между нею (ее посольством) и властями Византии. К сожалению, никакие источники не освещают содержание, ход и результаты этих переговоров, и историки делают лишь довольно общее предположение, что речь шла «о торговле и военно-политическом сотрудничестве». Зато есть два серьезных основания считать, что исходом их Ольга осталась недовольна. Во-первых, на это указывает сохраненная летописью ее фраза, обращенная к греческим послам: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе». Во-вторых, тот факт, что два года спустя, в 959 году, Ольга отправила посольство к германскому королю Оттону с просьбой дать для Руси епископа – это означает, что греческого епископа она не привезла. Чтобы попробовать восстановить содержание переговоров, нужно изучить положение дел каждой из сторон, осознать ее вероятные задачи, желания и сферы пересечения их интересов. Похоже, что прежде никто из писателей подобной задачи перед собой не ставил.
Около половины действия происходит в Греческом царстве. История Византии – это история утраченного мира. Того государства давно нет, более того – его территория оказалась во власти людей иной веры и культуры, в глазах которых византийская старина не стоит ничего. Например, на месте дворца Магнавра, где император принимал самые важные посольства, дабы сразить их невероятной роскошью и чудесами, сейчас стоит отель. Под ним при строительстве были обнаружены подземные помещения, которые так и остались неисследованными. Остатки других помещений дворца можно увидеть, как говорят, в подвалах современных стамбульских магазинов (с позволения хозяев), причем размером эти остатки – до шести залов, составлявшие когда-то коридор дворца.
Но все же, несмотря на невосполнимые утраты, о культуре «Греческого царства» сохранилось огромное количество сведений. Чтобы не превращать роман в учебник по истории искусств или путеводитель по давно погибшему городу, в отборе материалов мне пришлось ограничиться тем, что могло иметь касательство к пребыванию Ольги в Константинополе и к ее интересам там. У каждого из увиденных ею объектов – здания, помещения, улицы и так далее – и прочих есть своя история, но если бы мы снабдили княгиню гидом, который всякий раз стал бы рассказывать: «А вот в этом покое, называемом Оатон, молния испепелила императора Анастасия», – наш роман совершенно утратил бы берега. Я не описывала всего интересного, что Ольга могла увидеть в Царьграде (если бы в один из вторников посетила монастырь Богоматери Одигитрии и так далее). А только то, что непосредственно должно было повлиять на ее впечатления, не слишком уводя нас в сторону от нашей темы.
Богатейшая византийская культура погибла, не оставив прямых наследников. Ни один современный народ не ведет от византийцев свою родословную. Но именно мы, русские, объявили себя Третьим Римом, когда Новый Рим – Византия – погиб. Получив из Византии православие и значительный пласт светской культуры, мы сохранили и развили ее наследие после того, как на своей родине она ушла в небытие. Символично, что золотые механические павлины, когда-то стоявшие у трона императора, прибыли в Россию в составе приданого Софьи Палеолог, какое-то время хранились в царской казне, но во время Северной войны были Петром переплавлены на деньги для военных нужд; таким образом, наследие старины в буквальном смысле стало основой сражений за будущее державы и ее грядущих побед.
Пролог
Эту сказку я впервые услышала от старой княгини Годонеги – моей бабки по матери. Помню, что нам с Утой было лет по пять, а сестры еще даже разговаривать не умели: ползали по полу и порой принимались вопить. Не удержалось в памяти, как баба Годоня тогда выглядела, хотя в то время ей полагалось быть еще довольно крепкой женщиной. Может, лет на пять старше, чем я сейчас. Остался только ее голос и те образы, которые вставали у меня перед глазами по мере ее рассказа.
– …Доехал Запечник до ледяной горы – стоит гора высокая, верхушкой в небо уперлась. Надел на руки и на ноги железные когти и полез на гору. День лезет, другой лезет…
Эта ледяная гора из сказки бабы Годони сливалась в моих мыслях с Йотунхеймом – страной ледяных великанов, о которых нам рассказывал отец. Когда Запечник странствовал, отыскивая свою мать – княгиню Золотую Косу, – я все время ждала, что он на них наткнется. Но встречалось ему нечто совсем иное.
– Видит: медный дворец стоит, у медных ворот змеи на медных цепях прикованы, так и кишат. У медного колодца медный ковшик висит…
Когда наши скутары наконец вышли из Босфора в Пропонтиду – мне тогда уже казалось, что мы странствуем, будто в сказке, целых три года, – все это разом предстало передо мной: горы цвета железа, каменные стены и кровли дворцов, залитые медью греческого заката. В наших краях – ни на Великой, ни на Днепре – я никогда не видела такого золотисто-медного заката, в котором переливались бы всевозможные оттенки желтого, без капли багреца. Наверху и внизу, как отражения друг друга, простирались вересково-черничные полотна – небо и море…
Довольно скоро нам встретилось и остальное: медные колодцы-крины, серебряные двери, золотые ковши. Бронзовые змеи, угрожающе раскрывшие пасти на три стороны света, и всякие другие невиданные звери. Царица на высоком престоле, что «в самоцветные наряды убрана, золотым венцом увенчана». Я въяви попала туда, куда молодцы из сказок проникали, взобравшись на ледяную гору или спустившись через дыру в земле.
Но… Кириос о Теос![1] Порой во мне оживал голос бабы Годони и возникало чувство, будто я лишь слушаю сказку о себе. И бабка по матери виделась мне такой, какой я встретила ее последний раз в жизни: старухой-птицей в берестяной клювастой личине, стражницей рубежа между миром живых и мертвых. Поднявшей клюку с угрозой: вам не выйти отсюда!
Но все-таки мы вышли. Я сидела с хозяевами Золотого царства за золотым столом, ела с золотых блюд и пила из золотых кубков. И невольно искала взглядом то колечко, «в котором все Золотое царство состоит». Чтобы, вернувшись домой, прокатить его по дороге – и все Золотое царство перед тобой как жар горит…
Часть первая
– Эльга, сегодня! – Ута открыла глаза и устремила взгляд в шерстяную кровлю. – Сегодня мы будем дома.
– Да ладно тебе… – вяло отозвалась княгиня, не поворачиваясь к ней. – Не верю.
Ута не обиделась. Они ночевали вдвоем в шатре, посреди стана, устроенного на берегу Днепра возле урочища Ковали. На высоком прибрежном склоне когда-то, во времена древлянского владычества над полянами, раскинулось поселение, откуда в Киев возили кузнечный товар. Сейчас оно лежало полузаброшенным, и лишь у двух-трех облупленных хатенок паслись козы, возились босоногие дети в коротеньких рубашонках и валялись в тени тощие собаки. Княгине с ее многочисленной дружиной там не нашлось бы пристанища, и заночевали на лугу: для женщин и послов поставили шатры, а отроки и челядь спали прямо у костров, благо ночи в травень месяц выдавались ясными.
– Что, не мараморяные лежанки? – улыбнулась Эльга, глядя, как Лютегость, посол от плесковского князя Белояра, ее двоюродного брата, сам раскатывает свой постельник поверх груды елового лапника: земля весной еще влажна и холодна.
– Да ну их к лешему! Я, матушка, на том камне все бока изломал! – откровенно ответил Лютегость. – Лучше на земле спать, к тому же на нашем берегу – уже почти дома!
И засмеялся: до настоящего дома ему предстояло ехать еще столько же.
Это был тридцатый ночлег посольства после входа в Днепр из Греческого моря. День Эльга и Ута проводили на корме самой большой княгининой лодьи, где над задней скамьей устроили полотняную сень для защиты от солнца. Во время дождя или сильного ветра на нее накидывали бычью кожу. Там они и сидели – то обмахиваясь веткой от жары, то кутаясь в свиты и толстые шерстяные плащи от пронизывающего холода с воды. За время путешествия этот полог стал им родным домом – и ненавистным, и любимым. Отсюда они смотрели на каменистые земли Греческого и Болгарского царств, на бескрайние заросли лозы в устье Днепра, на зеленые кручи и дальние луга Нижнего и Среднего Поднепровья.
По пути к морю русы одолели низовья Днепра вдвое быстрее, а обратная дорога против течения, по большей части на веслах, казалась бесконечной. Дни почти не отличались один от другого, и каждый тянулся долго-долго. Разнообразие внесло лишь прохождение порогов, но и те давно остались позади. Женщины уже изнемогали: Предслава, Прибыслава, Володея, Горяна, Ярослава, Святана и Живляна только и ныли целыми днями, как они устали и как хотят наконец увидеть свой дом и детей. Эльга понимала их: она тоже не видела дом и детей целый год. И все же усмиряла их, чтобы не голосили, а терпеливо сносили невзгоду. «Молитесь лучше, Бог укрепит», – говорила она им, и они умолкали в недоумении. Они умели причитанием вымывать тоску из сердца, но молитвой переплавлять ее в радость им еще предстояло учиться. Долго учиться…
Ута вылезла из-под двух одеял и взялась за гребень. К концу четвертого десятка лет, после шестикратных родов, у нее осталось не так много волос, чтобы для ухода за ними требовалась помощь: она расчесывала, заплетала косы и укладывала сама. Эльга наблюдала за ней, не шевелясь. Ута спешила, будто боялась не поспеть с убором до прибытия в Киев, хотя лодьи стояли у берега. И судя по тишине вокруг, вся многочисленная дружина спала, даже отроки еще не ходили выбирать поставленные на ночь сети. Это она от волнения. Того же, что отняло у Эльги последние остатки растраченных в путешествии сил. Сейчас, когда до дома оставался один шаг, княгиня чувствовала себя такой усталой, что лежала пластом и с ужасом думала, что встать все же придется. Придавливала к земле сама мысль о беспредельности пройденного пространства. За море сходили, они, женщины!
– Ты сама-то веришь? – спросила Эльга, глядя в спину сестры.
Ута обернулась, опустив гребень, и посмотрела на нее таким несчастным взглядом, будто услышала что-то обидное:
– Что мы сегодня будем в Киеве?
– Что Киев вообще есть на свете.
– Когда в Царьград ехали, ты не спрашивала, есть ли он на свете.
От соседних шатров донесся плач младенца, потом сонный женский голос. Живляна Дивиславна отправилась в поход заодно со своим мужем, Одульвом, и возглавляла служанок Эльги. За время путешествия она успела и зачать, и родить четвертое свое дитя. Как раз под весеннее равноденствие, когда греки отмечали церковный праздник Эвагелизмос[2], а русы у себя в палатионе Маманта, крещеные и некрещеные, вместе ели блины и любовались «медвежьей пляской» отроков, за отсутствием медвежин укутанных в черные овчины.
Ута снова принялась водить гребнем слоновой кости по своим рыжеватым, уже наполовину поседевшим волосам. Прибрала голову, нацепила волосник, стала разбирать платье, сложенное с краю. При этом шепотом постанывала: пуховые постельники за время пути свалялись, у женщин побаливали бока от спанья на неровной земле. Эльга и Ута были еще далеки от дряхлости – обеим три года не хватало до сорока, – но все уже не молоденькие девушки, которые таких мелочей не замечают.
Но вот Ута надела платье, подпоясалась и откинула полог. В полутемном шатре повеяло свежестью, Эльга глубоко вдохнула запах травы, земли, влаги. Этого им так долго не хватало в жарком, душном Греческом царстве, что она и сейчас не могла надышаться. Не встретишь здесь кружащих голову жасмина и розы, но от пронзительного запаха диких трав над большой рекой во всем теле вспыхивало ощущение жизни. Этот утренний дух будил воспоминания о каких-то давно миновавших зорях, когда она, еще молоденькая девушка, в такой же ранний час выходила на берег – только тогда это был не Днепр, а Великая, река северных кривичей, – и будущее лежало перед ней, огромное и неведомое, как те края, куда утекают реки.
Теперь жизнь ее была под стать тому величественному зрелищу, что открывалось из-под шатерного полога. Синяя ширь Днепра внизу под береговым склоном, зеленые полосы островов, дальше пышные белые облака на небокрае – будто огромные Перуновы овцы ночуют на земных лугах, прежде чем вновь выйти пастись на голубые вышние просторы. А еще дальше на север, пока не видный, ждал ее Киев – город на трех горах. Сегодня им предстоит встретиться. И город ждет: из Витичева, где ночевали вчера, вперед послали конного гонца.
За последние двадцать лет река жизни унесла Эльгу очень далеко от той прежней девушки, что гуляла у Русальего ключа над Великой. Но порой, вдохнув пронзительную свежесть утренней земли, она вдруг ощущала ту девушку совсем рядом. И даже вновь верила в будущее счастье, хотя уже знала всю правду о своей судьбе.
* * *
Суда входили в Почайну. Солнце клонилось к закату, но еще не стемнело. Эльга и Ута, прибранные и принаряженные, сидели на корме, откуда уже убрали полотняную сень. Позади них шла лодья, где устроились две младшие княгини – Володея и Прибыслава, потом – нынешний древлянский князь Олег Предславич с женой и дочерью. Яркие шелковые одежды послов и женщин Эльгиной свиты – зеленые, голубые, желтые, смарагдовые, с цветными узорами – среди серых и белых свит на гребцах издалека бросались в глаза.
Теперь-то они умели одеваться и сами смеялись над собой-прошлогодними, которые без смущения натягивали облачения греческих священников, с залатанной на спине дырой от копья. Каждым таким платьем гордились поколениями: дескать, мужа дед привез из Олегова похода! Эльга потом видела многочисленные церкви, монастыри и поместья на Босфоре, в которых Вещий и взял свою добычу. Зато теперь ее знатные спутницы почти не отличались от ромейских патрикий: вместо прежней сорочки – туника с шитыми опястьями, поверх нее – стола из гладкого шелка, а на плечах – узорчатая накидка-пенула с золотой каймой.
О возвращении княгини известили заранее, и весь город высыпал ее встречать. Горы, склоны, даже тростниковые крыши изб и клетей – все было усеяно народом. Издали горожане в белых и серых сорочках напоминали голубей. Все кричали и махали руками. По левую руку Эльга видела Святую гору со своим новым двором, потом Киеву гору. Какой простор здесь, какая воля! За год она забыла это ощущение – когда смотришь на мир сверху, будто птица, и хочется летать. Там, в Царьграде, среди великолепия каменных громад, человек казался маленьким, как мышь, а тут превращался в великана.
Громко стучало сердце.
– Больше волнуюсь, чем когда невестой ехала, – вырвалось у Эльги, и она невольно взяла Уту за руку. – Тогда думала, сердце выскочит, а теперь понимаю – то смех был, а не тревога.
Ута не ответила, но стиснула ее пальцы. Казалось бы, замужество, ради которого Эльга приехала в Киев впервые, уже более двадцати лет назад, – самый важный перелом в жизни женщины. А вот нет. Теперь они подъезжали к Киеву совсем с другой стороны – не с полуночи, а с полудня, – пережив куда более важный переход. Совлекши с себя ветхого человека и облачившись в Иисуса Христа… И обе тайком трепетали от страха перед новой жизнью, которую им придется вести на старом месте, в старом окружении. Заново искать и налаживать связь со своей же родней. Общая кровь в их жилах осталась та же, но пути духа разошлись так далеко, что от мысли об этом земля будто таяла под ногами.
Сейчас закончится долгий путь, завершится странствие, продлившееся целый год. Как только она ступит на плахи подольского причала, порвется невидимая связь с Золотым царством – та, что она ощущала все эти два месяца с тех пор, как покинула град Константина.
Вот уже видны впереди пристани, полные народа. Наверное, такая же толпа собралась здесь, когда от греков возвращался Олег Вещий – повесив цветные паволоки на штевни и борта судов, так что его лодьи скользили по воде, будто чудные ирийские птицы.
– Вон князь! – крикнул Гридя-кормчий, вытянув шею. – Сам вышел матушку встречать!
«Ну, хотя бы жив», – мелькнуло в голове, и мысль о сыне придала Эльге сил. Она встала и шагнула вперед, оперлась о борт.
И Киев открылся перед ней во всю ширь – крутые горы, взвозы и тропки на склонах, избы, причалы, люди… Глаз по привычке искал что-то огромное – палатионы, церкви, стены, колонны – но самым большим здесь были сами горы. Все привычное по прежней домашней жизни теперь показалось маленьким.
Зато она увидела Святослава – он стоял под своим красным стягом, который в любой толпе указывал: князь здесь! Да он и сам напоминал стяг: в красном кафтане, размахивал над головой шелковой шапкой на соболях, и его светлые волосы золотились под солнцем. Он что-то кричал, но Эльга не различала его голоса среди рева толпы. Кружилась голова, и Ута, выискивая глазами собственного сына Улеба где-нибудь возле князя, подхватила ее под локоть. Эльга едва дышала: эти последние мгновения давили на грудь, будто мешки с песком. Уж скорее бы… Скорее вернуться целиком, ступить в свою новую жизнь на старом месте…
Лодья ударилась бортом о причал, закачалась на волне. Перекинули сходни: Эльга слышала, как глухо стукнуло дерево о дерево, и сердце сжалось, будто вплотную придвинулась некая опасность. Редко ей удавалось сойти с лодьи с таким удобством: обычно приходилось забираться на скамью, садиться на борт, а оттуда прыгать в руки Мистине Свенельдичу, который, стоя на песке или прямо в воде, принимал сперва княгиню, потом свою жену Уту, чтобы поставить наземь.
А по сходням уже бежал Святослав. После годовой разлуки Эльге бросились в глаза перемены: он возмужал, еще немного подрос, раздался в плечах, и в лице его проглядывало нечто столь суровое, что на миг этот крепкий светловолосый мужчина показался ей чужим. Это был совсем не тот мальчик, которого она по привычке воображала в разлуке!
– Мама! – кричал он.
Подскочил и схватил ее в объятия, бросив шапку на днище. Прижал к себе, так что она задохнулась, отстранился, поцеловал раз, другой, третий.
– Вижу, здорова! Ну, слава Перуну!
– А там… – Эльга глубоко вдохнула, но ей едва хватало воздуха, чтобы говорить. – А там ворота прямо в воду смотрят, и с лодий в них все поднимают: товары всякие…
– Где – там? – Святослав, смеясь, поднял бровь.
– Ну, в Константинополе… И причалы там каменные.
Она и сейчас ясно видела это перед собой: шелковистую синеву Босфора, белые каменные стены, встающие, как кажется, прямо из воды, а в них – окна, большие и малые, через которые особыми хитрыми устройствами поднимают грузы прямо с кораблей. Каменные львы, стерегущие причал у дворца Вуколеон, тонкие колонны в арочных окнах…
Она сама не знала, почему заговорила об этом прямо сейчас. Себя не помнила, не находила нужных слов. Смех Святослава помог ей хоть чуть прийти в себя. Сердце колотилось во всю грудь, дыхание теснило, голова кружилась, в ушах шумело. Помнится, так же она себя чувствовала, когда впервые увидела Константинополь…
Ведь она не просто прошла через нижнее течение Днепра и Греческое море. Где-то на этом пути пролегала невидимая грань тридевятого царства, разделявшая два настолько разных мира, что они просто не могли находиться на одном и том же свете.
* * *
Дома… Кириа тон Уранон…[3]
Эльга оглядывалась, сидя на лавке, и не верила своим глазам. Бревенчатые стены, полки с расписной посудой, ларцы под шелковыми покрышками, лавки под овчинами, печь в углу и за ней дверь в голбец… Было двойственное чувство: что все это ей мерещится, и одновременно казалось, что она никуда и не уезжала, а все увиденное за Греческим морем ей приснилось. За год она так привыкла засыпать и просыпаться в китоне, среди стен, отделанных плитами желтоватого мрамора, с цветной росписью под сводом и порфировыми столпами по углам, что здесь показалось темно и тесно.
Погладила медвежину на лавке: новая совсем. Кто-то позаботился: в избе все прибрано, хлеб испечен, еды разной наготовлено, пиво сварено.
– Это Прияна вчера приходила, – доложила Браня.
От радости девочка то прыгала на одной ножке, то садилась к матери и обхватывала ее руками изо всех сил, потом опять вскакивала и принималась прыгать. Этот год она жила то у брата и молодой княгини, то у воеводы Асмунда, своего двоюродного дяди, но каждый день томилась по родной матери.
– Как ты выросла… – в третий раз проговорила Эльга.
Пока она странствовала, Бране исполнилось восемь – и в конце этого лета будет девять. Девочка заметно вытянулась, и коса ее теперь доставала до пояса – совсем как у большой, взрослой невесты.
– Прияна с Дивушей приходила, смотрела, как убирают, велела хлеб печь, пироги, – рассказывала Браня. – Говорила, небось княгиня-матушка за морем соскучилась по пирогу с грибами, где же там грибов хороших достать? Там правда нет грибов?
Эльге не хотелось есть, но, боясь обидеть невестку, она поела пирога. И вкус запеченных в пшеничном тесте соленых грибов с луком показался не менее чудным, чем кисло-сладкой, набитой крошечными зернышками греческой сики, когда она впервые ее раскусила.
– Как вы… как она… ладили вы с ней? – Эльга посмотрела сперва на Браню, потом на Святослава, сидевшего напротив.
– Да все путем, – ответил он, даже будто бы с недоумением: а чего могло случиться?
– Как она?
– Говорит, все как надо.
– Ей ходить тяжело, – вставила Браня. – Жаловалась, голова болит.
– Я завтра приду к вам, – пообещала Эльга сыну. – Непременно приду.
Хотя сомневалась про себя: хватит ли сил одолеть путь до Олеговой горы, где жила молодая чета. От волнения и потрясения встречи с домом она чувствовала такую усталость, будто весь путь от Константинополя прошла пешком.
Год назад она уезжала незадолго до ожидаемых родов невестки, но весь этот год не ведала, как все прошло: жива ли Прияна, живо ли дитя, кто родился? И только на обратном пути, возле устья Днепра, когда им повстречались киевские купцы во главе с Бёдваром, едущие в Царьград, узнали наконец, что молодая княгиня принесла мальчика, дитя здорово. Назвали, к изумлению Эльги, Ярополком.
– Почему? – спросила она теперь у сына. – У нас никто таким именем не звался…
Заранее имя ребенка не обсуждают, но она не сомневалась, что Святослав наречет первенца именем основателя рода или своего отца. И вдруг какой-то Ярополк!
– Ингваром Прияна не захотела – мой отец ведь ее отца зарубил, – напомнил Святослав. – Я еще думал – Олегом, но она сказала, есть же Олег древлянский, зачем еще один? А мне нравится Ярополк – славный воин будет!
Эльга подавила вздох. Поздно спорить – уж дела не поправить. Будь она тогда дома, не допустила бы, чтобы единственным носителем имени, олицетворяющего славу руси, остался соперник ее сына и внука. Однако ее не было, и молодые распорядились по-своему.
– Ну, второй будет Олег, если ты хочешь, – утешил ее Святослав, поняв по лицу матери, что она недовольна. – Скоро уже.
Невестка не пришла встречать Эльгу, поскольку в ближайший месяц ожидала вторых родов. И уже за это Эльга могла простить ей не только причуды с именами. Так хотелось, чтобы у Святослава родилось много сыновей! Трое, пятеро – лишь бы ей дальше быть спокойной за свое наследство. Все были живы и здоровы, ничего страшного за год в Киеве не случилось, но облегчение не придало ей сил: наоборот, легло на плечи мягкой периной, из-за чего тянуло прилечь.
– И завтра поговорим, – добавила она, видя вопрошающий взгляд сына. – Сегодня мне с мыслями не собраться.
Святослав не был так неучтив, чтобы набрасываться на мать с расспросами, не дав передохнуть с дороги. Но, разумеется, ему очень хотелось поскорее услышать привезенные новости. Ей ли не знать его нетерпеливость…
– Ну, иди к жене, – мягко сказала Эльга сыну. – Поклонись от меня. Скажи, я завтра приду и подарки принесу. Или хочешь, возьми для нее что-нибудь сейчас.
– Да сама принесешь. – Святослав не придал этому значения. – Ей не до нарядов.
– Ступай. Я в баню, да отдыхать…
– Отдыхай! – Святослав подошел, поцеловал ее, прижался лицом к белому повою. – Не верится, что ты воротилась.
– Скучал? – вырвалось у Эльги.
– А то как же?
Она улыбнулась, покачала головой. Да разве он мог скучать – этот сильный, решительный мужчина, источавший уверенность и властность, которые делали его на вид старше, чем настоящие двадцать с небольшим лет. Когда она, сидя в палатионе Маманта или качаясь в лодье, вспоминала сына, он виделся ей то мальчиком, то отроком, и она беспокоилась о нем, как об оставленном без пригляда ребенке. Зря беспокоилась. Это давно уже мужчина, настоящий князь, который хорошо справился и без нее. Она надеялась, что так.
Святослав еще раз поцеловал ее, кивнул другим женщинам и вышел.
– Глазам не верю… – бормотала Володея, оглядываясь. – Там, мнилось, я на том свете, теперь воротилась – опять на том свете. Где же он, тот свет – здесь или там? Не знаешь, Елька?
Эльга лишь закрыла глаза и слабо покачала головой. Родственниц – свою родную младшую сестру Володею, княгиню черниговскую, и двоюродную внучку Прибыславу, княгиню смолянскую, – она привела к себе. Им еще предстоял дальнейший путь по собственным домам: Володее – поближе, а Прибыславе – еще с месяц добираться вверх по Днепру, до Свинческа, стольного города восточных кривичей.
Ее спутницы-киевлянки разошлись по своим дворам, ездивших с ней челядинок Эльга тоже распустила отдыхать. Скрябка, остававшаяся дома с Браней, уже два раза приходила сказать, что баня готова, но усталые странницы никак не могли собраться с силами и встать с дубовых лавок. Точно как там, у Маманта, когда впервые после путешествия сели на свои беломраморные лежанки и стали озираться с изумлением, не находя слов.
«Прямо Золотая палата!» – в прежние годы говорили льстивые купцы, оглядывая цветную посуду на полках у княгини, шелковую занавесь у постели, ларцы, отделанные медью и резной костью. Эльга и сама считала, что жилище у нее красивое и богатое – особенно в сравнении с простыми избами, где даже по праздникам стены украшаются лишь зелеными венками и шитыми рушниками, а посуда вся желтая и бурая, слепленная руками самих же хозяек. Но Золотая палата, иначе Хризотриклиний… Те купцы сами не знали, о чем говорили. А она теперь знает. И если бы кто-нибудь вновь сказал Эльге, что ее просторная изба похожа на Золотую палату, она смеялась бы до слез.
* * *
Пожалуй, русам повезло, что приема у василевса им пришлось дожидаться два месяца с лишним. К тому времени когда их привезли в Большой дворец, княгини и боярыни уже попривыкли и перестали визжать и хвататься друг за друга при виде белокаменных статуй и высоченных, как бортевые сосны, колонн. Если бы их прямо сразу по приезде позвали в Мега Палатион – да они не то что слова бы там не вымолвили, а и дойти бы не дошли! Осрамились бы сами и всю Русь осрамили навеки веков! А так им хватило времени попривыкнуть – если не к самим чудесам и хитростям греческим, то хотя бы к тому, что эти чудеса здесь на каждом шагу. Приучиться молчать, не застывать бдыном и не пучить глаза, даже если никогда в жизни подобного не видел и не понимаешь, что это такое перед тобой.
И все же тем утром, ожидая вестиаритов, русы были сами не свои. Каша ни у кого не лезла в горло; сама Эльга съела чуть-чуть козьего сыра и две ягоды-сики. Наряды, в которых предстанут перед василевсами, все обдумали и передумали неоднократно заранее, но сейчас вдруг показалось, что те никуда не годятся. Дома, на Руси, эти греческие платья вызывали всеобщую зависть как великие сокровища, а здесь?
– Это мне свекор подарил, а у него из добычи Олеговой! – жалобно говорила Святана, глядя на свое платье желтого шелка с вытканными коричневатыми цветами в узорных кругах. – А вдруг узнает кто? Вдруг скажет: мое это?
– Да хозяин помер давно! – утешала ее мать, Ута. – С Олеговых-то времен…
Эльге пришлось пройти по китонам-опочивальням, где обжилась женская часть ее посольства, и самой показать пальцем, кому что надеть. Иначе собирались бы до вечера.
Ей не приходилось выбирать наряд: вот уже много лет она ходила в платьях лишь белого и синего цветов. И теперь, когда прибыли уже знакомые ей «львы» этериарха Саввы – с копьями, в белых плащах и золоченых шлемах ради важного события, – она вышла на мощеный двор, одетая в белую далматику с отделкой голубого самита и жемчужным шитьем. Под платьем на ней еще была та сорочка, в которую ее вчера облачили после купели, и потому волноваться о том, достаточно ли хорош ее наряд, казалось не только глупым, но и греховным. На шитом золотом очелье покачивались тонкие цепочки золотых же подвесок моравской работы, на груди лежало ожерелье из смарагдов и жемчужин – давний, еще предсвадебный дар Ингвара. Не намеренная состязаться с порфирородными по части роскоши и блеска, Эльга осталась довольна своим видом. Но и спутниц понимала: половина гречанок на улицах Константинополя носили такие платья и накидки, за какие любая княгиня отдала бы лет пять жизни.
Этериарх Савва Торгер, в золоченом шлеме, какого Эльга еще не видела на нем, стоял возле носилок. Его торжественный и притом веселый вид отражал важность события, которого она ждала с таким волнением. Даже приподнятые кончики его седых усов сегодня имели задорный вид, светло-серые глаза блестели на морщинистом загорелом лице, будто нынешний день обещал радость и честь и для него самого.
– Рад приветствовать тебя, госпожа Елена, в этот счастливый день – первый день после твоего истинного рождения, рождения во Христе! – Он поклонился, как будто сегодня это доставляло ему особенное удовольствие.
Когда Эльга подошла к носилкам, собираясь сесть, Савва склонился к ней и произнес, понизив голос:
– Тебе следует знать: ради сегодняшнего приема открыли Магнавру.
– Что? – Эльга обернулась. – Что открыли?
– Магнавру. Это самый старый из дворцов, в его палате для приемов стоит Трон Соломона. Ею сейчас пользуются редко, только для самых важных случаев. Сегодня не было царского выхода, как положено по утрам, и сейчас, пока ты еще едешь, весь синклит облачается в золоченые мантии, а препозит уже приготовил хламиду и венец для облачения владыки. Полагаю, богохранимый василевс намерен поразить тебя своим величием.
Последние слова Савва произнес полушутливо, но при этом смотрел на Эльгу весьма многозначительно.
– Чтобы мы от такой роскоши пустили «теплого» в штанину, – шепнул Мистина, на правах близкого родича вклинившись между княгиней и этериархом.
Эльга с трудом подавила беспокойный смех. Мистина тоже надел лучшее платье: белый кафтан, с отделкой из красновато-золотистого узорного шелка во всю грудь, с золотыми пуговками до пояса, греческой работы штаны полосатого красно-синего шелка, синий плащ с золоченой застежкой. Нарядный и уверенный, с ухоженной русой бородой, внушительного и привлекательного вида, старший посол при каждом выходе в город собирал с гречанок немалую дань восхищенными взглядами. На его рост и мощное сложение даже Савва смотрел с сожалением: в ряды дворцовых телохранителей-«львов» отбирали крупных парней, но Мистина и среди них выделялся.
Эльга уселась в носилки, Мистина закрыл дверцу, шестеро рабов подняли их на плечи и понесли по мощенной кирпичом дороге от палатиона к гавани предместья Маманта. Свита и вестиариты двинулись пешком. Дорогу к пристани накануне вымели и даже облили водой, чтобы пыль не садилась на цветные одеяния посольства. Пестрое шествие состояло из более чем сотни человек, не считая отроков-гребцов; поглядеть на это сбежались все окрестные жители, бросив работу. После пережитого вчера, во время своего крещения в церкви Богоматери Халкопратийской, сегодня Эльге хотелось бы поменьше шума и побольше покоя. Но не она здесь решает, что и как будет происходить.
День предстоял очень длинный. Асикриты Артемия Конда, логофета дрома, подробно рассказали княгине и свите о порядке приема и не отстали, пока не убедились, что все русы всё уяснили.
– Обычно дворцовые служители вводят послов в триклиний под руки и показывают место, где надлежит остановиться и приветствовать василевса, – объяснял Эльге помощник логофета дрома. – Твоя светлость желает, чтобы тебя вели под руки?
– Меня не нужно вести под руки. – Эльге не хотелось выглядеть немощной, будто древняя бабка, которую не держат ноги, и она надеялась справиться без посторонней опоры – а к тому же брезговала теми безбородыми скопцами, которые намеревались ее вести. – Я смогу дойти сама.
Асикрит лишь покачал головой, но не стал ее разубеждать. А он-то знал, зачем заведен этот мудрый порядок!
Приемов на сегодняшний день предстояло целых шесть, из них Эльге придется участвовать в пяти. Кириэ Иису Христэ, фээ му![4] Лучше не думать, что станет с ее головой и ногами к окончанию этого дня. Разве что укрепит ее силы помазание святым миром, еще не смытое с тела. Ведь ей предстоит непростой разговор. Чтобы сохранить ясную голову, пожалуй, стоит поменьше глазеть по сторонам.
Уже в носилках Эльга опомнилась: надо было поблагодарить Савву за предупреждение. Он истинный друг ей, хоть и слуга василевса. Но Савва со своими помощниками возглавлял шествие, и сейчас она уже не могла ничего ему сказать.
* * *
Когда двадцать лет назад Эльга приехала в Киев, там еще жили два-три участника давнего посольства в Царьград Олега Вещего. Один из них, Лидульв, тогда уже старый и больной, почти не владел ногами, зато отличался гостеприимством, и целыми днями у него на дворе шла гульба. Лидульв часто рассказывал молодежи о Царьграде, о том, как русские послы посещали золотые палаты «василеса» и что там повидали. «Такое дерево стоит золотое возле места василесова, а на нем и веточки, и листики – все из чистого золота. А на каждой веточке птичка сидит золотая, у одних глазки смарагдовые, у других – из лала или еще какого камня самоцветного. На ступенях места царского стоят звери разные, и тоже все из золота! Василес платком взмахнет, скажет им – пойте! – птички поют, звери рычат, хвостами машут! Впереди у него сидят два золотых льва – это как псы огромные, с бычка ростом, а на шее у них такая шерсть растет густая, будто воротник из кудели…» Почти все время Лидульв был нетрезв, и его хоть и слушали с увлечением, но не верили. Птички золотые, да еще и поют! Псы в воротниках из кудели – тоже золотые, и рычат! Силен старик в уши заливать!
Торговые гости в Царьград ездили всякий год, но во дворце, пред лицом «василеса», русы бывали с тех пор только однажды: когда лет за пять до гибели Ингвара заключали с греками новый договор. Киевлян среди них имелось лишь трое, но Ивор и Вуефаст подтверждали: да, видели и птичек, и львов. Эльга все равно не верила. Такого же просто быть не может! Золотые вещи не способны шевелиться и петь! Скорее она поверила бы, что у послов рябит в глазах и шумит в ушах от окружающего великолепия. А может, от вина, что еще вероятнее. Очутившись в Греческом царстве, где даже рабам полагается по корчажке вина каждый день, русы даром время не теряли, зато иные теряли разум и здоровье…
Уже здесь, в Царьграде, вспоминая рассказы Лидульва, Эльга думала, что старик-то, пожалуй, от всех чудес тронулся умом. Каменных львов она увидела еще на причале дворца Вуколеон, когда впервые прибыла на встречу с патриархом: они и правда походили на огромных псов с длинной шерстью на шее, но не шевелились и не рычали. Каменные же!
Но ох, какое спасибо ей сегодня пришлось сказать уже давно покойному старику Лидульву!
Мега Палатион, иначе Большой дворец… Сегодня лодьи, миновав устье Суда, пристали у ворот Святого Лазаря. Сами ворота, кстати сказать, были невелики и скорее напоминали калитку, хоть и снабженную косяками резного мрамора. «Боятся нам широкий путь показать», – шепнул ей Мистина, помогая выйти из лодьи, и Эльга снова еле сдержала беспокойный смех. Чего доброго – придет к василевсу, смеясь, как дурочка.
Но ей хватило времени успокоиться: путь предстоял еще неблизкий. Миновали монастырь Святого Лазаря, и вестиариты во главе с Саввой повели русов вверх по склону горы, по лестницам белого мрамора, к южному входу во дворец. И сам этот вход не получалось окинуть взглядом. Треугольная белокаменная кровля вздымалась к небесам, почти сливаясь с облаками. Кровлю держали толстые колонны, а к высоченным дверям с изображением огромного креста вели ступени красного камня. Они думали: ну и громадина – дворец василевсов! По ступеням шли, держась друг за друга, чтобы не упасть от головокружения. А оказалось – это только крыльцо!
Перед входом посольство встречал папий – дворцовый управитель и хранитель ключей. Эту должность, как и другие при домашней жизни василевса, мог занимать лишь скопец. Эльга успела повидать их уже немало, но всегда с неловкостью смотрела на эти безбородые лица: ни мужики, ни бабы, не пойми что! За дверями гости расстались с вестиаритами; Савва на прощание сделал Эльге выразительный знак, желая удачи и победы. Она улыбнулась ему и повернулась к дворцу с таким чувством, с каким, наверное, князья-мужчины выходили на битвы.
Пройдя ворота, русы вновь оказались под открытым небом и застыли в недоумении: куда они попали? Вместо жилья перед ними лежал огромный сад, через который тянулась белокаменная гладкая дорога – хоть сорок человек в ряд пройдут. Она вела к трем высоким узорным дверям, и по сторонам сквозь зелень виднелись красноватые кирпичные стены, высокие окна с полукруглым верхом, купола, крытые блестящей на солнце бронзой, а по сторонам – длинные вереницы мраморных колонн обрамляющих двор галерей.
Оказалось, это только так говорится: дворец василевса. И даже Большой дворец. Это был не один дворец, а десятки пристроенных друг к другу дворцов, открытых и крытых дворов, церквей, ведущих вверх и вниз лестниц, облицованных камнем прудов, переходов и садов, понастроенных разными владыками за пять-шесть столетий. Во все стороны тянулись ряды столпов с резными навершиями, округлые своды, обрамленные узорным камнем, блистающие ворота, пестрые росписи… Куски неба над внутренними дворами сменялись разрисованными кровлями, живые люди – каменными и бронзовыми. Спутницы Эльги порой охали, не решаясь пройти через какой-нибудь двор, где все-все было выложено кусочками цветного стекла, которые складывались в картины, красочные на белом: звери, люди, птицы, деревья, плетенки из цветов и плодов! На сложные тонкие узоры робели ступить – казалось, сомнешь. Не верилось, что это не вышито шелком, а выложено прочным стеклом. Привозимые на Русь стеклянные бусины продают по кунице за каждую, а тут это сокровище ногами топчут! Женщины шли меленькими шажками, как по льду, и хватались друг за друга. От изумления и восхищения сбивалось дыхание, в животе что-то стыло, скручивалось и обрывалось. Если бы русы не прожили уже три месяца в палатионе, где все это имелось, пусть и в куда меньшем количестве, не повидали Святую Софию и другие роскошно отделанные храмы, то «теплого в штанину» было бы не миновать…
Наконец их привели в Магнавру – главную палату, где василевс принимал знатных гостей. Остановились перед высоким входом с полукруглым узорным сводом – дверь заменяла завеса зеленого шелка, расшитая орлами и крестами. За спиной Эльги выстроились по порядку знатности ее спутницы: Володея, Прибыслава, Ярослава – княгиня древлянская с дочерью Горяной, потом Ута и Предслава – родственницы Эльги, обе бывшие княгини, но уже не носившие сего звания. За ними Живляна и Святана возглавляли почти два десятка служанок: греки объяснили, что без них архонтиссе-игемону показываться неприлично, а знатные гречанки ходят по улицам в сопровождении, бывает, и двух сотен своих рабов. Далее стояли мужчины: древлянский князь Олег Предславич и воевода Мистина Свенельдич, как самые знатные из послов и ближайшие родичи Эльги, за ними другие приближенные, потом – двадцать послов от владык, что под рукой Киева, а за ними – сорок с лишним купцов. Замыкал строй киевский священник, отец Ригор, в своей серой одежде среди этих палат похожий на тень. Толпа получилась знатная, и Эльга беспокоилась в душе, а поместятся ли они в василевсовой приемной палате.
Глупая дикарка, чащоба запечная! Она могла бы привести половину большой княжеской дружины – полтысячи человек…
Эта Магнавра… Вот отдернулся занавес, и папий сделал гостье знак: иди. Эльга двинулась вперед, чувствуя, как в тот же миг шевельнулась и тронулась с места вся толпа позади нее. И это придало ей сил, будто она составляла единое целое с этой сотней человек и питалась их соединенной мощью. Хотя на самом деле каждый лишь не сводил глаз с ее спины и следовал за княгиней, мечтая не споткнуться, не поскользнуться, не налететь на идущих впереди и не пропустить миг, когда надо остановиться.
А она, возглавлявшая всех, делала шаг за шагом как по воздуху, не чуя под собой ног. Где-то рядом гудели рожки, но эти звуки доносились до нее как через стену.
Палата оказалась огромной, как поле… или как лес, потому что два ряда колонн делили ее на три части и мелькали на ходу, точно стволы в каменной чаще. И эти колонны сияли, обернутые листовым золотом, так что захватывало дух. Было ощущение невероятного волшебства: будто после долгого пути она наконец достигла вершины мира и идет по прозрачной кровле неба. Через чудесный золотой лес к самому солнцу, горящему в вышине. Она покинула землю, вознеслась в иные, небесные царства, попала туда, куда простые смертные могут залететь только мыслью.
Под колоннами вдоль прохода выстроились василевсовы приближенные: важные, частью с бородатыми, частью с гладкими лицами – скопцы, с цветными золочеными мантиями на плечах. Расшитые самоцветами воротники говорили об их высоких чинах и званиях. С другой стороны стояли царские телохранители, подчиненные Саввы: все на подбор рослые, рыжебородые уроженцы Северных Стран. Но взгляд Эльги неудержимо притягивало солнечное сияние впереди. Вот он, золотой трон на возвышении, куда ведут ступени из камня, зеленого с темными прожилками, гладкого как стекло. На нем четыре золотых столба под пурпурной сенью, между ними – престол василевса. Кто может сидеть на таком – разве что само солнце!
Чудо Греческого царства – его земной владыка, смертное божество, подчиненное тому главному, небесному Богу, которого она видела в необъятной Святой Софии. Она уже встречала Константина и царицу Елену вчера, в церкви Богоматери Халкопратийской, во время священнодействия крещения, но тогда ей было не до того, чтобы разглядывать своих восприемников и тем более разговаривать с ними. Вчера Константин и Елена постояли со свечами в руках у нее за спиной, потом обошли вместе с ней вокруг купели и после всего поздравили с новым рождением, приложившись к челу духовной дочери благословляющим лобзанием. Но она их даже не разглядела толком и лишь теперь пыталась охватить взором и умом этого человека, который отныне считался и отцом ее, и земным ее Христом.
На бога этот мужчина с черной бородой и в золотых одеждах, вознесенный над миром, походил куда больше, чем на отца. Первая мысль – Перун. Именно так в прежней жизни воображение рисовало верховного владыку неба, коему приносились жертвы в жаркую летнюю пору и перед военными походами, чьим именем клялись. И увидеть его Эльге привелось только сейчас, когда очей ее коснулось помазание и им открылся благодатный свет… Да нет же, какой Перун! Это сам Бог-Отец – главный из той Троицы, в которую она вчера пообещала верить и не обращать помыслов к ложным богам…
Звуки органов смолкли, и Эльга каким-то чудом вспомнила: пора остановиться. Она смотрела на Константина – будто боялась, что если отведет глаза, случится нечто непредсказуемое… Развеются чары, весь этот дивный мир поплывет и растает… и она вместе с ним…
С Соломонова трона взирал на нее, с выражением невозмутимого величия, мужчина лет пятидесяти – уже весьма зрелый, но далекий от дряхлости. Продолговатое, заметно удлиненное лицо, ухоженная черная борода – не большая и не маленькая, ровные дуги густых бровей… Темные волосы, по длине чуть ниже ушей, опрятно уложенные полукольцами, над челом – золотой венец с жемчужными подвесками, спускавшимися на плечи. Если бы Эльгу спросили, во что он был одет, она бы ответила просто: в золото и самоцветы. Раньше не поверила бы, что человек может быть одет в золото, будто в полотно, однако наряд василевса так плотно покрывали золотые дробницы с разноцветными драгоценными камнями, что рябило в глазах. Губы Константина были плотно сомкнуты, и хотя особой суровости это лицо не выражало, Эльгу не оставляло чувство, будто василевс ромеев взирает на нее из своего, иного мира.
У ступеней трона стоял уже знакомый ей патрикий Артемий Конд – старший по сношениям с иноземцами, со своим толмачом. Довольно рослый, грузноватый, с рано поседевшей головой, с выражением важности на полном безбородом лице, тоже с золотой отделкой роскошного платья, он являл собой высокородного стража у священной границы между смертными и божеством.
– Я, патрикий Артемий, логофет дрома, от имени христолюбивого и багрянородного василевса Константина, сына приснопамятного василевса Льва, приветствую Эльгу Росену, вдову Ингера, архонтиссу русов и игемона, крестную дочь августа, – провозгласил он.
И замолчал, выразительно глядя на нее. Эльга на миг стиснула зубы, заставила себя вдохнуть поглубже. Наставления вылетели из головы, но она и сама имела большой опыт приема знатных гостей и понимала: настал ее черед отвечать.
– Я, Эльга, княгиня русская, приветствую василевса Константина, сына Льва, моего крестного отца, – ясно и четко произнесла она и, глянув в лицо чернобородому владыке, наклонила голову: учтиво, но без робости.
И ей показалось, что угол его рта в гуще ухоженной черной бороды дрогнул, обозначая улыбку.
– Благополучно ли твоя светлость проделала долгий путь от Росии в Новый Рим? – продолжал логофет.
– Благополучно. За заботу вам спасибо. – Она снова наклонила голову, чувствуя, как качнулись к глазам золотые моравские привески на очелье.
И те драгоценные, тонкой работы украшения, что в Киеве делали ее лицо подобным солнцу, здесь, среди этого золотого великолепия, казались простенькими и тусклыми, как приувядшие полевые цветы среди благоуханных роз, гиацинтов, лилий и олеандров в царских садах.
– Здорова ли твоя светлость?
– Здорова.
– Здоров ли твой сын, архонт Сфендослав, сын Ингера?
– Здоров.
– Благополучны ли земли, находящиеся под рукой твоей светлости?
– Благополучны.
– От имени василевса Константина, а также сына его, василевса Романа, верных во Христе самодержцев, а также августы Елены и всех детей их, я рад приветствовать твою светлость в Василии Ромеон и в Константинополе. Да пребудет с тобой благословение Божье.
– Да пребудет также и с вами.
И тут началось…
Все впереди пришло в движение. Два золотых льва на зеленой каменной ступени вдруг приподнялись, как живые, и встали на четыре лапы. Хвосты их задвигались туда-сюда. Пасти распахнулись, золотые языки зашевелились, и раздалось рычание! Одновременно две большие золотые птицы на спинке трона развернули крылья и двинули ими вверх-вниз; хвосты их вдруг расправились полукружием, являя во всем блеске длинные золотые перья с самоцветами. Во время беседы Эльга замечала этих животных краем глаза, но старалась не отвлекаться, дабы не брякнуть что невпопад; она лишь успела отметить, что, похоже, Лидульв и прочие не соврали насчет золотых зверей.
Больше того – они действительно могли оживать! Эльга вздрогнула от неожиданности, а позади нее раздался женский визг: кто-то из спутниц не сдержался. Львы шевелили лапами, будто сейчас сойдут с места; птицы поднимали и опускали крылья. Спиной чувствуя легкую суету позади, Эльга стиснула руки, так что перстни впились в кожу, и отчаянным усилием воли осталась неподвижной. Она принуждала себя стоять прямо и не сводить расширенных глаз с движущихся золотых зверей: не может быть, чтобы хозяева этих чудес хотели причинить ей вред. Про опасность Лидульв ничего не говорил…
От потрясения Эльгу била дрожь. Ну и колдовство! Про хитрость волховскую всякое рассказывают, но она никогда не видела, чтобы колдуны заставили двигаться неживое. А греки смогли! И она даже не заметила, кто и каким образом оживил золотых львов и птиц. Все свершалось как бы само собой.
Золотое дерево возле трона, справа от нее, тоже наполнилось жизнью: само-то дерево с ярко блестящими зеленой эмалью листочками стояло на месте, но на ветвях его вертелись туда-сюда и пели золотые птицы с рубиновыми и смарагдовыми глазками. Свистели, щебетали, пищали… Эльга не могла разобрать, есть ли какой лад в их свисте: у нее шумело в ушах, кровь гудела в голове.
В это время у входа в палату тоже кто-то зашевелился. Вошли какие-то люди, Эльга мельком оглянулась, и ей стало чуть легче. Появился дворцовый управитель, а за ним несли ее собственные дары, привезенные для василевсов.
Что подарить – об этом в Киеве спорили чуть ли не всю зиму. Чего такого поднести грекам, чего у них нет? В прежние годы послы Олега и Ингвара дарили меха и челядь: именно то, чего грекам и нужно от русов. И теперь, глядя, как шествие вступает в палату под рычание золотых львов и свист золотых птиц, Эльга приободрилась и даже легонько улыбнулась: ее задумка себя оправдала.
За служителями следовали ровно двадцать пар: отрок и девица, все от четырнадцати до семнадцати лет, приглядные собой. Их набрали из числа всех племен и родов, подвластных Киеву: от уличей на юге до чудинов на севере. Каждый был одет в наилучшие одежды по своему обычаю, украшен начищенной бронзой и медью, и каждый нес по полусорочку дорогого меха: девушки – соболей или куниц, парни – бобров и лис. Судя по напряженным лицам и застывшим взглядам, они тоже стиснули зубы и старались хотя бы переставлять ноги, не падая. Позвякивание бронзовых подвесок на их гривнах, поясах и обручьях если не заглушало пения золотых птиц, то все же пробивалось сквозь него. И Эльга перевела дух: при виде даров, воплощавших многолюдство и богатство подвластных ей земель, она даже в этой сияющей золотом и мармаросом палате ощутила себя не жалкой испуганной дикаркой, а почетной гостьей, способной порадовать хозяев.
– Велика земля Русская, – сказала она, указывая на челядь, выстроившуюся вдоль палаты, – обильна племенами и народами, зверем в лесах, рыбой в реках, всяким житом на полях. От себя и сына моего Святослава, от иных светлых князей и бояр, под рукой нашей сущих, приношу я дары христолюбивым василевсам Константину и Роману, а также августе Елене и невестке ее Феофано, а также их багрянородным детям.
Константин улыбнулся, уже не таясь, и даже кивнул ей со своего золотого трона: ему с высоты еще лучше открывалось это и впрямь красочное зрелище.
– Василевс Константин благодарит Эльгу Росену за эти прекрасные дары от своего имени и от имени своей августейшей семьи, – поклонился ей логофет дрома. – Теперь же прошу твою светлость проследовать для отдыха.
И указал на выход.
Эльга еще раз кивнула Константину, повернулась и пошла назад через длинную палату. Золотые птицы пели ей вслед…
* * *
Едва проснувшись, Эльга повернулась и чуть не упала с лежанки. Дожили, Кириос Пантодинамос[5]. На последних мгновениях сна ей мерещилось, будто она опять в шатре, на постельнике – как почти все тридцать ночей перед этим. Отвыкла от лежанки, и уж совсем отвыкла от собственного дома… Отшатнулась от края, наткнулась на чье-то плечо, вздрогнула, не поняв спросонья, кто это лежит рядом с ней, ближе к стене. Потом вспомнила: это же Володея, ее родная младшая сестра, ныне княгиня черниговская.
Только в этой поездке они и познакомились толком. С детства Эльга была неразлучна с Утой, своей двоюродной сестрой и ровесницей: за всю жизнь их пути расходились лишь пару раз и ненадолго, хотя именно за время этих разлук и происходили самые важные, переломные события их судеб. С родными же младшими сестрами, Бериславой и Володеей, Эльга навсегда рассталась, покинув осиротевший отчий дом. Ее замужество определило судьбы трех ее сестер тоже. Вслед за нею и Ута вышла замуж – за Мистину Свенельдича, Ингварова побратима. Несколько лет спустя подросшую Володею выдали за Грозничара, будущего князя черниговского, а Бериславу – за Тородда, младшего брата Ингвара. И хотя Володея в Чернигове оказалась куда ближе к старшей сестре, чем жившая на Волхове Берислава, виделись они не более раза в год.
Бериславы уже не было в живых: года полтора назад она умерла, оставив Тородда с тремя детьми. Зато Володея охотно откликнулась на приглашение сестры съездить в Царьград. В их внешности общая кровь совсем не сказывалась: Володея уродилась не в дядю Одда, как Эльга, а в мать. Округлым лицом, широко расставленными большими серыми глазами и русыми косами она так ее напоминала, что у Эльги первое время щемило сердце при виде сестры.
О матери они ничего не знали. Овдовевшая Домолюба умерла для людей в тот же год, как Эльга сбежала из дома, а продолжает ли она свое существование в избушке Буры-бабы или уже ушла к дедам окончательно – дочерям никто не сообщал.
В дороге Эльга жила в одном шатре с Утой. Теперь Володея спит на ее лежанке, потому что… Ах да, Ута со всем семейством ушла к себе домой. Посольство прибыло в Киев… еще вчера. Они уже дома. Хождение их заморское окончено, начинается обычная повседневная жизнь…
Эльга села и откинула шелковую занавеску. Очень старую – еще из Олеговой добычи полувековой давности. Нужно будет сегодня велеть повесить новую – из тех паволок, что привезли.
Сидя на лежанке, Эльга смотрела на свою избу, словно видела впервые. Оконца были отволочены – уже тепло, но комары еще не летят, – поэтому свет проникал внутрь через небольшие прямоугольные отверстия, позволяя глазу различить бревенчатые стены, полки с посудой, укладки и ларцы. На лавке спит Прибыслава, на полу рядом – ее две челядинки, на своем ларе – Браня, возле нее бывшая кормилица, ныне нянька по имени Скрябка (княгиня смолянская заняла ее обычное место). Прочая челядь – в людской избе.
Вспомнилось, как сидела в китоне василиссы Елены – это такой покой, вблизи палаты для пиров, где та отдыхает между приемами. Так вот, один этот китон, где Елена и ее женщины проводят лишь немного времени, и то не каждый день, больше всей этой избы. А уж про убранство и говорить нечего…
* * *
Со своей крестной матерью, василиссой Еленой, Эльга повидалась почти сразу, как под пение золотых птиц покинула Магнавру. Упал за спинами свиты зеленый занавес, шитый золотыми орлами, скрывая чудное зрелище. Папий повел посольство сперва через сад, потом через богатые покои, отделанные блестящим гладким камнем разных цветов. По пути видели сложно устроенную багряную завесу-сень, под которой хранился золотой венец. Эльга удивилась про себя: только что она видела один венец на голове у Константина, а здесь другой – сколько же их у него? Да еще те, что висят в Святой Софии, куда их ангел принес! Тогда ей казалось, что этим чудесам должен быть предел, что вот теперь она видела все… и каждый раз обманывалась.
Иные покои были как положено, а у других одну стену заменяла череда столпов, держащих крышу, а за ними сиял под солнцем мозаичный внутренний двор. В одной такой палате без стен, только со столпами, они и остановились. Вдоль стены тянулись мраморные скамьи с подушками, крыша давала спасительную тень.
– Здесь твоя светлость может отдохнуть, – при помощи здешнего, дворцового толмача сказал ей папий. – Вскоре вас пригласят в триклиний Юстиниана, где вас примет августа и ее невестка. А пока позволь предложить тебе и твоим людям подкрепить силы.
На столах красовались серебряные блюда с яблоками, разноцветным виноградом, грушами, ломтиками дынь, а еще стеклянные кувшины с прохладной водой, мурсой и разведенным вином, рядом стояли кубки. Плоды здесь хранили в колодцах, и при подаче на стол они оказывались прохладными, что в жару очень кстати. Эльга и княгини сели, расправили платья. Она не удержалась и погладила скамью: гладкий как стекло мармарос приятно холодил пальцы. Даже утишал волнение и выравнивал биение сердца. Эльга старалась дышать глубже: великолепие, громадность, блеск, пестрота всего вокруг слишком подавляли и сбивали с толку.
Но уж конечно, она не первая, кого греки здесь принимают. Они знают, что после встречи с василевсом с его оживающими золотыми зверями всякому гостю, будь он хоть архонт и игемон, надо перевести дух и глотнуть водички.
Но едва княгини успели немного прийти в себя, утереть потные лбы и оправить повои, как прибежал еще один грек и замахал руками: пора.
До Юстинианова триклиния идти пришлось через три дворца и церковь, поэтому в конце пути им снова предложили присесть. Вероятно, еще не завершилось торжественное вступление греческих боярынь, которые должны ждать гостью внутри. Но вот кто-то впереди назвал ее имя – Эльга Росена, потом препозит и два его помощника ввели ее в палату.
Пол покрывали узоры из разноцветного мрамора и кусочков золота; Эльга едва подавила желание подобрать подол и поискать глазами другой путь, чтобы не топтать это великолепие, но другого пути не имелось. На стенах чередовались плиты разноцветного мармароса – зеленоватого, розоватого, белого. Выше шли яркие мозаичные картины: Эльга лишь успела заметить множество человеческих фигурок, занятых, кажется, войной, – а над ними раскинулся целый расписной небосвод. На него она лишь глянула мельком и опустила глаза, пока голова не закружилась.
Посреди покоя был выложен круг из кроваво-красного порфира, а на нем посередине устроено возвышение, покрытое багряными шелками: тем самым царским пурпуром, который запрещено продавать из Царьграда и о котором Эльга ранее лишь слышала. На возвышении стоял золотой трон, а рядом – кресло, тоже золотое, но пониже и не такое роскошное. Красные же круги, но поменьше, тянулись вдоль стен, и на каждом стояла женщина, будто изваяние на постаменте. Кроме дворцовых служителей-скопцов – эти и не считались за мужчин, – на этот раз в палате оказались одни лишь женщины. Жены магистров, патрикиев и протоспафариев стояли неподвижно, и если ранее, при посещении церквей, Эльге казалось, что мозаичные изображения святых жен уж очень похожи на живых женщин, то теперь эти женщины в ярких паволоках и золоте напоминали ей мозаики. Широкие наряды из плотных, от обилия золотого шитья едва гнущихся тканей придавали им застывший, основательный вид.
Следуя за греком-вожатым между двумя рядами женщин, Эльга успела бегло осмотреть обеих здешних хозяек. Выше всех сидела Елена, супруга Константина, а ее невестка Феофано занимала золотое кресло на одну ступень ниже трона. Вспомнились предания о Деннице, солнцевой дочери, которая сидит на небокрае, одетая в платье из солнечных лучей. Именно так и выглядели они обе: в белых шелковых платьях, на престолах из чистого золота, с облаком закатного багрянца под ногами. Грудь и плечи Елены окутывало нечто вроде убруса из золота с самоцветами. Похожий Эльга видела и на платье Константина: обвивая плечи василевса крест-накрест, он оборачивался вокруг пояса и спускался к подолу. Как и у супруга, башмаки Елены были пурпурные, расшитые золотыми бляшками с самоцветами и эмалью. Да разве в таких можно ходить, пусть даже по этим золоченым полам? Только скользить по облакам небесным…
Елена, ровесница супруга и мать шестерых взрослых детей, обладала гладким белым лицом, яркими губами, а ее большие глаза под густыми черными бровями казались очень выразительными – но выражали лишь вежливое безразличие с легкой примесью любопытства. Жена ее единственного сына, Феофано, и впрямь была очень хороша собой: правильные черты лица, ровный нос. Черные брови, стрелками поднимавшиеся от переносья к вискам, и яркие полные губы придавали ей целеустремленный и притом задорный вид. Искусно подведенные, осененные густыми ресницами темные глаза блестели любопытством к гостье. Эльге даже показалось, что Феофано – единственная здесь по-настоящему живая женщина.
И все же, несмотря на всю эту роскошь, придававшую женам василевсов божественный вид, Эльга с усилием заставила себя почтительно склонить голову перед ними. По своему роду она настолько же превосходила обеих, насколько этот блещущий золотом, резьбой и цветным камнем Юстинианов триклиний превосходил ее киевскую бревенчатую гридницу. Все, что царицы имели, им дал избравший их Бог. Без Божьего благоволения старшая из них всю жизнь доила бы коз, а младшая – плясала перед посетителями отцовской харчевни и таскала на поварню грязные блюда.
И от этой мысли разом схлынуло потрясение перед порфирово-мраморной роскошью. Заполучить мраморный покой может кто угодно – вот доказательство перед ней. Но если ты не принадлежишь к роду, наделенному священной удачей, тут никто не поможет!
Вот смолкли звуки органов, спрятанных позади шитых занавесей.
– Боговенчанная августа Елена приветствует твою светлость, Эльга Росена, архонтисса русов, – провозгласил препозит, остановившись перед возвышением. – Также твою светлость приветствует Феофано, супруга василевса Романа.
Повторилось почти то же, что на приеме Константина: теперь уже препозит задавал Эльге все те же вопросы о здоровье и благополучии, она давала те же ответы. Она говорила за себя сама, а царедворец служил голосом и слухом августейшим особам. Устами препозита василисса подтвердила, что она и ее семья здоровы, и снова зазвучал орган. Эльга взглянула на грека; тот кивнул, с поклоном указав ей на выход, и два остиария уже ждали, собираясь проводить ее из палаты.
Княгиню с приближенными вновь усадили там, где они уже отдыхали перед встречей с царицами.
– Елена августа сейчас направляется в свой китон, – пояснил Эльге препозит. – Когда к ней туда проследует василевс Константин и воссядет с супругой и их багрянородными детьми, твоя светлость будет приглашена к ним для беседы. Там вы поговорите обо всем, о чем желаете.
– Пора бы уже! – вырвалось у Эльги.
Миновали два приема из шести назначенных. Лично у нее впереди еще три! Все только началось, главное – впереди, а ей уже больше всего хотелось закрыть лицо руками и зажмуриться. От обилия золотого блеска, ярких цветов, пестрых узоров рябило в глазах. Но если во время двух первых приемов от русских княгинь требовалось лишь сохранять присутствие духа и не осрамиться как-нибудь, то сейчас ей наконец представится возможность поговорить с василевсом и его женой. Объявить о том, ради чего приехала, – кроме того, что уже достигнуто.
Поговорить! Почти целый год она обдумывала и передумывала все, что скажет им – и не одна думала, а со всей дружиной. Но теперь, когда настал час, которого она ждала почти год – и особенно последние три месяца в палатионе Маманта, – мысли разбегались, как мыши от кота. Всего увиденного было слишком много, чтобы осмыслить сразу.
Золотые львы! Так они живые или все же нет?
Эльга оглянулась на своих спутниц: глаза у всех как блюдца. Женщины едва смели перешептываться. «А видела, какое у нее… вот красота-то! А венец видела? А обручья? А черевьи? Серьги какие – как только уши не оборвутся! Ой, матушки…» Володея неудержимо икала. Невозмутимый прислужник-евнух поднес ей в золоченом кубке вина, разбавленного водой.
У Эльги тоже мелькали перед глазами то узоры мозаичного пола, то гладкие бока мраморных столпов, то самоцветные узоры венцов. Но сильнее всего мучило волнение: придут за ней сейчас, не придут? Вроде уговорились твердо, но кто их знает, этих греков?
* * *
Три княгини закончили завтракать – то есть повозили ложками в каше и велели убирать. Уныло обозрели стол, будто надеялись найти там ставшие привычными греческие сырные пирожки с укропом, сладкую ягоду-сику, оливки…
– Вот, – вздохнула Володея. – Приехали…
– Это вы приехали, – отозвалась Прибыслава. – А мне еще месяц вверх по Днепру грести.
– Все равно: теперь уж, считай, дома.
– Надо за дела приниматься, – подхватила Эльга, сама толком не зная, какие у нее теперь есть дела.
Не верилось, что все кончилось. Остались далеко позади беломраморные столпы, расписные стены, цветные узоры полов… Настала прежняя жизнь, но все никак не удавалось войти в нее душой. Будто душа осталась за Греческим морем… там, где они вновь родились во Иисусе Христе… Эльга даже испугалась: а вдруг с такой душой уже нельзя жить на старом месте? Да нет, другие же христиане живут. Отец Ригор, вон, живет и Богу служит, Олег Предславич живет, Аудун и другие купцы. Правда, им бывает нелегко, но ведь путь Христа избирают не ради легкой жизни на земле. Совсем наборот…
– Надо Ригору велеть молебен справить, – сообразила Эльга. – За наше возвращение.
– Думаешь, услышит? – Прибыслава с недоумением подняла глаза.
Эльга вслед за ней посмотрела вверх – на черную, закопченную кровлю избы.
За этот год они привыкли видеть Бога – в куполах константинопольских церквей и храмов, невообразимо высоких и все же открывающих незримые тайны небес для взора смертных. Сплошь покрытых золотом, источавших сияние, с образами самого Бога и святых. Там Богородица – Кириа тон Уранон, Владычица Небесная, – в синем мафории держала на коленях младенца Иисуса, или взрослый, бородатый Иисус поднимал персты для благословения. И свет через верхние окна проходил особенный – небесный свет, сам как ласка божества… Если посмотришь туда подольше, сияние небесного золота начнет затягивать. Там Бог был очень близко…
Но увидеть его через эту черноту?
Эльга опустила голову.
– Услышит, – твердо сказала она. – Бог вездесущ, разве забыли, чему учили? Он пребывает везде. И здесь. Он везде, где есть христиане. Теперь здесь есть мы, а значит, и Он тоже.
Княгини промолчали, но Эльга сама знала, что не совсем права. Бог везде. Даже там, где вовсе нет людей. Даже там, где вовсе нет ничего. Даже когда сама земля была безвидна и пуста, и тьма висела над бездной – Дух Божий уже носился над водою. И уж конечно, он есть и в тех краях, где о Нем до сих пор не ведают.
Она знала это, но не могла поверить полностью. Она помнила… В той далекой тьме, откуда она бежала… Был лес, и вросшая в землю избушка, и старый тын с выбеленными временем коровьими черепами на кольях… Была сгорбленная старуха-птица в огромной берестяной личине, самолепный горшочек киселя, ложка из кости, при виде которой невольно думалось: человечья… Бога золотых сводов там не было.
«А ты помнишь, архонтисса, каковы смертные грехи, что человека от Бога отдаляют и благодати лишают?» – как-то в одну из их бесед, уже после крещения, спросил ее патриарх Полиевкт.
«Помню», – на память Эльга не жаловалась.
«А первый какой?»
«Гордыня».
«А почему?»
Она промолчала, ожидая, что он сам ответит.
«Подумай», – сказал он вместо этого.
Эльга часто думала об этом…
– Надо собираться. – Она встала. – Пойду невестку проведаю. Хотите со мной?
Конечно, они хотели. Но сначала все вместе разобрали пару укладок и выбрали подарки. Эльга привезла много всего, предназначенного нарочно для невестки: иной раз откладывала для нее самое лучшее, отказываясь сама. Пару лет назад, еще до путешествия, Эльга надеялась женить сына на Горяне Олеговне, тогда уже стремившейся к обретению вечной жизни во Христе. И не без мысли, что жена и мать вместе скорее уговорят Святослава, чем только мать. Но судьба опрокинула расчеты: Святослав поехал за невестой для брата, а привез жену для себя. Ту самую, с которой был заглазно обручен с отрочества, но которую ему пришлось почти в последний миг выхватить из рук немолодого полоцкого князя – мало что не с дракой.
За тот год, что до отъезда в Греческое царство они прожили уже новой семьей, Эльга поняла: Святослав любит молодую жену и прислушивается к ней. Но Прияслава не из тех жен, кто станет склонять мужа к греческой вере. Внучка знаменитой в Смолянской земле колдуньи Рагноры, Прияна имела прозвище Кощеева невеста и, как рассказывали, еще в детстве побывала на том свете. Начинать имело смысл с нее самой. И, не в силах доставить к ней Святую Софию и красоты Мега Палатиона, Эльга привезла мелочи: паволоки, ожерелья, ларчики, гребни, чаши…
По пути на Олегову гору, где на старом княжьем дворе жил Святослав с семьей, три княгини приободрились. Народ радостно приветствовал их, и при виде знакомых гор и берегов оживали в памяти все ощущения прежней жизни. С каждым шагом Эльга все более чувствовала себя дома. Но вот странность: в Константинополе она томилась и скучала по Киеву, а теперь, едва ступив на берег Почайны, затосковала о белом мармаросе палатионов, мощеных форумах, высоченных столпах и расписных храмах… Какие они разные, Царьград и Киев, будто небо и земля. И, будто земля и небо, нужны человеку оба.
Олегов двор приветствовал ее ревом дружины. Гриди повалили ей навстречу всей толпой, так что она в невольном испуге отшатнулась и засмеялась: они засмеялись тоже и сами стали осаживать друг друга: не стопчи княгиню, тюлень! При виде знакомых лиц у Эльги навернулись слезы от радости: иных она знала очень много лет, еще с Ингваровых времен. Вот Улеб – сын Уты, вернувшийся домой на полгода раньше, кинулся к ней с объятиями, позади него кланяются рыжий Стейнкиль, Радольв, Градимир, лохматый здоровяк Икмоша со своими братьями и приятелями.
– Княгиня! – неслось со всех сторон.
– Родная наша!
– Заждались мы тебя!
– Слава Тору!
Отроки тянули руки, пытаясь прикоснуться к ее платью. Со всех сторон ее окружали смеющиеся лица, летели восклицания на славянском и северном языках.
– Да пустите! – Через толпу пробился Мистина, оказавшийся здесь раньше их. – Княгиня внука еще не видела, дайте ей пройти!
На шум вышел Святослав, обнял мать, и наконец Эльга прошла в избу. На миг остановилась за порогом. В этом доме она когда-то прожила двенадцать лет – почти всю свою замужнюю жизнь. Но все убранство составляли незнакомые вещи. Поколения сменяются, будто времена года, придавая новый облик прежним местам. И сейчас Эльга ясно увидела: колесо судьбы уже вынесло ее в осень, а здесь, в ее прежнем гнезде, воцарилось чье-то чужое лето. Посуда, рушники и укладки Прияна привезла как приданое, от прежнего хозяйства Эльги остались только лавки да полки, и по всему ощущалось, что это жилье теперь чужое. До отъезда она не так сильно ощущала эту перемену. Даже пахло по-другому: остро и резко благоухали развешанные по стенам метелки полыни, мяты, душицы, до которых Прияна была большая охотница.
Занавесь у постели висела чужая. И все же вспомнился Ингвар – его серые глаза, рыжеватая бородка, складки между крыльями носа и углами рта, шрам галочкой на переносице, заходящий на бровь… В спокойные часы вид у него бывал такой простецкий – будто пастух у стада, – но в мгновения опасности в простых чертах проступал воин, решительный и умеющий быть жестким. Способный послать людей на смерть и самому без колебаний пойти впереди них.
Вдруг накатила жуть от ощущения пропасти, распахнутой между ними. Все эти восемь лет покойный муж отходил в воспоминаниях Эльги все дальше и дальше, постепенно слабело ощущение его присутствия, которое в первое время было таким мощным, что, казалось, можно протянуть руку куда-то в пространство и коснуться его плеча.
Но сейчас Эльга всей кожей ощутила: связь порвана совсем. Огляделась, надеясь видом знакомых стен и лавок оживить воспоминания. Но наткнулась взглядом на резную деревянную зыбку, подвешенную к матице, и мысли перескочили на другое.
Зыбка была та самая – старая, в которой они с Добретой качали Святослава, потом со Скрябкой – Браню. Потом ее за ненадобностью надолго убрали в клеть, а перед отъездом в греки Эльга послала ее Прияне. И вот в ней снова кто-то поселился – плыл в своей первой лодье по волнам времени новый будущий князь Ингварова рода.
Навстречу ей уже шла Прияна, распахнув объятия:
– Жива будь, матушка!
Все соглашались, что жена Святославу нашлась под стать: рослая, крепкая, красивая, бойкого ума и решительного нрава. По отцу, покойному смолянскому князю Сверкеру, Прияслава происходила сразу от двух правящих родов свейских и нурманских земель, а по матери – от старинного рода смолянских князей Велеборовичей. Рожденный ею сын любым из русов как славян, так и варягов, безоговорочно признавался законным наследником Святослава, Ингвара и Олега Вещего. А также полноправным владыкой любых других земель, до которых в будущем сумеет дотянуться мечом.
– Здорова ли? Хорошо ли доехали? – Прияна обняла свекровь, сколько позволял выпирающий живот. – Как там греки?
– Ну, показывай хлебы свои! – Обняв ее в ответ, Эльга нетерпеливо огляделась. – Хорошо ли упекся?
Прияна сделала знак челядинке, и та вынула из колыбели дитя. Первенцу Святослава был уже без малого год. Смеясь от радости, Эльга взяла его на руки, поцеловала в теплое темечко, прижалась к нему щекой. Из глаз побежали слезы, в груди что-то жгло и переворачивалось от острого чувства счастья.
Внук! Ей хотелось кричать на весь свет: у меня внук, мальчик, наследник! Снова и снова она целовала младенческое личико, скривившееся в плаче: маленький Яр еще не знал бабушку и рассердился, что его разбудили. И она плакала вместе с ним, смеясь в то же время.
Кажется, даже собственному сыну она так не радовалась. Конечно, двадцать лет назад она знала, как важно родить мужу наследника, особенно еще и потому, что слишком беспокоилась, а выйдет ли у нее – разорвавшей связи с родом, оскорбившей богов и чуров, которые в ответ могли бросить ее без помощи. Но тогда беременность, мучения тяжелых родов, волнение, выживет ли дитя, истомили ее и не оставили сил на радость. А теперь она, без страданий и трудов, в один миг получила готового мальчика – крепенького и здорового. И он такой хорошенький! Впрочем, чему дивиться, если оба его родителя хороши собой?
– Будто грибок-боровичок! – приговаривала Эльга. – Благослови тебя Бог! Эвлойимэни Си эн йинэкси, ке эвлойимэнос о карпос тис кильас Су[6], – бормотала она затверженные слова греческой молитвы, сама не понимая, обращает эти восхваления к Богородице или к Прияне, чей «плод чрева» держала на руках.
– Что ты там шепчешь? – засмеялся Святослав. – В греках по-славянски забыла?
– Этого нет по-славянски, – Эльга вздохнула и снова улыбнулась. – Славянские молитвы надо у болгар просить, греки не знают.
– Чего не знают? – нахмурилась Прияна и протянула руки, желая взять ребенка.
– Ничего, – Эльга отдала ей Яра и спохватилась, стараясь отвлечь: – Я же подарки тебе привезла. Показывай, где раскладывать.
А увидев то, что получилось, снова не удержалась от слез. По всей просторной избе – на столе, на лавках, на укладках, даже на полках – лежали платья, покрывала, развернутые косяки тканей. Святослав распахнул дверь, чтобы стало посветлее, и изба заполыхала ярчайшими цветами – синим, зеленым, рудо-желтым, смарагдовым, лиловым. Солнечный свет играл на узорах – белых, желтоватых, золотистых. Эльга смотрела на это, прижав ладони к лицу и стараясь не расплакаться.
Точно так же все выглядело, когда Ингвар вернулся из второго похода на греков и привез дары, которые василевс прислал ему ради мира. Тогда он сам приказал развесить добычу по всей избе, желая поразить жену, и это ему удалось: она хохотала и рыдала одновременно. Радуясь не столько подаркам, сколько тому, что Ингвар вернулся – живым и с честью, смыв позор недавнего поражения. Если бы его второй раз ждал такой провал, то лучше бы ему не возвращаться…
И вот теперь она сама вернулась из греческого похода. С победой и добычей? Или с неуспехом и стыдом? Так сразу и не скажешь…
– Там вот такие же звери-львы у трона стоят, они из золота сделаны, но могут шевелиться и рычать, будто живые, – рассказывала Эльга Святославу и Прияне. – Это называется ме-ха-ни-кей, – старательно выговорила она заученное слово. – У того старого Соломина-царя львы просто у престола стояли, не шевелясь, а правил сто лет назад в Романии василевс Феофил, а у него был муж ученый, именем Леон – златокузнец, ведал хитрости разные, вот он этих львов золотых шевелиться заставил. Они не живые, – повторила она. – Сделанные. Не видела бы своими глазами, не поверила бы!
– Ох, матушка! – Святослав покрутил головой и засмеялся. – Мудра ты уехала, а воротилась втрое мудрее.
В глазах его, в голосе Эльга слышала то же недоверие, с каким сама когда-то двадцать лет назад внимала Лидульву, когда тот повествовал о греческих хитростях. Теперь вот и сын думает: мать умом тронулась в греках-то. Сама же говорит: звери не живые, сделанные. А раз сделанные, значит, рычать и хвостами махать не могут. Это и дитя поймет.
Но Эльга не винила его. Уж конечно, все виденное ею и вообразить не сможет тот, кто всю жизнь прожил здесь, на Руси, где нет никаких «механикей»… И гинекеев нет, и станков, где сплетаются в дивное полотно сразу шесть разноцветных нитей. Не видел золотого столпа Юстинианова – высотой с Олегову гору, – обронзовевшего всадника, с той высоты грозящего варварам. Не видел портиков, мощенных каменными плитами площадей, акведука, Морских стен и исполинских каменных башен… Ничего не видел.
Скрипнула дверь, отвлекая ее от воспоминаний, вошла Ута – одетая в старое шерстяное платье, что носила еще до отъезда. Изумленными глазами окинула разложенные везде паволоки, нашла Эльгу.
– Так и знала, что ты здесь! Тебе уже рассказали?
– Что? – Эльга нахмурилась, стараясь вернуться мыслями домой.
– Ой, чуры мои… – Ута закрыла лицо руками, потом провела по нему, будто хотела что-то стереть, но вид у нее был какой-то дикий. Ей хотелось плакать и смеяться разом.
– Да что с тобой? – Эльга шагнула к ней.
Вместо ответа Ута наклонилась вперед и захохотала. Потом распрямилась и выдавила, в изнеможении чувств глядя на сестру:
– Держанка-то моя… двойню принесла.
* * *
Весь остаток дня Эльга разбирала привезенные дары, прикидывала, кому что. Нарочно затягивала это дело, не зная, как после такого путешествия войти в колею прежней жизни. Чередой наведывались гости, но отрокам велели пока никого не пускать, кроме особо приближенных. Княгиня обещала вскоре устроить пир и там все рассказать и показать.
Но больше всего ей хотелось побыть с внуками. Вместе с Утой она побывала у средней племянницы, недавно родившей двух девочек-двойняшек, а назавтра снова не удержалась – отправилась к своим молодым.
– Хорошо, что пришла, матушка! – Святослав поднялся ей навстречу. – Мы как раз тебя вспоминали.
Прияна села на постели: несмотря на полуденный час, она лежала, хоть уже оделась. Судя по виду, ей нездоровилось: веки опухли, красивое прежде лицо выглядело отекшим. У лежанки валялись расшлепанные поршни, а босые опухшие ноги молодая женщина перед приходом свекрови держала на высоком ларе возле постели – чтобы были выше тела. На руках ни перстней, ни обручий: не надеваются.
– Лежи! – попросила Эльга невестку и сама подошла обнять. – Зелия пьешь? Толокнянка помогает, лист брусничный, лист березовый, хвощ. Шипина и земляника тоже хорошо.
– Пью, – Прияна кивнула на горшочек у печи.
Свойствам зелий ее учить не требовалось: бабка и старшая сестра Прияны славились как травницы, и она усвоила эту науку с детства.
– У нас когда зимой Живлянка тем же маялась, к ней лекарь-грек приходил, – добавила Эльга. – Учил петрушку, траву да корень, с соком лимона мешать. Помогало хорошо. Да где здесь взять…
– Мы и листом березовым обходимся.
– Всякий день челядь веники таскает! – усмехнулся Святослав.
Прикрытый завеской живот у невестки «лез к носу». Эльга отметила про себя, что это обещает еще одного мальчика, но промолчала. Об этих делах чем меньше говоришь – даже дома, со своими, – тем лучше. И еще раз подумала: второе дитя за два года! Вот невестку судьба дала! Еще неведомо, получилось бы такое у Горяны или у какой-нибудь из засидевшихся Константиновых дочек. Впрочем, от царевны нужно не это.
Ярик ползал по медвежине, расстеленной на дощатом полу возле родительской постели, играя раскрашенными чурочками. Эльга наклонилась и подняла дитя на руки.
– Здравствуй, Святославич! Хорошо ли спал-почивал?
Мальчик потянулся к подвескам очелья, и Эльга, смеясь, перехватила его руку. Святослав тоже засмеялся:
– Сразу видит, где добыча хороша! Ну что, матушка? – Он сел на лавку и посмотрел на Эльгу. – Не пора ли нам пир устроить, а то люди знать хотят – как ты съездила, о чем с василевсами говорила.
По его глазам было видно: он уже знает самое для него важное. Эльга вспомнила, что вчера здесь мелькал Мистина. И уж конечно, тот приходил не про паволоки рассказывать.
– Мы должны передать дружине, чего греки от нас хотят и что нам ответили, – добавил Святослав, поскольку дружины эти решения касались в первую голову. – Да и пора богам жертвы принести, что сохранили вас в пути.
– Нет, не надо! – вырвалось у Эльги. – Не надо жертвы.
– Почему? – подала с постели голос Прияна.
– Я не могу… – Эльга даже немного растерялась, не зная, как теперь быть.
Молодые правы: после долгой поездки, особенно в чужие края по важным делам, любой князь устраивает принесение жертв и потом пир. И Ингвар так делал после походов, и она сама в прежние годы. Все так делают. Но теперь…
– Я… У меня… Я ведаю ныне единого Бога истинного – Творца неба и земли, – наконец сказала Эльга. – Иисус говорил: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»[7].
«Да не будет у тебя других богов перед лицем Моим…»[8] Об этом патриарх Полиевкт много раз беседовал с ней, твердил строгие заветы Божьи. Ибо знал, что новообращенная архонтисса возвращается в свою языческую страну, где Закон Божий почти неведом.
Эльга понимала, что будет нелегко. Даже там, близ золотого сияния храмов, с трудом удавалось охватить умом все то новое, чему ее учили. Но куда труднее оказалось повторять это вслух здесь, в этой бревенчатой избе, где родной сын и невестка смотрели на нее с отчуждающим недоумением.
Она уже встречала такие взгляды. Еще год назад, по пути в Царьград, когда русы, по непременному обычаю, приносили жертвы священным Перуновым дубам на днепровском острове Хортица, она не стала в этом участвовать. С тех пор как мысль о крещении зародилась в ней, начало казаться, что Бог-Творец уже смотрит на нее откуда-то издалека, испытывает твердость ее намерения. Но тогда с ее дружиной еще был Святослав, провожавший мать через опасный участок: он сам принес жертвы за прохождение порогов и за дальнейший ее путь.
Когда она, уже этой весной, возвращалась назад, то вместе с отцом Ригором лишь помолилась святому Григорию, покровителю острова. Жертвы приносил Мистина с теми боярами и отроками, которые вернулись такими же язычниками, какими уезжали.
– А я тебя предупреждал – без жертв пути не будет, – обронил Святослав. – И что – не прав оказался? Не заставил тебя василевс три месяца дожидаться? А потом еще лису за хвост тянул, пока зима не накатила! Вы и застряли там на год, и что высидели? Толку с вашего похода – одно тряпье бабье!
Голос его стал жестким; последние слова он как выплюнул и сжал губы, точно боялся сказать чего похуже.
– Неправда! – возразила Эльга. – Не одно тряпье.
– Так что ж еще? Дали тебе чашу золотую с каменьями, так и ее ты, я слышал, там же богу и подарила.
Эльга подавила вздох. Она поднесла подаренную чашу Святой Софии, преследуя сразу две цели: угодить Богу и досадить Константину. Этим она дала ему понять: лишь от Бога я получила истинные дары, что требуют ответных подношений.
Истинные сокровища она привезла домой в своих мыслях и душе. Но теперь, когда Святослав потребовал показать добычу заморского похода, она растерялась, не зная, как это сделать.
– Он ведь так ничего и не пообещал насчет печенегов и аланов, да? – продолжал Святослав, имея в виду, конечно, не бога.
Значит, Мистина и послы вчера говорили с ним. Чему дивиться: исход переговоров об этом предмете занимал молодого князя куда больше, чем цветные паволоки и даже рычащие львы из золота.
– Константин сказал: прежде чем заключать новые договора против общих врагов, нехудо было бы выполнить старые!
В голосе Эльги невольно прозвучала досада. Все лето и осень она провела в спорах с царевыми людьми ради выгод сына, а теперь этот же сын ее упрекает, что не достигла всего, чего бы ему хотелось!
– Он спрашивал, когда мы уже собираемся начать выполнять Ингорев договор и защищать греческие владения в Таврии. Жаловался, что вместо этого русы лишь сами укрепляются близ устья Днепра и угрожают подданным василевса в Корсуньской стране[9].
– Как же нам не укрепляться? Мы должны защищать свои торговые пути.
– Именно это мы им и говорили.
– Я знаю. И если греки не обещают нам помочь с хазарами, то пусть не надеются, что я буду помогать им с сарацинами. Вы так ничего и не добились?
– Мы говорили о войске. Ты мог бы дать хотя бы немного людей для войны на Крите, а тогда греки успокоятся насчет Таврии. Им тревожно, когда у нас тут слишком много руси, которой нечем себя занять и нужна добыча.
– И в этом они правы! – Святослав хлопнул себя по коленям. – У меня люди, которых надо чем-то занять на лето! Ты же сама все стонешь, как дорого стоит содержать большую дружину! А такая дружина есть не только у меня: она есть у Тородда, у Кольфинна, у Торда, у Анунда, у Грозничара, у Вестима! У Ингвара ладожского и прочей отцовой родни на севере! И всем нужны слава и добыча!
– Так почему ты не хочешь отправить людей служить грекам? Василевс возьмет на себя их содержание, а мы вздохнем полегче. И они получат часть добычи.
– Содержание! – Святослав вскочил на ноги. – И что? Что он им заплатит? Ты думаешь, я не знаю, сколько получают люди в его войске для Крита? Где наших перебили разом шестьсот человек! Стоило головы класть! А добычи там не будет, потому что стратилаты все забирают себе: цесарское, значит, имущество!
– Но всегда добыча передавалась конунгу…
– А конунг брал себе десятую часть, остальное раздавал людям! Можешь не учить меня дружинным обычаям, я их знаю! А вот греки не знают и знать не хотят! И к ним идут служить только всякие раззявы и неудачники или беглые, с кем уж никто связываться не хочет. Мои парни не желают служить на таких условиях. И я не могу их заставить. Русы – свободные люди, имеющие право на добычу, взятую своей кровью и отвагой. Дураку понятно, почему греки пытаются наших нанимать – чтобы не искали себе добычи сами, какая понравится. Особенно у них в Таврии. Они хотят, чтобы мы проливали свою кровь ради их выгод и получали за это по три медных фоллиса! Пусть поищут дураков еще где, а у нас таких нет!
Ярик на коленях у Эльги вдруг заплакал: видимо, его напугал голос отца, полный бурного негодования.
– Не реви! – уже потише, но сурово сказал Святослав и взял сынка на руки. – Слушай и учись! Как раз дедов договор закончится, пока ты подрастешь. Вот сравняется тебе семнадцать – оно и выйдет тому договору тридцать лет. Пойдем на греков, а? Пойдешь с батькой?
Он слегка подкинул дитя, будто побуждая поскорее расти. Эльга вздохнула: хотелось взяться руками за голову и начать раскачиваться в отчаянии.
Вот оно опять! Как ровно двадцать лет назад, когда дружина еще от Олега Предславича, тогдашнего князя руси, требовала вести ее за славой и добычей. Как десять лет назад, когда русь, договором лишенная возможности искать всего этого у греков, пошла на Смолянскую землю; благодаря тому походу Прияслава Свирьковна и попала в конце концов сюда, в эту избу, и в животе у нее теперь бьет ножками еще один будущий воин Олегова и Ингварова рода. А она, Эльга, все эти годы пытается найти другой путь, который не толкал бы русь каждые несколько лет на поиски новой войны.
Приняв крещение и нарекшись дочерью василевса, она надеялась помочь делу мирного сожительства двух держав: старой и молодой. Но, похоже, она сеяла на камне. Как перенести мир из своей души в души тех людей, кто вырос на мечтах о славе и добыче? Как убедить их служить василевсу и за его жалованье сражаться с сарацинами на далеком острове Крит, чтобы создать доверие и дружбу между русами и греками? Искать не золотых чаш, а знаний и полезных умений, чтобы самим создавать у себя все то, чем восхищались за морем?
Но где уж? Воин живет недолго и потому хочет всего и сразу. Сменилось несколько поколений, пока часть руси на берегах Днепра, сблизившись и частично слившись со славянами, стала ощущать себя не дружиной, зимующей на этом берегу, а народом, живущим на своей земле. Те края, что когда-то служили русам лишь источниками добычи и удобными путями ее сбыта, они стали считать своим домом. А дом надо строить и обустраивать. Посольство Эльги стало возможно, потому что многие из старой дружинной знати, такие как Мистина, уже оказались способны разделить это стремление.
Но пока что большинство составляют другие, те, для кого по-прежнему домом служит лодья, а богом – меч. Жажда славы толкает их искать все новых земель, которые можно подчинить, ограбить, обложить данью – и идти дальше. Каждый год Волхов и Днепр приносят новые сотни молодых безвестных удальцов, желающих на службе удачливому вождю обрести славу и богатство. Старые боги послали этим людям Святослава: он сам считал своим домом лодью, своим богом – меч, а своим жизненным предназначением, честью и судьбой – поиск ратной славы. И даже в переговорах с греками Эльге и послам приходилось считаться прежде всего с этими людьми: за ними на Руси стояла сила.
* * *
По пути в Греческое царство – почти с тех пор, как огромный посольский обоз отошел от причалов Почайны – Эльгу не покидало чувство, будто Ингвар идет впереди и указывает ей путь. Сперва вниз по Днепру, куда Ингвар ездил довольно часто, а Эльга направлялась впервые в жизни. За пороги и степи, где ему приходилось встречаться с печенегами. В устье Днепра, тремя жерлами припавшего к воде Греческого моря, будто мучимый жаждой трехголовый змей; здесь земли руси граничили с северными владениями греков-херсонитов. К устью Дуная, где Ингвар четырнадцать лет назад повстречался с посольством от царей и согласился прекратить поход, взяв дары и выкуп. На южный берег Греческого моря – куда войско русов дошло во время первого провального похода шестнадцать лет назад. Ко входу в пролив под названием Боспор Фракийский…[10]
И вот настал день, когда Эльга опередила своего покойного мужа – вступила туда, куда он так и не смог попасть.
Когда лодьи вошли в Босфор, до Царьграда оставалось меньше полного дня пути. Но Эльга уже знала, что так быстро дойти не получится: придется делать остановку возле заставы под названием Иерон.
– Здесь коммеркий! – пояснил Эльге Аудун, старший из купцов.
– Что? – не поняла она.
– Коммеркий платить. Это пошлина в царскую казну со всех товаров, что с нашей стороны везут.
Аудун уже много лет ходил в Царьград и участвовал в предыдущем посольстве – во времена Ингвара. С широким низколобым лицом, со светлыми волосами при рыжеватой бороде, как у многих варягов, румяный и дородный, он напоминал праздничный колоб из пшеничного теста. На последней стоянке у входа в Босфор, в городе Мидии, Эльга пригласила его на свой скутар, зная, что сегодня у нее будет особенно много вопросов. Благодаря опыту Аудун знал все здешние порядки и неплохо говорил по-гречески.
Застава стояла на восточном, более высоком берегу. Здесь в широкий пролив вдавался мыс, сужая проход. Аудун рассказал, что приближаться сюда разрешено только при свете дня, а кто не успел до заката, обязан отойти назад, в северную часть пролива. Не исполняющих это требование могут сжечь «греческим огнем». И если одновременно с моря приходят еще один-два каравана – болгар или хазар, – то возле Иерона приходится стоять по три дня. Эльгу это известие совсем не обрадовало: не хотелось на три дня застрять вблизи самого Константинополя, почти у ворот!
В этот раз у царевых мужей глаза полезли на лоб при виде русского обоза: прибыло около ста лодий. Не считая обычных шести десятков купеческих, двенадцать скутаров с людьми и разными грузами принадлежали самой Эльге, по одной-две – послам двадцати двух русских князей и великих бояр. Лишь два скутара приблизились к причалу, а остальные встали на якоря вдоль гористого берега.
К Эльге, сидевшей на корме под полотняной сенью, подошел Мистина.
– Это было здесь, – он кивнул на пролив.
– Что?
– Нас с твоим мужем чуть не сожгли заживо. Здесь почти самое узкое место, греки нас и подстерегли. Тут сталкиваются два течения – верховое, из Греческого моря, и низовое – обратное… И самое мерзкое, что это дерьмо горит даже на воде…
Мистина замолчал, придерживаясь за борт и глядя на высокий скалистый берег. Потом взглянул на воду и застыл. Эльга ни о чем не стала спрашивать. Она уже много раз слышала от разных людей начиная с самого Ингвара, как ромейские корабли, оснащенные бронзовыми сифонами, вошли в середину строя русских лодий и плюнули в них «греческим огнем». Волна пламени летела над водой и падала на снасти и паруса; огонь, будто живой, мчался по поверхности волн и накидывался на просмоленные борта. Лодьи вспыхивали, будто в старинном погребальном обряде викингов, увозя на тот свет разом всю дружину; кто-то успевал прыгнуть за борт и сгорал там, среди волн… И еще счастливыми себя могли счесть те, кто в тяжелой кольчуге и шлеме сразу шел на дно. Эльга зажмурилась: перед глазами мелькали охваченные огнем люди, слышались вопли, душил запах гари…
Где-то здесь стал жертвой двойной жуткой смерти – на воде от огня – и ее родной младший брат Эймунд. Ему было всего восемнадцать лет. Только той зимой он впервые приехал из Варягина под Плесковом, чтобы пойти в заморский поход со своим свояком – киевским князем.
Встав возле борта, Эльга сняла с руки серебряный витой браслет и бросила в воду. Погребальный дар ярко сверкнул под солнцем и канул в волнах, точно рыбка.
Вот и все. Последний проблеск памяти о былом. Пятнадцать лет назад здесь творилось нечто жуткое, Хель и Муспельсхейм разом. А теперь – кто бы догадался? Морские волны давно унесли изуродованные тела, ветер развеял гарь губительной смеси. И не скажешь, что у этих берегов киевская русь потерпела одно из ужаснейших поражений.
И ведь это была только первая неудача из длинной череды разгромов того провального похода.
Предания повествуют о героях, достигших успеха и вернувшихся со славой. От этого кажется, будто со славой возвращаются все, у кого хватило смелости покинуть дом. Но сколько смельчаков погибает совсем молодыми, не успев добиться ничего, а главное, стать чьими-то предками и потому попасть в предания. Если послушать, то таких вовсе нет. А ведь их тысячи и десятки тысяч на единицы тех, удачливых. Матери и сестры поплачут, но слезы их впитаются в землю и будут забыты. Эльга помнила своего младшего брата – он рос достойным наследником Вещего и мог бы добиться многого. Но не успел добиться ничего, и о нем нечего сказать.
Эльга подняла голову и глянула вперед, туда, где за двумя коленами извилистого Боспора Фракийского лежал Царьград. Желанный и ненавидимый, побежденный и победитель. Много раз русы проходили этим путем – и с разным успехом. Одни становились слугами его, другие пытались стать господами. Только она, Эльга, племянница Вещего и вдова Ингвара, первой ехала сюда не для войны, не для торговли и не для службы. А желая предложить союз и когда-нибудь устроить так, чтобы обмениваться с Греческим царством благами, не проливая крови.
Мужчин в ее роду и сейчас немало, но вот сын всего один. Нынешний русский князь не мог себе позволить неудачи. В память Олега Вещего, Эймунда, Ингвара, ради Святослава она, Эльга, была полна решимости найти иной путь к будущим победам.
– Вот потому мы и здесь сегодня, – Мистина накрыл ладонью ее руку, лежащую на борту лодьи.
* * *
Княгиня приготовилась к долгому ожиданию, но Аудун вернулся с Иерона довольно скоро и привел с собой служителей заставы. Грекам выдали шесть лодий, где уже приготовили в уплату десятую часть всех товаров, а потом повели осматривать обоз: что все без обману. Нет, это не товар, это дары, которые княгиня везет для василевсов. И это тоже. Нет, в грамоте от князя Святослава указаны шестьдесят две лодьи, а эти двенадцать – личное имущество княгини. Что? Это у кого княгиня русская должна брать грамоту о своем личном имуществе? Хорошо, тогда пишите грамоту, что десятую часть василевсовых даров забрали на Иероне – наверное, Константин и Роман поймут. В самом деле, какая разница, если коммеркий поступает в царскую казну?
Наконец от них отвязались, и обоз получил разрешение двигаться дальше.
– Это мы сегодня еще быстро управились – ради уважения к княгине, должно быть, греки скоро унялись! – говорил повеселевший Аудун. – Теперь как к стенам подойдем, встанем в Боспории, отправим к логофету дрома гонца. Он пришлет подручных, те выяснят, что мы за люди, грамоты проверят, тогда нам дадут разрешение к Маманту идти, а вам скажут, куда пристать.
– Вот только не говори мне, что эти, – Мистина через плечо показал на заставу, – еще не отправили своего гонца.
– Как водится! А всяк свой порядок соблюдай.
Под водительством греческого кормчего, через Босфор на юг шли почти весь остаток дня. Зеленые гористые берега его были густо заселены, везде мелькали селения, строения, монастыри. Впервые, еще в Болгарском царстве увидев монастырь, Эльга пришла в недоумение: это что? Вроде бы гора, но с очень ровными склонами, округлыми вершинами, а в них оконца. Как это могут быть дома? Для людей ростом с бортевую сосну? Везде буйно цвели розовыми метелками какие-то незнакомые кусты, карабкаясь по беловатым каменистым скатам.
Незадолго до прибытия Эльге показали пристань «Маманты» – подворья, где всегда останавливались купцы-русы. На берегу Босфора по правую руку, оно находилось севернее самого Константинополя, и путь к городу лежал мимо него.
– А разве нельзя сразу там пристать? – удивилась она.
– Нет, сначала нужно от царевых мужей разрешение получить, – объяснил Аудун. – А там уж и к Мамушке нашей!
Но когда показался сам Новый Рим, все впервые его видевшие даже притихли. Дух занимался от этого зрелища: прямо из синей воды вырастали высоченные кирпичные стены, за ними на склоне горы пышно зеленели сады. Виднелись кровли строений, а выше всего, на вершине – круглый сияющий купол, похожий на солнце. Они сперва подумали, что там и живет василевс, но ошиблись: там жил Бог. Это оказался главный столичный храм – Святая София. Выше его, как отсюда, с пролива, казалось, оставалось только небо, но все пространство между водой и солнечной кровлей Софии было густо занято камнем и зеленью. Бросались в глаза какие-то отдельно стоящие деревья без ветвей и с обрубленной вершиной. Аудун сказал, это каменные столпы, поставленные ради славы, но Эльга все равно не поняла, что за столпы. Если их видно из такой дали, какие же они на самом деле? Таких столпов не бывает, не может быть!
И русам хватило времени, чтобы всем этим полюбоваться. Еще у границы Болгарского царства, в первом греческом городе Месемврии, посольство княгини встретили царевы мужи-василики: поднесли подарки, передали приветствия и сопроводили в дальнейшем пути. Поэтому Эльга знала: василевс осведомлен о ее прибытии и ждет гостью. Теперь василики сошли на причал гавани Боспорий, ближайшей к оконечности мыса, и отправились к логофету дрома за разрешением для гостей на высадку. А что разрешение требовалось, красноречиво подтверждал вид стражи в пластинчатых доспехах и шлемах, выстроившейся на причале напротив русских лодий. Высадиться же где-то помимо причала было невозможно: каменные стены уходили вокруг мыса во все стороны, сколько хватал глаз. Здесь вовсе не имелось земли для тех, кто приехал без позволения хозяев.
Сердце обрывалось при виде этих стен – выложенных из камня, высотой до неба, с зубчатым краем, с мощными башнями. Башни напоминали горы, обтесанные исполинским топором до квадратного бруса с ровными стенками. Ворота в стенах, особенно издалека, казались мышиными норками. Смотреть было страшно: чем ближе к стенам подходили лодьи, чем выше те становились, пока не нависли над головами. Теперь и не разглядеть: что там, за ними? Лишь виднелись позади какие-то еще более высокие стены, выложенные из полос красного кирпича и белого раствора вперемежку. Причем с дверями не только снизу, а на всю высоту – проемами в полный человеческий рост, под полукруглыми пестрыми сводами, выложенными из чередующихся красных и белых плит. Аудун сказал, что это окна, но Эльга взглянула на него недоверчиво. Окна по всей стене и в человеческий рост? От потрясения тянуло закрыть рот рукой – взор, привыкший к просторам полей и моря, не растягивался настолько, чтобы охватить столь великое творение человеческих рук.
Человеческих ли? Тогда ей впервые пришло в голову сомнение: да люди ли сделали это все? Или им подарил это Бог – тот самый, которого христиане называют Творцом неба, земли и всего сущего на ней? Русские лодьи, зажатые между морем и этим недружелюбным каменным царством, казались маленькими и хрупкими. От такого множества камня становилось не по себе.
– Что это за обычай – гостей стражей встречать? – возмущалась Эльга, стараясь скрыть свое смятение. – Уж сколько к ним гонцов послали! Спят там эти цесари, что ли?
– Давайте покричим! – усмехнулся Мистина.
– Или споем, – предложил Стейнкиль. – Я такие песни знаю – мертвого подымут!
– Боятся нас! – смеялись послы. – После Вещего до сих пор, видать, от слова «русы» коленки у них дрожат!
– Да каждый год сюда ходим, оно всегда так! – успокаивали купцы. – С грамотой, с печатью, все как уговорено. Но пока не придет ихний царев муж и грамоты не проверит – никому на берег ходу нет. Бывает, по три-четыре дня на лодьях живем. Потом пересчитают нас, по именам с грамотой сличат, товар осмотрят – тогда дадут путь на подворье.
– Как – на лодьях живете по три дня?
– Как обыкновенно, – развел руками дородный Аудун. – Одни сторожат, другие спят на мешках.
– А поесть?
– Греки на лодочках подходят, продают кое-чего. Да припас еще имеется.
Хлеб, сыр и вяленое мясо из дорожных припасов, возобновляемых по пути, еще не кончились, но требовалась пресная вода. Женщины жаловались: все проголодались, а также ощущали иные потребности, справить кои на лодье или на каменном причале, на глазах у всего света белого, было никак невозможно. Мужчинам в этом отношении куда проще.
Аудун же подал мысль отойти на другой берег Босфора и отыскать приют для княгини в городке Халкедоне, но Эльга не соглашалась. Ей, наследнице Вещего, убираться прочь или ночевать под воротами, будто побирушка, которую богатые хозяева не пускают в дом! Но она понимала, что Аудун прав: если их не пустят в город до ночи, то лучше найти пристанище сейчас, пока не стемнело. Не спать же в самом деле на лодье! Ей не раз случалось ночевать в шатре, но здесь, между морем и каменными стенами, за которыми расстилался огромный и совершенно непонятный ей мир, она чувствовала себя уж очень тревожно и неуютно. Выслав стражу на причал, этот мир больше никак не давал понять, что вообще заметил ее появление. Ее, княгиню русскую! Да что эти греки о себе возомнили! Будто к ним каждый день такие являются!
Около сотни русских лодий протянулись чуть ли не через всю гавань, но и без них там хватало кораблей всякого размера и вида. Смуглые люди таращились на русов с лодок и с берега, показывали пальцами, перекрикивались на непонятных языках. Дивились на киевскую княгиню, которую василевс не пускает не то что в дом – даже в свою страну. Тихо кипя от негодования, Эльга оглядывала длиннющие стены, выискивая взглядом те ворота, на которых Вещий повесил свой щит. Видно, забыли греки тот урок, если смеют так обращаться с племянницей Олега!
И теперь она в душе еще сильнее восхитилась отвагой и удачливостью своего прославленного родича. Ведь он с дружиной пришел на таких же лодьях, не больше. И она, Эльга, ума не приложила бы, что можно со скутаров поделать против этих стен. Поневоле на колеса их поставишь, лишь бы сделать что-нибудь! Она даже спросила Аудуна, где те ворота, и он показал налево: они с другой, южной стороны мыса, отсюда не видно.
– Греки что, думают, будто я приехала с ними воевать? – возмущалась она. – Приняли нас за нашествие? Испугались женщины?
Скучающие отроки на Улебовой лодье и правда запели. Эльга с трудом сдерживала плач и смех, которые рвались из нее одновременно: так дико было слушать здесь знакомое «Мы катали медведя́…».
Но наконец на причале показался отряд, возглавляемый крепким седобородым всадником в пластинчатом доспехе, из-под которого виднелся дорогой кафтан.
– Вестиариты, – сказал Аудун и с облегчением перекрестился. – Слава Господу! Это к тебе, матушка, нас такие важные люди не встречают.
– Вестер… что?
– Хирдманы царевы, что и его самого, и сокровища наилучшие стерегут. И еще послов иноземных встречают и провожают куда надо. Вон с ними и царев муж какой ни то… и от эпарха, должно быть, – Аудун вгляделся и показал на двух всадников без доспехов, в цветных кафтанах и плащах, заколотых на плече.
Строй причальной стражи расступился, и седобородый знаком показал, что лодья может подойти.
Перекинули сходни. Эльга осталась сидеть под полотняной сенью на корме, сердито сложив руки на груди, а Мистина и Аудун пошли на пристань объясняться. Там их встретили человек от логофета дрома – асикрит Тимофей – и человек от эпарха, то есть воеводы-градоуправителя. При них имелся толмач.
– Я вижу перед собой посольство архонта и архонтиссы россов – Эльги Росены?
– Да, а также саму Эльгу Росену ты видишь, если у тебя настоящие глаза, а не поддельные! – едва сдерживая гнев, ответил Мистина. – Она присылала предупредить о своем приезде. И если василевсу он нежелателен, у него был целый год, чтобы уведомить нас об этом! Мы могли бы узнать еще в устье Днепра и не трудиться ехать за море!
– Мы рады приветствовать госпожу архонтиссу в Новом Риме, но она привела с собой слишком много людей, – Тимофей развел руками. – Клянусь головой святого Иоанна – если бы не наши посланцы, сопровождавшие вас, мы бы приняли это за очередное нашествие.
– А где эти ваши посланцы пропадали целых полдня? Заблудились? Запили на радостях?
– Требовалось подготовиться к приему и убедиться, что ваши намерения дружелюбны, – продолжал другой грек. – Либо принять меры на случай, если это окажется не так.
– Они и правда решили, что я собралась их завоевать! – сказала Эльга сидевшей рядом Уте.
Несмотря на все негодование и усталость, ей захотелось рассмеяться. Нашествие народа рос! Ей представилось, как она, по примеру дяди Одда или мужа, ведет войско к этим стенам, надев кольчугу на платье и шлем поверх убруса, размахивает мечом и требует дани…
– Йя сказаль, что им даст позор бояться кона… баба… – произнес седобородый в пластинчатом доспехе, с дружелюбным любопытством глядя на женщин на корме и пытаясь, видимо, понять, которая из них княгиня.
Услышав эти слова, Эльга сперва удивилась, почему он так странно говорит, а потом сообразила: на языке славян пытается изъясняться человек, не слишком с ним знакомый. Но тут седобородый, видимо, разочаровался в своих познаниях и добавил уже на северном языке:
– И если это нашествие, то я берусь отразить его. Не станем беспокоить почтенного протовестиария Евтихия, ему хватает хлопот с василевсовым платьем.
По рядам его людей пробежал сдержанный смешок, но Эльга не поняла, над чем смеются. Однако сочла за благо выбросить это из головы, потому что Тимофей снова заговорил, и наконец-то появилась некая определенность.
– Архонтиссе Эльге Росене определено пребывание в проастии Маманта, в палатионе. Вы можете отправиться туда вместе с вашими купцами, а мы будем вас сопровождать.
Из речи толмача Эльга поняла лишь половину слов, но Аудун кивнул с довольным видом: все русы будут стоять в одном месте, хотя греки могли развести их по разным концам Суда. Получив требуемое разрешение, вытянули якоря. Человек от эпарха остался на пристании, прочие царевы люди погрузились в свои лодьи и двинулись впереди приезжих назад вдоль Босфора, к предместью Святого Маманта.
– Точно как наши раньше, – усмехнулась Эльга, глядя, как удаляются оставшиеся за кормой высоченные каменные стены. – Поглазели да назад пошли.
– Мы еще вернемся, – утешил Мистина.
И все же ей с трудом верилось, что она наяву находится именно там, где ранее бывали Ингвар, Олег, Аскольд и невесть кто из русских вождей до них. По этим самым стенам, причалам, по этой воде и горам вдали скользил когда-то острый взгляд Вещего. Она не могла разобраться в своих впечатлениях: все это показалось и слишком удивительным, и слишком простым. Не оставляло нелепое желание оглядеться и поискать тех, кого она привыкла мысленно видеть в этих местах – Вещего, незнакомого ей Аскольда, даже стариков Лидульва со Стемиром…
Довольно скоро лодьи подошли к причалу облицованной камнем гавани. Царевы люди высадились первыми и передали просьбу еще немного подождать. Женщины уже изнемогали; к счастью, здесь никто не мешал выйти на берег и наведаться в ближайшие заросли. Горяна увидела змею; поднялся визг, послали отроков с копьями, чтобы пошуровали в кустах и разогнали, кто там есть… Зато неподалеку нашли колодец и наконец раздобыли для всех свежей воды.
Темнело, но прохладнее не становилось: душная жара ложилась на плечи одеялом. Воздух был напоен незнакомыми запахами, густыми и сладкими. От усталости и голода у Эльги кружилась голова, и эти запахи навевали дурноту. К этому времени она уже с удовольствием прилегла бы на днище лодьи, если бы для нее бросили туда пару мешков с привезенными в дар куницами. Отчаянно хотелось снять убрус, освободить голову и дать потным волосам подышать. Взмокшая сорочка под платьем липла к телу, из-под груди вниз бежали капли пота. В пути они к этому времени уже пристали бы где-нибудь, поставили шатры, разоблачились, вымылись и сели ужинать. Пока же окончание долгой дороги вместо отдыха несло больше неудобств, чем она сама.
Когда наконец Мистина вывел Эльгу на причал, она едва держалась на ногах. Здесь к кучке стонущих женщин подошел тот седобородый в доспехе.
– Вот эта прекрасная госпожа и есть Эльга Росена? – спросил он у Мистины, однако глянул и на Уту за ее спиной, которую вел сын Улеб. – Или…
– Я – княгиня Эльга, – ответила та. – Неплохо бы услышать твое имя.
– Меня зовут Савва Торгер, я – этериарх средней этерии, иначе говоря, хёвдинг домашней дружины василевса, – пояснил он на северном языке с заметной примесью греческих слов. Эльга не удивилась, что здесь нашелся человек, знающий северный язык, но еще не вполне понимала, кто он такой. – Мои люди несут обязанность охранять покой Мега Палатиона, а также сопровождать иноземных гостей. Сейчас доставят носилки, и твоя светлость сможет проследовать в проастий Маманта.
– Прорастий? – В мыслях Эльги мелькнули какие-то заросли. – Что это? Сад?
– И сад там тоже есть, с «пуническими яблоками» и виноградником, – улыбнулся седобородый. – Русы всегда пристают в нашем стратонесе в предместье Маманта, а ты, как архонтисса, будешь жить в тамошнем палатионе.
– Страхо-нос? Это что?
– Вообще-то – стратонес. Иначе говоря, воинские дома.
Тут появился асикрит Тимофей, и подали носилки. Оказалось, что именно в них, а не пешком или верхом, княгине надлежит быть доставленной в палатион. Носилки представляли собой теремец, украшенный вызолоченной резьбой, внутри которого можно было только сидеть. Он стоял на длинных крепких жердях. Повинуясь приглашающему движению Саввы, Эльга села в кресло внутри теремца; за ней закрыли дверцу, а потом… Она еще не поняла, чего ей ожидать, как пришедшие с носилками василевсовы рабы взялись за жерди, подняли и положили себе на плечи! Сидя в теремце, Эльга вознеслась над землей на высоту человеческого роста и едва сдержала крик. Обеими руками она вцепилась в кресло, выпучив глаза и стиснув зубы. А теремец уже двинулся вперед, легонько покачиваясь, будто лодочка на волнах. По первому побуждению Эльга чуть не закричала: остановитесь, я хочу выйти! Но сдержалась: ей никто и не обещал, что в Греческом царстве все будет просто. Захватило дух, и она судорожно сглатывала. Только не хватает, чтобы ее сейчас вывернуло!
А рабы шагали по мощенной кирпичом дороге, никто ее не ронял, ничего страшного не происходило. Через какое-то время Эльга почти опомнилась и нашла, что перемещаться в теремце на жердях – не ужаснее, чем ездить верхом, и удобнее, к тому же не требует от нее никаких усилий. Она даже отважилась выглянуть в окошко.
Ее несли по дороге между полей и рощ. Впереди, кажется, ехал верхом Тимофей, позади теремца – послы и женщины, сидящие за спинами отроков. Потом шли купцы, остальные отроки княгини и всякая русская челядь, а замыкали шествие «пластинчатые» гриди василевса. Их предводитель ехал на белом жеребце рядом с носилками Эльги. А по сторонам дороги толпились местные жители: смуглые, чумазые, в простых грязно-белых и серых рубахах по колено, в узких штанах. Черноволосые головы и плечи прикрывали такие же простые шерстяные накидки. На Эльгу греки смотрели с веселым изумлением, но без робости: махали руками, кричали: «Рос, рос! Калосорисма!»[11] Здесь уже знали: прибытие русских купцов на подворье означает денежный приток за съестной припас и прочие мелочи жизни.
* * *
Прора… то есть про-ас-тий Святого Маманта оказался большим селом среди полевых наделов и посадок неведомых кустов. Здесь был каменный храм – Святого Маманта, подворье для купцов – здание из серого камня, снаружи казавшееся огромным и очень угрюмым, – и па-ла-ти-он, то есть василевсов дом, тоже каменный и очень, очень большой.
В предместье русская дружина разделилась: купцы отправились на подворье, княгиню с приближенными и послами повели в палатион. Пока виднелась лишь высокая каменная ограда, а за ней – кроны деревьев, плохо различимых в густеющей тьме.
Савва Торгер со своими воинами остался снаружи, попрощавшись с Эльгой почтительным взмахом руки. А гостей провели за высокие ворота, и перед ними открылся широкий мощенный каменными плитами двор – размером с хороший славянский городец, только без разбросанных по кругу вдоль стены избушек и клетей. Впереди виднелся палатион из двух каменных крыльев, поставленных углом, а по сторонам темнела густая зелень сада. Посреди двора была устроена огромная чаша из камня, а в ней сидел какой-то чудный зверь, тоже каменный. Из его раскрытой пасти текла вода, скапливаясь в чаше, но почему-то не переливаясь через край.
– Это что? – изумилась Эльга.
– Крина[12], – пояснил толмач-грек. – Отсюда можно брать воду для питья.
– А это… хранитель колодца, да? – Эльга показала на каменного зверя. – Его нужно… угощать?
Все привыкли, что если над источником стоит чур-хранитель, то, забирая воду, нужно чем-то отблагодарить. Но у греков, как она знала, никаких чуров не угощают…
– Не нужно. – Толмач улыбнулся и поклонился, чтобы его усмешка над дикостью варваров не выглядела обидной. – Просто пусть твои служанки зачерпывают воду, и все.
– Вот еще! – пробурчала изумленная Прибыслава. – Зверюгу тошнит той водой, а мы черпай…
– Еще бы из-под хвоста у него текло, а нам пить предлагали! – поддержала Володея.
Но Эльга уже рассматривала палатион: столь высокий, что пришлось задрать голову, чтобы увидеть, где же он кончается. В белокаменной стене виднелось множество отверстий: каждое было размером с дверь, но зачем столько дверей, к тому же так высоко от земли? Каждую окружали косяки резного камня, а за ними теплился свет – удивительно, непонятно, но очень красиво. В верхнем ряду дверей стояли какие-то люди в белом, по одному на каждую: они подняли руки, приветствуя гостей, и так замерли.
– Помнишь? – Ута схватила ее за руку. – Твой отец нам рассказывал про пастуха, который шел ночью и увидел гору, а в ней горели огни и тролли играли свадьбу…
У Эльги и самой мелькали в памяти подобные же образы слышанных в детстве сказаний. В жизни она ничего подобного не видела: только с горой, внутри которой нечеловеческие существа справляют свои праздники, она и могла это сравнить. И ей предлагали туда войти! Окружающая тьма усиливала впечатление небывалости; Эльга шла по сказанию и с каждым шагом погружалась в него все глубже.
– Ступай, княгиня! – Мистина незаметно взял вторую ее руку, пожал и выпустил. – Похоже, они и правда живут в таких горах.
– Чей это дом? – обратилась Эльга к асикриту Тимофею.
– Василевса, разумеется. Четыреста лет назад, при Юстине Втором, здесь был поставлен храм и создан монастырь в честь святого мученика Маманта Кесарийского. Христолюбивый василевс Лев Первый выстроил здесь для себя палатион, гавань и ипподром. Но то, что твоя светлость сейчас видит, создано недавно – менее ста лет назад, после пожара, василевсом Михаилом Третьим. Он любил палатион Маманта больше других и почти постоянно жил здесь, отчего тот особенно роскошно украшен. Твоя светлость сейчас убедится в этом. Константин август распорядился поместить тебя сюда. Клянусь головой святого Иоанна – на моей памяти никакое еще посольство не размещалось в таких роскошных условиях! Это огромная честь и знак высокой благосклонности василевса.
– Я сейчас его увижу? – Эльга поняла только то, что ее ведут в царский дом.
– Кого?
– Константина.
– Нет, разумеется! – Грек удивился. – О дне приема тебя уведомят отдельно, и он пока не назначен, насколько я могу знать.
– Но как же – я буду в его доме жить, а хозяина не увижу?
– Константин август, как и Роман август с их благословенными Богом супругами и детьми живут не здесь, – грек улыбнулся ее наивности, – а в Мега Палатионе. Вы могли видеть его или хотя бы часть, пока шли к гавани Боспорий. Палатион Маманта – лишь один из полутора десятков, коими владеет василевс в предместьях Города. Не припомню, чтобы кому-либо из посещающих Новый Рим определяли пребывание именно здесь, но поскольку к нам впервые приехала женщина – архонтисса и игемон, то Константин август распорядился именно так.
– То есть Константина здесь нет?
– Нет. Палатион Маманта выделен в ваше распоряжение. Но там есть челядь и управляющий хозяйством. Укажи, кому из твоих людей я должен его представить.
За этой беседой они прошли через двор. Прямо перед ними стена палатиона состояла как бы из одних открытых дверей, разделенных каменными столпами и каменными же резными сводами. Без провожатых трудно было бы понять, куда же войти. В сумерках, при свете факелов, которые вынесли навстречу греки-челядины, Эльга не смогла рассмотреть резьбу, лишь отметила, что та очень тонка и причудлива. Бросалось в глаза высеченное в камне изображение креста на верхней части столпов. А те люди в белом, что выстроились в самой верхней череде дверей, все так же молчали и не шевелились. Это кто – стража на крыше?
– Так и зажужжать недолго! – заявила Володея, с тем же изумлением оглядывая дом.
Эльга поняла ее: строение и впрямь напоминало исполинские пчелиные соты.
Пройдя за обитые узорной медью двери, они оказались в огромном… огромной… Это помещение напомнило Эльге старую гридницу Олега в Киеве: примерно такого же размера, и тоже с двумя рядами опорных столпов. Только в Киеве они были деревянными, а здесь – каменными. Под кровлей столпы как бы сливались в красивые полукруглые своды. Вместо привычной копоти наверху пестрела какая-то роспись, уже смутно видная в темноте.
– Это триклиний, где вы будете вкушать пищу и принимать ваших гостей и наших чиновников. Покои для отдыха и помещения для женщин – на втором ярусе, – пояснил Тимофей и знаком пригласил застывшую княгиню следовать за ним.
Их подвели к лестнице – шириной с лодью – все стали подниматься. Женщины повизгивали и охали.
– Как я пойду? – доносился испуганный голос Прибыславы.
– Берешь ноги и идешь! – раздраженно поясняла Володея.
До сих пор они знали только вырубленные в земле и покрытые досками ступени – две-три, не больше, – по которым спускались в «земляные избы» и поднимались во двор. Но здесь они никуда не спускались, а сразу стали подниматься. Все выше и выше. Эльга с беспокойством ощутила, что они уже взошли на верхний уровень гридницы – весьма высокой! Это что же – придется идти по крыше? Что за причуды у этих греков? Куда ее занесло?
Но когда лестница кончилась, перед ними открылась не крыша, а опять вроде как длинный покой. Видимо, выстроенный на крыше гридницы. Эльге страшно было сделать шаг – не провалиться бы! Но грек уверенно шел вперед, приглашая ее за собой. Махнув рукой женщинам, чтобы не визжали, она пошла за греком.
По крыше тянулись клети – одна за другой. Скоро Эльга сбилась со счета и перестала сознавать, где находится. Смутно помнила, что над гридницей – но над головой опять оказалась крыша.
– Вот здесь твой китон, – сказал грек, когда они достигли последнего помещения.
– Что?
– Опочивальня, – перевел Торстейн Дрозд.
– Когда твоя светлость и твои люди немного отдохнут, – продолжал грек, – в триклинии будет подан ужин.
– Где?
– Гридница, что мы проходили.
– Или сначала твоя светлость желает баню? Управителю отданы распоряжения, уже все готово.
Эльга поколебалась: сходить в баню было бы очень не лишним, но она так устала! Сегодня она уже ничего не хотела видеть – только прилечь где-нибудь и закрыть глаза.
Кое-как разместились по клетям-китонам: уже во мраке, при свечах, разбросали свои короба по лежанкам. В китоне Эльги лежанок было три, и вместе с ней поселились Прибыслава и Володея, их челядинки кинули свои постельники на пол. Самая большая лежанка легко вместила бы и четверых, и Эльга попросила Уту на первую ночь лечь вместе с ней: хотелось чувствовать рядом кого-то хорошо знакомого и привычного.
Однако спала Эльга плохо: все время просыпалась, едва закрыв глаза, и в дреме постоянно ощущала недоумение и беспокойство. Висели жара и духота: лежа в одной сорочке, она все ждала ночной прохлады и не могла дождаться.
Когда она проснулась окончательно, уже совсем рассвело. Прямо перед ее глазами оказалось нечто… такое странное, что она усомнилась, где находится: в доме или в лесу? Изображение под сводом кровли занимало всю ширину стены, нависая над головой. Вчера во тьме она его и не заметила, а сегодня, при ярком утреннем свете, оно бросалось в глаза. На коричневатом поле росли огромные деревья с большими зелеными листьями; под деревьями стояли олени, обратившись носами к стволу, а к ним подкрадывался охотник в красной рубахе, с напряженным луком в руках. Свод обрамлял хитрый узор, красно-синий с золотом, похожий на вышивки самых лучших платьев из греческой добычи. А ниже блестела гладкая каменная стена, желтоватая в разводах. В углах красовались небольшие каменные столпы, то серовато-розовые, то темно-красные, с чем-то вроде узорного куста на верхнем конце.
Это все было настолько не похоже на бревенчатые стены, которые Эльга привыкла видеть во всех решительно жилищах, где ей за всю жизнь случалось просыпаться, что она просто лежала и разглядывала это, не шевелясь.
– Эльга! – раздался рядом шепот Уты. Оказывается, и сестра уже проснулась. – Эльга, ты видишь?
Княгиня повернула к ней голову и взглянула в вытаращенные глаза сестры.
– Мы в Царьграде! – торжественно доложила та.
* * *
Первые дни в палатионе Маманты русы провели как во сне. Во-первых, оказалось, что отсюда также невозможно выйти по своему желанию, как из любого зачарованного царства преданий. Об этом Эльге еще первым утром сообщил Мистина: он проснулся на заре и пошел обследовать их новое жилье при свете дня. Вернувшись на второй ярус, застал там предбанник: женщины только поднялись, взялись за гребни и позабыли чесать волосы, заглядевшись на стены либо оконные косяки. Так и сидели в сорочках, с распущенными косами, с гребнем в руке, с открытым ртом и вытаращенными глазами.
– Эту усадьбу сторожат хирдманы василевса, – сказал Эльге старший посол. – Так и стоят у ворот, будто с вечера не уходили. Их сотник говорит, так положено: мы можем выйти, только если за нами придут царевы мужи.
– А что у нас с припасами?
– Здесь много чего есть, вода в колодце на заднем дворе, и челядь обещает, что припасы будут каждый день подвозить. Василевс же обязан кормить всех своих гостей. А если появится какая нужда, то сказать сотнику, а он передаст тому греку вчерашнему…
Эльга хотела ответить, но вздрогнула и обернулась: откуда-то из глубин дома донесся женский визг.
Мистина кинулся туда: в этом чудном месте все были настороже. Навстречу ему бежали Живляна и Святана, тоже в одних сорочках и волосниках – глаза выпучены, рты разинуты.
– Они камен… ные! – вопила Святана, кинувшись отцу на грудь и ухватившись за него обеими руками. – Ка… каменные! Не живые!
– Кто? – Мистина глянул поверх ее головы, не понимая, в чем опасность.
– Му… мужики те… – Живляна показала куда-то назад.
Оказалось, что, проснувшись пораньше, они вдвоем стали лазить по дому и случайно вышли «на крышу». И очутились на открытом ходу вдоль внешней стены здания: огромные окна, от пола до потолка, смотрели во двор, а в каждом окне стояли те люди в белых одеждах, которых они приметили еще вчера, в сумерках. Они и сейчас там стояли, все так же глядя вниз и подняв руки в приветствии пустому двору, не переменив положения за ночь. И вот, выйдя на галерею, две молодые боярыни обнаружили, что эти люди – каменные!
Все посольство сбежалось смотреть, теснясь в дверях галереи.
– Это идолы мараморяные, тут много таких! – успокаивали Одульв и другие, кто уже бывал у греков. – Их люди сделали.
Убедившись, что опасности нет, женщины осмелились выйти на галерею и расползлись по ней, с уважительного расстояния осматривая белокаменные статуи. Мужчины с коротко остриженными волосами, в просторных складчатых одеждах, с какими-то свитками в руках… Женщины с непокрытыми головами, с затейливыми прическами… а то и вовсе так мало одетые, что отроки застывали с разинутыми ртами, краснели и начинали дышать сбивчиво.
– Да разве бывают такие… идолы? – Даже благоразумная Ута не могла поверить, что это творение человеческих рук. – Они же совсем как живые. Только белые…
Она притронулась к краю каменного одеяния и отдернула руку. Но успела ощутить, что камень вовсе не так уж холоден: утреннее солнце нагрело его, и оттого казалось, что, если коснуться этих белых рук – они окажутся теплыми, как у живых. Вот жуть!
Разве они не знали, каковы идолы каменные? Всем многократно приходилось видеть их в святилищах: едва отесанный камень с грубым, только намеченным очерком лица. Иногда на передней стороне было высечено изображение рук, держащих рог, меч, кольцо; иногда на нижней половине, как бы у колен божества, виднелась фигурка коня. Но это… Белые каменные люди походили на настоящих во всем – в чертах лица, в завитках волос, в складках одежды. Скорее думалось, что они и родились живыми, но боги за какие-то провинности обратили их в камень. От славянских идолов греческие отличались так же, как настоящий живой человек отличается от мешочка с ножками-палочками, что дитя начертило щепкой на земле.
– Я боюсь! – заявила Живляна и сморщилась, будто боролась со слезами. – А вдруг и нас…
Женщины невольно озирались, будто искали ту неведомую силу, что обратила в камень этих несчастных. Вдруг она и сейчас еще таится здесь и угрожает новым гостям палатиона?
А вдруг все живые, что заходят сюда, обращаются в камень и остаются навсегда? И им, русам, суждено не выйти отсюда, навек остаться на этой «крыше», служа украшением дома и приманкой для новых простаков?
От этой мысли холодело внутри, хотелось бежать подальше, пока ноги носят. Но у ворот ждала василевсова стража…
– Да ладно: первую ночь пережили, значит, и дальше переживем! – утешил Улеб. – Иначе мы б и не проснулись!
– Да я и так не спала! – пожаловалась Святана.
– Сила Господня не допустит над нами зла! – невозмутимо заметила Горяна, которая из всех девушек держалась наиболее храбро.
– А я все равно три ночи спать не буду! Если три первые ночи переживем, дальше уже не страшно.
Однако никаких зловещих перемен в себе русы не замечали, руки и ноги повиновались, а любопытство тянуло дальше, и они разбрелись по дворцу, разглядывая новые чудеса. А тем не имелось числа. Стены, которые они сначала приняли за обтянутые шелком, тоже оказались каменными! Пластины камня – белого, серого, розового, зеленого, желтовато-рыжего – были подобраны с таким искусством, что складывались на стенах в узор, подобный вытканному. Гладкий, как стекло, камень назывался «мармарос».
Выше каменных плит стены и своды сияли многокрасочной яркой росписью: узоры из цветов, разные звери, удивительные синие птицы с длинными шеями и золотыми хвостами – вдвое длиннее самой птицы. Узор из кусочков цветного камня покрывал полы по всему палатиону – и внизу, и наверху, и даже во дворе! Из белого мармароса были вырезаны скамьи и столы с узорной столешницей, а на скамьях, чтобы не жестко сидеть, лежали подушки, обшитые яркими паволоками.
– Ну и добрый же человек этот Костинтин – отдал нам такой дом богатый, – дивилась Ута. – Где же сам теснится?
– Тот царев муж говорил, будто у василевса этих палатиев полтора десятка.
– Да ну, прихвастнул грек.
– Даже если у василевса есть другие усадьбы, не могут и они быть такими роскошными! Где набрать этих идолов, занавесей шелковых, скамей резных?
– Лучше бы он идолов-то себе оставил! – пробурчала Володея, и Эльга с ней согласилась.
Идолы стояли не только на галерее, но и в других частях дома, и русы поначалу шарахались от них. Зато отроки, свободные от службы, скоро приобрели привычку валяться в теньке на дворе и на окраинах сада, не сводя глаз с голых каменных девок и обмениваясь замечаниями, которых женщины не желали слышать.
Но те идолы, что представляли людей целиком, еще куда ни шло. Куда хуже – отрубленные каменные головы с открытыми глазами. У некоторых давно отбили носы, у других какие-то изверги на лбу высекли крест – это придавало им совершенно омерзительный вид. Мутило при взгляде на этих навей, и Эльга на другой же день после приезда велела набросить на них по куску полотна, чтобы не раздражали глаз.
А баня! Русам пришлось учиться ею пользоваться: тут не нашлось привычной им печи-каменки, ее заменяла другая печь, которая в большом бронзовом котле подогревала воду и подавала ее по трубам, уже горячую. Холодная вода шла отдельно, а еще было нечто вроде огромадного корыта, выложенного желтоватым мармаросом, и размеры его позволяли не только окунаться, но и плавать, как в озере!
А… В отхожем месте имелись сиденья с дырой, из которой поток воды уносил нечистоты по каменному желобу прочь – как сказали, аж в море. И все: ни вони, ни мух.
А еще здесь было очень светло. Поначалу все не верилось, что ты в доме: так светло не бывает в избах, где волоковое оконце на ширину двух ладоней. Если в яркий летний день дверь открыть нараспашку – и то столько света не будет. А здесь огромные «двери», которые оказались все же окнами, пропускали так много солнечного света, что он доставал в каждый уголок.
А сад, полный плодовых деревьев! Где-то на ветках уже желтели незнакомые крупные ягоды, где-то еще висели зеленые, а на третьих плоды и цветы красовались на одной и той же ветке. Сики, роди, лемони, эхляби, ровакино, верикоко[13] – вот как это называлось, по словам Мардония, грека-управителя, но эти чудные названия не держались в голове и ничего русам не говорили. А еще была «стафиля» – тот самый виноград, из которого делают вино. Стафиля росла на особых делянках с подпорками и пока оставалась совсем зеленой. Зато на кустах сада сладко благоухали белые и розовые цветы, и княгини полюбили сидеть и лежать на зеленой траве в тени, вдыхая запах роз, жасмина и олеандра.
Ута первой освоилась в большой поварне нижнего яруса, в пристройке: принимала поутру подвезенный царевыми слугами припас, надзирала за тем, как местная челядь готовит, и вскоре переняла и умения, и названия. Она первая из русов начала без толмача объясняться с челядью, запомнив, как по-гречески будет «хлеб», «сыр», «рыба» и «мясо». Даже научилась со временем сама разделывать хтаподия – морского гада, похожего на огромного паука, с клювом и множеством ног – и обжаривать на оливковом масле с луком и красным вином.
До полудня греки не ели, но Эльга распорядилась варить кашу из пшеницы и ячменя и печь блины. Для этого им доставляли свежее молоко от овец и коз – коров здесь не водилось, – пока не успело скиснуть на здешней жаре. Из овечьего и козьего молока делали мягкие сыры. Привозили мясо, много рыбы: ее варили, жарили, тушили с разными травами, иные из которых русы видели впервые. Хлеб привозили уже выпеченный, свежий, пироги с разными начинками и с добавленной в тесто пахучей травкой-укропом: было непривычно, потом, со временем, многим понравилось. В изобилии возили всякого овоща, свежего и сушеного. Оливки в уксусе, черные и зеленые, сперва женщины пробовали и плевались: кислятина, – но иные пристрастились, а Володея стала поедать оливки целыми корчагами. Виноград всех цветов, лилово-пурпурные сики, яблоки, груши, дыни, финики! Иной раз, напробовавшись, княгини по полдня не вылезали из отхожего места, но, оправившись, уже опять тянули незнакомую ягоду в рот. Для отроков греки привозили много хлеба погрубее, копченого мяса, рыбы.
Таким образом прошел не день и не два, прежде чем сама Эльга перестала вертеть головой по сторонам, сумела собраться с мыслями и задаться вопросом: так когда же она встретится с хозяевами всего этого – василевсами Константином и Романом?
* * *
Однако первым гостем русов оказался все тот же Савва Торгер. Всего через пару дней после их водворения в предместье Маманта он снова явился сюда и попросил о встрече.
Эльга, томимая нетерпением приступить к делам – тогда она еще не знала, что больше всего ей здесь понадобится именно терпение, – приняла его вместе с Мистиной и пятью приближенными Святослава. Последних возглавлял Улеб, сын Уты и двоюродный брат молодого князя. Савву сопровождал оптион – помощник для поручений – и топотирит друнгария флота, то есть доверенное лицо от начальствующего над морским войском. Первый – еще молодой человек с простыми чертами и деловитым выражением, а второй – более зрелый, с невыразительным лицом, на котором не то сильный ожог, не то болезнь оставили множество мелких шрамов. Оптион молчал потому, что ему говорить при старших не полагалось по должности, а подручный кораблеводителя – просто по душевной склонности. Толмач не требовался: все трое знали северный язык, поскольку по рождению принадлежали не к грекам, а к норманнам. И все трое почтительно перекрестились при входе в триклиний, где под сводом был в ярких красках мозаикой изображен на золотом поле образ Иисуса Христа – с рыжеватыми волосами и бородой, в красной тунике и синем плаще. По бокам от него застыли в поклоне: слева покровитель предместья святой Мамант Кесарийский, с дикой козой возле колен, справа его святые родители Феодот и Руфина. Эльга, сидевшая лицом к двери, заметила, как изменилось лицо вошедшего Саввы, когда взгляд его упал на лик Христа: в нем мелькнуло оживление, будто он увидел важного и приятного для себя человека, который тоже видит его.
Этериарх Савва Торгер, глава «средней этерии», состоявшей из наемников-норманнов, был уже далеко не молод. Судя по выдубленному морщинистому лицу и спокойному, мудрому взгляду светло-серых глаз, ему перевалил за середину шестой десяток. Высокий чин давно уже не требовал от него участия в схватках, но он явно не прекращал упражняться и оставался строен и крепок, как тридцатилетний: ни сутулости, ни тучности. Загорелая лысина поднималась почти до маковки, но на затылке еще держались коротко остриженные полуседые волосы; борода, совсем седая, была густа и опрятна, усы красиво загибались кончиками кверху.
– Откуда ты родом? – спросила у этериарха Эльга, когда все уселись.
Это очень старый обычай: при новом знакомстве попробовать счесться родней. И хотя в такой дали от дома он вряд ли имел смысл, привычка оказалась сильнее доводов рассудка.
– Из церкви Святого Ильи, – полушутливо ответил Савва и пояснил: – Там я появился на свет в баптистерии, и случилось это всего двадцать пять лет назад. Как видишь, христианин Савва еще далеко не стар, а скорее весьма молод. Уж куда моложе того язычника по имени Торгейр, который утонул в крестильной купели и сгинул, к счастью, навсегда. Что толковать о мертвеце?
Настаивать на серьезном ответе Эльга сочла невежливым: возможно, этот человек не хотел, чтобы кто-либо мог встать на его обратный след. Мистина бросил ей быстрый значительный взгляд: тоже так подумал.
– Возможно, вам известно, что ныне этерий существует три, – рассказывал Савва Торгер.
На нем был очень красивый кафтан красновато-коричневого шелка с желто-золотистой отделкой, но вся повадка выдавала воина – породу, которую Эльга угадывала с первого взгляда, ибо прожила близ этих людей всю жизнь. По привычке он часто вставлял греческие слова, о смысле которых приходилось переспрашивать, и выговор его звучал непривычно, но все же собеседники понимали друг друга, и киевским русам приятно было встретить здесь людей, говоривших на том же языке.
– Великая этерия набирается из македонцев, средняя этерия – это наши люди, в малой этерии служат всякие турки и сарацины, обращенные в христианство. И есть великий этериарх, начальствующий над всеми тремя, – он грек, его зовут Никанор Мита. Пользоваться наемными войсками – для ромеев очень старая привычка. Она насчитывает много столетий. Нынешней этерии положил начало василевс Лев Армянин, лет сто назад, и неудивительно, что его ближайшие наследники обратили взоры к тому народу, который в то время прославился боевитостью, – усмехнулся Савва. – Норманны тогда ураганом прошли по Франции, Испании, Италии, Британии и были известны как весьма способные к сражениям люди. Не знаю, кто был здесь первым наемником из Северных Стран, может быть, этериарх Ингигейр, чья дочь вышла за Василия по прозвищу Македонянин. Наш Константин август – их внук. Средняя этерия служит василевсам, как конунгам служат хирдманы – охраняя Мега Палатион, собственные их покои и вестиарий, где хранятся сокровища и самое дорогое платье. Вестиаритов здесь принято называть «львами» – как за их силу и бесстрашие, так и за золотые и рыжие бороды. Ты, верно, не знаешь, но греки считают, что наименования русов произошло от слова «русиос» – «рыжие».
– Должно быть, наградами вас не обижают? – улыбнулся Мистина, выразительным взглядом окидывая одежду и оружие Саввы.
Будучи неравнодушным к красивым вещам, он старался задавить невольную зависть.
– Василевс понимает, что от нашего довольства зависит его безопасность, а значит, жизнь. Но Романия продолжает вести войны с сарацинами Сайф ад-Даулы, эмира Алеппо и повелителя Сирийской пограничной области, а также с эмиром острова Крит, который ежегодно подвергает набегам и разграблению побережья Романии. Поэтому василевсу постоянно нужны воины. Замирившись с болгарами тридцать лет назад, ромеи наконец смогли взяться за сарацин как следует. Был здесь один очень толковый полководец – Иоанн Куркуас…
– Нам он известен, – вставил Мистина, уже без улыбки.
Взгляд его стал холодным, почти враждебным.
– А, ну да! – Савва посмотрел на него, что-то вспомнив. – Это же были вы…
– Именно тот отважный муж правил морским войском греков, когда мы приходили сюда с Хельги Красным, – пояснил Мистина в ответ на удивленный взгляд Эльги.
– Но в то лето доместика Иоанна не оказалось в столице, и вас чуть не сжег живыми не он, а Феофан, протовестиарий. Вообще-то старший вестиарий занимается присмотром за василевсовым платьем, – без малейшего сочувствия к этому двойному позору киевских русов засмеялся Савва, и рты обоих его спутников дрогнули в сдержанных улыбках, – но, как хранитель сокровищницы, считается и начальником над «львами»-вестиаритами. Однако я упомянул про Иоанна. Он не раз потрепал сарацин, и очень сильно. Дочиста разграбил Алеппо и тысячу других городов… Хотя я не знаю, кто именно их считал, – проворчал Савва, и в голосе его послышалась ревность к славному предшественнику. – Но здесь так говорят. Кое-что в его добыче было дороже любого золота: он привез из Эдессы Мандилион отпечаток святого лика Христова на полотне[14]. Его выменяли на две сотни пленных и ввезли в Константинополь через священные Золотые ворота, в которые имеет право проходить лишь василевс-триумфатор или Царь Небесный. Теперь Господь постоянно пребывает в Новом Риме – эта святыня хранится в церкви Богоматери Фаросской. Когда будете в Мега Палатионе, попросите позволения поклониться ей – будете вспоминать всю оставшуюся жизнь.
На лицах Улеба, Стейнкиля, Добровоя и других отразилось недоумение: полотенце с отпечатком чьего-то лица не вписывалось в представления гридей о богатой и почетной добыче.
– И в последние годы Константин август с Божьей помощью сильно потеснил сарацин: мечом проложил дорогу к Тарсу, Иерусалиму, Антиохии, – продолжал Савва. – Ему нужны новые воины, чтобы сражаться за дело Христа, и перед ними откроется весь богатейший Восток. Так сколько лет вашему князю, а твоему сыну, королева? – обратился он к Эльге.
– Девятнадцать.
– О, только мать может сказать так точно! Выходит, он уже достаточно взрослый, чтобы понять, какое достойное и выгодное дело ему предлагают. Если у вас есть люди, которым нужна слава и добыча – а я думаю, что они у вас есть, – то василевс примет их на службу. И если сам Сфендослав приведет их, то я почти могу обещать – насколько мне известен порядок таких дел, – что архонт росов получит почетный титул патрикия, как получали иные до него. Скажем, архонты турок Вулчу и Дьюла[15] несколько лет назад.
Савва подмигнул Улебу, на которого ему ранее указали как на двоюродного брата киевского князя и его главное доверенное лицо.
– У нашего князя есть своя земля, он правит ею, и ему незачем наниматься на службу к другим князьям, – надменно обронил Улеб.
– Но василевс ромеев – царь над царями, власть он принимает прямо из рук Бога и распределяет между всеми другими властителями в мире.
– Наши князья власть от своих дедов получают! – возмутился Улеб. – От наших богов, судьбы и с согласия дружины!
– Это лишь внешняя сторона вещей! – поправил Савва, улыбаясь, будто разговаривал с ребенком. – Всем правит воля Божья, просто Божий Промысел не всегда очевиден смертным. Лишь познавший истину Христову начинает понимать, как на самом деле устроен мир и кому в нем надлежит повиноваться, дабы обрести спасение.
– А также и то, что спасение души куда дороже любой земной власти, – мягко поддержал его Олег Предславич, и Савва благодарно кивнул ему.
– Я думаю, для начала наш князь пожелает узнать об условиях найма, – заметил Мистина, возвращая беседу в нужное русло. – Мы должны будем передать ему все подробно. Ты, Торгейр, верно, еще не забыл старый обычай: как делить будущую добычу, решают и скрепляют уговор клятвой еще на берегу, до того, как первый хирдман возьмется за весло. Те, кто забывает о нем по легкомыслию, потом платят за свою долю куда большую цену, чем она стоит, какой бы ни была.
– Это мудрый обычай, – согласился Савва, – но ромеям нет нужды учиться у русов. Здесь давно уже приняты законы и установлены порядки для таких вещей.
Он посмотрел на своего спутника – помощника кораблеводителя. Того звали Ефим Ислет – такое прозвище греки сделали из его прежнего имени Ислейв.
– Нам нужны люди, и мы принимаем всех: кто приходит сам по себе или целыми дружинами во главе с вождем. Вождь получает воинский чин – смотря много ли людей привел и как себя покажет. Если, скажем, людей у тебя всего на декархию – это десять человек, – то станешь декархом. Если сотня – будешь кентархом. Две-три сотни – это уже тагма, но тагматархом чужака сразу не поставят, сперва надо себя показать и заслужить доверие. Другнарий флота собирает тагму, то есть дружину, и дает ей корабль. Василевс обеспечивает людей оружием и содержанием, а также платит жалованье. Оно тем хорошо, что его выдают всегда: есть война, нет войны, есть победы, нет побед… – ухмыльнулся он.
– Хорошо для трусов и раззяв – сиди себе дома, без войны и без побед, да получай серебряшки, – хмыкнул в ответ Стейнкиль, парень самоуверенный и резкий в обращении.
Уверенный вид Ислета задевал русов: они чувствовали себя глупыми отроками, которых впервые учат правилам войны. Это их-то, чьи деды и прадеды сражались под стягами прославленных вождей!
– Не волнуйся – войны у василевса хватит на всех, – успокоил Ислет. – А победы – это будет дело вашей доблести и ума вашего стратилата.
– Ну а как же вознаграждаются победы? – осведомился Радольв – сын воеводы Вуефаста, пятнадцать лет назад ездившего в Царьград послом от малолетнего еще Святослава. – Как распределяется добыча?
– Все, взятое в бою и захваченное у противников, является собственностью василевса. А уже он, руками своих доверенных людей и должностных лиц, награждает достойных – кого деньгами, кого титулами и должностями, кого земельными наделами. После больших побед раздается много щедрых наград: и высоким чинам, и простым людям. Каждый получает сообразно своему чину: чем выше чин, тем выше награда.
– Собственностью василевса? – Мистина недоверчиво поднял брови. – Мы привыкли, что добыча является собственностью дружины, которая ее захватила. Что с бою взято, то свято. Так у нас говорят. А вождю лишь принадлежит почетное право распределять взятое, за каковой труд он и получает десятую долю.
– И мы слышали, как у вас дележка происходит, – вставил Радольв. – Мой отец знавал одного, который служил тут, у греков – может, у этого вашего Иувана… Так он говорит, дружине по серебряшке раздадут, а все остальное воеводы царские делят – дескать, это они город взяли, им и добыча! Василевсу, дескать, принадлежит!
– Да где он был, ваш василевс? – хмыкнул Стейнкиль. – Небось дома сидел, пиво дул да девок щупал, пока люди кровь проливали!
– Бывает, что василевс принимает участие в битвах, но нечасто, – Савва улыбнулся, скорее забавляясь этой юной самоуверенности, чем сердясь. – Ему не нужно пытаться заслужить часть добычи, как простым смертным. Добыча, мой юный лосось, принадлежит василевсу, потому что василевсу принадлежит в Романии все.
После этих слов Савва вдруг повернулся к Эльге:
– До меня доходил слух, будто народ рос и его архонты выражают благочестивое желание – принять святое крещение и стать наконец верными друзьями Василии Ромеон…
– Пока не все ее архонты выражают такое желание, – вставил Мистина, – но они подумают об этом, если получат основания.
– Но ты, королева, приехала сюда, чтобы стать христианкой?
– У меня было намерение сделать это, – сдержанно ответила Эльга, – если слухи о могуществе и богатстве греков, которые доходили до меня, окажутся правдивы.
– И ты не пожалеешь, если примешь это решение, которое выведет тебя из тлена в жизнь вечную. Ты сможешь послужить орудием в деле Христа, дать ему новые тысячи воинов, чтобы и иные святыни, вслед за Спасом Нерукотворенным, освободить из нечестивых рук, раздвинуть пределы Романии, увеличить мощь и славу верных во Христе Господе автократоров августов, великих василевсов ромеев Константина и Романа. Уже за это Господь простит тебе многие грехи.
– Княгиня еще не стала христианкой, а значит, Христу пока нечего ей прощать, – заметил Мистина, которому этот поворот разговора понравился не больше предыдущего.
Едва обратив на него внимание, Савва продолжал пристально смотреть на Эльгу из-под бровей, еще довольно темных, и его взгляд почему-то смущал ее. Сейчас она заметила на его правом виске старый шрам из двух белых рубцов и подумала: немало пережил этот царьградский лев, норманн родом, но истинный ромей по образу мыслей.
– Я получил эту отметину очень давно, – Савва заметил ее взгляд и прикоснулся пальцем к шраму, – более двадцати лет назад, когда мы под началом доместика Иоанна захватили Мелитену. Я сам тогда еще был язычником, но дал обет стать христианином, если Господь сохранит мне жизнь и поможет оправиться от раны. В те времена я убедился, как много Бог дал избранному им народу ромеев. Вы сами уже видели немало из Его благодеяний, и с каждым днем будете видеть их все больше и больше. Я сам многое покажу тебе, королева, если только логофет дрома не станет возражать… Но у меня есть средства сделать его покладистым, – Савва усмехнулся. – И с того дня я ни разу не пожалел о своем решении. Вступая в семью христиан, ты становишься бойцом сильнейшего в мире воинства, чье наследие будет велико: на земле – это золото и почести, а после смерти нечто большее – спасение души и Царствие Небесное. Ты, королева, достаточно умна, чтобы понять все эти преимущества. Я вижу это по твоим глазам.
Эльга не ответила, лишь слегка наклонила голову. Не слишком ли много он пытается увидеть в ее глазах? Мистина, судя по застывшему лицу, тоже находил, что гость позволяет себе лишнее. И вот-вот скажет об этом вслух…
– Мы благодарны вам за внимание и за рассказ, – со сдержанной любезностью произнесла Эльга: пришла пора заканчивать беседу, пока чего не вышло. – И непременно обсудим ваши предложения с послами моего сына и других наших конунгов и хёвдингов.
Когда гости удалились, Мистина пошел провожать их до дверей. Отроков Эльга отпустила в сад – ясно же было, что им не терпится стянуть кафтаны и обсудить услышанное между собой, не стесняясь в выражениях, – а сама осталась сидеть в триклинии, обмахивая шею концом убруса. В месяц кресень и в Киеве жара, а здесь она в своем белом платье из тонкой шерсти едва не таяла.
Вернулся Мистина, на ходу расстегивая мелкие золотые пуговки на полураспашном кафтане, и сел на ближний край скамьи.
– Видела у этого, – он кивнул назад, вслед ушедшим, – хёвдинга корабельного вся рожа в шрамах? Это его «греческим огнем» когда-то обожгло. От него такие же отметины остаются.
– Он не всегда воевал на стороне греков?
– Похоже. Неудивительно, что этот Савва, он же покойный Торгейр, так складно пел. Судя по платью, мечу, поясу и перстням, этому соловью седоватому добра перепадает немало. Но, честно говоря, если я пытаюсь представить, как буду в Олеговой гриднице уговаривать людей послужить василевсу, который возьмет всю добычу себе, а уж потом наградит их, как посчитает нужным, то чувствую себя дурак дураком. Будешь говорить с самим василевсом: наши условия обычные – мы сами правим своими дружинами, выполняем то, что нам поручат, и владеем тем, что захватим… Слушай, как бы нам тоже шелковые кафтаны справить, а то упаримся здесь совсем.
* * *
Через три дня отроки доложили, что Эльгу просит принять помощник Саввы Торгера – оптион Даниил. Его прислали предупредить, что завтра этериарх будет сопровождать в палатион Маманта очень важное лицо: патрикия Артемия Конда – логофета дрома. Аудун и другие купцы ранее объясняли Эльге, что именно через его людей ведут все дела, но самого боярина-патрикия купцы никогда не видели: это был слишком важный чин, чтобы лично общаться с какими-то торговцами, да еще варварами.
Купцы в своем «страхонесе», или подворье, уже вовсю принялись за дела: ездили в город, искали покупателей на меха, мед и прочее, приглядывались и приценивались к тому, что хотели купить, приходили советоваться к Эльге и другим хозяевам товара. Ее же настоящие дела пока не двигались с места, но тут купцы не могли помочь: в царский дворец, где это все решается, им ходу нет.
Зато они доставили выменянный на куниц гладкий шелк – простой, из городских лавок, и женщины сели шить платья и кафтаны для дома. Наряды для дворца они привезли с собой, но оказалось, что в тонких шерстяных платьях тут можно умереть от жары. К счастью, бобры, куницы и особенно соболя здесь стоили куда дороже, чем дома, а Эльга привезла про запас, понимая, что при содержании такой оравы могут возникнуть самые неожиданные расходы.
Благодаря новости Даниила Эльга вздохнула с облегчением: она уже стала бояться, не забыл ли про них василевс. Может, прихворнул? – говорили русы между собой. – Или на войну уехал? Хорошо, что им дали отдохнуть с дороги, но пора бы уже и повидаться, о делах поговорить. Посмотреть, как виноград растет, конечно, любопытно, однако не для этого они такой ордой волоклись на другой конец белого света! Княгиня надеялась, что если завтра они обо всем условятся с боярином, то на днях можно будет встретиться и с царем.
– Этериарх поручил мне передать еще кое-что, – почтительно добавил Даниил, устремив на Эльгу доверительный взгляд.
– Что же?
– Патрикий Артемий – скопец. Многие русы презирают таких людей и считают их пригодными только для… – парень запнулся, – непристойных утех, но тебе следует знать: в Романии оскопление ничуть не вредит чести и не мешает занимать высокие должности.
– Ведь евнухи земными страстями не мучимы и потому ангелам Божьим подобны, – вставил отец Ригор.
– Среди прославленных полководцев или царедворцев немало скопцов, – добавил Даниил. – На иные должности при особе василевса назначают только скопцов, и они при нем в большую силу входят.
– Это почему? – полюбопытствовал Мистина. – За жену опасается?
– За себя. – Светловолосый парень сдержанно улыбнулся.
– Что?
– Греки считают, что обычный мужчина может сглазить василевса. А скопец не может – у него же силы нет… Поэтому при спальне, при платье и прочих таких делах – только скопцы. Василий Ноф, паракимомен, то есть старший спальник, тоже скопец, и он же царев самый главный помощник и советник по всем делам. Иосиф Вринга был препозитом Мега Палатиона, то есть правил всеми приемами и пирами, а с нынешней весны он сакеларий и старший кораблеводитель. Также и Артемий – будет неразумно показать, что тебе, княгиня, или твоим людям неприятна эта его… особенность. Так мне велел передать этериарх.
– Вот не думал дожить до такого: говорить о делах с какой-то… мужебабой! – воскликнул Претибор, посол Грозничара черниговского.
– Ну а он не думал дожить до того, чтобы вести переговоры с женщиной, – напомнил Алдан.
– Передай твоему хёвдингу нашу благодарность, – сказала Даниилу Эльга. – Радольв, предложите гостю вина.
Даниил поклонился, и Святославовы отроки увели его. Пусть поболтают между собой: здесь полезны любые связи, особенно с людьми, понимающими северный язык.
Когда царевы мужи вступили в триклиний, Эльга ждала гостей, сидя в дальнем конце покоя. Там было устроено нечто вроде открытой клети с округлыми стенами, куда вели две широкие, невысокие ступени из рыжеватого пятнистого мармароса. Небольшое внутреннее пространство освещали два оконца, пробитые в толстенной стене. Эльга приказала передвинуть туда большой ларь, украшенный резной костью. На него положили пару подушек, и Эльга сидела на нем, принимая гостей, как у себя дома. С возвышения в конце открывался хороший вид на весь покой и людей за столами.
Встречи с важным царедворцем она ждала с волнением и некоторой тщательно скрываемой растерянностью. Мужчина, который на деле вовсе не мужчина, ей казался кем-то вроде оборотня. Или даже не совсем живого. Однако Артемий – человек очень влиятельный. После окаменевших людей на верхнем ярусе вид мужика без снасти она как-нибудь перенесет, успокаивала себя Эльга. Он же в портках, снаружи ничего не видно, только вот бороды нет.
Сама Эльга смотрелась достойной хозяйкой этого изящного беломраморного покоя – в белой шелковой далматике с голубой отделкой и жемчужным шитьем, с белым убрусом на голове, с длинными моравскими подвесками на очелье. Даже во взгляде Артемия, никогда не знавшего влечения к женщине, при виде ее промелькнуло если не одобрение, то, во всяком случае, любопытство.
Логофет дрома, носивший высокое звание патрикия, оказался рослым, плотным, если не сказать тучным мужчиной средних лет; еще не старым, но вида не слишком свежего. Черты полного лица выглядели оплывшими, но хранили выражение горделивой важности. На седоватой коротко стриженной голове сидела высокая округлая шапка, сплошь шитая золотом. Его сопровождал десяток воинов и еще какие-то люди без оружия, одетые более скромно.
– Да благословит Бог этот дом и его гостей! – Голос у гостя оказался слишком высоким для человека такого крупного сложения. – С твоим приездом, архонтисса, этот палатион стал дворцом чудес! Клянусь головой василевса! Я повидал в жизни многое, но ни разу не видел, чтобы в тронной апсиде кто-нибудь сидел… на сундуке!
– Где? – не поняла Эльга.
– Известно ли тебе, что это – место для трона?
– Нет, – Эльга улыбнулась. – Трона здесь не было. Но я сразу поняла, что это место для меня.
– Конечно, его не было. Трон Михаила вынесли, когда решили поместить тебя и твоих людей в этот дворец. Кто же мог догадаться, что бойкие русы сами восполнят недостаток убранства!
По левую руку от Эльги уселись на длинной лавке женщины свиты, а по правую – послы. Ее племянник, ныне древлянский князь Олег Предславич, княгинин свояк Мистина – старший киевский воевода Алдан, через брак с Предславой Олеговной вошедший в круг княжьей родни, Соломир Дивиславич – воевода вышгородский, его двоюродный брат Колояр Держанович. Молодые воеводы Войко – зять Мистины, Одульв – сын воеводы Ивора, почти полтора десятка лет назад ездившего послом в Царьград от Ингвара. Святослав прислал пятерых, кому доверил говорить от своего лица: двоюродного брата Улеба Мистиновича и ближних гридей: Стейнкиля, Градимира, Радольва и Добровоя. В глазах своих приближенных Эльга с беспокойством заметила брезгливое любопытство, будто перед ними сидел не высокопоставленный царедворец, а говорящая жаба. И с тревогой подумала: а что, если и у нее самой такой же взгляд?
Она попыталась расслабить лицо и придать взгляду приветливость, но, к счастью, Артемий был слишком преисполнен сознанием собственной важности, чтобы вглядываться ей в глаза.
– К нам в первый раз приехала женщина-игемон, и поэтому требуется обсудить порядок твоего представления августу, – объявил патрикий, тоже усевшись.
– Как ты меня назвал? – Удивленная Эльга нахмурилась. – Гиги… гиге…
– Игемон, – повторил Артемий. – Ведь среди твоих спутниц есть другие архонтиссы?
– Да, – Эльга глянула на своих женщин, которые внимательно рассматривали узорный шелк синей далматики Артемия и гладкий – малинового плаща с квадратной золотой нашивкой на груди. – Мои родственницы, княгини других русских земель.
– Но они подчинены тебе?
– Да. Вот это – моя родная сестра Володея, княгиня земли Черниговской. Это – Прибыслава, моя двоюродная внучка, княгиня земли Смолянской. Это моя двоюродная сестра Ута, она была в прошлом замужем за Дивиславом, князем ловацким. Ее нынешний муж – Мистина Свенельдич, мой первый воевода и советчик.
Подручные Артемия торопливо царапали палочками по восковым дощечкам: записывали важные сведения.
– Ярослава – жена моего племянника Олега Предславича, княгиня Деревляни. Это – их дочь Горяна. Это – Предслава Олеговна, старшая дочь моего племянника, она была княгиней Деревляни в прежние годы.
Асикриты подняли на нее удивленные взгляды, не понимая, как мать унаследовала княжество за живой дочерью, но Эльга не стала объяснять: их какое дело?
Таким порядком Эльга рассказала обо всех своих спутницах и наиболее знатных спутниках, после чего Артемий кивнул:
– Ты, как наследница твоего мужа Ингера – великого и светлого князя русского, можешь носить титул игемона, то есть владычицы над всеми прочими. А остальные – просто архонтиссы. Когда вы предстанете перед василевсами, то, подойдя к трону, нужно будет совершить проскинесис…
– Что совершить?
– Проскинесис. Иначе говоря, пасть ниц перед августом, протянув руки вперед.
– Я? – Эльга удивилась. – Я ни перед кем падать не собираюсь.
– Таков порядок. Василевс является повелителем всего обитаемого мира и владыкой над всеми иными владыками и архонтами. Ибо он космократор, царь царей, царствующий над царями! Всякий, кто прибывает из дальних стран лицезреть его, должен выразить свое почтение, совершая проскинесис.
– Нам-то он не владыка! Он что, на войне нас победил? Земли наши завоевал? Ничего похожего: это мой дядя Одд и мой муж Ингвар не раз приходили сюда с войском, и дань по се поры от вас получаем. Не брали вы над нами такой силы, чтобы мы перед вами ниц падали! Ты лучше скажи, когда уже василевс нас к себе позовет.
– Ваш прием еще не назначен, но мы можем назначить его на один из дней уже в первой половине септембриоса.
– Это когда? – не поняла Эльга.
– Сейчас начало иуниуса.
– И что?
– Это значит, что василевс сможет принять тебя через три месяца, – как ребенку, растолковал Артемий.
– Три месяца? – Эльга в изумлении воззрилась на своего толмача, Торстейна, и тот подтвердил: нынче кресень-месяц, а принять царь обещает в месяц вересень.
– Да вы что, с ума сошли? – Эльга подняла брови и наклонилась вперед, не веря услышанному. – Три месяца мне здесь у вас сидеть? Да через три месяца наши купцы уже домой поедут, вот и мы…
– Ну, что ж, – усмехнулся Артемий, – дабы посмотреть проастий Маманта, тебе уже стоило приехать от крайних северных пределов. И поскольку августам ничего от тебя не нужно, я думаю, они не станут препятствовать твоему отъезду.
– Но почему так долго? Я за год объявляла, что желаю приехать, и августы согласились, прислали мужей своих, чтобы меня встретили в Месемврии, дары поднесли и заверили, что Константин и Роман меня ждут. Почему теперь тянуть до самой осени? Что за шутки?
– Какие шутки? Я не мим, чтобы шутить с тобой! – Артемий тоже начал досадовать. – Ваш прием будет назначен на самое раннее число, какое только возможно, едва мы получим ясность о некоторых вопросах. Ты думаешь, августам больше нечего делать, кроме как встречаться с каждым варварским архонтом, какого любопытство или корысть приведут в Новый Рим? Клянусь головой апостола Филиппа! Такие посольства, как ваше, сюда приезжают каждый день! Василевсы должны принимать их, заниматься делами Романии, присутствовать на играх ипподрома, посещать церковные службы! Знаешь ли ты, что посещать службы василевс должен каждый день, и его священные обязанности требуют немало времени. Ежедневно он встает на заре и все время между утренней молитвой и обедом посвящает делам. Стратиги, царские протонотарии, должностные лица в селах, областях, городах – все и отовсюду шлют василевсу письма. Он должен прочитывать и эти письма, и ответы на них, определять, как быть с теми, а как – с этими. Он принимает чиновников, следит, приносят ли пользу разные нововведения. Василевс наш Константин – советник, радетель, стратиг, воин, военачальник, предводитель! К тому же он очень любит ученые занятия и сам составляет научные труды для назидания своих детей и блага грядущих поколений. Сейчас он работает над жизнеописанием своего великого деда, Василия августа. Его дни распределены, а приемы иноземцев расписаны на месяцы вперед! Для сбережения времени мы вынуждены на прием или обед приглашать по два-три посольства сразу.
Эльгу бросило в жар; стиснув зубы, она лишь надеялась, что по ее лицу не видно, насколько она раздосадована и унижена.
– Но вы же знали о том, что я приеду нынче летом!
– Откуда мы могли знать, в какой день ты приедешь – да и приедешь ли вообще? Теперь, когда ты здесь, мы можем назначить день приема. Но сперва нужно решить некоторые вопросы… Итак, – Артемий положил усаженные дорогими перстнями пальцы на толстые колени и подался вперед, – изложи, ради какой нужды твоя светлость приехала в Романию?
– Я скажу об этом василевсу, когда мы увидимся, – Эльга не поняла, зачем ее спрашивают об этом заранее.
– Когда вы увидитесь, вы говорить не будете. Никто из посещающих Священный Дворец не может напрямую говорить с августейшими особами. Когда тебя допустят предстать перед троном, я сам встречу тебя у ступеней и от имени василевса буду предлагать вопросы и передавать приветствия. Послы в этом случае вручают свои грамоты и сообщают о здоровье пославших их архонтов. Но поскольку ты сама – архонт, то грамот передавать не нужно. После этого послы удаляются, а все дела обсуждают надлежащим порядком с назначенными для этого людьми. Для этого есть я, есть паракимомен Василий, протоасикрит Симеон, один-два магистра, кому василевсу угодно будет поручить разговор с тобой. А уже высшие чины передают августу просьбы иноземцев и его ответы. Когда же все будет обговорено, василевс тем же порядком дает им прощальный прием, где выражает пожелания удачного пути.
– Вот как! – Эльга всплеснула руками. – То есть гости видят его, когда приезжают и когда уезжают, но ни разу не говорят с ним?
– Видеть повелителя христианского мира, царя над царями, достаточная честь. Если он сам будет еще говорить со всяким о его делах, то у него не останется времени даже обратиться к Богу.
– Но я приехала для переговоров с василевсами, а не с тобой!
– Я полагаю, в вашу честь будет дан обед, а может, и игры на ипподроме. Там ты, вероятно, сможешь обменяться с василевсом несколькими словами.
– Игры, обеды! Я не играть приехала! У нас дела важные.
– Я здесь для того, чтобы выслушать о ваших важных делах.
– Я не стану говорить с тобой о моих делах, – отрезала Эльга. – Это касается кесарей и меня.
– Таков порядок, – со сдержанной досадой, наставительно повторил Артемий, мысленно прося у Бога послать ему терпения. Поистине, терпение – первая добродетель того, кого должность понуждает постоянно возиться с варварами. – Не все дела достойны того, чтобы тревожить ими слух василевса и занимать его время.
– Так что же, – Эльга подалась вперед, – нам нужно прийти в Суд с войском на тысяче кораблей, чтобы василевсам стало угодно нас выслушать?
В мыслях мелькнуло: а что, если они были правы – Бряцало, Альрик Шило, Вуефаст, Сигдан Ледяной, – твердившие, что греки понимают только язык меча и секиры?
– Тогда адское пламя поглотит вас еще при жизни, – презрительно бросил Артемий. – Твой муж, помнится, испытал это на себе. Клянусь головой василевса! Я вижу, вы пришли не ради мира, а чтобы вести споры!
Каждый лучше помнит свои победы, чем поражения. И греки лучше помнят разгром при Иероне, чем те набеги руси, которые завершились выкупом, данью и заключением договоров. Пылая негодованием, Эльга хотела напомнить о них, но сдержалась. Имея цель считаться обидами, лучше приходить с гридями, а не с бабами. Сейчас русы в первый раз пытаются говорить с греками на другом языке, а по первости и более легкие вещи худо выходят.
– Коли таков порядок, то вот что! – Эльга взяла себя в руки. – Объяви царям и патриарху: я приехала сюда, желая быть наученной Христовой вере и принять святое крещение. Я желаю получить наставление от патриарха, а принять крещение от самого василевса, ибо он – владыка христианского мира.
– Сам Бог вложил тебе в душу это благочестивое желание! – Округлое лицо Артемия разгладилось, и он принудил себя улыбнуться. – Вот все и устраивается наилучшим образом. Твоей светлости стоит прежде принять крещение, а уж потом явиться к василевсу. Возможно, если василевс изволит удовлетворить твою просьбу и самолично станет твоим крестным отцом, то тебе можно будет предстать перед ним, не совершая проскинесис. А поскольку перед крещением тебе предстоит научиться всем законам христианской жизни и доказать прочность твоего намерения, это займет время до приема.
– Я уже наставлена в христианской жизни, – Эльга нашла глазами священника, Ригора-болгарина.
Она привезла его с собой из Киева именно с той целью, чтобы он засвидетельствовал перед греками ее готовность.
– Об этом тебе стоит говорить не со мной, а с патриархом. Уверен, он с радостью откликнется на твою просьбу. И когда он назначит день твоего крещения, я смогу назначить день приема. Ради блага твоей души надеюсь, что не придется ждать долее необходимого.
С этим патрикий Артемий и простился с Эльгой. И теперь она знала: сколь ни удивителен показался им этот громадный дом-гора, дальше все будет еще сложнее.
* * *
О том, чего Эльга на самом деле хочет от василевса, знали она сама и трое мужчин: Святослав, Мистина и Асмунд. Даже Уте не сказали, чтобы не проговорилась как-нибудь случайно дочерям и слух не пошел гулять по Киеву. Снаряжая княгиню-мать с посольством в Царьград, Святослав и дружина хотели простой вещи: чтобы греки помогли задуманному походу на хазар. Не войском – сами найдем, а лишь участием своих союзников: печенегов и алан. От первых требовалось прежде всего не трогать русские рубежи, пока войско будет занято в другом месте, и еще помочь конницей, а от вторых – напасть на Шелковый путь в пределах каганата, что вынудило бы хазар разделить силы. Замысел был недурен и, в общем, вполне осуществим: грекам почти ничего не пришлось бы делать самим, лишь повлиять на союзников, что им вполне по силам. А русам это обеспечило бы почти верную победу. Эльге и послам предстояло добиться от греков согласия на этот замысел.
Легко сказать! Удача и самой Романии обещала большие выгоды: греки получили бы всю Таврию, свое прежнее владение, двести лет назад отнятое каганатом. От былого василевсам осталась только фема Херсонес и устье Днепра, на которое, в свою очередь, постоянно покушались русы. В то время как обладание Боспором Киммерийским[16] сулило огромные торговые выгоды. Эльга считала, что попытаться стоит: русы и греки разделили бы наследство одряхлевшего каганата, что всем пошло бы на пользу. Русь, завладев частью путей на Восток, получила бы доступ к огромным богатствам без необходимости постоянно ходить в грабительские походы. Отказалась бы от бродячей жизни: лето – война, зима – полюдье. Смогла бы обрасти жиром, пустить корни, создать державу не хуже Болгарского царства, а там и Греческого. Мужьям и братьям следующих княгинь не придется с юных лет браться за оружие, чтобы заслужить честь и раздобыть сокровищ.
Но чтобы тебя стали слушать, нужно общаться на понятном языке.
– Ясное дело, что греки хотят назад себе Таврию отхватить, – говорил Асмунд. – Но едва ли они так уж хотят, чтобы мы заняли часть Шелкового пути, а то и днепровское жерло!
Эльга понимала, что эти сомнения справедливы. И мысленно нашла решение, но поделилась им только с тремя наиболее доверенными людьми: сыном, братом и свояком.
– Василевс чужому человеку, может, и не захочет помогать, а своему – захочет, – сказала она им. – Как говорится, у него серая уточка, у нас ясный сокол.
– Это ты про кого? – удивился Святослав.
– Про Улебку, что ли? – Асмунд вопросительно посмотрел на Мистину.
– Про тебя я! – вздохнув, пояснила Эльга сыну. – Князь киевский-то кто? Не Улебка ведь!
– У меня есть жена! – напомнил Святослав.
Он женился всего пару месяцев назад и еще не мог надышаться на Прияславу, хотя изо всех сил старался этого не выдать.
– И что?
Святослав помедлил: ну, да, где одна жена, там случается и другая. Просто ему никакой другой не было нужно и такая мысль не приходила в голову.
– Я… может…
– Ты можешь любить кого хочешь, тут же речь не об этом. Если царь отдаст нам дочь, и печенеги и аланы будут наши. И ступай тогда на каганат с песнями.
– У него дочери-то есть? – спросил Асмунд.
– Их пять! – Эльга заранее выспросила купцов, делая вид, будто ею движет обычное бабье любопытство. – Агафья, Анна, Зоя, Феофано, Феодора. Все уже взрослые.
– Это у Романа жена – Феофано. Говорят, потаскуху какую-то подобрал…
– Жена – Феофано, и сестра – Феофано, – Эльга уже не путала этих двух. – Жене царское имя родовое дали то же, что у сестры Романовой. Их у Коснятина пять девок – неужели нам одну пожалеет? Не солить же ему их!
– И отдаст за некрещеного? – Мистина кивнул на Святослава.
– Не буду я креститься! – возмутился Святослав под взглядами трех пар вопрошающих глаз. – Еще чего выдумали! Уродство такое! Того не делай, сего не желай, люби своих врагов! Да меня дружина засмеет!
– Дружина сделает, как ты, – напомнила Эльга, и оба воеводы кивнули.
– Так уже бывало, – добавил Мистина. – Я слышал, было немало таких случаев: если крестился конунг, крестилась и вся дружина.
– А если они не захотят? Если скажут, что я богов предал и стал под греков тонконогих рядиться?
– Ты помнишь, как эти тонконогие… – Эльга не хотела напоминать о поражении Ингвара, но считала, что преуменьшать силу соперника – глупо.
– Это потому что у них греческий огонь!
– Не только! – вздохнул Мистина, помнивший сражения в Анатолии с катафрактами Никифора Фоки, где никакого греческого огня не применялось.
– Крещение войне не помеха, – сказала Эльга. – Сам думай. С крещением получишь царевну, с царевной – помощь от печенегов и алан, а с ними – победу над каганатом. Выбирай. Ты – князь руси, тебе и решать.
В ту пору Святослав ничего не решил. Обещанный выигрыш был велик, но и цену предстояло заплатить немалую. Будут сложности со всеми: Прияной, дружиной, богами, народом… Ему хотелось помериться силами с Царьградом, испытать себя и свою удачу там, где отец потерпел несомненное поражение, кое-как заглаженное потом мирным соглашением и не слишком-то выгодным новым договором. Но пока он не понял: а есть ли у руси на это силы? Или он только, как отец пятнадцать лет назад, напрасно погубит десять тысяч человек?
Но вот настала весна, вскрылся Днепр, прошел верховой лед. Время отъезда посольства придвинулось вплотную.
Прияна ходила «тяжелая», ей оставалось до родов не так долго, но беременность протекала нелегко, она измучилась сама и измучила домашних, особенно мужа, которого возмущало уже само то, что это бабьи тяготы не дают покоя и ему. Угнетали дурные предчувствия: от родов умирает каждая четвертая баба, когда не каждая третья, а Прияслава с детства Кощею принадлежит… Дружина же без устали толковала, как лучше идти на хазар.
Однажды Святослав пришел к матери и сказал:
– Будь по-твоему. Сватай царевну, но только если про каганат они твердо пообещают и клятву дадут.
– Клятву? Они дадут невесту, а при этом клятв уже не требуется.
– Как знаешь. Но чтобы никто из наших ничего не знал! Пока не решится все – чтобы как могила!
Это Эльга охотно ему пообещала: если им откажут, огласка принесет только напрасные раздоры и позор.
Однако, сидя в Киеве, она не представляла себе трудностей задуманного дела. Свататься? К дочери василевса, который даже повидаться с ней готов разве что через три месяца?
Но не отступать же ей, племяннице Вещего! Хочет василевс или не хочет – ему придется с ней поговорить!
* * *
После ухода Артемия Эльга отпустила всех из триклиния, а сама осталась сидеть, пытаясь привести в порядок мысли и успокоиться. Вернулся Мистина, провожавший патрикия. Лицо у него было брезгливое: повернувшись к гостю спиной, он наконец дал волю чувствам. На ходу расстегнул пояс, стащил через голову кафтан, бросил своему отроку, сделал бровью знак: унеси. Сел напротив княгини, подул себе за пазуху.
– Решилась все-таки?
Хотя и так ясно: раз она объявила о желании креститься логофету дрома, а через него василевсу и патриарху, назад пути нет.
– А ты так и не понял почему? – резко ответила Эльга. После беседы с Артемием ее трясло, и сейчас волнение и досада прорвались наружу. – Ты видишь, как нас принимают? Этого к… козла пернатого, мужежабу эту, нам пришлось неделю дожидаться, и он пожаловал сказать, что василевс раньше чем через три месяца для меня денька не выберет! Потому что мы для них – грязь под ногами! Он же сказал, ты слышал: таких, как вы, тут каждый день толчется… И мы не заставим нас уважать, пока не станем с ними одной веры. Царь так и будет ко мне свою челядь посылать, словно я бродяжка и ко мне самому хозяину выходить невместно. И мы ничего не добьемся. И правы окажутся Сигдан, Вуефаст и прочие, кто твердит, что к грекам надо не посольства отправлять, а войско на тысяче кораблей. Я хочу говорить с василевсом, а не с его псами. Но не вижу, как мне этого добиться, кроме как стать его духовной дочерью. Когда он сам меня окрестит, то уже не сможет отказать мне во встрече.
– Уверена?
– Спроси Ригора. Он тебе объяснит, что такое восприемники от купели и каковы их обязанности. Он перед Богом своим будет обязан говорить со мной и разрешать все мои сомнения.
– О вере? – Мистина насмешливо поднял бровь.
Эльга почти с отчаянием воззрилась на него:
– Ну, если он так глуп…
Мистина рассмеялся, но не очень весело:
– А что, если глуп? Что, если и надо говорить не с ним, а со всеми этими…
– Я собираюсь… – Эльга быстро огляделась, желая убедиться, что никто их не слышит, – я собираюсь, – она понизила голос, – сватать его дочь. С кем говорить о таком деле, если не с отцом? Он может передать любые дела царедворцам, но отцом своим дочерям остается он сам. Но если хотя бы я не буду к этому времени крещена, то заводить такой разговор – только напрасно позориться. Все равно как… Не слышал, есть такая сказка, как конунгова дочь подобрала на болоте лягушку, а та ей и говорит: поди за меня замуж!
Мистина захохотал, мотая головой: не всякий день увидишь, как княгиня русская изображает влюбленную лягушку. Эльга закрыла лицо руками и замерла. Ее мучила отчаянная тревога, будто предстояло идти по тонкому льду к невесть какому берегу. Но другого пути не просматривалось.
– Тебе страшно? – с пониманием спросил Мистина.
Он-то знал, что в этом своем решении Эльга колебалась до самого последнего мгновения.
– Мне страшно! – не отрывая рук от лица, она кивнула. Свояк был одним из двух-трех человек, кому она могла признаться в чем-то подобном. – Я не знаю, что со мной будет, когда я… окажусь во власти Христа. Сама отдам себя на милость… Бога, которого не знали мои деды.
– Спроси у Ригора, – насмешливо посоветовал он.
Эльга опустила руки.
– А ты не хочешь идти со мной! – как обвиняя, выкрикнула она.
Мистина молча помотал головой. Взгляд его отвердел, будто закрылись заслонки на окнах души: он видел ее, но не давал заглянуть в себя.
Эльга не могла сказать ему «ты боишься» – в его храбрости она не сомневалась. И не могла признаться, чего сама боится сильнее всего. Даже не того, что после крещения ее жизнью начнут править иные законы, и за каждый свой шаг, даже за каждый помысел придется отвечать перед суровым и всеведающим Богом греков. Не угадаешь, где согрешишь. И когда тебя постигнет наказание: при жизни, после смерти? Во всем себе отказывать, радоваться земным бедам, ибо они искупают грехи и облегчают посмертную участь. Сидя над пожарищем, приговаривать радостно: Господь посетил! Вот потому Святослав и говорит, что Христова вера – «уродство одно».
Хуже было другое. Эльга отчаянно боялась, что вода крестильной купели и впрямь смоет с нее все прежние привязанности и устремления. Что все ее близкие, не прошедшие через купель, станут ей чужими. А это – почти все ее окружение: Святослав, Мистина, Асмунд, Улеб. Бояре в Киеве. Другие русские князья. Ей станет так же трудно понять их, как еще год назад они не понимали друг друга с Олегом Предславичем. Но с ним они говорили всего лишь о семейных делах. А со всеми этими людьми ей вместе править русью и Русской землей! Как они будут это делать без понимания? И не погубит ли этот ее шаг державу, которую она хочет возвысить? Риск был слишком велик, чтобы кидаться вперед очертя голову. И ладно бы, если для нее одной…
Ригор обещал, что взамен она получит неописуемое блаженство Божьей любви. Но трудно решиться променять знакомое и привычное на неведомое.
Раньше ей даже не приходил в голову вопрос, любит ли она Мистину. Он просто был рядом – все двадцать лет ее существования как княгини киевской. А теперь у Эльги появилось чувство, будто она уезжает навсегда, а он остается. И страх от мысли его потерять был таким, что никакая любовь не принесла бы большего. Он охотно согласился ехать с ней за Греческое море, как ездил с Ингваром, но путь в Царствие Небесное его не прельшал.
– Ты не веришь ему? – спросила она у Мистины. – Ригору?
Он снова покачал головой:
– Если ему верить, то все наши боги – не боги, а бесы, так? Но ведь мы все – ты, я, мои отец и мать, Ингвар, ваш сын – ведем свой род от этих якобы бесов. Если их нет – то кто мы такие и откуда взялись? Или, может, все наши родовые предания, все наши родословия, где перечислены двадцать пять поколений между нами и Одином, – ложь?
Эльга неуверенным движением наклонила голову вбок.
– Ну… Крещеные короли говорят, что Один был не богом, а прославленным вождем, который завоевал…
– Вся наша удача основана на том, что мы – потомки богов, что наша кровь течет из Асгарда. А наши права на власть над людьми основаны на нашей божественной удаче. Если мы сами же объявим ложной святость нашей крови, мы тем самым откажемся от своих прав. И кем мы станем?
– Но Христос дает королям власть! Он сам прислал святому Константину – не этому, а тому, который основал Город, – царские венцы и мантии, и теперь каждый новый август надевает их и тем самым получает, вместе с помазанием святым миром, право на власть прямо от Бога.
– И тебе нравится, – Мистина недоверчиво поднял брови, – право, которое может захватить всякий оборванец, если успеет всунуть голову в царский венец? Я тут уже наслушался: у греков любой род правит поколения три, а то и меньше. А потом Бог вручает власть кому-нибудь другому. Ты желаешь такого для руси? Ты – наследница Вещего, нашей священной удачи?
Эльга молчала, не в силах найти ответ.
– Ну, а вдруг… – она подняла взгляд, – вдруг таинство крещения дает благодать, которая еще сильнее той, старой удачи?
Ее голубовато-зеленые, смарагдовые глаза искрились надеждой, но, встретившись с серыми, как холодный стальной клинок, глазами старшего посла, погасли.
– Там все крещены, – Мистина указал на окно, имея в виду Греческое царство. – Даже эта мужежаба Артемий. Даже Мардоня и его последний раб, таскающий дрова на поварню. Все они хоть раз приобщались к благодати. И теперь любой из них может стать здешним царем. Не хотел бы я, чтобы у нас в Киеве началось такое же!
Помолчал и добавил:
– Но разве у тебя есть другой путь?
Он знал, что нет. Ведь это он метнул ту сулицу, которая навек разорвала связи Эльги с родом и предками.
– Ты поможешь себе, – продолжал Мистина. – И может, поможешь Святше воевать каганат, а всей руси – создать державу не слабее здешней. Сквозь века тебя будут прославлять как самую мудрую и отважную женщину.
– Я сейчас в тебя чем-нибудь брошу, – устало пригрозила Эльга. – Ты обещаешь мне славу и все-таки не хочешь идти за мной.
– Нет.
Она встала с сундука и подошла к нему вплотную. Не понимая, чего она хочет, Мистина тоже встал. Эльга подняла руку, коснулась его груди, где сердце, и провела кончиками пальцев по коже в продольном разрезе сорочки под воротом. Сначала Мистина застыл, а потом выдохнул: сообразил, что она ищет.
– Шрама не осталось, – сказал он ей в затылок под убрусом. – Без следа зажило.
– А там, внутри? – Эльга подняла глаза и легонько потыкала пальцем ему в грудь, будто хотела коснуться сердца.
– Там внутри… ты же не потеряла мой скрам?
…Прошло семь лет, но оба они крепко помнили тот день и тот час – перед пиром над могилой Ингвара, что для древлянских старейшин стал последним. Приехав на поминки по мужу, Эльга не сразу решилась доверить Мистине свой истинный замысел. Сидя в темной избушке близ Малин-городка, пока отроки готовили угощение для живых и мертвых, она расспрашивала о его путях за эти месяцы, пытаясь понять, на чьей он стороне и что намерен делать. Она не видела его все лето и осень, и в Киеве многие считали, что он приложил руку к убийству Ингвара, надеясь завладеть Деревлянью.
И он, пятнадцать лет ее знавший, понял это. За все те годы не случалось, чтобы за столь долгий разговор она ни разу не взглянула ему в глаза. Она могла сердиться на него, кричать. Обещать чем-нибудь бросить, хотя на деле бросила в него ложкой или ковшом не более двух раз. С годами Эльга научилась держать себя в руках, но когда она встречала взгляд Мистины, в котором светилась знакомая снисходительная насмешка, в ней пробуждалась все та же юная ярость. Ее гнев ему было легче перенести, чем эту отстраненную скованность.
– Эльга…
Он замолчал, вынуждая ее посмотреть ему в глаза. Вынул из ножен у пояса скрамасакс, повернул лезвием к себе и вложил костяную рукоять в ладонь Эльги. Сжал ее пальцы на рукояти. Она с недоумением следила за ним: Мистина расстегнул свой белый «печальный» кафтан, приставил острый кончик длинного лезвия к груди напротив сердца и, своей ладонью сжимая ладонь Эльги на рукояти, слегка нажал.
Она невольно вскрикнула, чувствуя, как острие клинка прокалывает кожу и входит в живое тело. Но все это время Мистина не отрываясь смотрел ей в глаза, не давая отвести глаз от его лица. Ни мускул, ни взгляд на нем не дрогнул. Мистина замер, предлагая ей самой продолжить это движение.
– Ты веришь мне? Если нет, то покончи со мной сейчас. Я поставил между ребер, войдет прямо в сердце.
Эльга потянула клинок на себя. На белом полотне сорочки заалела капля крови – будто ягода-брусника.
– Ну, хватит с нас этой чухни? – спросил Мистина.
В глазах его, в голосе не было ни стыда, ни страха – только гнев и досада. И Эльга вновь увидела в нем ближайшего к ней и Ингвару человека, не доверять которому можно только в помрачении рассудка. Захотелось заплакать, потому что впервые за эти страшные дни рядом появился человек, на которого можно переложить хотя бы часть этой тяжести. Но Эльга сдержалась, ибо понимала: ему хватает и своей. Она знала Ингвара пятнадцать лет, а Мистина его – вдвое больше. Сколько себя самого помнила.
Потом она спрашивала: как он на это решился, ведь она, едва узнав о своем вдовстве, в смятении чувств вполне могла нажать на клинок. В беде, за которую не спросишь ответа с истинных виновников, часто обвиняют тех, кто рядом. А он отвечал, что ему тогда было все равно: за короткий срок он потерял отца и побратима, но хуже всего – мог потерять честь, если бы вдова и сын Ингвара решили, что он, Мистина, предал своего князя.
Тот скрам он не забрал назад и оставил Эльге. Она хранила его в ларе, на котором обычно сидела…
– Ты! – стоя в триклине палатиона Маманта, Эльга коснулась пальцем того места на его коже, где когда-то алела капля крови. – Ты отдал мне свою жизнь.
– Но свою душу я тебе не отдавал, – Мистина сжал ее кисть в ладони.
– Ты сказал мне однажды, что я – твой конунг. А дружина следует за конунгом всегда. Даже если тот решает креститься – помнишь, ты сам говорил Святше.
– Да. Ты – мой конунг, и таких слов не берут назад. Но поскольку ты к тому же еще и женщина, – он улыбнулся и слегка потряс ее кисть, – то я оставляю за собой право решать, каким образом сумею послужить тебе лучше.
Эльга втянула воздух в грудь, с усилием подавляя досаду. Мистина считал себя умнее ее и в общем был прав. За двадцать лет Эльга привыкла к этому, но не сказать чтобы смирилась. Однако он сохранил свое положение при ней, потому что всегда выслушивал ее, а не отмахивался от ее мнения лишь потому, что она женщина.
– Я отпускаю с тобой туда свою жену и дочь, – продолжал Мистина. – Даже Велеська на вас посматривает, и, если он решится, я не стану ему запрещать. Пусть решает сам, он ведь, в конце концов, уже меч носит. И ты думаешь, – с прорвавшейся досадой воскликнул он, снова тряхнув ее руку и вынудив взглянуть ему в глаза, – мне не страшно, что на другой день после своей купели вы все и смотреть на меня не захотите?
* * *
Было ясно, что на шитом рушнике патриарха никто Эльге не преподнесет. Испросив позволения, она послала Одульва к патриарху и получила в ответ приглашение посетить его.
Наутро во двор палатиона Маманта вновь вынесли носилки. Эльга уселась и в сопровождении вестиаритов под началом Даниила (которого, как выяснили отроки, на самом деле звали Даглейк) пустилась в недалекий путь до гавани. Кроме женщин, с нею ехали только трое приближенных: Мистина, его зять Войко и Алдан. По сторонам мощенной кирпичом дороги тянулись полевые наделы и заросли. Освоившись с архонтиссой росов, Даглейк охотно отвечал на вопросы женщин: вот это – виноградник, там растет ягода, из сока которой делают вино, но сейчас она еще не созрела. Вот эти листья, похожие на дружелюбно раскрытую ладонь с толстыми пальцами, – сики. А это – оливы, лимоны, гранаты. Издалека толстые узловатые стволы олив казались одетыми серебристым сиянием, но вблизи становились видны тонкие ветки с длинными узкими листьями. Плоды их – соленые и в уксусе – женщины уже видели среди доставляемых им припасов, и теперь веселились, глядя, как это все растет. По большей части деревья были невысоки, зато пышнокудры – над тонким, зачастую кривым стволом клубилась широкая крона.
– Чем-то похоже на иву! – Эльга с любопытством разглядывала тонкие веточки. – Но стволы будто изглодал кто!
– Вот эти – очень стары! – Даглейк показал на оливы, будто распавшиеся от времени на две части. – Им, может, лет по пятьсот!
– Любопытно! – Эльга обернулась к Уте. – У нас деревья посильнее собой.
– Зато красоты такой не найдешь! – Ута кивнула на гранатовое дерево у каменной стены: усыпанное ярко-красными крупными цветами, что соседствовали на тех же ветках с мелкими, еще неспелыми плодами.
– Ты увидишь, как красиво будет, когда все это созреет! – сказал Даглейк. – Как раз когда подойдет время вашего приема в Мега Палатионе, все эти цветы превратятся в «пунические яблоки», красные, как кровь!
В гавани Эльга со свитой уселась в лодьи и поехала сперва вдоль Босфора, потом через устье Суда – к Боспорию, той же гавани, где они стояли в день прибытия. Только теперь, дней через десять по приезде, великий Город выразил готовность раскрыть перед нею ворота. На причале их встречал сам этериарх Савва верхом и другой, тоже конный, отряд вестиаритов. Эльгу ждали другие носилки, ее свиту – лошади.
– Я хочу увидеть Золотые ворота! – сказала Эльга Савве, когда он поприветствовал ее и проводил к носилкам. – Ты покажешь их мне?
– Может быть, на обратном пути, – с сомнением ответил Савва. – Мы сейчас к северу от Города, на берегу Сунда, а Золотые ворота – с южной стороны стен, близ Пропонтиды[17]. Нехорошо заставлять патриарха ждать.
– Надо думать, щита моего дяди Одда на них уже нет?
– Никогда не видел.
– Куда он мог деться, как по-твоему?
– Надо думать, украли! – засмеялся Савва. – Это такой город – тут ничего нельзя оставить без присмотра, а что исчезло, то обычно не находится. Сейчас мы приглядим за вами, но на будущее скажи своим людям: как будете в Городе, пусть следят за своим имуществом в оба глаза.
В громаде стены ворота казались дверкой. Они вошли… И началось… Люди Саввы взяли за повода коней, на которых ехали боярыни: изумленные и растерянные, те не удержали бы животных, а так от них требовалось лишь удержаться самим.
Эльга еще в Киеве, пока готовилось посольство, выспросила у купцов как можно больше о граде Константина. Она знала, что здесь нет ничего особенно страшного и по этим улицам можно пройти – с должной осмотрительностью – без опасности для жизни. Но одно дело – знать, а другое – видеть своими глазами эти каменные стены зданий, похожие на горные гряды, каменные столпы высотой… такой высотой, что кружится голова. С непривычки казалось, что они падают все разом прямо на тебя. Поначалу мучило желание сжать голову руками и зажмуриться: те, кто привык видеть вокруг избы, очутился среди каменных строений высотой с три-четыре избы, поставленных одна на другую! Они уже попривыкли к своему палатиону Маманта, но увидеть вокруг себя сразу десятки таких – совсем иное дело. Полукруглые своды дверей и окон, с тонкими столпами из тесаного камня, с резьбой, с фигурами… Опыт их собственной жизни или даже рассказы бабок не предлагали ничего подобного, им было не с чем сравнить увиденное, не находилось слов для описания. И оттого все вокруг казалось сном.
Камень, везде камень. Белый и гладкий или серо-желтый и шершавый. Ни одной избы бревенчатой. Даже под ногами не земля – тоже каменные плиты. Казалось, и вместо воздуха здесь жидкий камень – густой и раскаленный южным солнцем. За громадами камня всех видов не разглядеть неба – все это давило, будто сыпалось на голову, отчего слабели ноги и крутило в животе. Ни в одном дурном сне они не встречали такого: улицы будто ущелья между каменными стенами, нигде нет выхода на простор, одно ущелье выводит в другое, и везде эти ряды столпов, полукруглые своды, резьба… И люди, люди: живые и каменные.
Но каменные хоть стояли спокойно. Живые толпились на улицах и площадях, оборачивались, показывали на Эльгу и ее приближенных. Что-то кричали. Княгине не привыкать быть на виду, но никогда еще на нее не смотрели как на чудо морское! Какие-то смуглые оборванцы в широких дырявых рубахах пытались лезть ближе, протягивали руки – люди Саввы отгоняли их плетьми и древками копий.
А потом русы оказались на огромной площади. И снова вскрикнули, пораженные. Посередине высился огромный толстый столп. Примерно такими должны быть те столпы из преданий, по каким можно добраться до неба. И кое-кто уже пытался это сделать – наверху стоял бронзовый всадник. Конь его держал приподнятой переднюю ногу, будто намеревался шагнуть вниз, и Эльга ощутила дурноту. Всадник же поднял руку, будто приветствуя богов – не людей же, жалких букашек, которых ему и не заметить со своей небесной высоты. Столп опирался на каменную подставку величиной с хорошую избу, куда вели с десяток белокаменных ступеней.
– К-кто это? – Эльга невольно указала на него пальцем.
– Это василевс Юстиниан, прозванный Великим, – объяснил ей Савва с таким непринужденным видом, будто они с этим Юстинианом нередко вместе пили. – Он правил ромеями четыре столетия назад и прославил себя и всю державу. Повелитель множества народов и вершитель множества славных деяний.
– А… Почему он там? – Эльга не понимала, как давно умерший василевс очутился на вершине золотого столпа, вместо того чтобы давно обратиться в могильный прах. – Как он туда попал? Что за чары его сохраняют?
– Это его изображение, изваяние из бронзы, воздвигнутое ради его славы и памяти ромеев, – без тени улыбки объяснил этериарх, видимо, помнивший, как сам увидел это впервые. – А тело его предано погребению в церкви Апостолов.
Значит, это не окаменевший человек, а литой из бронзы чур. Но уложить это у себя в голове по-настоящему было трудно: уж очень эти литые греческие чуры походили на людей в каждой мелочи – в каждом волоске, в каждой складке одежды. Иные живые люди не так похожи на людей, как эти, бронзовые…
– Вот Святая София, – Савва показал ей на другую сторону площади и перекрестился с почтительным видом. – Патриарх живет при храме, тебе нужно пойти туда.
Эльга повернула голову. И замерла, расширенными глазами пытаясь охватить открывшееся зрелище.
Святая София тоже в первые мгновения показалась некой рукотворной горой – причудливых, но выглаженных и упорядоченных очертаний. То прямые линии, то округлые в удивительном согласии уводили взгляд все выше и выше… Будто прыгая с уступа на уступ, дружески подставлявших ему плечи, взор поднимался до сияющего полусолнца, что служило кровлей, а еще выше сиял золотой крест, с которого взгляд соскальзывал и погружался в синеву небес. И тонул там. Трудно было вернуть его вниз, хотя невероятное сооружение тянуло к себе.
Они проследовали через окруженный колоннами двор – величиной с иное городище. Посреди него красовалась «крина», как в палатионе Маманта, но куда больше: круглая кровля на столбцах, под ней широкая каменная чаша, а из чаши росла вверх, будто чудный прозрачный куст, струя воды. Эльга не могла понять, где же вход в эту гору и где собственно храм: все сооружение состояло из множества слитых меж собой построек, перетекавших одна в другую. Округлые своды, столпы, переходы, сводчатые окна каменными волнами омывали стены главного храма…
– Мы войдем через воинские покои, – Савва подал знак рабам опустить носилки, – где василевс оставляет свою стражу. Там я останусь с моими «львами», но тебя встретят посланцы патриарха.
Отроки сняли княгинь с лошадей. Те едва стояли на ногах.
– Н-ну и ст-тволы! – заикаясь, с выпученными глазами, бормотала Прибыслава. – Б-будто упадут сейчас все на м-меня!
Никто не смеялся. Предслава, цепляясь за руку своего мужа, лишь с потрясенным видом крутила головой.
Савва повел Эльгу внутрь, за ними следовала ее свита и часть вестиаритов. Эльга шла с сильно бьющимся сердцем и стесненным дыханием. Перед ней очутились изукрашенные ворота в каменной стене, раскрытые створки сияли узорной бронзой. Усилием воли она принуждала себя делать шаг за шагом. Казалось, неведомый мир сам затягивает ее, и уже невозможно остановиться, повернуть назад. Но что там внутри?
– Не тревожься, королева, – ласково сказал Савва. – Службы бывают только в конце недели и по праздникам, а сегодня там тихо и не так много людей: народ запускают только по особым случаям. Бог – почти единственный, кого ты там встретишь.
– Что? – Эльга в ужасе воззрилась на него.
– Господь пребывает там постоянно. Но я лишь хотел сказать, ничто не будет отвлекать тебя от созерцания Его величия.
«Нет, я не пойду!» – просилось на уста, но Эльга промолчала.
Для этого она приехала сюда, проделав долгий путь по Днепру и через море. Она хотела встречи с Богом греков. Не отступать же с самого порога!
«Шел-шел Зорька, видит: лежит плита железная, а под ней яма глубокая, дна не видать, – когда-то в давно минувшем детстве рассказывала им с Утой баба Годоня. – Он и думает: дай спущусь, посмотрю, каково царство подземное? Отвалил плиту, стал спускаться…»
Сказка ведь не только забава. Путь в Золотое царство лежит через мрак. Нужно идти…
* * *
Ступив под каменные своды, Эльга почти сразу перестала понимать, откуда пришла и где выход. Храмовое царство поглотило ее и подавило. Перед ней тянулась высокая длинная пещера с ровными стенами, отделанными цветным гладким камнем. Зеленый, желтый, серый, розовый, красноватый камень лежал узорами: разводами, пятнами, полукружиями, будто окаменевшие складки шелковой ткани. Все так, как в преданиях о чудесах подгорных владений. Перехватило дыхание: сам воздух здесь казался волшебным. Делая каждый шаг, невольно она ожидала, что само ее присутствие сейчас вызовет к жизни какое-нибудь чудо.
И это царство не пустовало. Прямо впереди, наверху под кровлей, на полукруглом золотистом поле виднелись трое: посередине женщина с младенцем на руках, по бокам – двое мужчин. И эти двое бородачей почтительно склонялись перед женщиной, признавая в ней хозяйку. Они были одеты в золоченые платья, а она – в простое, темное, и тем не менее женщина сидела на белокаменном престоле, а они подносили ей в дар что-то вроде домов или городов… Кто же эта женщина – принимающая в дар храмы и крепости?
Подошли несколько священников – посланцев патриарха, и Савва поклонился Эльге, давая понять, что передает ее их попечению. Им повелели провести архонтиссу росов через Великую церковь, а потом проводить в покои патриарха. Один из них, Вонифатий Скифянин, был болгарином, как и Ригор, поэтому мог говорить с Эльгой без толмача. Новые провожатые повели Эльгу через другую «пещеру» – еще более огромную, широкую и высокую, с богато украшенным полутемным сводом. Лишь мельком она замечала мраморные косяки дверей – высотой с две избы, – сами двери, сплошь покрытые узорной бронзой. Не то, как дома, где почти в любую дверь нужно заходить, сильно нагнувшись. Здесь, сколько ни тянись, до верхнего косяка не достать. Даже на плечи встать кому из товарищей – все равно не достать. И если, нагибаясь, человек чувствовал себя большим, то здесь, возводя глаза к верхнему краю косяка и с трудом его отыскивая, он становился маленьким, как мышь. Так и казалось, что сейчас появятся истинные хозяева этого дома – которым здесь все по росту, – и спросят: эй, мальки, а вы тут чего забыли? «Таковы жилища великанов!» – подсказала память из детства. – «Или Бога!» – поправило новое знание. В душе Эльги происходила огромная перемена, старые представления о владыках мира отодвигались во тьму и заменялись другими. Она увидела воочию жилище греческого бога, и разум не мог не признать превосходство увиденного над тем, что лишь воображалось ей и ее предкам.
Вонифатий показывал по сторонам, рассказывал про нартекс[18] и Царские врата, сделанные из дерева Ноева ковчега в серебряной оковке, на дверную ручку, исцеляющую отравленных – стоит им взять в рот эту ручку, как выпитый яд немедленно будет извергнут. Но Эльга, вся обратившись в зрение, едва слышала его голос, а из содержания речей до нее доходило не более половины. К чему слова, когда она и так видела чудо?
Наверху сияла мозаика – изображение Христа с раскрытым Евангелием в руке. Бог и правда пребывал здесь, как обещал ей Савва – взирал на гостью пристально, но не сердито, видимо, довольный ее приходом. Невольно она поклонилась – уж слишком живо смотрели его глаза, и она перестала понимать, изображение ли это или на самом деле она видит Бога… «Я есть свет миру!» – пояснил ей Вонифатий надпись на листах в руках Христа.
Свет был рядом – изливался через три огромных дверных проема в многоцветно мраморных стенах.
И они вступили в свет.
Рядом шла Ута и крепко держала ее за руку, но Эльга едва осознавала присутствие сестры. Войдя во тьму горы, она очутилась в море солнечного света. Это оказался особый мир, так решительно отделенный от того, снаружи, что, казалось, эта сотня шагов перенесла ее за три года пути. Во все стороны уходили просторные помещения, мелькая за чередой многоцветных каменных столпов. Светло-серые стены были украшены мараморяными досками: светло-зелеными, розовыми, желтыми. Этот мир был так наполнен – во всех направлениях, – что не удавалось понять, насколько он на самом деле велик. Наполнен красотой и просто огромен. Необъятен, но всеобъемлющ. Вокруг простиралось отдельное мироздание, совершенно не такое, к какому она привыкла.
Золотое царство… Царствие Небесное…
Сам воздух его полнился золотым сиянием. Громаднейшие мраморные столпы – багряно-красные, зеленые, черные – уводили взгляд вверх. Каждый из них не уступал по величине тому исполинскому ясеню, на котором держится мир, но только здесь их высилась целая роща, и оттого возникало чувство, будто стоишь у корневой опоры всех миров, сколько их ни есть. Над теми столпами, будто на плечах их, тянулся еще один ряд столпов, соединенный узорными сводами, и держал на себе следующее небо…
А самое верхнее, истинное небо, просто нависало над храмом. Столпы не касались его, не упирались в кровлю, как в людских жилищах. Золотое небо держалось само, парило, как облако. Сияние его заполняло все пространство над головами; лишь приглядевшись, удавалось различить вокруг золотых полей легкие обрамления из цветов. На высоте горели огненные пятна, от них живые, дышащие лучи пронзали воздух, будто копья, и Эльга не сразу сообразила: это же окна, сквозь которые заглядывает солнце. От попытки глядеть на это золотое небо все плыло перед глазами, голова кружилась, ноги подкашивались. Кто-то из священников подхватил Эльгу под вторую руку, но она даже не смогла обернуться и взглянуть на него.
Ибо там, в самой вышине золотого сияния, Эльга снова увидела ту женщину, что с ребенком на руках восседала на беломраморном престоле. Эльга с трудом различала ее черты, но оставалось впечатление совершенной красоты и величия. Царица мира взирала сверху на Эльгу, архонтиссу русов. И ясно было: перед Ней Эльга – ничто. Но это чувство не подавляло, не оскорбляло, а вопреки ожиданию вливало в сердце тепло, отраду, любовь. Эльга, привыкшая быть опорой своего мира, наконец увидела опору и для себя, во много раз мощнейшую. Нашла истинное сердце мира, зримое и почти осязаемое, чтобы отсчитывать от него отныне каждый свой жизненный шаг.
Священники вели их с Утой под руки – расцепиться две архонтиссы молчаливо отказывались, – показывали по сторонам. С этими водителями они отважились пересечь полосы зеленого камня на беломраморном полу – обозначения райских рек. В дальней стороне стоял святой престол, а над ним сияли царские венцы – десяток или больше, – подвешенные на внушительных золотых цепях.
– Сии венцы, – звучал над ухом голос Вонифатия Скифянина, – не людьми, не человеческим искусством измышлены и сработаны. Когда Бог сделал василевсом Константина Великого, первого из христиан на трон царский воссевшего, то послал ему через ангела эти мантии и венцы и повелел ему положить их в Великой Божьей святой церкви, и не каждый день облачаться в них, но когда случается всенародный великий Господний праздник. По воле Божьей они подвешены над святым престолом и украшением церкви служат…
Но даже самоцветные царские венцы значили немного по сравнению с золотым сиянием небес, казались лишь его осколками. Пробиваясь сквозь это сияние, взор уходил все выше – с первого неба на другое небо, откуда смотрели вниз, на людей, сам Бог и Его Мать, будто звали к себе в этот свет. Совсем наверху виднелись высокие узкие оконца, а за ними – третье небо, но не то, что раскинулось над земным миром. Там голубел тесный проход в истинное небо, то, где живет Бог. И, как ни высоко те ворота находились, все же никогда Божье небо не казалось таким близким, как отсюда. Везде горели свечи – тысячи свечей в серебряных светильниках на толстых цепях. И мнилось, это рои радостных душ, пребывающих с Господом, сияют от блаженства. Бесчисленные, как звезды.
Другой грек что-то сказал. Эльга не обернулась, но услышала голос Ригора:
– Твое изумление понятно, княгиня, но тебе следует знать: никто и никогда еще не пресыщался этим зрелищем. У тебя будут случаи осмотреть Великую церковь, но сейчас тебя ожидает патриарх.
* * *
Покои патриарха примыкали к храму, и Эльгу провели туда по каменным переходам и лестницам. Убраны они оказались куда проще и сдержанней: лишь резьба по мрамору, золоченые кресты на столпах. Выйдя из-под золотого облака, Эльга ощутила облегчение: сияние неба для непривычного глаза оказалось уж слишком непростым испытанием. Эта красота обжигала душу до боли, и теперь прохладный серовато-белый мрамор патриарших покоев успокаивал и навевал отраду, будто прозрачные струи ручья в жаркий день.
Но и теперь, когда она сидела, в окружении своих онемевших женщин, на подушке с кубком свежей мурсы в руке, Святая София еще владела ею. Храм был слишком велик, он не вмещался в душу, но и та часть, которая вошла, не хотела уходить.
Эльга догадалась встать, когда вошел патриарх, но едва восприняла смысл его приветствия. Вопреки ожиданиям, верховный служитель могущественного греческого Бога выглядел вполне заурядным образом: мужчина средних лет, с простым худощавым лицом, с седоватой бородой на впалых щеках. Широкое его зеленое платье-мантия выглядело куда скромнее, чем уже виденные Эльгой одеяния знатных греков, но от прочих его отличал головной убор. Шапку закрывал белый убрус, примерно такой же, какой носили на Руси женщины, но с богатейшим золотым шитьем на очелье и на спускающихся на плечи концах. Венчался убор небольшим золотым крестом. В руке патриарх держал посох с чудным навершием; будучи еще далеко не дряхлым человеком, в опоре он не нуждался, но это был знак его священных обязанностей.
– От многих слышал я одну и ту же весть добрую, – начал патриарх, вновь пригласив ее сесть, – будто пришла к нам архонтисса безбожного народа рос. И как ищет хороший купец бесценный жемчуг, так она – Иисуса Христа.
– Я пришла… желая увидеть честь и красоту державы вашей греческой…
Эльга с трудом собиралась с мыслями, ловила обрывки заранее продуманных речей. Но сами ее мысли потерялись в сиянии, заполнявшем голову и душу. Окружающий мир отодвинулся и стал мягким: по пути сюда ей казалось, что она ступает по облаку, теперь она сидела на скамье, будто на облаке. Мелкими и незначительными стали все цели ее прибытия сюда, все замыслы, надежды, расчеты. Все то, что она сама, как наследница Вещего и княгиня земли Русской, представляла собой, утратило вес. Слова о Боге, благодати, спасении, вечном блаженстве в ее киевской избе оставались только словами. Теперь за ними встал ясный зримый образ. Перед глазами сияла закутанная в покрывало прекрасная женщина с младенцем на коленях, помещенная среди солнечного света. Эльга увидела истинное Царствие Небесное, и у нее не осталось ни замыслов, ни желаний. Потребность найти туда дорогу стала очевидной, как необходимость дышать или есть, чтобы жить. Иисус Христос, о котором она раньше лишь слышала, здесь явил себя во всей мощи и блеске.
– И что же показалось тебе превыше всего прочего?
Эльга взглянула ему в лицо. Патрарх Полиевкт смотрел на нее испытывающе, но словно уже знал ответ. Ему ли, хозяину этого преддверия неба, не ведать его силы!
– Некогда слышала я сладкую молву о царстве вашем Греческом и о вере Христовой, – в непривычной, сбивающей с толку растерянности Эльга едва подбирала подходящие слова. – Ныне же чудесное и великое зрелище вижу очами своими. Прошу тебя, отец, научи меня, как приобщиться к Богу и войти в число верных, ищущих Царствия Небесного.
– Чего же на самом деле ты желаешь – венцов золотых царских? – Патриарх немного наклонился вперед, вонзая в нее пристальный взор темных глаз. – Одежд многоцветных?
Эльга едва сдержала улыбку и отчасти пришла в себя. Многоцветных одежд немало привозили и прежние князья и удачливые вожди Северных Стран. В том числе священнические облачения, сшитые из дорогих шелков, с золотым шитьем – и с дырой на спине от копья или на груди от стрелы, которую искусные их жены латали, отрезав кусочек из подмышки, где не видно, и вставив взамен шерстяную заплату. Роскошные алтарные покровы шли на отделку платья или занавеси. Украшения с обложек священных книг переделывались на подвески к ожерелью. Привозимые серебряные и золотые кресты переливались на украшения. Во всех богатых домах Свеаланда, Норейга, Ютландии или Руси имелись золотые кубки с самоцветами, блюда, ларцы, светильники.
– Я и дома видела немало многоцветных одежд, – сказала Эльга, умолчав о том, о чем вспомнила. – Имела много сокровищ. Но не было в них благодати Божьей. Сила Господня живет лишь в храме. Ее нельзя ни отнять, ни купить, ни даже получить в дар. Ее получает лишь сердце, открытое Богу.
Полиевкт медленно приподнял брови, будто не верил ушам. Ему случалось видеть язычников – сарацин-мусульман или же варангов-северян, – но никто еще не говорил ему того, что он сам должен сказать язычнику.
– Вижу, сбылись с тобой слова Христа, которыми он восхвалил Бога Отца: «То, что Ты утаил от премудрых и разумных, то открыл Ты младенцам», – промолвил патриарх. – Благодать Господня уже коснулась уст твоих. Прекрасно, что потрудилась ты прийти в царство наше. Величие храма Господня ты уже видела – я открою тебе еще большее. Открою красоту безупречного Закона Божьего, а после того совершу над тобой великое дело Божьей благодати. И будешь ты вовек благословенна среди жен русских, ибо тьму заблуждений временного света сего оставишь и свет жизни вечной возлюбишь!
* * *
Патриарх Полиевкт был человеком твердым и прямым. Избранный из простых монахов, он не имел знатных родичей, зато отличался умом, благочестием, обширными познаниями, а также красноречием, которое доставило ему прозвище «второго Златоуста». Равнодушный к роскоши, Полиевкт ревностно относился к своим священническим обязанностям. Он твердил, что Бог привел Эльгу в Новый Рим, дабы она спасла свою душу и повела за собой народ, а она думала тем временем, что это ей повезло с вероучителем. В каковом убеждении ее подкрепляло и то, что Полиевкт занял это место лишь за год с небольшим до ее прибытия сюда. Его предшественник, Феофилакт, принадлежал к царствующему дому: приходился младшим сыном василевсу Роману Старшему, отцу нынешней царицы Елены, но ничем более похвалиться не смог бы. Став патриархом совсем юным – в семнадцать лет, – двадцать три года Феофилакт вел беспутную жизнь, пока однажды не убился, упав с лошади. Сам василевс Константин, которому властолюбивые родичи жены «прогрызли все печенки», как не очень почтительно выразился Савва Торгер, помог возвышению Полиевкта как человек совсем иного склада.
Теперь Эльга приезжала в Константинополь каждую неделю. Перед крещением полагалось, чтобы патриарх наставил ее в вере Христовой. Эльга могла бы сказать, что Ригор-болгарин в Киеве беседовал с ней о Христе целый год, но благоразумно смолчала: получать наставления самого патриарха было почетным, а встречи с ним – полезными для ее дальнейших целей. Им предстояло встретиться двенадцать раз, ибо на это, особо значимое для христиан число, патриарх опирался, распределяя предметы бесед: о Ветхом Завете, о Новой благодати евангельских заповедей Христа, о правилах святых апостолов, об учениях святых отцов Вселенских соборов и о том, как следует пребывать в твердой вере и вести жизнь добродетельную. О воскресении мертвых, и о втором пришествии Христа, и о воздаянии каждому по его делам. О церковном уставе и молитве, и о посте, и о милостыне, и о воздержании, и о чистоте телесной, и о покаянии.
Будучи человеком занятым, Полиевкт мог уделить княгине время лишь один раз в неделю; таким образом выходило, что на ее оглашение потребуется двенадцать недель. Условившись с ней об этом еще в первую встречу, он назначил время крещения на праздник Рождества Богоматери – в восьмой день месяца септембриоса. И это как нельзя лучше сочеталось с расчетами логофета дрома и дворцового управителя-препозита, распределявших время царских приемов.
Вместе с Эльгой проходили оглашение и женщины ее свиты. Пораженные чудесами Константинополя, они не могли не признать вслед за княгиней, что люди, живущие среди такой красоты и богатства, уж верно знают истинного Бога, раз он так награждает их! Мужчины держались осторожнее. Из мужской части русского посольства креститься заодно с княгиней пожелали человек двадцать, но по большей части это были еще некрещеные купцы, которым предстояло приезжать сюда каждый год. Из Эльгиной родни присоединились Алдан, Войко, Колояр и Соломир, а еще средний сын Мистины – тринадцатилетний Велерад. Старший сын Мистины, Улеб, на это отвечал: «Мне князь такого не приказывал».
– Как князь, так и мы! – говорили отроки. – Мы на земле его дружина, в одной битве с ним погибнем, в один курган ляжем и к богам в занебесную дружину вместе пойдем.
– Как отцы наши! – с гордостью говорил здоровяк Добровой, сын Гримкеля Секиры, павшего в один час с Ингваром.
Их таких возле Святослава держалось два десятка: ко времени гибели почти все ближние оружники Ингвара имели семьи. Общая гордость за отцов сплотила нынешнее поколение гридей, и все они считали друг друга братьями, а Святослава – и князем, и старшим братом одновременно. Нечего и думать, чтобы они решились сменить веру без его приказа. Вся их дальнейшая жизнь была связана со Святославом, а как дружина может отказаться от участия в пирах? Это все равно что отказаться быть в дружине. Ведь княжий пир – это и священнодействие, и совет, и раздача наград, и ежедневное разделение хлеба, именно то, что создает между вождем и его людьми связь не менее прочную, чем кровное родство.
О замыслах на этот счет самого Святослава, в случае удачных переговоров о его браке с дочерью Константина, Эльга пока молчала.
Каждую неделю за Эльгой приезжал Даниил-Даглейк, с вестиаритами-«львами» и поклоном от Саввы. Эльга скоро поняла, что, посылая за ней личного помощника-оптиона, этериарх выражал ей свое расположение. Иной раз он и сам встречал княгиню на причале Боспория: в те дни, когда патриарх приглашал ее не в свои покои, а в сад какого-нибудь из городских знаменитых монастырей или храмов. Бывало, что Савва провожал русов до Маманта и получал приглашение со своими людьми пообедать с ними. Сидя в триклинии с Мистиной и другими послами, он пил разведенное водой вино, толковал о походах, рассказывал о сражениях с сарацинами и полученных наградах. Беседы с ним заметно помогали русам разобраться в здешней жизни.
Именно у него в руках они впервые увидели чудную вещь: маленькие вильца, рогатинку величиной не более поясного ножа, на рукояти узорной белой кости. Отрезав кусочек мяса, Савва затем отравляя его в рот не тем же ножом, как Эльга и княгини, не руками, как отроки, а накалывал на зубцы рогатинки.
– Это пируни, – пояснил он. – Не удивляюсь вашему удивлению, ибо помню, что у нас на севере такого баловства не водится. Но советую тебе, королева, и твоим людям обучиться пользоваться пируни. Весьма возможно, что василевс пожелает дать обед в твою честь – так принято даже для послов, а для особы твоего положения и тем более. Не очень красиво будет выглядеть, если василевс и его приближенные будут брать мясо пируни, а ты – руками. Посчитают вас за диких людей.
– Всегда так ели, и ничего… Дай-ка попробовать, – решилась Эльга.
Савва Торгер протянул ей серебряные вильца. Она вонзила зубцы в кусок мяса, но едва она попыталась его поднять, как тот соскользнул обратно в миску.
– Вот так! – Савва показал, как повернуть кисть руки.
Она взяла орудие по-другому и попробовала еще раз.
– Подхвати снизу ножом, – посоветовал Савва.
Эльга поддержала кусок ножом снизу и подняла над столом. На этот раз удалось донести до рта. Было неудобно: рука не привыкла.
– А дай я! – Сидевшая рядом Володея отобрала вильца и бойко ткнула в мясо, но уронила его на колени, едва подняв, и с досадой отбросила рогатинку на стол: – Вот еще, выдумки какие! Ничего же эти греки по-людски сделать не могут!
Тем не менее Эльга приказала передать купцам, чтобы отыскали на городском торгу с десяток таких рогатинок – «пи-ру-ни», – и каждый день заставляла княгинь и послов есть ими хоть понемногу, пока привыкнут. «Лучше сейчас куски на подолы роняйте, пока можно рушник подстелить, чем у василевса за столом опозоритесь!» – сказала она, и пришлось послушаться. А отроки пусть едят как знают, им с василевсом не сидеть.
Кроме женщин и других оглашенных, так же неизменно Эльгу сопровождали то Олег Предславич, то Мистина. Древлянский князь крестился давно и в наставлениях не нуждался, но не мог упустить случай побеседовать с главой церкви; Мистина порой тоже слушал, что вещает гостям патриарх, а то, имея собственного толмача, беседовал с кем-то из служителей патриаршего двора. С сотниками «львов»-вестиаритов они уже скоро стали приятелями.
Неделя шла за неделей, и Эльга больше не возмущалась задержкой. Патриарх приглашал ее на будние дни, в свое свободное время, и они, в обществе женщин Эльгиной свиты, то сидели в его покоях, то прогуливались по огромным, широким, как луга, галереям второго яруса собора. Это место, называемое «катехумений», предназначалось для оглашенных и женщин. Здесь пол тоже украшали богатые мозаичные изображения. На галерею вел широкий пологий всход, вымощенный камнем: из века в век греческие царицы, все эти Евдокии и Феодоры, проезжали по нему в носилках, несомые шестерыми рабами. На каменном ограждении были высечены сотни имен – таким образом молящиеся пытались оставить Господу вечную память о себе, непрекращающуюся, запечатленную в камне свою мольбу о Божьей милости. Сколькие из них давным-давно закончили земной путь, а имена их, как забытые свечи, все взывали к Богу, когда душа давно уже нашла дорогу в блаженство или муку…
Рассматривая надписи, Эльга два-три раза натыкалась на знакомые знаки: это оказались не греческие буквы, а руны. Хальвдан… Арне… еще какой-то Сиг… – дальше неясно. И до нее люди, привыкшие у себя дома видеть лишь деревянные дома под дерновыми крышами, стояли на этом месте, наблюдая, как пронзенное тонкими лучами света пространство храма оживает, полнится голосами агиософитов, поющих во славу Господа так сладко, как по силе только ангелам.
– Почему здесь не служат каждый день? – спросила она однажды, глядя сквозь строй каменных столпов в мерцающую золотом полутьму храма. – Ведь это истинное Царствие Небесное, здесь должно хвалить Бога беспрестанно!
– Мы бы так и делали, будь то угодно василевсу, – суховато ответил Полиевкт.
– Как? – Эльга даже остановилась и повернулась к нему. – Ему неугодно?
– Ежедневные службы совершаются в дворцовых церквях – Богоматери Фаросской и Святых Апостолов. А чтобы ежедневно служить в Софии, нам понадобились бы сотни новых служителей и литр восемьдесят золота каждый год.
– Сколько это – восемьдесят литр? – Эльга умела считать сокровища только в марках и гривнах.
– Более пяти с половиной тысяч номисм. Василевс же изволит жаловать нам куда менее.
Эльга помолчала. В минувший год она уже давала Ригору средства для улучшения деревянной церкви Святого Ильи на Ручье. Ее построили купцы-христиане, они же приносили дары, позволявшие кормиться священнику, покупать свечи, изготавливать просфоры. Подарила два дорогих сосуда, попавших в лари киевских князей из каких-то ограбленных греческих же церквей, и хорошую новую паволоку на алтарный покров. Однако киевскую церковь смешно было сравнивать не только со Святой Софией, но и с самой захудалой греческой церковкой, где все же имелись каменные своды, иконы, стенная роспись, светильники и свечи. И сколько угодно красного вина для причастия. Здесь это считалось обычным питьем даже для рабов, а вот в Киеве, как рассказывал Ригор, порой приходилось как величайшую драгоценность оберегать последнюю запечатанную воском корчажку для праздника Пасхи и раздавать верующим в крошечной младенческой ложечке.
Но разве это дело для церкви стольного города, где есть княгиня-христианка? Уже в ближайшем будущем этому надлежало измениться – и самым решительным образом. Нужны будут иконы, покровы, сосуды, светильники, свечи, даже певчие – все, чтобы привлечь в церковь как можно больше киевлян. Только так Эльга могла передать им то чувство близости Царствия Небесного, какое пережила недавно сама. Нужны священнослужители. Сначала – для Святого Ильи, а потом – и для других церквей. В Киеве, в Чернигове, Смолянске и Свинческе, в Ладоге…
Но как? Откуда в греческих церквях появляются все эти сокровища?
Вспомнился рассказ Вонифатия: дескать, венцы царские принес ангел Господень. Эльга колебалась: может быть, когда она крестится, ангелы Господни принесут и ей иконы, покровы, золотые кресты и чаши? Ведь и она, как святой Константин, будет первой христианкой на русском престоле!
Новообретенная вера во всемогущество и милость Господа боролась с многолетним опытом правительницы. Старые боги могут послать дождь или вёдро, их просят о добром урожае или попутном ветре. Об удаче. Но за всю жизнь Эльга ни разу не видела, чтобы боги напрямую послали не добрый улов, а предмет, который сам по себе в лесу и реке не вырастет.
Конечно, Господь Иисус это может – она уже не раз слышала о таких случаях. Создал же он Мандилион – нерукотворный отпечаток своего лика на убрусе, хранящийся ныне в дворцовой церкви Богоматери Фаросской; ей обещали показать его после крещения.
Но посчитает ли Господь ее, Эльгу, достойной таких чудес?
Поэтому она расспрашивала, просила совета, как ей устроить церковь для русов – и нынешних христиан, и будущих.
– Ведь если Господь мне поможет, то мой пример обратит в Киеве многих, и не будут они вмещаться в нашу Ильинскую церковь. Да и тех, кто придет, чем нам удивить? Там те же стены, что у них в избах, тот же мрак… Нам нужны священники, наставники в вере, нужны иконы, богослужебные сосуды, одеяния, покровы, книги! Где мне взять их?
– Я дам тебе епископа, отыщу человека родом из скифов[19], кто сможет говорить с твоими людьми на их языке, – обещал патриарх. – И отправлю посольство к Петру и Ирине в Болгарское царство: у них есть и священники, и книги для славян. Дам сколько-то священных предметов и прочего, чтобы вы могли достойно славить Бога в своей стране. Но как здесь василевс – первый из христиан жертвователь на церковь, так и ты должна будешь первой вносить свою лепту.
«Лепту вдовы!» – мысленно дополнила Эльга, уже знавшая ту повесть.
– Вся греческая церковь держится на пожертвованиях василевса? – уточнила она, надеясь, что Полиевкт ответит: «Нет, Господь посылает нам средства».
– Нет, не только, ведь и другие христиане, заботясь о спасении души, жертвуют церкви от своих прибытков.
Пожертвования! Славяне и русы под рукой киевского князя хорошо знают, что такое жертва! Это заколоть бычка или коня на Перунов день или черного барана – на Велесов, поднести богу положенные части – голову и ноги, а прочее приготовить и разделить трапезу с божеством. Но Христос не требует колоть ему бычков. Нужны свечи, вино, священные сосуды и покровы. Освященное миро, которое лишь сам глава церкви варит раз в год – из белого вина, оливкового масла, воды и тридцати разных редкостных благовоний. Воску своего – хоть завались, а все прочее придется покупать у тех же греков: ни вина, ни масла, ни благовоний на Руси своих нет. В голове Эльги закрутилось, сколько воска, меда и мехов придется продавать, чтобы получить нужное количество принадлежностей богослужения для одной только Ригоровой церкви. А ведь она надеялась умножить их число!
– К тому же, – продолжал патриарх, – у церквей и монастырей есть земельные владения, порой весьма богатые, и это поддерживает их.
Земля… поддерживает церкви? Но разве земля-матушка не «поддерживает» всех нас?
– Как это? Прости, отче, я не поняла.
– Чего тут не понять? Монастыри владеют земельными наделами. Иной раз люди завещают свою землю церкви.
– Завещают землю церкви? Свою землю? – Эльга в удивлении смотрела на него. – Как это возможно? Владеть землей… Завещать землю… ты еще скажи – купить землю! – Она едва не засмеялась. – А солнцем у вас никто не владеет?
– Я говорю о земельных наделах, которые обрабатывает некая семья, – терпеливо пояснил Полиевкт. – Или рабы богатого человека. Это ты понимаешь?
– Понимаю. Но если человек умирает, земля ведь остается на месте.
– Остается, но может сменить хозяина.
– Хозяин земли? – При этом сочетании в мыслях Эльги начали теснить друг друга Перун и Велес.
– Да что такое? – Патриарху начал надоедать этот глупый разговор. – Ты, архонтисса, не хочешь же сказать, что у тебя нет земли?
– Нет… – в растерянности подтвердила Эльга. – То есть земли у меня – от моря до моря. Но как я могу ее подарить? Она же… сама по себе. Богами… Богом создана ранее людей и существует… не по нашей воле.
– Вот ты живешь в проастии Святого Маманта, – терпеливо начал объяснять Полиевкт. – Он принадлежит василевсу. Там дом, гавань, поля, луга, скот, оливковые рощи, виноградники, плодовые сады, рабы и свободные земледельцы. А если василевс пожелает, все это будет принадлежать монастырю… допустим, он восстановит древний монастырь Маманта Кесарийского, и все это будет принадлежать ему, он получит доходы с виноградников и садов. Святой Софии принадлежит Мантея – большое поместье, и несколько имений на Стримоне. Псамафийскому монастырю – это тоже здесь, в Константинополе, – принадлежат виноградники и проастий на Босфоре. Монастырям Диомида и Фоки василевс пожаловал изрядные владения. Церкви дарят землю и мелкие собственники, и крупные владельцы-динаты, и сам василевс. Иным монастырям приходится строить не только склады для всего своего добра, но и пристани и даже закупать морские суда для перевозки товара. Они разводят несметные табуны лошадей, стада волов, верблюдов! Чего только нет!
– Но чем же тогда слуги Бога отличаются от купцов?
– Ничем, – сухо ответил патриарх, явно недовольный оборотом беседы. – Но, во всяком случае, они могут чувствовать себя независимыми от власти мирян. Поняла теперь, чем богатеет церковь?
Эльга в общем-то поняла, она лишь пыталась применить эти понятия к своим родным краям. Никто там не мог подарить или продать кусок земли, который обрабатывал: тот принадлежал роду или верви. И сколько бы ни умирало оратаев, земля все равно принадлежала верви. А вервь не могла никому ее отдать, ибо чем бы тогда стала жить? И ни разу Эльга не слышала жалоб, что-де «земли у нашей верви что-то многовато»… Наоборот: редкий год проходил без ссор, споров и даже побоищ из-за угодий между соседями. Сколько она за двадцать лет разобрала таких дел!
Нет, не скоро в киевской церкви заведутся драгоценные венцы! Если сам Господь не пошлет.
Эльга даже обрадовалась, когда кто-то из служителей почтительно поклонился патриарху, намекая, что имеется дело, и тот отпустил ее. Качаясь в носилках по дороге в Боспорий, Эльга прикидывала: что она может подарить хотя бы церкви Ильи? Какие-нибудь из княжьих ловищ? Но их не так много, только для припаса на двор. Пожалования от князя? То есть часть дани? Она попыталась в уме пересчитать берковец воска в милиарисии. Узнав перед этим у Саввы, столько стоит корчага недорогого вина, итог она получала не слишком для себя утешительный.
Куда проще было тому Зорьке, про которого рассказывала баба Годоня! Дескать, взял Зорька за руку царевну Золотого царства, повел за собой, обернулся, глядь: все царство Золотое само в клубочек свернулось и за ним покатилось.
Уже сидя в лодье, Эльга оглянулась на оставшиеся позади громады городских стен.
– Мы что-то забыли? – Мистина это заметил.
– Нет. Смотрю, не хочет ли Царьград в золотой клубочек свернуться и за нами покатиться! – Эльга засмеялась, пытаясь отогнать подступающее уныние.
– Так ведь тот парень царевну с собой повел, – напомнила Ута, которая в детстве слушала сказки вместе с Эльгой, а с тех пор много раз повторяла их своим и приемным чадам.
– Без царевны ничего не выйдет, – кивнул Мистина. – В ней все дело.
И многозначительно взглянул на Эльгу.
* * *
Однажды, когда они оказались в южной части города, близ Пропонтиды, Савва наконец отвез Эльгу к Золотым воротам. Еще издали вид их заставил русов онеметь. Между двух огромных прямоугольных башен виднелись три арочных прохода: средний вытянулся на всю высоту стены, и именно он предназначался для вступления в город вернувшегося с победой василевса. Сами ворота были куда меньше и не достигали даже половины высоты свода; створки их покрывали позолоченные листы меди.
А на площадке над воротами высилось исполинское изваяние зеленоватой бронзы: некий царь правит колесницей, в которую запряжены четыре… невозможных зверя.
Вокруг со звоном посыпались всяческие «йотуновы матери». Эльга смолчала, но с трудом сдержала желание подпереть ладонью нижнюю челюсть. Невольно отшатнувшись, она наткнулась спиной на Мистину, и он подхватил ее; она вцепилась в его локоть. Эти звери… Огромные, как целый дом, толстые, на ногах-столпах, с огромными ушами. На морде у каждого рос длинный хвост, а по сторонам его торчали длиннющие, как копья, толстые изогнутые клыки. В животе похолодело: даже бронзовые, эти звери производили устрашающее впечатление, а если бы они существовали на самом деле и были живыми?
– Это кто? – слабым голосом спросила Эльга.
– Василевс Феодосий, – пояснил Савва. – Строитель этих стен.
– Да нет, вот эти… чуды-юды.
– Это элефанты. Персидские звери.
– Персидские? – Эльга обернулась к нему. – Ты хочешь сказать, что в Персии они водятся живые?
Отведя глаза от элефантов, она ощутила тревожную неловкость: казалось, пусть они и бронзовые, но лучше к ним спиной не поворачиваться!
– Ну, во времена Феодосия, во всяком случае, водились. Их подарил Феодосию тогдашний персидский царь.
– А Феодосий жил давно?
– Порядком. Не скажу точно, но думаю, во времена, когда в Северных Странах правили сыновья Одина.
У Эльги несколько отлегло от сердца. В те времена и в Северных Странах чего только не водилось – даже разные змеи-драконы вроде Фафнира. Но никто из знакомых ей тамошних уроженцев – а в дружине их были сотни – не рассказывал, будто видел там нечто подобное.
– Ну, не скажи, – возразил Савва, когда она поделилась с ним этим соображением. – В окрестностях Константинополя последнего дракона видели не так уж давно – если сравнивать со временами Феодосия. И полутора веков не прошло, как дракон не давал жизни одному монастырю тут неподалеку, его изгнал прочь своими молитвами святой Ианикий.
– Ты не шутишь?
– Так сказано в его житии, а значит, должно быть правдой.
– В дракона – верю, – заметил Мистина. – А вот что эту тварь можно изгнать молитвами…
– Ты видел эти стены? – Эльга посмотрела по сторонам.
На север, в сторону Суда, поперек мыса уходили высоченные Феодосиевы стены, выложенные продольными полосами: красные слои плоских кирпичей, более узкие, чередовались с более широкими слоями беловато-серого камня. Позади переднего пояса стен виднелся второй – еще выше. Довольно часто стояли башни: квадратные и круглые, мощные, будто горы, обтесанные рукой исполинского каменщика. Вспомнился тот великан, что строил стены Асгарда, – здесь, надо думать, потрудился кто-то вроде него. Кусты и деревья зеленели перед стенами, будто мелкая травка. С внешней стороны тянулся ров с водой – шириной с хорошую реку.
– Как? – выразительно произнесла Эльга и воззрилась по очереди на Мистину и его зятя Войко.
– Ты имеешь в виду Олегов поход? – уточнил Мистина.
– Он… Они… – Эльга огляделась, пытаясь разобраться в местности. – Здесь у нас Пропонтида. Вон там – Суд. Вещий велел поставить лодьи на колеса и под парусами перевел их по земле из Суда в Пропонтиду…
– Наоборот. Греки закрыли устье Суда цепью, и туда было не войти.
– Хорошо, наоборот. И этим устрашил греков, заставив сдаться и выплатить дань… Так?
Воеводы молчали. Предание, которое в Киеве звучало убедительно и гордо, здесь доверия не внушало. Все знали, что без колдовства невозможно заставить лодьи двигаться по суше, пусть и на колесах. Потому Вещего и считали отчасти колдуном. Но при виде мощи этих стен как-то слабо верилось, что подобной хитростью удалось бы устрашить греков.
– Да я давно думал… – Мистина вздохнул. – Они, Вещий с дружиной, заняли эту гавань и разоряли предградья. Если греки Суд заперли цепью, наши могли перетащить лодьи отсюда туда, – он показал вдоль стены в ту сторону, где через пять поприщ синел не видный отсюда Суд, – и перекрыть подвоз с моря и суши. И…
– И ромеям было дешевле просто откупиться от них, – вставил Савва. – Дать немного тканей и красивой утвари, чтобы эта докука убралась отсюда и не мешала Городу жить. Ведь если бы на двор твоего жилища забралась пара злых собак, тебе бы тоже было проще бросить им пару костей? Только не подумай, королева, будто я называю псом твоего прославленного родича! – спохватился он.
– Псов я бы велел пристрелить, а то так и будут каждый день таскаться, – заметил Мистина. – Но я не знаю, как бы я стал брать этот город, даже если обложить со всех сторон! – честно признался он, рассеянным взглядом скользя по верхнему краю стены.
– Даже я в затруднении! – засмеялся Савва. – А уж я повидал разных городов побольше твоего! К тому же вашему родичу приходилось поторапливаться, пока не подойдут провинциальные схолы. Рад, что ему хватило ума взять то, что предлагали, и снять осаду.
Эльга молчала, с тайным недовольством поджимая губы. В общем, Савва не сказал ничего оскорбительного. Но выходило, что Олегов поход на Царьград, ставший основой гордости руси и стягом ее ратной славы, здесь, на месте, выглядел мелочью, потерявшейся среди других событий жизни тысячелетнего города. И это было обидно.
– И вот еще что не пойму, – добавил Мистина, рассматривая башни и стену вокруг ворот, – куда и как здесь можно повесить щит?
– Может, штырь между камнями вколотили? – предположил Войко.
Подобравшись поближе, осмотрели кладку: мраморные блоки были пригнаны друг к другу так плотно, что между ними не просунуть и волоска. Если не приглядываться, то вовсе можно подумать, будто эти стены и башни не построены, а вытесаны из цельной скалы.
– Подходящей дыры не вижу… – сделал вывод Мистина.
– Могли замазать!
Войко и отроки чуть ли не носами возили по стене, надеясь все же найти подходящую дыру или хоть выбоину. Облазили резную облицовку срединных царских ворот, боковые, поменьше, предназначенные для простых людей.
– Могли, – согласился Савва. – Ромеям, конечно, хотелось уничтожить все следы этой неприятности. Эти ворота священны: василевс-победитель вступает через них в ждущий его город, как… – он с улыбкой покосился на Эльгу, – как муж соединяется с женой на ложе. Ведь по-гречески про город говорят «она», как про женщину. Поэтому, я слышал, один болгарский архонт грозил воткнуть в них свое копье…
Отроки вполголоса высказались насчет сути этого отверстия в городских стенах; Эльга сделала вид, будто не слышала. Однако теперь желание Вещего именно здесь оставить свой след приобрело в ее глазах совершенно иное значение, куда более глубокое.
– Поедем! – вздохнула Эльга.
Было ясно: об этом дне в Киеве рассказывать не стоит.
Она повернулась к гавани, где остались лодьи; Мистина сзади положил руку ей на плечо, будто хотел своей спиной закрыть от Саввы. На лице его отражалась досада.
* * *
Решительный миг настал, когда уже шел месяц серпень, греками называемый августос. Если на Руси в это время прохладно по утрам, а на родине Эльги и Уты, земле северных кривичей, идут дожди, то здесь стояла та же нерушимая жара – такая, какая в Киеве выпадает только в самую жатвенную страду. Зной с безоблачного неба палил такой, что выловленную из моря рыбу можно было жарить прямо на камнях. Даже ночью становилось лишь чуть прохладнее. Княгини поняли, для чего нужны «крины», и по полдня проводили на мраморяном бортике, близ несущих прохладу струй. Отроки, свободные от службы, почти не вылезали из моря. Лица их приобрели кирпично-красный цвет, а женщины уберегались от того же, лишь старательно прячась в тень. В самый солнцепек спасались под каменными сводами галерей палатиона либо в тени сада и невольно приобрели привычку гулять по ночам, а днем прятаться в мраморной тени и долго спать по утрам. Однако, несмотря на жару, вся растительность пышно зеленела, на виноградных плетях, ползущих по деревьям в саду, наливались зеленые и черные грозди.
Под сводами катехумения Святой Софии висела отрадная прохлада, ясно олицетворяя Божью силу, спасающую от адского пламени изнурительного греческого лета.
– Я нашел для вас епископа, – однажды сказал патриарх, когда они с Эльгой прохаживались вдоль мраморного ограждения. – У Иоанна Предтечи в Петрионе[20] есть достойный человек, архимандрит Марк, – муж честный, учительный, почестей и наград вовек не искавший, но жизнь свою отдающий на служение Господу. На следующую нашу встречу я приглашу его, и вы побеседуете. Еще лучше будет, если племянник твой Элег сам съездит к Святому Иоанну и убедится, как разумно там все устроено и как хорошо идет служба. Будет Марк рукоположен в епископы, и тогда уж сам сможет посвящать иереев и дьяконов для той церкви, что вы с ним построите, с Божьей помощью.
– Я много думала о том, что узнала от тебя, отец мой, – собравшись с духом, начала Эльга. – Все в воле Божьей, но я не хочу навлечь упрека, будто привезла служителя Господня в чужую страну и там покинула без помощи. Я много думала и говорила с моими людьми, что смогу дать, чем пожертвовать на построение церкви Христовой в Русской земле. Наша земля иным обильна, а иным бедна. Не хочу опозорить дело истины Христовой убожеством храмов и бедностью служителей. Все мои достатки – лишь пыль рядом с достатками василевсов ромейских.
– Чего же ты хочешь? – Патриарх воззрился на нее с неудовольствием. – Одежд и венцов?
– Для себя – ничего. Но для дела Божьего… Я хочу сказать василевсам: если я стану их дочерью духовной, когда свершится надо мной благое дело святого крещения, то и церковь моя, русская, будет дочерью церкви греческой. А добрый отец не отпустит дочь из дома без хорошего приданого, верной челяди, да и после иной раз поможет.
– Ты желаешь, чтобы василевс ромеев содержал церковь для росов?
– Василевс ромеев желает получить от меня воинов. Я желаю получить от него помощь в построении церкви. Прошу тебя, отец, помоги мне повидаться с василевсом так, чтобы мы могли побеседовать. С Божьей помощью, мы найдем способ договориться, чтобы моя церковь не пропала в убожестве, но и не слишком обременила собой Василию Ромеон.
– Что ты такое задумала?
– Я не смею, отец, говорить с тобой о торговле и пошлинах. Лишь василевс, во Христе самодержец, все нити земные и небесные в своих руках собирает. Он научит меня, как русам и души свои спасти, и с греками в мире вечном пребывать. Если же нет… Я – всего лишь женщина, – Эльга развела руками. – Мне одной не под силу удержать крепкий щит, чтобы злоба и корысть более Романию не тревожили. Вместе с Христовой церковью мы построим крепкие стены, что оградят ромеев от зла с севера. Но если василевс не сделает шага мне навстречу, то мне не управиться.
Патриарх помолчал. Он хорошо помнил нашествие росов пятнадцатилетней давности – под предводительством мужа этой женщины. Тогда разорению подверглись берега Понта до самой Пафлагонии. Ребенком он был свидетелем другого набега, когда русские дружины сюда приводил ее дядя с почти таким же именем – Эльг. Потом читал беседы патриарха Фотия, который почти сто лет назад наблюдал набег, разоривший предместья столицы и ближние острова. Чуть позже Василий август добился дружбы русских архонтов и даже склонил, говорят, к принятию христианства, но на этом и остановился. Положился в остальном на волю Божью. Бог же, видимо, хотел от ромеев подтверждения делом их желания умножать число христиан.
И вот пришла эта женщина, вдова разбойника, покончившего жизнь, как рассказывают, позорной разбойничьей смертью. Господь наставил ее искать спасения в вере. Но не спросит ли Господь, если они, христиане, и дальше сделают все тот же первый шаг и на этом опустят руки? Тот, кто уже дважды пытался возделать сад, держа лопату вниз черенком, хотя бы на третий раз должен понять свою ошибку и взяться за дело как следует.
– Хорошо, архонтисса, – наконец промолвил Полиевкт. – Я обращусь к василевсу с просьбой позволить тебе высказать ему все, что у тебя на сердце. Но помни, – он строго взглянул в смарагдовые глаза этой посланницы благой вести для далекой варварской страны, – Бог все помыслы наши видит и воздаст человеку по делам его.
* * *
По завершении двенадцати недель, когда гранатовые деревья покрылись плодами красными, как кровь, на праздник Рождества Богоматери было назначено крещение архонтиссы Эльги. Местом священнодействия избрали церковь Богоматери в Халкопратах, которую василевс ежегодно посещал в этот день. А назавтра Эльге предстоял долгожданный прием в Мега Палатионе – у земных владык этого царства, ее крестных родителей и восприемников от святой купели.
За несколько дней до этого в палатион Маманта явился асикрит логофета дрома, присланный сообщить: между приемом у августы и обедом архонтисса Эльга будет принята в собственных покоях Елены для частной беседы с богохранимым василевсом Константином и его августейшим семейством.
* * *
Рассвело, но над густым лесом висел туман, как бывает в месяц вересень. Через чащу по узкой, едва заметной тропинке от реки пробирался молодой мужчина с коробом за спиной. Медвежья накидка на его плечах повлажнела от росы. Лет за двадцать, с продолговатым лицом, острым носом и рыжей бородой, рослый, худощавый, с длинными конечностями, он по виду напоминал скорее оленя, чем медведя, однако накидка эта была ему так же привычна с самого детства, как и имя – Медвежко. Другого он никогда не знал.
Под первыми солнечными лучами на прогалинах острым блеском переливались капельки на высоких, уже пожелтевших стеблях трав по сторонам тропы. Осень выдалась дождливая, но теплая, и осинники, ельники, опушки рощ пестрели бесчисленными головками грибов – рыжими и бурыми. Алела среди блестящих листиков брусника. Тропу пересек свежий след – недавно прошла лосиха с лосенком.
Но в глубине ельника висел вечный полумрак. На хвое стежка потерялась, однако Медвежко уверенно шел вперед, пока не уперся в серый тын с воротцами. С высоких кольев таращились пустоглазые коровьи черепа. Не стучась, гость толкнул левую створку и вошел в тесный дворик.
Старуха хозяйка вышла за порог, услышав шаги. Годы согнули ее, однако и ей приходилось пригибать голову, выбираясь из тесной, вросшей в землю избушки.
– Будь цела, мать! – бодро приветствовал ее Медвежко.
– Хорош ли улов, сынок?
– Не обидел батюшка. На три дня мы с тобой при рыбе. И повялить еще останется. Давай, воды принесу.
Парень сбросил у стены заплечный короб, остро пахнущий рыбой и речной влагой, и взял деревянное ведро. Старуха приходилась ему не матерью, а бабкой, но здесь, в глухом лесу вдали от всех, где они обитали – тут не годится слово «жили», – это было не важно. Двадцать лет они, Князь-Медведь и Бура-баба, составляли друг для друга весь свой род – род стражей между Явью и Навью, не живых и не мертвых. Медвежко и не помнил никаких других родичей, не слышал прежнего, человеческого имени вырастившей его женщины. Зато каждый из них единственный знал другого в лицо: при редких встречах с родом человеческим они представали в личинах.
Он принес воды, старуха налила ее в самолепный горшок и поставила на растопленную печь. Взяв нож и корытце, Князь-Медведь собрался на воздух чистить рыбу, но помедлил, приглядываясь к старухе.
– Что-то ты, мать, невеселая. Спала худо? Чуры за ноги тянули?
– Сон видела.
Бура-баба села за непокрытый стол, такой же старый, как она сама, опустила на него руки. Сквозь морщины проглядывали правильные черты, тонкий нос, когда-то делавшие ее если не красавицей, то очень миловидной женщиной. Широко расставленные голубые глаза выцвели и смотрели сквозь Явь куда-то очень далеко. В каждом ее движении сказывалась привычка никуда не спешить, как у того, чей зримый мир очень узок, а незримый – неоглядно широк.
– Что за сон? – Князь-Медведь остановился у двери с ножом и корытцем в руках. – Нехороший?
– Дочку мою видела… – Старуха вздохнула. Слово «дочку» она произнесла осторожно, будто боялась выдохом разбить что-то хрупкое. – Ельку, вторую, что после твоей матери, уже от Вологора у меня родилась.
– И что с ней? – Князь-Медведь сел прямо на пол у двери.
Обилием утвари тесная избенка похвалиться не могла, да в этом и не нуждалась.
– Ты ведь ее никогда не видел, нет?
Князь-Медведь покачал головой. Он и родную свою мать видел, но не помнил: бабка с трех лет растила его здесь, в лесу, и от родителей в памяти остались очень размытые образы.
– Думаю… померла она, Елька, – выдохнула Бура-баба. – Видела: стоит она в сорочке белой, волосы распущены, по лицу вода течет… А вокруг нее все тени, тени, а между теней – огни. Видела лики парящие, слышала, будто поют – хорошо так поют, ладно.
– Что же поют?
– Не разобрать.
– Ну, что? Как говорится: сорок лет – прости, мой век!
– Ей будто не было еще сорока… – попыталась припомнить Бура-баба.
Она не могла уже сказать ни сколько ей самой, ни когда родились ее дети, ни когда она перебралась сюда, где времени вовсе нет и ходит по кругу, будто колесо на оси, один и тот же год.
– Вот, три мои дочки уже померли, а я все живу, старая… – вздохнула она. – Из восьмерых чад моих одна, выходит, на белом свете задержалась.
– Два раза молоду не быть, а смерти не отбыть. – Князь-Медведь снова встал. – А где она жила?
– Ох, далеко! – Старуха махнула рукой. – Увезли ее в Полянскую землю. Слыхала я, она там княгиней стала. Убегом ушла, да вот помиловала ее судьба…
Князь-Медведь вышел. Здесь, в глуши лесной, они с Бурой-бабой обретались для того, чтобы от лица мира живых служить Нави. По большей части он встречался с людьми в тот миг, когда они переходили с этой стороны на ту, поэтому смерть была для него не просто привычным делом, но почти единственным событием, которое он хорошо знал. Позже Бура-баба скажет, нужно ли им что-то делать, дабы проводить дух умершей. Но если она жила так далеко, то, возможно, ее проводит род мужа.
Бура-баба смотрела вслед Медвежке – в дверной проем, который он оставил открытым, чтобы выходил дым. Она не стала говорить внуку, что именно из-за этой ее второй дочки, Ельки, он сам и оказался здесь еще трехлетним ребенком. Прежний Князь-Медведь внезапно погиб в тот самый день, когда Елька навсегда покинула родные края. Погиб, не дав преемнику времени вырасти и повзрослеть, лишив его детства возле матери, не позволив даже узнать обычной человеческой жизни. У нее, Буры-бабы, в прошлом все же была эта жизнь: человеческое имя – Домолюба Судогостевна, – была семья, родители, два замужества, восемь детей – двое умерших младенцами и шестеро выросших.
Но зачем Медвежке, сыну ее старшей дочери Вояны и прежнего Князя-Медведя, знать о влиянии незнакомой тетки на его долю? Судьбы не переменишь, и ни к чему ему поминать недобрым словом ту, которая теперь совсем ушла с белого света.
Уже двадцать лет бывшая дочь старого плесковского князя Судогостя исполняла должность стражницы между Явью и Навью. Она привыкла провожать духи умерших по верной дороге – через Забыть-реку, чтобы они в свой срок могли найти дорогу назад и вновь родиться среди потомков. Она поняла бы, если бы вторая ее дочь в миг расставания души с белым светом потянулась к ней, попросила о помощи мать – ту, о ком все вспоминают в трудный час, как бы далеко ни забросила судьба. И она подала бы руки своей давно ушедшей дочери, помогла бы пройти по узкой жердочке над Огненной рекой… Оборвав все связи с земным миром, она осталась матерью, в глазах которой на дитяте нет неискупимой вины.
Но дочь ни о чем не просила. Даже не глянула. В белой сорочке и с мокрыми волосами выйдя из каменной чаши, полной воды, повернулась к ней, матери, спиной и медленным, размеренным шагом двинулась прочь. Под ногами ее лежала бело-голубая бездна, впереди мерцали облака. Она не шла в Навь, чтобы слиться с бесчисленными поколениями предков; одинокая, как луна, она удалялась в сияющую голубизной и золотом пустоту. Но позади нее оставался след – мигающая искрами дорожка над бездной.
И чем больше Бура-баба смотрела на эти искры, тем сильнее они разгорались: взрастали в языки пламени, сливались в огненное море; оно все ширилось, грозило обнять весь небосклон, пролиться вниз, на землю…
Бура-баба погасила внутренний взор – так обычный человек закрывает глаза, не желая видеть страшного. Пламя опало.
Но осталось недоумение. Куда пошла ее дочь? Что ее ждало там? Стражница рубежа Яви и Нави могла лишь с тревогой смотреть вслед, понимая одно: пути их разошлись навсегда.
* * *
…Она проснулась с чувством, будто лежит на самой вершине каменного столпа – того, откуда царь Устиян, что из меди вылит, грозит на восток всем тамошним варварам. Наедине с Тем, кто смотрит на нее сверху… Таков Господь: сколько ни возносись, Он всегда будет выше… и только Он. А вокруг голубая пустота и солнечный свет – мягкий, ласкающий опущенные веки. Вчера случилось нечто важное, перевернувшее всю ее жизнь, поднявшее на эту высоту, где она оказалась совсем одна. Ощущение этой важной перемены обнимало, как широкий плащ, и даже усилилось за время сна. Теперь она совсем другая. Прежняя язычница умерла, сгинула в водах крестильной купели, и на свет родилась христианка Елена. Родилась для вечности, как наследница Царствия Небесного.
Елена… Мысленно она вглядывалась в это имя, примеряя к себе. Перст Божий в том, что нынешняя августа, супруга Константина и ее восприемница от купели, носит то же имя, что равноапостольная царица Елена. Патриарх ей рассказывал про эту женщину, и в их судьбах она видела так много сходства, будто Господь за века до ее рождения создал образец, которому назначил ее следовать. Та Елена тоже была женой воина, но большую часть жизни провела одна. Имела единственного сына, который принял царский венец и сделал царицей свою мать. Стала христианкой уже в зрелые годы. Совершила подвиг, с Божьей помощью обретя крест Господень. А сын ее Константин узаконил Христову веру в Греческом царстве.
И теперь она, княгиня киевская, – тоже Елена. Патриарх говорил: вместе с этим именем на плечи ее Господь возложил и долг – сделать все, что будет в силах, для дела истинной веры на Руси. Но об этом ей сейчас не думалось. Она пока лишь приглядывалась к себе: что изменилось? Ей обещали благодать, радость и счастье от приобщения к верным. Но она чувствовала, что вместе с монашеским палием, который вчера надели на нее по выходе из купели в знак отречения от всех ее прежних языческих званий, легла на нее нелегкая обязанность. Теперь она за каждый шаг свой, за каждый помысел отвечает перед Богом. Не перед чурами, бесконечной вереницей уходящими во тьму веков, а перед Тем, что един в трех лицах и сияет в недостижимой вышине, как солнце мира. Для него она – просто женщина, вдова по имени Елена, а не княгиня могучего русского рода. Ему не важны ее предки, слава и успехи земной жизни.
А ничего этого и не было. Вот откуда это чувство высоты. Всю жизнь она сидела верхней веточкой на могучем дереве рода – пусть и надломленной. Но теперь то дерево исчезло. Перед лицом Бога она стояла одна. Ни позади, ни рядом больше никого. Она как первая гостья, раньше прочих пришедшая на праздник. Еще не кружатся хороводы, не раздаются песни, не пылают огни. Она одна ожидает брачного пира, куда всякая верующая душа приходит невестой Христовой.
«Сохраняй чистой одежду, полученную во святом крещении, – напутствовал ее вчера патриарх, когда она стояла перед ним в новой белой сорочке и с зажженной свечой, – до конца жизни твоей, да будешь достойной гостьей небесного чертога брачного, куда входят лишь те, кто имеет одежду чистую и светильники, горящие в руках…»
И вот она, давно не молодая женщина, мать взрослого сына и, наверное, бабка внука-грудничка, снова в начале пути, будто младенец. Как те старухи, которых молодильная вода или горнило Сварога-кузнеца снова превращали в новорожденных. И страшно было открыть глаза навстречу свету, шевельнуться, сбросить легкое покрывало, встать с постели и сделать свои первые шаги в обновленной жизни.
Послышался стук в дверь: размеренный и многозначительный. Так и самого василевса всякий день будят в семь часов утра тремя ударами в золоченую дверь опочивальни. Потом кто-то вошел, донесся знакомый голос:
– Эльга! Проснись! Пора же собираться – нам нынче к царю ехать!
Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Возле нее стояла Ута, со вчерашнего дня – Агния, в точно такой же белой сорочке. Ее сестра, которая всю жизнь без раздумий следовала за ней – и в дремучий лес Князя-Медведя, и в святую купель Богоматери Халкопратийской. Выходит, есть вещи, которые ни тьма, ни свет с души человеческой не смоют.
Словно возвращенная с небес на землю своим прежним именем, Эльга засмеялась и протянула руку, чтобы Ута помогла ей подняться. К царю на пир – значит, к царю!
* * *
Отдыхая в портике Августея после приема у двух цариц, Эльга пыталась собраться с мыслями. Сейчас ее пригласят в собственные покои Елены августы, и там она изложит Константину все то, о чем уже говорила с его царедворцами, а еще то, о чем еще не говорила никому. О том, чего хочет русь от греков и чего ждет в дальнейшем.
Мистина, сидя с кубком в руке, не сводил с нее пристального взгляда. Говорить уже не о чем: сто раз обо всем говорено. Она видела, он волнуется не меньше ее и отчаянно жалеет, что ему пойти с ней нельзя. Увы: в покои царицы допускаются только евнухи. А Мистина на евнуха похож не более, чем конь на жабу: и борода, и низкий голос, и, главное, выражение глаз не оставляют места сомнениям. У него с молодости были такие глаза, что даже разговаривая с женщиной о чем-то другом, он в мыслях будто делает с ней это самое…
«Они это нарочно устроили, чтобы ты не могла взять с собой ни меня, ни Святшиных парней, ни еще кого-то из послов и советников! – хмыкнул Мистина, когда им впервые сообщили, что архонтиссе выделено время для частной беседы, но в личных покоях Елены августы, куда запрещен доступ чужим мужчинам. – Надеются, что без нас ты не сможешь связать двух слов, будешь только кивать, улыбаться и на все соглашаться».
Едва ли он был прав: царевы мужи, включая патриарха, имели случай убедиться за эти три месяца, что архонтисса русов вполне понимает суть вопросов, которые приехала обсуждать. Но выбор места для беседы и впрямь лишал ее поддержки советников-мужчин, вынуждая сражаться в одиночку.
Но вот снова появился препозит с подчиненными. Выкинув из головы ненужные мысли, Эльга встала, а вся ее свита, даже женщины, осталась на месте.
Скопец-препозит с двумя остиариями вновь привели Эльгу в ту палату с багряным возвышением, но теперь золотой трон и кресло стояли пустые. Отсюда они прошли еще через два зала, следуя за удалившейся царицей. Наступал тот час, ради которого Эльга больше месяца ехала сюда через весь нижний Днепр и всю западную половину Греческого моря, а потом три месяца ждала в палатионе Маманта. Помня об этом, она уже не смотрела по сторонам; когда перед ней вдруг открылась крина, где золотой орел терзал змею, держа ее шею в клюве, а когтистыми лапами топча длинное тело, она лишь скользнула по нему беглым взглядом. Эти вроде оживать не собирались, ну и ладно.
Два служителя растворили обитые серебряными листами двери, и Эльга вступила в китон.
Просторное помещение было полно света. Сквозь высокие сводчатые окна лилось солнце, отражаясь от белого мрамора стен и пестрых мозаичных узоров пола. Резные плиты изображали танцующих женщин в длинных складчатых одеяниях, меж ними высились розовые столпы, опоясанные венками из золотых листьев. Меж колонн, поверх плит, красовались узорные полукруглые своды, похожие на ребристую створку огромной раковины. В конце помещения в каменной чаше искрились струи крины в виде золотой сосновой шишки.
Но все это Эльга заметила лишь мельком. Они сидели здесь все сразу, и она даже приостановилась от неожиданности, будто в лесу наткнулась на целое семейство медведей. На мраморной скамье, на пурпурной с золотом подушке восседал сам Константин, без венца и лороса, а лишь в темном шелковом кафтане и красной мантии. Подле него устроилась Елена, уже в другом наряде, по сторонам – несколько молодых женщин и девушек с распущенными по плечам темными волосами. Но знакомого лица Феофано среди них Эльга не приметила. Девушки сидели на той же скамье, что и василевс с супругой: похоже, это их дочери. Так и есть – их пять, и младшей на вид лет тринадцать.
Не вставая ей навстречу, Константин произнес несколько слов. Теперь он улыбался и глядел как живой человек.
– Василевс еще раз приветствует тебя и просит сесть, – сказал над ухом толмач-скопец.
В подтверждение этих слов Константин указал ей на другую скамью, стоявшую углом.
– Скажи ему спасибо, – Эльга кивнула и направилась к скамье.
Усевшись, перевела дух. Теперь, когда семейство василевса не взирало на нее с небесных высот, а сидело почти лицом к лицу, она вдруг успокоилась и осознала: сколько бы золота ни украшало этих людей и их неоглядное жилище, тем не менее они такие же смертные, как и она сама. Теперь она разглядела, что у Константина довольно светлая кожа – светлее, чем у большинства греков, – а глаза тоже светлые, даже, кажется, голубые. Вспомнилось, что ей рассказывали: бабкой Константину приходилась некая Евдокия Ингерина, то есть дочь Ингера – так греки называли Ингигейра, тогдашнего этериарха, родом из Северных Стран.
Зато дочери пошли в мать: все шесть августейших женщин были смуглы, с густыми черными бровями, большими глазами и выступающими носами. Взоры Константиновых дочерей выражали жгучее любопытство пополам с испугом: так сама Эльга в юности могла бы смотреть на приведенную во двор медведицу.
– Василевс и его супруга приветствуют свою крестную дочь и еще раз поздравляют с тем, что приняла она крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, – перевел толмач. – Сердца их радуются, видя, что совершил Господь над тобою милость Свою, и изъял тебя из адской тьмы идолопоклонства, и привел к познанию истинного света Триипостасного Божества.
– И я рада, что снова родилась водою и силою Святого Духа, – Эльга слегка поклонилась Константину и Елене, пытаясь увидеть в этой паре совершенно чужих, непонятных людей своих новых, духовных родителей. – Радуюсь я душой и телом неизреченно, что причастилась Божественных Тайн пречистого и животворящего Тела и Крови Христа Бога нашего.
– Да будешь же ты верным агнцем Христова стада, дочь моя, – милостиво произнесла Елена, улыбаясь ей.
– Одно это великое деяние достойно того путешествия, которое ты совершила, – продолжал Константин. – Я много изучал предания и деяния владык прошлого, но никогда не слышал о том, чтобы к нам, василевсам ромеев, приезжала женщина-игемон из далеких и варварских стран. Равное тому случилось лишь тогда, когда был Соломон царем над всем Израилем, сидя на престоле Давида. Известно ли тебе, как принимал он у себя царицу Савскую?
– Нет, но я хотела бы услышать об этом, – с готовностью ответила Эльга.
Про себя она обрадовалась: пожелав что-то рассказать сам, Константин тем дал ей время опомниться.
– Царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством: верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями; и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего не знакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и всесожжения его, которые он приносил в храме Господнем. И не могла она более удержаться и сказала царю: верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей; но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои: и вот, мне и вполовину не сказано; мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят пред тобою и слышат мудрость твою! Да будет благословен Господь Бог твой, Который благоволил посадить тебя на престол Израилев![21]
– А когда это случилось? – спросила Эльга, тайком ужаснувшись, что ее дары покажутся уж очень скромными перед подношениями предшественницы: ни золота, ни благовоний, ни драгоценных камней она не привезла. Да и где ей взять верблюдов?
– Великий царь Соломон правил Израилем около двух тысяч лет назад, – улыбнулся Константин, понимая, что для его духовной дочери, вчерашней язычницы, все это совершенно ново. – Но в память о том дне царственность наша[22] принимала твою светлость на Троне Соломона, сделанном по образцу того трона, на котором сидел Соломон. О нем так повествует Священное Писание: «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом; к престолу было шесть ступеней; верх сзади у престола был круглый, и были с обеих сторон у места сиденья локотники, и два льва стояли у локотников; и еще двенадцать львов стояли там на шести ступенях по обе стороны. Подобного сему не бывало ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были золотые, и все сосуды в доме из Ливанского дерева были из чистого золота».
Так это в Библии! В тех преданиях, откуда греки берут образцы для своей жизни во Христе. Не так чтобы Эльга полностью поняла, что Константин хотел ей сказать, но оценила главное: он принимал ее так, как описаны подобные вещи в Библии, а значит, все идет положенным порядком.
Пока он говорил, Эльга украдкой оглядела покой и обнаружила, что здесь не только семья василевса. Чуть в стороне сидели двое мужчин. Один знакомый – все тот же патрикий Артемий. Второго, полноватого мужчину лет сорока, тоже безбородого, с ухоженными черными кудрями, она не знала, но, судя по богатой одежде и роскошной мантии, он занимал при Константиновом дворе весьма значительное положение. Здесь сидели те члены синклита, что были евнухами.
Приятно журчала крина в широкой каменной чаше, отгоняя жару месяца септембриоса. В воздухе витали загадочные и манящие запахи благовоний, въевшиеся, казалось, не только в занавеси и подушки, но даже в самый мармарос стенных плит и мозаик. Темно-красный, как переспелая брусника, камень скамьи гладкостью и причудливым узором напоминал твердый шелк.
– Царица искала у Соломона земной мудрости, ты же нашла у нас нечто большее – благодать Божию и красоту веры Христовой, – обратилась к Эльге августа Елена. – Так поведай, что у тебя на сердце, о чем еще ты желаешь беседовать с нами?
Собираясь заговорить, Эльга усилием воли отогнала то, что само просилось на язык: а эти золотые львы – они все-таки живые?
– На сердце у меня лежит великая радость, что я побывала в царстве вашем и приобщилась к Христовой вере, – начала Эльга, которой притча о Соломоне подсказала подходящие слова. – И ранее я немало слышала о красоте и величии царства Ромейского – передавал русам о нем и мой дядя, князь Олег, и мой муж, князь Ингвар. Они искали дружбы василевсов ромейских и заключали с ними договора ради взаимной нашей пользы и радости…
– Только они не всегда держали свое слово! – возразил незнакомый ей мужчина, когда Эльга замолчала, давая вступить скопцу-толмачу. – И договора эти порой оказывались разорваны ранее, чем минует указанный в них срок!
– Это паракимомен Василий, патрикий, – с поклоном просветил Эльгу толмач.
Безбородое лицо старшего царедворца расплылось в улыбке, но Эльга понимала: это упрек, а не любезность. Срок действия прежних договоров обозначался как «навсегда» и «во все годы». Но кончалась эта обговоренная «вечность» слишком быстро – едва успевало подрасти новое поколение воинов.
– Но ведь те люди были язычниками, – вступила в беседу августа Елена, доброжелательно глядя на Эльгу. – Потому они не могли держать слово, ибо двигала ими лишь злоба и корысть, как то свойственно варварам.
Вблизи Эльга разглядела, что ее новая, духовная мать – полная женщина лет на пятнадцать старше ее, с удивительно черными для такого возраста волосами – ни единого седого, – с выверенной величавостью движений. На удивительно гладкой белой коже ярко выделялись красные губы, окруженные темным пушком, мерцание самоцветов в крупных серьгах оживляло взгляд больших глаз под тяжелыми, затененными веками. На пухловатых запястьях плотно сидели одинаковые браслеты, покрытые разноцветными камнями и пояском крупных жемчужин. Фиолетовый шелк далматики, зеленоватый с золотом – мантии и золотистое покрывало под венцом делали ее похожей на птицу павлина, которую Эльга уже видела и на рисунках мозаик, и живьем, в садах Мега Палатиона.
– Теперь все пойдет иначе, с Божьей помощью, ведь правда? – продолжала Елена, с истинно материнской снисходительностью кивая Эльге и ожидая от нее подтверждения.
– Более всего я хочу, чтобы в будущем все пошло иначе, чем прежде, – подтвердила Эльга с гораздо большей искренностью, чем Елена высказала свое пожелание. – Предки наши, прежние вожди руси, видели в землях вдоль Волхова и Днепра лишь удобную дорогу на Юг и Восток – Путь Серебра. Подчиняя славян, воюя с ними и собирая дань, они стремились лишь набрать больше мехов и челяди, чтобы продать все это булгарам, хазарам и грекам. Иные из них и сейчас еще видят в землях наших данников лишь источник товара, служащий обогащению княжеских дружин. Для них сам Киев – лишь удобное место для зимнего отдыха и пристань, откуда они по весне отплывут на поиски новых сражений, за славой и сокровищами.
Она умолчала, что таким был ее муж Ингвар. Таким же вырос ее сын Святослав: с младенчества он охотно впитывал понятия дружины, составлявшей для него главную семью. Зато на лице Константина отражалось понимание, что она имеет в виду. Целью этих походов русам видится в первую очередь его царство: от северной фемы Херсонес до окрестностей столицы и даже лежащей куда восточнее Пафлагонии.
– Но есть среди руси другие люди, – продолжала Эльга. – Эти люди желают мира и доброго устроения той земле, где нашли свою новую родину. Не имея охоты подвергать себя ежегодным опасностям военных походов, они стремятся, опираясь на закон христианский, быть в мире с христианскими народами и жить с ними, как одна семья, обмениваясь всем лучшим, что есть у каждого из нас. Но в твоих руках, василевс, сходятся все нити власти, в твоей воле объединить все потребности, что мы имеем, и дать им всем удовлетворение. Поэтому я хотела говорить с тобой.
– Что ты желаешь получить от нас?
По лицу Константина было видно: он ждет услышать нечто хорошо ему знакомое. Все те же просьбы варварских архонтов, с которыми ему и его предшественникам доводилось иметь дело.
– Мне нужна помощь в построении на Руси церкви Христовой. Ты, василевс, первый защитник и жертвователь церкви греческой, так не оставь же помощью и дочь ее духовную – церковь русскую.
– Разве патриарх не рассказывал тебе, на какие средства содержится наша церковь? – Василевс удивился, не услышав ожидаемого, но не растерялся. – Дары василевса – лишь часть. У церкви есть земельные владения, и дары в нее приносят все христиане, кто заботится о спасении своей души. Ты ведь получаешь немалую дань. Мне известно число ваших данников, чьи земли простираются чуть ли не до края обитаемого мира, – это вервианы, другувиты, кривичи, северии… и прочие. Ежегодно ваши люди провозят меха, мед, воск и челядь и получают за это немало серебра. Этого вполне хватит на пожертвования церкви.
– Большая часть получаемого нами идет на содержание наших дворов и дружин. Я могу уделить часть на пользу служителей Христовых, но этого далеко не достаточно, чтобы показать язычникам всю силу и красоту Закона Божьего, как он осуществляется здесь. Мы достигнем нашей цели и спасем немало душ, если церковь Христова в Киеве будет частицей Царствия Небесного как здесь – Святая София и другие храмы. И чем больше людей русских мы убедим последовать за Христом, тем менее ромеям нужно будет опасаться новых нашествий.
– Нашествий? – Константин нахмурился. – Василевсу ромеев Господь Бог отдал во владение весь сотворенный мир. «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира»[23]. И всякий, кто из рук наших принимает истинную веру и указание пути к спасению от нас получает, отныне – сын и слуга верный Василии Ромеон. Господь и царственность наша ожидают, что ты, женщина влиятельная и честная, пришла сюда, имея целью, во всем уступив моей воле, установить между державой нашей и русами вечную дружбу. Тебе были изложены пожелания наши: прислать воинов для нашего флота, каковое условие заключалось еще между царственностью нашей и твоим мужем, архонтом Ингером. Теперь, когда благодать Божия коснулась уст твоих, я хочу услышать от тебя, дочери нашей: готова ли ты оказать помощь отцу своему? Ты желала получить иереев взамен воинов – патриарх даст тебе епископа, способного рукополагать иереев сообразно вашим потребностям.
– И поскольку василевс будет сам платить жалованье воинам за службу, странно было бы просить, чтобы из нашей казны содержалась церковь, спасающая ваши души, – вставил Василий.
– Истинно, – подтвердил Константин.
– Мы могли бы поговорить о присылке воинов, – ответила Эльга: ее сердило вмешательство боярина-скопца в ее беседу с василевсом. – Но нам не слишком удобно отсылать воинов прочь из страны, когда у русов и ромеев есть общий враг – хазары. Русь может оказать ромеям важную услугу, разбив каганат. Пожалуй, даже большую, чем прислать несколько сотен воинов… к тому же не самых лучших.
– И что вы хотите? – бросил Артемий. – Мы не можем вступать в открытую войну с каганатом, пока не разделаемся с сарацинами.
– Об этом мы и не просим. Нам нужны всего лишь ваши союзники: печенеги, узы и аланы. Всем известна тесная дружба между ромеями и печенегами, – Эльга улыбнулась, намекая также на всем известную корыстную основу этой дружбы. – Если всемогущий василевс ромеев явит печенегам свою волю, чтобы они не тревожили наши пределы, а также посоветует архонту аланов поддержать нас, мой сын окажет василевсу эту важную услугу. И даже не попросит никакой помощи от самих ромеев.
Василевс и двое его приближенных воззрились на нее в изумлении; в глазах Елены августы впервые мелькнуло искреннее любопытство, а ее дочери, особенно старшие, смотрели на гостью чуть ли не с восхищением. Никто не ожидал, что пожелания архонтиссы русов идут настолько дальше привычных просьб о царских одеяниях, поясах и венцах.
– Василевс пока не имел намерения вступать в войну с каганатом, – сказал наконец паракимомен Василий. – И чем разбрасывать силы союзников, куда лучше объединить их. Дай нам воинов, чтобы мы могли скорее одолеть наших врагов – сарацинов Сайфа ад-Даулы и критского эмира. А когда с этим будет покончено, возможно, мы обратим свои взоры на каганат.
– Царственность твоя желает, – Эльга взглянула на Константина и на миг опустила глаза, будто покоряясь, – чтобы я вернулась домой и сказала моему сыну: сейчас твои воины пойдут сражаться против сарацинов, ибо так угодно отцу нашему, василевсу ромеев…
Константин удовлетворенно кивнул, видя, что русская архонтисса наконец поняла его мысль.
– За эту службу василевс наградит русов, как ему будет угодно, а когда Бог пошлет победу и добычу, щедро раздаст награды, титулы и прочие милости. После того, если будет угодно его царственности, василевс прикажет своему войску идти на каганат, и буде русы пожелают присоединиться к нему, он и там достойно наградит их за помощь. Я верно поняла тебя – именно это я должна сказать моему сыну?
– Именно так, клянусь головой Богоматери! – подтвердил вместо Константина Василий; сам же август-космократор пристально смотрел на Эльгу, ожидая, что за этим последует.
– Тогда выслушай же, что ответит мне сын. Он скажет: «Мать моя и княгиня, как бы я ни желал исполнить волю василевса, духовного отца нашего, мне не позволят этого мои люди. Они скажут: мы своей кровью заслужим добычу, но получим лишь то, что ромеи пожелают дать нам. Потом, если им будет угодно – а возможно, и нет, – они пойдут на хазар, и там, если повелит Бог, возьмут добычу снова. И снова мы получим лишь то, что они пожелают дать нам – тем из нас, что останутся в живых. Не лучше ли нам будет пойти самим на хазар, пока ромеи заняты сарацинами? Мы возьмем сами всю добычу и славу». Вот так он скажет мне, – Эльга прямо взглянула в лицо Константину, – и дружина его закричит: «Слава князю нашему!» А голос христиан будет тих и неслышен, ибо мало их. И не станет их больше, если царственность твоя не поможет мне создать достойную церковь на Руси. Но если ты поддержишь меня сейчас, то тем умножишь число людей русских, кто возвысит свой голос за тебя.
Константин переглянулся со своими царедворцами. Эльга не угрожала, но изображенное в ее словах будущее не слишком нравилось ромеям.
– И если мы договоримся о поддержке церкви, то я помогу твоим василикам, кого ты пошлешь искать наемных воинов, хоть до Смоленска, а хоть и до Ладоги, как это бывало порой еще при дедах наших, – закончила Эльга. – Если же нет, то я не смогу ручаться за их безопасность в тех жестоких языческих краях.
– Но как вы не понимаете! – обратился к ней Артемий, которого лишь присутствие августейших особ вынуждало умерять досаду. – Войско василевса – лев, войско русов – пес! Следуя за львом, пес возьмет в сто раз больше добычи, чем один или с другими псами, клянусь головой апостола Филиппа!
– Русы привыкли добывать свое достояние мечом. Они недоверчивы. Позже мои люди переговорят с тобой, патрикий, о нужной нам доле в добыче, чтобы не утомлять этим василевса и не утруждать мой женский ум, – поспешно сказала Эльга, видя, что Константин проявляет признаки нетерпения и может прервать беседу. – Но только с ним я могу и должна переговорить о залоге…
– Это другой разговор! – усмехнулся Артемий. – Обмен заложниками – обычное дело, наши посланники всегда делают это, когда отправляются к пачинакитам[24], и мы можем обменяться заложниками с вами на то время, которое понадобится на войну.
– Мне не нужны заложники из числа служителей, – Эльга покачала головой. – И сын мой на это не согласится. Наш обычай позволяет полное доверие лишь при условии кровного родства. При столь великом деле возможен лишь один залог: если василевс отдаст моему сыну в жены одну из своих дочерей.
Толмач, судя по его потрясенному виду, с трудом вымолвил это предерзкое требование. Глаза Константина вспыхнули, брови сомкнулись; василисса удивилась, а дочери ее переменились в лице и вытаращили глаза. Одна или две даже ахнули.
– Это невозможно! – резко ответил Василий, пока Константин, онемев от возмущения, искал слова. – Неслыханное дело, чтобы порфирогенита порфирогенета – багрянородная дочь багрянородного августа – соединилась браком с чужеземцем! Стала заложницей в варварской стране!
– Посмотрите на меня! – Эльга вскинула голову. – Я родилась на севере славянских земель, а в Киев попала как невеста-заложница. Такой порядок был заведен еще до моего рождения, между моим дядей, князем Олегом, и родом моего мужа. И вот теперь я – правительница Русской земли, архонтисса и игемон. Твоя дочь, василевс, станет править Русью и удержит мужа от нарушения договоров. Что толку тебе держать их здесь, как жемчужины, запертые в ларце? Как таланты серебра, зарытые в землю? Брачный союз между моим сыном и твоей дочерью – той, какую тебе угодно будет избрать, – пойдет на пользу нам всем. Твоя дочь принесет в приданое священные покровы, сосуды и средства на содержание церквей. Мы вместо выкупа дадим воинские дружины. А главное, при таком близком родстве никогда уже нам не придется обращать оружие друг против друга. Христова вера в Русской земле процветет, и через поколение вся Русь будет почитать тебя как отца.
– Ты… – Константин наконец справился с собой и сумел заговорить, – ты сама не знаешь, чего желаешь!
– Отчего же! – Эльгу уже трясло от волнения, но она крепилась, не позволяя себе сдаться. Казалось, вся земля и дружина русская смотрят на нее в эти мгновения, а за спиной стоит сам Вещий со своим щитом. – Всякая мать знает, какой доли желает своему единственному сыну.
– Оттого, что на священном престоле вселенской церкви христиан Святой Софии начертано страшное заклятие и нерушимый приказ великого и святого Константина: никогда василевс ромеев да не породнится через брак с народом, приверженным к особым и чуждым обычаям! Особенно же с иноверным и некрещеным! Дерзнувший совершить такое должен рассматриваться как нарушитель отеческих заветов и царских повелений, как чуждый сонму христианскому. И да будет он предан анафеме!
– Твой сын не крещен! – воскликнул Василий. – Большая дерзость – требовать для него багрянородную царевну!
– Пусть сначала и он приедет сюда и примет крещение! – добавил Артемий. – Но и тогда…
– Как ты видишь, даже среди самых сановитых ромеев не нашли мы достойного стать мужем нашей дочери, – холодно произнес Константин. – Пусть они лучше достанутся одному только Богу! Довольно этой неразумной беседы: нам пора перейти в триклинии и сесть за обед.
Царедворцы поднялись. Эльга тоже встала. Сопровождаемый знатными скопцами, Константин вышел в одну серебряную дверь; Елена августа поднялась, и по этому знаку служители препозита открыли для нее другую.
Следуя за василиссой через вереницу палат, убранство которых она теперь едва замечала, Эльга мысленно прикидывала итоги этой словесной битвы. Честно сказать, пока она ничего особенного не добилась, лишь рассердила своего крестного отца. Но, хотя ей противостояли трое мужчин – пусть двое из них мужчины лишь по уму, – итак, три мужских ума против одного ее женского тоже пока ничего не добились. Каждое войско вернулось в свой стан – отдохнуть и подготовиться к дальнейшим сражениям.
* * *
Вслед за хозяйкой Эльга прошла в ту палату с красными кругами на полу, где Елена принимала ее в первый раз. Теперь здесь уже расставили столы: для царственных жен – на возвышении перед троном и золотым креслом, а для прочих женщин – торцом к нему внизу, так что вместе оба стола образовывали полукрест. За верхним столом сели Елена и ожидавшая здесь Феофано, а к Эльге подошел атриклиний – особый муж, в чьи обязанности входило рассаживать гостей по порядку.
– Прошу твою светлость пройти к апокопту! – Он указал на отдельный стол, сбоку от возвышения с золотыми креслами цариц. – Окажи честь этим знатным женам, разделив с ними трапезу.
Возле стола застыли закутанные в яркие шелка две женщины: помоложе и постарше. Их черные кудри были подняты и уложены в прически, покрытые чем-то вроде золоченого волосника с самоцветами, но без жемчужных подвесок, как у цариц. Зато ожерелья, браслеты на белых выхоленных руках, серьги с подвесками до плеч! Под накидками сверкали золотые пояса, тоже расшитые самоцветами.
– Кто эти женщины?
– Павлина, – представил атриклиний, и та, что постарше и пополнее сложением, величаво наклонила голову, – зоста патрикия августы Елены. Агния, зоста патрикия Феофано.
– Что это значит – зоста…
– Это значит, что патрикии возглавляют всех знатных жен при особе василиссы и ее невестки, управляют всей их прислугой и делами дома. Это высший чин, возможный для женщины.
– Вы что же – с боярынями меня посадить хотите? – Эльга нахмурилась.
– Твоя светлость должна знать: за этим столом имеют право сидеть лишь шесть высших чинов Василии Ромеон: кесарь, патриарх, новелиссим, куропалат, василеопатор и зоста-патрикия. Выше сидят лишь сами багрянородные. Лучшего места, чем это, никто не в силах предоставить твоей светлости.
Эльга помолчала. Сколь ни велика была разница в обычаях греческих и русских застолий, кое-что их объединяло: места не равны и распределяются по чести. Она заколебалась: оскорбительным казалось равнять себя с боярынями, пусть и старшими над всеми служанками. По уму, с этими двумя должны бы сидеть Ута и Живляна. Но выше их – только две царицы, а требовать себе равенства с царицами Эльга не могла.
Грянул орган. Обе августы уже сидели за своим столом, и позади каждой стояла богато одетая служанка, зачем-то держа над головой госпожи золотой жезл.
Под звуки органа в триклиний чередой потянулись разодетые женщины: сначала гречанки, за ними – спутницы Эльги. Каждая в свой черед, по чину, подходила к возвышению цариц и простиралась перед ними ниц, после чего трапезит-стольник поднимал их и разводил по местам. При виде своих Эльга немного успокоилась: невольно она тревожилась за княгинь и боярынь, брошенных где-то в блистательных чащобах Мега Палатиона.
Подумала о своих мужчинах: они обедали с Константином где-то в другом месте. Но эти, возглавляемые Олегом Предславичем и Мистиной, уж как-нибудь справятся сами.
– Ведь твоя светлость наречена дочерью Елены августы во святом крещении, – почтительно напомнил атриклиний. По его беспокойному виду становилось ясно, что упрямство Эльги нарушает принятый порядок и ставит его в затруднительное положение. – А значит, будет уместно проявить дочернее почтение. Ведь тебе позволено приветствовать августейших особ, не совершая проскинесис, а лишь наклонением головы.
В это время Феофано что-то крикнула со своего места, глядя на Эльгу, и весело улыбнулась.
– Ее светлость Феофано просит архонтиссу Эльгу поскорее сесть и позволить приступить к трапезе, ибо она голодна.
Атриклиний вновь поклонился, указывая на кресло посреди отдельного стола. В глазах его мелькнула мольба, и Эльга подумала: а ведь с него спросят, что гостью усадить не смог. Кресло же было сплошь покрыто резными пластинами слоновой кости, так что казалось, будто оно целиком и выточено из нее. На сиденье лежала подушка цветного шелка с золотой каймой.
Две зосты патрикии, стоя возле своих мест, посматривали на нее в ожидании: что выкинет эта «царица Савская» с крайних северных пределов, где совершенно не знают обхождения? И все ее русские спутницы, стоя вдоль своего стола, глядели с тревогой: что идет не так? Им и без того-то было не по себе.
Дочернее почтение, он сказал! Эльга глянула на верхний стол: Елена августа улыбнулась ей все той же заученной улыбкой. Все они правы: она приехала сюда, в чужой дом, и, крестившись, приняла его правила. Требуя чего-то сверх правил, она не делает себе чести. Пожалуй, на сегодня она уже довольно надерзила.
И Эльга, совершив требуемое наклонение головы в знак благодарности за приглашение к трапезе, наконец позволила усадить себя. Атриклиний перевел дух, и в поклоне его явственно угадывалась признательность.
Вокруг столов пошел какой-то чин, размахивая кропилом и брызгая на столы и гостей чем-то пахучим, почти как в церкви. Слуги начали вносить блюда и расставлять по столам: для цариц, для Эльги, ее двух сотрапезниц, по большому столу, вдоль которого с одной стороны уселись приближенные цариц, а с другой – женщины Эльги. Никто еще не ел, гостьи жадно разглядывали убранство трапезы. На шелковой скатерти, вышитой золотыми цветами и фруктами, сияла золотая посуда – большие и малые блюда, миски, кувшины и кубки, разные сосуды и корчажки с чем-то непонятным, похожим на густой кисель или разноцветную сметану. Возле малых блюд лежали золотые ножи и вильца. Увидев их, Эльга усмехнулась про себя, поминая добрым словом Савву Торгера: хоть что-то знакомое.
Вышел священник в лиловом, расшитом золотом облачении, прочел молитву. Потом Елена августа кивнула и взялась за золотые вильца.
Где-то рядом запели. Эльга оглянулась, но никаких певцов не увидела. Пение доносилось из-за шитых шелковых занавесей между столпами цветного мармароса, отделявших боковые части триклиния. Пели, будто в церкви: так же слаженно, нежно и красиво.
– Кто это поет? – спросила она у патрикии, сидевшей справа: кажется, ее звали Павлина.
– Апостолиты.
– Кто это?
– Певчие храма Апостолов. Твоя светлость ведь бывала на церковной службе?
– Да, бывала. А почему они поют здесь – ведь тут не храм?
– Они поют василикии. Это славословия в честь августейших особ.
Слуги стали подносить Эльге блюда: предлагали сначала ей, потом двум ее сотрапезницам. На блюдах лежала все какая-то зелень: зеленые листья, кольца свежего лука, шарики овечьего мягкого сыра, все это полито оливковым маслом, посыпано резаными травами, черным перцем и окружено золотыми ломтиками лимона. Если Эльга кивала в знак одобрения, прислужник большими серебряными вильцами перекладывал часть снеди на блюдо перед Эльгой, потом брал кусочек лимона, выдавливал сок на зеленые листья и кланялся: кушайте, госпожа архонтисса.
Что такое лимоны, она уже знала: в палатион Маманта их не раз привозили среди прочего овоща, все русы по очереди смеялись друг над другом, когда чуть ли не каждый пытался откусить от этого золотого плода, столь соблазнительного на вид, а потом выпучивал глаза, принимался рыдать и плеваться от кислятины и полоскал рот водой с медом. Однако, если немного побрызгать его соком на зелень, то она получалась лишь приятно кисловатой и хорошо сочеталась с сыром.
Слуги подносили все новые блюда: запеченный овечий сыр, перемешанный с травами, обсыпанный жареными орехами и облитый оливковым маслом в смеси с давленым чесноком и лимонным соком. Тончайшие ломтики соленой и копченой рыбы, красной и белой, среди зеленых листьев, оливок и порезанных ягод сики. Креветки, тушенные с чесноком и еще какой-то остро пахнущей приправой, разложенные среди половинок вареных перепелиных яиц и жареных орехов. Прислужники подавали Эльге одно блюдо за другим, но Эльга благоразумно пробовала от каждого лишь понемногу: от обилия непривычных запахов ей уже сжимало горло. А может, от того, что она сегодня утром почти не ела от волнения, и теперь голод заявил о себе. Смело она клала в рот лишь то, что узнавала: яйца, сыр, хлеб.
Потом все эти блюда убрали, и появилась новая вереница слуг. Оказалось, что настоящий обед начинается лишь сейчас.
На широких золотых блюдах лежали целые запеченные рыбины, пышно разукрашенные зеленью, плодами и цветами. Эльга уже знала, что среда – постный день, поэтому мяса не подавали, но зато рыбные и овощные блюда поражали обилием и разнообразием. Сквозь зелень салатных листьев и россыпи оливок проглядывала поджаристая корочка запеченной на углях рыбы, блестящая от жира. На шеях осетров зеленели венки из петрушки, в глаза были вставлены черные оливки и будто посматривали с мольбой на гостей: съешь меня поскорее! Причем костей внутри не оказалось: их вынули, заложили внутрь туши приправы и начинки, а потом искусно придали рыбинам вид целых. Каждая возлежала на пышном ложе из варенных с приправами овощей, в окружении виноградных листьев и ягод.
Узорные золотые блюда и кувшины плыли перед глазами, сверкая, будто маленькие солнца. Рябило в глазах, и само обилие золота создавало ощущение чего-то невероятного, разрывало связь рассудка с окружающей явью. Эльга не то что не видела раньше ничего подобного – она и вообразить не могла. Не думала, что на всем свете есть столько золота, сколько находилось в этом триклинии. Отблеск золотых блюд придавал всему поданному божественный вид, так что обычная, в общем-то, рыба внушала скорее благоговение, чем желание ее съесть. На таких блюдах даже простая репа показалась бы пищей богов. Но что именно подавали, было, в общем, все равно – изумление не давало сосредоточиться на еде. Ослепленные блеском самоцветов глаза обманывали разум: кладя что-нибудь в рот, Эльга невольно ожидала, что сейчас на зубах захрустит драгоценный камешек.
Прямо перед ней стоял кубок, сплошь усаженный смарагдами размером с ягоду земляники, а по цвету – точь-в-точь как ее глаза: голубовато-зеленые.
К ней склонился служитель:
– Ее светлость Феофано просит твою светлость попробовать ее любимого блюда: запеченную пестрофу в сливках.
Эльга посмотрела на верхний стол: смеясь, Феофано помахала золотой рогатинкой, на зубцах которой сидело несколько каких-то белых кусочков.
Царева невестка вызывала у Эльги смешанные чувства, и она не знала, как относиться к Феофано. Если правда то, что о ней говорят, то княгине зазорно и смотреть в сторону бывшей потаскухи из харчевни. Вот уж Бог избрал на трон, кого не ждали! Но именно Феофано глядела на русскую княгиню как на человека, а не как на диво трехногое из крайних северных пределов. И Эльге был приятен привет и знак внимания хоть от кого-то из августейшей семьи, куда она внесла такое смятение.
Однако не стоит удивляться, если невестка идет наперекор свекру и свекрови. А ведь эта молодая женщина – следующая полновластная василисса.
– Позвольте услужить вам, – атриклиний взял другую рогатинку, побольше, и переложил с принесенного блюда несколько кусков на особое блюдо перед Эльгой.
То, с которого она ела зелень, уже заменили на другое – тоже золотое, но чистое. Эльга прижала золотыми вильцами кусок чего-то, отрезала краешек, теми же вильцами положила в рот. Но так и не поняла, что это за пестрофа такая. По ощущениям – рыба, но сбивал с толку сладковатый запах приправы. И непривычность ощущения мешала сказать, вкусно ли это.
Елена августа за своим столом лишь показывала зубцами пируни на желаемое блюдо, после чего прислужники подносили, накладывали, нарезали на кусочки, поливали соусом, а госпоже оставалось лишь положить в рот. Но Эльга, после всего увиденного, не удивилась бы, если бы среди придворных чинов под началом трапезита нашелся особый – в чьи обязанности входило бы класть пищу в осененный пушком красный ротик василиссы. И в чине не ниже протоспафария. Рассказывал же Савва, что есть особый чин, чтобы надевать на августа сапоги.
Посматривая на длинный стол, она видела потрясенные лица своих женщин. Робость перед непривычным боролась с любопытством: то одна, то другая застывала с выпученными глазами и хваталась за кубок с разбавленным вином, чтобы смыть изо рта чрезмерное жжение, горечь или кислоту. Иные раскраснелись, разогретые индийскими приправами, украдкой промокали потные лбы краями убрусов. Вон Святанка ловит сразу двумя вильцами что-то, в масле скользящее по блюду: упустит на шелковую скатерть, горюшко! Ярослава озирается, ищет, обо что бы вытереть жирные пальцы; прислужник склоняется, предлагая чашу с душистой водой для омовения рук. И как эти гречанки ухитряются при таком обилии жирных блюд не заляпать свои паволоки?
Володея закашлялась, прикрывая рот рукавом; прислужник подал ей платок, а потом чашу. Прибыслава долго приглядывалась к частям какого-то морского гада, и любопытство победило брезгливость. Как оказалось, зря: взяв кусочек в рот, княгиня смолянская скривилась и огляделась, выискивая, куда бы выплюнуть. Но куда, когда кругом мармаросы, золото и шелка? Сделав над собой усилие, проглотила, схватилась за горло… Еще раз сглотнула, крепко зажала рот ладонью; плечи ее дернулись, в вытаращенных глазах отразился ужас. Все, край… Эльга с беспокойством оглянулась на прислужника, но другой уже подбежал к гостье, под локоть поднял из-за стола и быстро вывел. Эльга перевела дух: успели, кажется. Она сама полезла бы под стол от срама, если бы Прибыслава извергла проглоченное прямо на этот стол, среди золотой посуды.
Две соседки Эльги переглядывались и улыбались. Ежедневно обедая в обществе августы, они не так часто видели нечто, нарушающее привычный, много веков назад установленный порядок. Эльга представила их, вот в этих паволоках и узорчьях, сидящими на бревнах возле костра и грызущими жесткую полоску вяленого мяса, разложенного по дружинному обычаю на щите. Или держащими на коленях глиняные миски и черпающими оттуда деревянными ложками кашу с налетевшими из костра частичками пепла. Ей-то не раз приходилось питаться подобным образом, отправляясь с дружиной на охоту или в более дальние поездки. Травинки и прочий мелкий мусор в котле каши или похлебки совершенно никого не беспокоили. Мельком вспомнилось детство: как они с Утой и другими детьми из Люботиной веси гуляли в лесу и усаживались перекусить на траве. Раскладывали захваченный из дома хлеб на платке, заедали собранной черникой или малиной. Брат Аська притаскивал из болота корни рогоза и запекал в костре, учил их есть его, отчего девочки оказывались по уши перемазаны в золе…
– Твоя светлость не находит ничего себе по вкусу? – вдруг обратилась к ней звучным голосом одна из патрикий-соседок – Павлина. – Вероятно, у вас принято готовить еду совсем иначе?
Она сама ела немного, изящно орудуя ножом и вильцами-пируни, отчего мягко позвякивали подвески на ее браслетах.
– Если твоей светлости нехорошо, то советую выпить мурсы с соком граната: это очень освежает, – добавила с другой стороны патрикия Агния.
Та была помоложе, постройнее и держалась почтительно-насмешливо. Почтительность относилась к событию – торжественному обеду у августы в честь чужеземной архонтиссы-игемона, а насмешливость – к варварству гостей.
– Благодарю вас, но я сыта, – ответила Эльга, обнаружив, что задумалась и забыла о еде.
Взглянула на другой стол: Прибыслава не вернулась. Уж не стало ли той совсем худо?
– Советую попробовать вот это, – Агния сделала знак слуге, и тот наклонился к ним с блюдом: там лежали, в окружении ломтиков лимона и зеленоватых соленых оливок, большие черные раковины, а в них что-то вроде шариков из не пойми чего в окружении желтоватой пены запеченных сливок и масла. – Я думаю, в ваших северных морях не живут мидии?
Агния велела положить этих раковин на свою тарелку и показала Эльге, как нужно подцеплять их пируни. Слуга сбрызнул шарики лимонным соком, Эльга попробовала. «Вроде мясо… а вроде рыба. Не большая беда, что у нас этого не водится».
– Надеюсь, твоей светлости понравилось угощение, – доброжелательно заметила гречанка.
– А если нет, тем лучше: можно будет съесть побольше сладкого, – с тонкой насмешкой подхватила Павлина. – Из вашей страны в Романию, я знаю, привозят много меда, но едва ли у вас известно, сколько прекрасных блюд можно с его помощью приготовить.
– Сладкое? – Эльга удивилась.
Ей казалось, что уже поданным можно было бы наесться на неделю вперед. Но тут пение смолкло, снова грянул орган, и обе ее сотрапезницы встали.
– Прошу твою светлость проследовать за мной в Аристирий, покой для завтрака, – ей снова поклонился атриклиний, – там обед будет продолжен в присутствии Константина августа и других царственных особ.
* * *
Оказалось, для вкушения пищи по утрам у василевса имелся отдельный покой. Но почему нет, если в его распоряжении семь палатионов, каждый из невесть какого числа этих покоев! Там стоял еще один стол из золота, с эмалевыми узорами, и за ним Эльга с изумлением увидела двоих детей возле Феофано: мальчика лет трех и крошку-девочку, еще моложе.
– Это чьи? – обрадованно воскликнула она.
Мелькнула мысль о внуке, который уже месяца три как должен родиться там, в Киеве. Или внучке…
– Твои? – Эльга посмотрела на Феофано.
– Это багрянородные дети августа Романа и Феофано, – подтвердил толмач. – Василий и Елена.
Кроме детей и их прекрасной матери, за золотым столом сидел Константин. Августы Елены не было, зато между Константином и Феофано устроился незнакомый Эльге молодой темноволосый мужчина. Небрежно развалясь на золотом кресле, он смотрел на Эльгу с улыбкой – мягкой и даже отчасти игривой. Крупным носом он напоминал мать, Елену, а взгляд больших светлых глаз выражал утомление, однако не казался надменным или равнодушным.
– Василевс Роман приветствует тебя, – перевел ей толмач кивок младшего из соправителей.
Эльга в ответ «совершила наклонение головы», ожидая, что сейчас атриклиний проводит ее к отдельному столу.
– Их царственности приглашают твою светлость сесть, – тот поклонился, указывая на кресло с краю того же стола, где расположилась августейшая семья.
Похоже, царям не хотелось, чтобы она и сейчас стояла столбом, мешая им угощаться! Несколько удивленная, Эльга еще раз кивнула и села.
Снова стали подавать на стол. Замелькали перед глазами золотые блюда, но уже другие: не с самоцветами, а с узорами яркой многокрасочной эмали. На блюдах лежали всевозможные изделия из меда, муки, масла, орехов и фруктов, но сочеталось все это каким угодно образом. Из разноцветных фруктов были выложены целые гирлянды, выстроены башни, сооружены лебеди. Прохладные ломтики розоватой дыни, красные яблоки, золотистые груши, виноград всех оттенков – зеленый, желтый, красный, синий, черный – красиво обложенный листвой. Синевато-багряные сики, золотистые финики – порезанные на кусочки, политые разогретым медом и посыпанные жареными орехами. Сладкие пирожки с размоченными в меду орехами или вареными фруктами. Разные животные, под корочкой застывшего меда, с глазами из ягод – непонятно, из теста они сделаны или тоже из фруктов.
И опять прислужники подносили Эльге одно блюдо за другим, выкладывали вильцами горки ягод в сливках, украшенные свежими листиками мяты. Наливали в золотой кубок кисловатой прохладной мурсы. Разбегались глаза от такого великолепия, тянуло попробовать все, каждое следующее манило сильнее предыдущего. Но Эльга только накалывала на зубья вильцев по ягодке или цепляла сладкий орешек: после главного стола есть больше не осталось сил. Даже Прибыслава, уже оправившись, лишь потягивала мурсу с гранатовым соком и улыбалась, дабы греки не подумали, будто ей не нравится их гостеприимство.
Августейшие же сотрапезники Эльги взирали на всю эту роскошь вполне равнодушно. Дети, как водится, хватали что могли и тянули в рот, потом кидали орехами друг в друга; Феофано съела кусочек дыни, второй двигала вильцами по блюду, а мужчины и вовсе лишь прикладывались к своим кубкам.
Подняв глаза, Эльга заметила, что Константин за ней наблюдает. Видимо, тоже продолжает думать об их разговоре в китоне Елены. Встретив ее взгляд, он сказал что-то. Толмач склонился к ее уху:
– Его царственность говорит: приятно видеть, что твоя светлость так умеренна в еде. Ведь чревоугодие – большой грех, и его надлежит всеми силами избегать, хотя даже многие христиане делаются его жертвой.
– Спасение стало бы легким делом, если бы всех смертных грехов избежать было бы так же просто, – засмеялся Роман. – Но я вижу, архонтисса Росии уже на верном пути.
– Как порадовало бы наши сердца, если бы она отличалась такой же умеренностью и в других своих желаниях, – многозначительно заметил Константин, глядя на нее скорее пристально, чем дружелюбно.
Эльге показалось, что со времени встречи в китоне он разрумянился, а веки его потяжелели.
– Вот как? – Роман оживился и метнул любопытный взгляд на Эльгу. – О чем ты говоришь?
– Не о том, о чем ты подумал.
– А я слышал, что после смерти архонта Ингера она погубила сорок женихов, которые к ней сватались, это правда? Она красивая женщина и сейчас, а это ведь было лет пять назад? Или больше?
– Ты путаешь ее с Пенелопой, – поправил его ученый отец.
– Нет, не путаю! Говорили, что она одних сожгла в бане, других зарыла живыми в землю, третьих убила на могиле мужа! Мне рассказывал один вестиарит в харчевне, он сам из русов. Спроси, как можно сжечь людей в бане? Чему там гореть? Иных в бане топят или могут зарезать, но как там жечь, там же кругом вода!
– Я никого не жгла в бане. – Изумленная Эльга отложила золотые вильца. – Кто наплел вам такую чушь?
– Но могла бы – если бы хотела? Как можно, когда у вас нет «живого огня»?
– Наши бани выстроены не из мрамора, а из дерева, – сдержанно пояснила Эльга. – Их можно поджечь, как всякое деревянное строение. Иные конунги Северных Стран имели обыкновение сжигать своих врагов, собрав их в дом и усадив пировать, а потом закрыв двери снаружи. Но я надеюсь, этим жестоким обычаям не будет больше места на Руси.
– Да поможет Бог! – торжественно провозгласил Константин и перекрестился. – Надеюсь, также в души русов проникнут и прочно утвердятся и другие важнейшие заветы Божии: миролюбия и нестяжательства. Ибо ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. А мы всегда желали мира со всеми народами, кто дружествен к нам, и готовы подтвердить это нашим расположением и ежегодными дарами, если только принимать их будут с открытым сердцем и сыновней покорностью.
– А еще я слышал, будто ее мужа привязали к двум деревьям и так разорвали! – продолжил Роман, пока Эльга отыскивала ответ его отцу. – Так всегда поступали с разбойниками, еще пока сами ромеи были язычниками. И русы – язычники, они ведь тоже делали так? Переведи, чего молчишь? – окликнул он толмача.
– Едва ли стоит напоминать ей о позорной смерти ее мужа! – Константин сделал сыну предостерегающий знак.
Феофано воззрилась на супруга довольно хмуро и закрыла руками голову ребенка, будто желая помешать ему слышать. Ей не понравилось то, что Роман при всех упомянул свою привычку ходить по харчевням.
– Нет, спроси! – настаивал Роман. – Я хочу знать, это правда? Ты же сам меня учишь, – он повернулся к отцу, – что надо знать все обычаи и состояния других народов, особенно тех, что враждуют с нами или подчинены нам. А русы – с ними непонятно, враждуют они или подчинены. Теперь, раз она крестилась, они должны быть подчинены, правда же? Мы же дали им возможность спасения души, неужели им за это жалко каких-то пару тысяч человек для Крита? Вы с ней говорили об этом?
– Да, нам пришлось упомянуть… – начал Константин.
Но Эльга, до которой не долетал его негромкий голос, наконец опомнилась от изумления.
– Я не знаю, кто поносит моего мужа и позорит его память, приписывая ему разбойничью смерть! – в гневе ответила она, даже не заметив, что перебила августа. – Светлый князь русский Ингвар погиб в бою, как и подобает достойному человеку. Мне очень жаль, что он не успел узнать Христову истину и спасти свою душу, но я буду молиться о нем до конца моих дней, надеясь, что Господь в милосердии своем смягчит его участь. Но едва ли умягчатся сердца всех русов, если они не будут видеть от Романии материнскую заботу и щедрость. Разве не сказал пророк: «Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды; дети просят хлеба, и никто не дает им»[25]. Русские христиане – ваши дети, василевсы ромеев, не оставьте же детей ваших без хлеба. Только добротой и щедростью можно умягчить сердца людей, не знающих Бога. Но что вы дали мне? Чем, кроме Слова Божия, могу я склонить к любви мой народ?
– Слова Божия не бывает мало! – возразил Константин. Держался он теперь более оживленно, чем раньше, но голос его стал неровным. – Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего живет вечно[26]. И еще скажу тебе: не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим от уст Господа, живет человек[27].
– Мудрость истекает из уст твоих, будто мед, – почтительно ответила Эльга. Она понимала: не ей, кое-что перенявшей на слух из бесед с Ригором и Полиевктом, состязаться с Константином, прославленным своей ученостью даже среди хитрых греков. – Но как донесу я до моих людей слово Божье, не имея ни книг, ни учителей веры, ни священников? Не имея епископа, который устроил бы для русов церковь Христову?
– Но это уже решено, – Константин взмахнул рукой. – Патриарх выбрал достойного мужа, славного благочестием и ученостью, который будет рукоположен и благословлен для устроения церкви в ваших славиниях…[28]
– Я бы с радостью приняла этого ученого мужа и держала возле самого сердца, как отца духовного, – Эльга наклонила голову. – Но прежде я должна найти средства достойно содержать епископа и церковь. Не может быть, чтобы мудрые ромеи, способные заставить золотых животных двигаться и рычать, не могли решить такого простого дела! – Эльга улыбнулась и указала на золотой стол, где золотая посуда сменялась так же легко, как скользят по ветру осенние листья: – Ведь у вас золота не меньше, чем у солнца – света! Сколько в Романии епархий, церквей, монастырей – неужели вам не по силам еще одна?
– Большинство их содержится на собственные средства: подати с земельных владений и пожалований от прихожан. Ты говоришь, у тебя нет золота, но зато у тебя много земли! Не меньше, чем в Индии! Так почему ты не дашь церкви землю?
– Землю? – Эльга подняла руки, как Богоматерь на мозаиках, и ей померещилось, будто вся Русь необъятная короваем лежит на ее ладонях. – Я не так могущественна, чтобы брать и раздавать землю! У нас есть предание про одного великана, его звали Святогор. Он был огромен, будто горы, доставал головой до неба, но даже он надорвался и умер, пытаясь подвинуть землю.
– О чем она говорит? – Роман, с живым любопытством наблюдавший за Эльгой, повернулся к отцу. – Я не понимаю.
– Не важно, – с досадой ответил старший соправитель. – Очевидно же, что она не понимает нас!
– Лишь сам Господь смог сотворить небо и землю за семь дней, – продолжала Эльга. – Создать церковь для огромной страны, населенной множеством разноязыких народов, за короткий срок не в силах человеческих. Церковь наша будет нуждаться в поддержке. От твоих рук, василевс ромеев, она должна будет получать дары на свое содержание, пока число христиан не умножится настолько, что они смогут поддерживать ее и сами. Если же высадить это семя и оставить без полива золотым дождем царских щедрот, росток захиреет и засохнет куда ранее, чем принесет плод.
– А ты говорил, они варвары! – Роман в восхищении хлопнул ладонью по столу. – Она все правильно понимает. Без денег из ничего и будет ничего! А ты говорил, что хватит одного страха Божьего!
– Я не могу обеспечивать варварские епархии, когда ты сам знаешь, что у нас с налогами и куда уходят все наши деньги! – Константин обернулся к сыну, явно недовольный, что тот поддержал не ту сторону. – Или знал бы, если бы уделял немного твоего драгоценного внимания делам, а не… сам знаешь чему! – Вспомнив о присутствии чужих, он умолк и вновь воззрился на Эльгу. – Если вы дадите людей, чтобы мы наконец разбили Сайф ад-Даулу и покончили с проклятым критским эмиром, тогда мы навсегда избавимся от бедствия, разоряющего наши побережья, и возьмем огромную добычу. Ваши люди получат от царственности нашей щедрые награды – и смогут на эти деньги поддерживать церковь у себя, в Росии. Не говоря уж о том, что это прямой долг русов, возложенный на них Богом, – всемерно поддерживать Новый Рим, но ты по твердости твоего сердца не хочешь этого сделать! Мы предлагаем вам послужить Христовой истине и принести пользу как ради старых договоров, которые были заключены твоим мужем, так и новых, которые могут быть заключены между нами сейчас.
– Моему сыну не понравятся условия, которые предлагают ваши стратилаты. Чтобы получить пять-шесть тысяч воинов, в которых вы нуждаетесь, тебе следует склонить на свою сторону его самого. Я уже упоминала, как лучше всего это сделать…
– Об этом не стоит и говорить! – нахмурился Константин. – Не будет никаких брачных сделок между ромеями и народом иного обычая, особенно некрещеного.
– Но ведь теперь между нами духовное родство…
– Наша царственность нарекла тебя духовной дочерью, но, как говорил Соломон: «Сын мудрый радует отца, а сын глупый – огорчение для его матери»[29]. Немало времени пройдет, пока росы станут мудрыми сыновьями, радостью для нашего отцовского сердца. Да и как иначе? Посмотри на болгар – прошло три поколения, прежде чем мы начали понимать друг друга. Иной раз, я слышал, язычники спрашивают, сколько раз надо креститься ради истинного, верного спасения. И я бы ответил так: нужно три крещения. Твоего деда, отца и тебя самого.
И, не желая продолжать эту беседу, сделал знак трапезиту.
Грянули органы, давая знак к завершению застолья.
* * *
Но прежде чем все встали из-за столов, в покой вступила вереница слуг под предводительством уже знакомого Эльге дворцового управителя-препозита. Первый нес широкую золотую чашу, украшенную самоцветами: в ней громоздилась груда серебряных монет, столь внушительная, что дюжий евнух едва держал блюдо обеими руками.
– Прими от нас этот дар по случаю твоего крещения и приобщения к общине верных, – произнес Константин.
Его лихорадочное возбуждение сменилось усталостью, но за сорок лет на престоле он так прочно выучил свои обязанности, что мог бы исполнять их даже во сне.
– Благодарю тебя, богохранимый август! – Эльга прижала руку к сердцу и поклонилась. – С этой малой лепты я начну построение церкви Христовой!
Слуги обошли ее женщин: каждой вручили шелковый мешочек, в котором что-то приятно позвякивало. Правда, княгиням и родственницам мешочки достались небольшие, а служанкам – совсем маленькие.
Но вот наконец Эльгу со спутницами проводили в портик Августея, где ждали, утомленно свесив головы, мужчины посольства. Пришла пора трогаться в обратный путь. Магнавра, триклиний Юстиниана, беседа в китоне, обед для женщин и мужчин и сладкий стол – сегодня состоялось шесть приемов только для русов, других иноземцев они не видели. Похоже, что августейшее семейство посвятило этот день только ей.
Но, хоть это и была великая честь, вынести ее женщинам оказалось не по силам. Княгини так устали, что едва стояли на ногах и не могли держать поводья. Замужние уселись за спины к своим мужьям, остальные – к отрокам. Эльга полулежала в носилках, порой задремывая, но дрема не несла ей отдыха: наоборот, все впечатления обрушивались на сознание, будто лавина. Даже мутило слегка: от непривычной еды, усталости и умственного возбуждения.
На какое-то время она, кажется, так крепко заснула, что не заметила, как носилки прибыли в Боспорий, как кто-то перенес ее в лодью, – она лишь уловила знакомый запах и не стала просыпаться, – потом снова положили в носилки.
Но вот она очнулась, не понимая, что происходит. Пока она спала, ее доставили домой и опустили носилки наземь. Савва открыл дверцу и хотел помочь ей выйти, но она не могла встать; Мистина, на правах близкого родича, снова вынул княгиню из носилок и на руках понес в палатион. Эльге и не хотелось бы, чтобы Савва и другие сопровождающие видели ее слабость, но она была неспособна вымолвить ни слова и покорно привалилась к плечу свояка. Даже с ромеями не попрощалась.
В китоне Мистина сгрузил ее на лежанку, опустился на колени рядом и припал лбом к ее руке, будто сам не мог подняться.
– Вы на обеде о чем-то говорили с Костин…тином? – пробормотала Эльга; у нее уже не осталось сил, но этот предмет очень ее занимал.
Мистина кивнул, но обронил только:
– Силен царь винище жрать…
– Иди спать! – Эльга слегка толкнула его голову, побуждая встать. – И всем скажи: пусть ложатся, мне больше ничего не нужно…
* * *
Наконец служанки раздели княгиню, накрыли легким покрывалом, поставили рядом кубок мурсы, как и всякую ночь. И в осенний месяц септембриос вечера оставались почти такими же жаркими и душными, как летом. Однако, несмотря на усталость, спалось Эльге немногим лучше, чем в первую ночь по прибытии сюда. Взбудораженный ум не давал покоя усталому телу: перед глазами блестел гладкий камень стен и столпов, пестрели мозаики полов и сводов. Золотыми облаками проплывали блюда… Порой она проваливалась в сон, потом внезапно просыпалась и обнаруживала, что и во сне продолжала ходить по мраморным полам и спорить с Константином. В голове неотступно крутились обрывки разговоров. Эльга заново пыталась все обдумать и понять: допустила ли она где промах? Неудивительно, что ей не дали ответов сразу: такие дела решать – не блох ловить. Но можно ли надеяться на успех в будущем, когда царевы мужи все обсудят? Пока было не похоже: все ее просьбы и пожелания встретили не слишком любезный прием.
Вот она опять проснулась в темноте, среди спящих женщин, с чувством усталости от сна, не приносящего отдыха. В лунном свете тускло мерцала на ларе поднесенная василевсом золотая чаша. Уже наступила настоящая темная ночь, но Эльге захотелось на воздух. Она встала, накинула на сорочку покрывало из тонкой шерсти – мафорий. Преподнес его Савва Торгер. Синее, как вечернее небо, большое покрывало было украшено по краям греческим узором, вышитым золотой нитью; от него исходил тонкий дух благовоний из лавок на Месе, где его купили.
Она поднялась на «верхнюю крышу» и остановилась у выхода с лестницы, глубоко вдыхая воздух с ароматами сада. Одуряюще пахло жасмином: после захода солнца этот запах усиливался и наполнял собой темноту.
На галерее, озаренной косыми лучами луны, раздавались возбужденные мужские голоса. Судя по ним, на ее любимой скамье и вокруг расположились Мистина, Острогляд, Улеб, Стейнкиль. Еще кто-то прислонился к столпу ограждения, кто-то полулежал у ног ближайших изваяний. На полу горел светильник, озаряя расставленные прямо на мраморных плитах кувшины с вином и разнородные кубки.
– И вот будет нам этот лысый хрен заливать! – слышался возмущенный голос Добровоя.
Эльге вдруг вспомнилась его мать, Желька: в такие мгновения между матерью и сыновьями сходство проявлялось во всей красе. Желька для столь далеких путешествий была уже стара, но две ее юные дочери – Данка и Негоша – состояли в числе Эльгиных служанок.
– Девкам дали по восемь серебрушек! – возмущенно продолжал Добровой. Видимо, сестры успели ему похвалиться царским пожалованием. – А их почти два десятка! А нас всего пятеро, и нам дали по пять! – Он выставил пятерню с растопыренными пальцами для наглядности. – Мы им – хуже девок! Так-то им люди нужны воевать! Пусть девки ему воюют с сарацинами!
– Да княгиням сколько дали! – прогудел кто-то, сидящий на полу.
– Это кто здесь считает мои милиарисии? – Эльга вышла на галерею.
В просторном синем мафории она почти сливалась с темнотой, только лицо белело. Кто-то охнул, кто-то квакнул от неожиданности; кто-то, сидевший на ограждении, дрыгнул ногами, едва не свалившись во двор – на камне костей бы не собрали, – но успел уцепиться за столп. Все встали.
– Мы тебя разбудили? – Мистина поставил кубок на пол и вышел ей навстречу. – Я говорил этим подлецам: не орите.
– Нет, мне просто не спится.
Эльга прошла между отроками, милостиво не замечая, что половина по жаре сидит в одних портах без сорочек.
– Садись, госпожа, – Мистина усадил Эльгу на ее обычное место, где перед этим сидел сам.
На другом краю мраморной скамьи клевал носом Острогляд. Все снова уселись кто где был. Кто-то из тьмы подал ей кубок; она глотнула и убедилась – опять хлещут неразбавленное. Но ничего не сказала: парням тоже надо отдохнуть после такого дня.
– Мы не считаем твои милиариссии, – Мистина сел с другой стороны возле нее. – Отроки посчитали свои. Они не очень-то сильны в счете, – он усмехнулся, глядя на Добровоя, – но чтобы счесть до пяти, большой учености не надо.
– Пять? – Эльга подняла брови. – Вам дали по пять милиарисиев?
Вместо ответа Добровой взмахнул крошечным мешочком.
– И ничего – для князя, – добавил Улеб. – Ни-че-го! Ни хренашечки. Хоть бы захудалое какое блюдечко передали. Нет же… мужежабы!
У Эльги вытянулось лицо. Поскольку мужская и женская половины русского посольства обедали отдельно, то и дары им вручали отдельно. А утомленная пятью приемами почти подряд и двумя беседами с василевсом, больше похожими на споры, она не нашла сил полюбопытствовать, чем одарили мужчин. И уж конечно, ей представлялось обязательным, что для Святослава, князя русского, будет передан некий дар, равный тому, что получила она. И вот…
– Совсем ничего? – повторила она, едва веря ушам.
Мелькнула мысль, будто отроки, уставшие от впечатлений, посеяли царский дар по дороге, но Эльга ее отогнала. Они, конечно, не большой учености мужи, но и не раззявы. Раззяв князь не послал бы за море, а она бы с собой не взяла.
– Вот мы и думаем: а правда ли все эти скопцы так уж хотят увидеть здесь наших воинов? – подал голос человек, прислонившийся к столпу ограждения, и Эльга узнала Алдана.
– А я скажу, они просто хотят оскорбить нашего князя! – горячо воскликнул Улеб, явно не в первый раз. – Нас, его гридей, поставили ниже твоих служанок, а его самого не поставили вовсе ни во что!
Улеб был совершенно прав. Осознав это, Эльга едва удержалась от чего-то вроде «йотуна мать», чего ей не стоило произносить при отроках. А очень хотелось.
– О чем вы говорили у них в покоях? – спросил у нее Мистина. – Куда ты ходила одна?
Утеснившись на скамье между располневшим Остроглядом и Мистиной, она легонько толкнула свояка: отодвинься. Но отодвинуться ему оказалось некуда, и он просто завел руку ей за спину, подставив плечо в качестве опоры. Эльга откинулась на него, как на спинку кресла; знакомый запах и тепло его тела приятно согревали ее и успокаивали. Она даже удивилась, насколько ей вдруг стало хорошо, а потом поняла: плечо Мистины в немалой мере олицетворяло для нее дом. Несмотря на все новые чувства, вынесенные из крестильной купели, здесь, на земле, именно свояку она по-прежнему доверяла сильнее всех. Доверила бы даже то неуютное ощущение, будто Господь всемогущий теперь не сводит с нее пристального взгляда и оценивает каждый шаг. Сейчас ей полагалось бы – особенно в первые семь дней после крещения – проводить время в молитве и думах о Господе, но вот поди ж ты! Кто ей даст думать о Господе, когда в ее руках судьба переговоров и дальнейшие действия киевской руси, может быть, на много лет! Но сейчас, когда Мистина прикрывал ей спину в прямом телесном смысле, даже это чувство неуюта уменьшилось.
– Я сказала то, что хотел Святослав. Про печенегов, узов и алан. Чтобы они не мешали нам идти на каганат. Похоже, греки этого не ждали, – Эльга кивнула, поскольку нарочно не оглашала этих мыслей при царедворцах, приберегая для личной беседы с василевсом. – Но они явно не хотят, чтобы вы шли на каганат и сами взяли все, что там можно взять. Они хотят, чтобы сначала мы пошли с ними на Крит.
– А они нам – по пять серебряшек! – Стейнкиль с презрением подкинул мешочек, будто намеревался швырнуть его через каменное ограждение в темноту двора. – Ищите дураков!
– Ты говорила о пошлинах и количестве паволок? – спросил Мистина.
– Нет. Я не успела. Они все время твердили, что мы обязаны помогать им с сарацинами.
– Хрена лысого мы им обязаны! – злобно бросил Улеб. – Они нас за кого считают? За бродяг, что любой корке рады? А князя? Да будь я там – в морды бы им плюнул!
Из темноты до Эльги доносился хрипловатый голос молодого Ингвара; более добродушный по своему складу, в редкие мгновения злости Улеб становился до жути похож на настоящего отца.
– Купцы на днях отплывают, – напомнил Острогляд. – Значит, и их тоже порадовать нечем?
– Я больше в этот их песий палатион не пойду! – отрезал Улеб. – Чтобы они об нас ноги вытирали, а мы ходили кланяться! Вот как мы им нужны – на пять серебряшек!
– Да пусть подавятся!
– В зад себе пусть засунут!
– Я тоже удивился, что такие разумные с виду люди повели себя так глупо, – с обычным своим спокойствием заметил Алдан. – Если хочешь нанять людей для своей пользы, покажи себя щедрым. А просить о помощи и при этом оскорблять людей скупыми подачками – надо быть дураком. Как ты думаешь, княгиня, в чем тут дело? Мы чего-то не поняли?
– Я считаю, нам домой пора! – отрубил Улеб. – Уехать с купцами, и все! На березовой постельке видал я этих жаб жирных!
– Но ведь состоялся только первый прием! – воскликнула Эльга. – Только теперь пойдут переговоры – теперь, когда и я, и василевс сказали друг другу в лицо, чего мы оба хотим, мы и начнем обсуждать, насколько это все осуществимо.
– Сдается мне, – Градимир тоже подкинул свой мешочек, – что вот этой подачкой грек-то сказать хотел, что ему от нас ничего не надо. Кость бросил голую – проваливайте, дескать, псы шелудивые!
– Поедем домой! – поддержал Улеба Радольв. – Нечего нам здесь оставаться. Третий месяц сидим, как пришитые, только сики эти троллевы жрем, а дело ни с места. Сколько эти скопцы пели соловьями, мол, послужите, а уж мы щедро наградим! А на деле вон что! Стоило за такой малостью ездить!
Отроки зашумели: все считали, что нужно уезжать. Эльга молчала, обдумывая пришедшую мысль.
Неужели она сама все испортила?
Не может быть такого, чтобы греки не приготовили никакого дара для Святослава. Она не раз говорила им, что сын – ее соправитель. Умалчивая о том, что право приехать сюда выкупила у него отказом от иных прав, кроме тех, какие обычно имеет мать князя. Настоящая киевская княгиня теперь – Прияслава свет Свирьковна, но грекам не нужно об этом знать. Однако о том, что Святослав имеет, самое меньшее, равные с матерью права, грекам известно. Причем известно уже со времен Ингварова договора, заключать который от малолетнего Святослава приезжал особый посол, воевода Вуефаст. Таким образом Ингвар и Эльга желали утвердить права своего сына как наследника, и греки уже не могли отпереться, что-де не знают о его положении. Приготовив по восемь милиарисиев ее служанкам, простым девкам, даже частью рабыням, не мог логофет дрома упустить из виду ее соправителя, пусть его и нет здесь самого!
Таких ошибок не делают случайно, а уж тем более греки, у которых каждый вздох заранее расписан. Они поступили так намеренно. Хотели Святослава унизить. Ткнуть носом в грязь. Отсюда жалкие подачки его людям – меньше, чем послам других князей, состоящих под его рукой, меньше, чем купцам – подчиненным ему людям, и да, меньше, чем служанкам матери!
Если бы это было связано с нежеланием русов воевать с сарацинами, то имело смысл подкупить княжьих послов щедрым даром. Значит, дело не в этом.
Неужели она, Эльга, послужила тому причиной, когда упомянула о браке Святослава и дочери Константина? И это намеренное пренебрежение, нескрываемая попытка оскорбить послужили ответом? Ты – никто для нас, сказали греки Святославу. Ты пыль под ногами.
Даже о сарацинах забыли.
Возможно, Константин уже после выхода из китона супруги приказал убрать дар, приготовленный для Святослава. И высыпать из мешочков для его людей половину… или сколько там положили? Послы других князей получили по двенадцать милиарисиев – и люди Святослава должны были получить уж точно не меньше! Но им оставили по пять серебряшек.
Если она вызвала гнев василевса, почему ей все же поднесли ту чашу? Константин не успел приказать? Забыл о ней? Не решился оскорбить гостью, сидящую с ним лицом к лицу?
Но отроки правы. После такого остаться – значит утереться и продолжать кланяться, когда тебе плюнули в морду. Чего-чего, а уважения таким путем не добьешься.
Рука Мистины у нее за спиной двинулась вперед и мягко обвилась вокруг стана. Старший посол явно думал не о том, о чем она. В темноте отроки не могли этого видеть, но Эльга очнулась от своих мыслей: пора заканчивать этот совет. Все ясно.
– Уезжайте, Улеб, – со вздохом кивнула она.
– А ты? – спросил Мистина. – А мы все? Думаешь, нам стоит остаться?
В голосе его слышалось сомнение.
– Да, – твердо ответила Эльга, крепче стянула мафорий на груди и поднялась. – Мы ведь еще ни о чем не договорились.
* * *
На темной лестнице Мистина вдруг приобнял ее, удерживая на месте, и шепнул:
– Не ждал, что ты сегодня снова выйдешь.
– Почему? – Эльга повернулась к нему.
– А ты не помнишь, как из Города домой попала?
– Что я не помню?
– Ты заснула мертвым сном еще по дороге в гавань. Я тебя вынул из носилок, ты не проснулась. Посади я тебя в лодье на скамью, ты бы за борт свалилась. Пришлось на руках держать всю дорогу.
– Йо-отуна мать! – в непритворном ужасе охнула Эльга, вообразив это зрелище. – Надо было меня разбудить!
– Да ладно. Думаешь, ребята не понимают? Мы-то все ходили, глазами хлопали, а ты одна от всех этих скопцов отбивалась.
– Сдается мне, ты во дворце винищем набрался, с Костинтином заодно! – Теперь Эльга сообразила, отчего василевс в Аристирии держался с таким лихорадочным оживлением.
– А как же! – Мистина развел руками. – Он сам пил как конь и нам с Олежкой приказывал наливать! Олежка как приехал, так и уснул чуть ли не на лестнице! Завтра утром тяжело ему придется.
– Зато ты, я смотрю, весел, как молодой лосось!
– Тебя это удивляет?
Он явно намеревался ей показать, что не утратил бодрости, но Эльга оттолкнула его и сбежала по ступеням.
– Ну, скажи, – шепот позади возле уха коснулся теплом ее кожи, – ты все еще любишь меня?
Два дня, минувшие после ее погружения в купель, он думал только об этом, но не находил случая спросить. Или давал ей осмотреться и самой понять ответ на этот вопрос.
– Да когда же это я тебя любила? – Эльга обернулась.
– Но сейчас ты не любишь меня так же, как раньше? – Он положил ладони ей на плечи.
Она молчала, сама пытаясь понять: как раньше или нет? Так сразу и не охватишь умом те разнообразные связи, что между ними возникли за эти двадцать лет. Первые тринадцать лет они состояли в двойном свойстве: он был побратимом ее мужа и мужем ее сестры. А в тот самый день, семь лет назад, когда он сжал ее пальцы на рукояти скрама, приставленного к его груди, другой клинок в другую грудь он вбил на всю длину. Это ведь Мистина нанес единственный смертельный удар древлянскому князю Маломиру, свершив тем самым их общую месть за Ингвара – жены и побратима. Тот жуткий миг вдвое усилил связь, сложившуюся между ними за все годы.
За тот удар Эльга и сейчас считала себя обязанной Мистине. И это было очень важное открытие.
Возможно, тот день стал самым важным днем ее жизни до крещения. И тогдашние чувства оказались живы. Их не смыла вода купели и завет прощать врагов. Она давно не думала о Маломире – уже ни к чему. Но по-прежнему радовалась, что может не думать о нем, ибо он мертв, месть свершена, оружие вложено в ножны.
А если бы… Если бы она потеряла мужа только сейчас, или если бы она уже тогда, семь лет назад, была бы христианкой? Простила бы она древлянам убийство Ингвара, оставив отмщение Богу? Эльга чуть не засмеялась. Да при чем здесь это? Месть – лишь последняя из трех причин, которые подвигли ее сделать то, что она сделала. Будь она христианкой уже тогда, даже прости она Маломира – его участи это не изменило бы. И крещение не сняло бы с нее обязанности сохранить державу своих предков и наследие сына. А прощение… что такое прощение? Ненависть ее к Маломиру ушла в землю вместе с его кровью. Какой смысл ненавидеть мертвеца? Можно считать, она простила его еще там, когда тело рухнуло к ее ногам и кровь из единственной раны – Мистина ударил ножом под дых – брызнула на подол ее белой «печальной сряды».
В ту ночь они с Мистиной оба были одеты в белую «печаль» и оба покрылись кровью с ног до головы. Вода всех морей и океанов не сможет смыть память о ней.
– Я не люблю тебя так же, как в тот день, когда ты на плече унес меня из леса, где осталась та старуха в личине… – зашептала она, пытаясь восстановить в памяти свои тогдашние чувства. – Когда распускал обо мне в Киеве дурацкие слухи, будто я в дороге под тобой побывала. Когда взял в жены мою сестру, беременную от моего будущего мужа. Когда вы с твоим отцом сделали нас с Ингваром князьями… Когда уберег от смерти безвременной моего брата Хельги Красного и остался верен Ингвару… а я знаю, что Хельги тебе предлагал! Как когда ты пытался раздобыть у смолян для Ингвара другую княгиню… И когда потом пошел со мной на Ингваров курган… Сам скажи: за все это мне надо тебя любить или как?
– Но все это осталось как было? Ты не собираешься простить мне все зло и оросить слезами христианской любви? Заодно с Маломиром и Хельги?
– А ты бы этого не хотел?
– Я не хочу, – Мистина прижал ее к себе и склонился к уху, – быть любимым потому, что так велел бог.
Эльга подумала и покачала головой. Каковы бы ни были ее чувства к мужу сестры, ее соратнику и сопернику все эти двадцать лет, Бог ничего ей на этот счет не подсказывал.
Но хотя Эльге нравилось тепло его объятий, насыщавшее пустоту усталости, она высвободилась и шагнула к концу лестницы. Что-то в ней менялось, и она сама еще не поняла, какой станет, к чему ведет этот путь. Ее и тянуло назад к прежнему, хотелось сохранить все то хорошее, что она имела раньше, но где-то в вышине ее ждали приотворенные ворота, и она понимала, что должна идти. Сейчас даже сама она не ведала своего сердца.
* * *
В переходе между опочивальнями они наткнулись на Уту – тоже в мафории поверх сорочки и даже без волосника на растрепанных косах.
– Ты чего гуляешь, мать? – окликнул жену Мистина.
– И тебе не спится? – удивилась Эльга.
– Да мне бы и спалось! Живлянку с вечера, – Ута подавила зевок, – полночи выворачивало.
Ута вырастила четверых детей своего первого мужа и до сих пор, хотя у них давно имелись свои семьи, не могла перестать заботиться о них.
– И эта гадов морских налопалась? – усмехнулась Эльга.
– Перепила?
– Если бы. – Ута склонилась к сестре и прошептала на ухо: – Понесла она. С тех пор еще, как приехали сюда.
– Матушка Ма… Феотоке Парфэнэ![30] – Эльга всплеснула руками.
Мистина насмешливо присвистнул.
Захваченная переговорами и мыслями о судьбах держав, Эльга совсем упустила из виду, что другие-то люди и в этом волшебном царстве продолжают жить обычной жизнью. Мельком вспомнился муж Живляны, Одульв, – это он сидел на ограждении и едва не грохнулся вниз.
– Сейчас вот заснула, – добавила Ута. – Я с ней Инчу оставила посидеть.
– Ну, хоть кто отсюда с прибылью уедет! – вздохнула Эльга. – Может, это добрый знак?
* * *
– Святшины с купцами уезжают!
Новость разнеслась по палатиону Маманта, едва его обитатели стали просыпаться. Вечером ни о чем таком разговора не шло, и Горяна поначалу не поверила.
– Да ну! – возразила она Святане, сообщившей ей это. – Куда они без княгини уедут, без нас всех?
– Мне мать сказала. А ей – Улебка. Они ночью решили, и княгиня позволила.
Горяна лишь смотрела на нее в изумлении, забыв вытереть воду с лица после умывания. Новость поразила ее как громом: не умещалась в сознании. Пока зевающая Велка чесала ей косу, она твердила про себя молитву к Богородице Деве, чтобы успокоиться. Надела поверх крестильной сорочки какое под руку попало платье и вышла в триклиний. Но там еще было пусто, княгиня не спускалась из спальни, и Горяна пошла в сад, оглядываясь по сторонам – но так, чтобы никто не заметил, что она оглядывается.
– Ой, будет сейчас твоему рыжему! – усмехнулась Эльга, глядя из окна на идущую по саду девушку – стройную, в светлом платье из некрашеного шелка, с черной косой до пояса.
После ночных разговоров она проснулась позже обычного, и ей еще не расчесали волосы.
– А что там? – Ута тоже выглянула через ее плечо. – Ох ты! Она сейчас же узнала.
Наконец Горяна нашла, что искала: в тени под гранатом на траве валялись в ожидании завтрака несколько отроков, а среди них двое послов Святослава – Улеб и Стейнкиль. Мистина уже распорядился послать к логофету дрома известие об отъезде части послов, чтобы им выдали положенные припасы на дорогу. Оставалось только ждать, вспоминая чудеса цветущего царства, которого они, быть может, никогда более не увидят.
Горяна прошла мимо, слегка кивнув им, и удалилась под сень розовых соцветий олеандра, где стала блуждать по выложенным мрамором дорожкам, будто ожившая лилия.
Наконец княгиня сошла вниз, в палатионе ударили в било: стол накрыт. Отроки поднялись и двинулись в триклиний. Улеб остался лежать на траве, закрыв глаза, будто задремал. Стейнкиль окликнул его, но он махнул рукой: ступайте. Ухмыльнувшись, Стейнкиль ушел, а Улеб все лежал, сквозь ресницы наблюдая за дорожкой.
Вот на ней показалась девушка, идущая к палатиону. Улеб разом проснулся и сел.
– Горяна!
Она остановилась, но не взглянула на него, лишь слегка обозначила намерение: не стоит ли повернуть голову? Нет, пожалуй, там нет ничего важного! В черных волосах ее сияли, будто жемчужины царского венца, цветы жасмина на тонкой ветке. Несмотря на неправильность черт, смуглое лицо ее дышало царственным величием и оттого казалось прекрасным.
– Горяна! – снова окликнул Улеб и, ловко вскочив, подошел к ней.
– Я Зоя! – надменно поправила она, взглянув на него лишь мельком, будто не желая видеть.
– Ну что ты? – с легкой досадой окликнул Улеб. – Ничего не случилось, а ты уже нос воротишь.
Он хотел взять ее за плечи; она отскочила, однако повернулась к нему.
– Не случилось? А я слышала, вы с купцами уезжаете – это разве неправда?
– Уезжаем, да. Но чего ты так, будто я виноват в чем перед тобой! Прощаться скоро придется, а ты и поговорить не хочешь!
– Не виноват? Ты – князев старший посол, это ты решил уехать. И все из-за чего? Дары царские вам не понравились?
– Да уж конечно! – Улеб снова разозлился, вспомнив вчерашнее унижение. – Вам по сколько серебряшек дали?
– По двадцать.
– А нам по пять!
– Одна дева четырех отроков стоит! – усмехнулась Горяна.
– Нельзя такое поношение стерпеть! Мы здесь с этими ж… жабами оставаться не желаем!
– А что ты мне обещал?
– Что я обещал?
– Ты обещал креститься! А теперь уедешь и не успеешь уже!
– Ну, я не обещал, – Улеб помотал головой. – Я сказал, если Святша, тогда и я.
– Если ты – тогда и Святша! Ты должен брату путь указать, а не за спину его прятаться! Вот, вам Бог ясный знак дает: нам, крестившимся, по двадцать серебряшек послал, а вам, язычникам и князя-язычника слугам, – по пять. А в жизни будущей и еще того меньше получите. Чего непонятного?
– Да плевал я на те серебряшки! Что я, серебра не видал? Я с тобой хочу поговорить, а то ведь мы на днях уедем, а вы еще невесть когда. Княгиня здесь остается.
– А что нам толку говорить? От разговоров этих мне один срам и чести поношение.
– Вот как? – В серых глазах Улеба сверкнула ярость. – Почему это со мной говорить – чести поношение? Я что, пес подзаборный? Холоп? Или чем запятнал себя?
– Ты – язычник! – Горяна так сказала это, что становилось ясно: язычник в ее глазах не лучше пса. – Кто не крестится, тот не будет спасен. И как мне с тобой говорить, думая про себя: вот придет смерть, и отправится Улебушка на муку бесконечную! Как я могу с тобой говорить, если мне плакать хочется о тебе?
– Не надо обо мне плакать! – уже потише ответил Улеб, которому польстила такая забота о его участи. – Рано меня хоронить, я молодой, еще поживу.
– Рано, не рано! Смерти никому не избежать. И чтобы не думать, как Сатана тобой завладеет, лучше мне вовсе с тобой не знаться! Схватят бесы твою душу, будут ее в котлах кипучих варить и пламенем огненным жечь! Я ночью не сплю от страха, как об этом подумаю! Тебе бы надо думать, как спастись, а ты сам от своего спасения бежишь. Брат твой, отрок юный, и то поумнее тебя.
– Мой отец всех умнее, вместе взятых, а он-то не крестится!
– А княгиня?
– То ее женское дело! А мы – мужчины. Бесы придут! Да пусть приходят! Мы с ребятами отобьемся!
– Не отобьетесь! Души ваши будут жалки, как птенцы, и не будет у вас оружия, чтобы защитить себя!
– Еще как будет! Мой дед Свенельд в могилу с собой сколько всего взял: и меч, и два топора, и рогатину старую, от его деда. И щит. Я столько же возьму и бесов ваших как траву порублю.
– Ты как дитя малое! – Девушка горестно всплеснула руками. – Мальцу говорят: не бегай один в лес, там волки. А он лепечет: я их убью! Так и ты. Бесов он порубит! Один щит может помочь, один меч – милость Господня, а он тебя не защитит тогда.
– Меня дед защитит! И прадеды, и чуры, все, сколько их от Сварожьего века было. Все придут и встанут за меня! Так что ты не бойся. Я всех бесов разгоню и тебе еще помогу, коли понадобится.
– Ах, какой же ты глупый! – Горяна печально воззрилась на него. – Только тот спасется, кто крещен. Кто омыт от греха первородного, извлечен из пучины зла и крепкую защиту нашел во Христе. Ни меч, ни топор ты пред судилище Его взять не сможешь, и деды твои, такие же язычники, не заступятся за тебя.
– Да не пойду я к Христу! Я в Валгаллу пойду. Как дед мой и предки.
– Но как ты можешь отрицать силу Господню, когда здесь вокруг столько свидетельств неложных! – Горяна повела руками, будто эти свидетельства висели на ветках сада. – Здесь, в Городе, хранится и пояс Богоматери, и риза, и Нерукотворенный Лик Спасителя, и головы апостолов святых, и даже стопы ног апостола Павла, в камне запечатленные!
– А мне мать рассказывала, у них дома, ну, откуда она родом, тоже есть камень, и на нем будто ножка девичья отпечатана, – усмехнулся Улеб. – Вот, вроде твоей, – он посмотрел на ножку Горяны в красивой кожаной сандалии здешней работы, с красными ремешками. – Там говорят, это русалки ножки.
– Да что мне до твоих русалок! Это тоже бесы, только водяные и лесные.
– Ну и… пес с ними. – Улеб взял ее за обе руки, и она, устав от спора, позволила ему это. – Горяна!
– Я Зоя!
– Ну, Зоя! Мы с тобой в десятый раз об этом говорим, и я все не пойму… Бесы, головы в золоте, ноги в камне! Нам-то что до них?
– Как ты не понимаешь! – Горяна приблизилась к нему, будто надеялась, что с близкого расстояния ее слова лучше дойдут. – Половины тебя мне не надо. Только всего целиком.
– Да я… – Улеб обнял ее, будто не имело смысла объяснять на словах. – Да я весь готов…
Если он и думал о Горяне по ночам, то уж точно не о посмертной участи ее души.
– Вот, а говоришь, не обещал! – Горяна отстранилась. – Говоришь, что весь готов, а сам только плоть свою мне предлагаешь, что из праха сотворена и в прах обратится. После смерти души крещеных людей в Господе будут пребывать блаженно, а язычников – в муку вечную пойдут. Зачем нам здесь встречаться, если по смерти нас такая различная участь ожидает? Хочешь быть со мной – будь везде, и на земле, и в Царствии Небесном. Или везде – или никак.
Она отвернулась и быстро пошла по дорожке к палатиону. Улеб шумно вздохнул ей вслед и пробормотал что-то о йотуновой матери. Хорошая девка, красивая, – но с какой же придурью!
* * *
Дней через десять после царского приема архонтисса Росии получила еще один дар – куда более весомый и внушительный, чем даже чаша с полутысячей милиарисиев. Эльга, Ута и другие женщины проводили утро в триклинии; на столе лежала греческая мужская сорочка полосатого шелка – «эсофорион», – и они пытались разобраться в устройстве ее ворота. Тот состоял из двух отдельных частей, сшитых из узорного шелка: их можно было застегнуть на две пуговки, пришитые по сторонам шеи, и тогда на груди под горлом получался цветной прямоугольник, или расстегнуть, давая доступ воздуху к груди. Все богатые греки ходили в таких: красиво и удобно, и Ута хотела понять, как это кроить.
– Гуннар, ты мечом работаешь или рыбу ловишь? – доносился со двора голос Мистины, занятого обучением отроков. – Ты что – рыбак? Что ты машешь из-за плеча, будто удочку закидываешь? Вообразил себя Тором, хочешь поймать Мировую Змею?
Его голос заглушил грохот колес по плитам двора: въехала телега, запряженная парой волов. На телеге лежало нечто размером с бычка, окутанное рогожей. Прервав упражнения, отроки окружили телегу; послали за Мардонием, управителем, чтобы раздобыл салазки. На телеге оказался мараморяный престол с высокой резной спинкой – настоящий «трон». На белых опорах его были вырезаны жуткие чудища со звериным телом и человеческой головой, на сиденье и спинке выложен узор из красного и зеленого камня. Выглядел он не новым: видимо, давно уже стоял в каком-то из многочисленных царских палатионов.
– Это твоей светлости от василевса Романа, – пояснили Эльге посланцы папия, когда подарок выгрузили на плиты двора и все русы сбежались посмотреть на такое диво. – Он просит взять трон с собой в Росию, ибо со времен царицы Савской не находилось в варварских странах равной тебе знатной жены, и ты достойна сидеть на троне, как никто другой.
Часть вторая
– Передайте князю: я, его мать, заклинаю его не делать никаких глуп… не совершать ничего важного, пока мы не вернемся! – говорила Эльга, на причале проастия Маманта, прощаясь с Улебом и другими людьми Святослава. – Здесь все еще только начинается. Мы с греками всего лишь высказали друг другу свои желания, но пока совсем не ясно, кто одолеет. Костинтин сделал глупость, когда лишил Святослава княжеского дара, но я постараюсь, чтобы он это понял. Может быть, мы еще добьемся своего. Пусть он дождется меня. Пока в Киеве нет никого из больших людей, кроме него и Асмунда, нужно просто быть осторожнее.
Миновало три дня после долгой череды приемов в Мега Палатионе. Сегодня уезжали домой купцы, и с ними отправлялись пятеро посланцев Святослава с их людьми. Эльга провожала их с тревогой. Ее и саму наполнял гнев при мысли об оскорблении, нанесенном сыну, а какова покажется эта весть ему самому! Даже сарацинским послам передают подарки для их эмиров, этого требует порядок царских приемов. Святославу же, князю союзной державы, не передали ничего, будто его вовсе нет на свете! Эльга не сомневалась: Константин распорядился так сгоряча, оскорбленный сватовством варвара к его дочерям. Но он должен одуматься и понять: пусть не как зять, но как союзник Святослав ему нужен.
Первая попытка не удалась. Но тот, кто сдается после первой неудачи, никакой удачи и не заслуживает. Истину эту Эльга усвоила хотя бы из опыта своего мужа – первый поход Ингвара на этих же самых греков закончился разгромом, но пару лет спустя он добился своего. Она была полна решимости продолжать борьбу: для того и приехали. Только бы Святослав не наломал дров в первом порыве гнева и негодования!
– Напомни ему, что его мать, ее сестры и послы двадцати князей остаются здесь, у греков, – добавил Мистина. – И пока они не вернутся, размахивать руками опасно – особенно если в руках оружие.
В числе этих заложников мира оставались отец, мать и сестра самого Улеба. Поэтому, глядя, как он обнимает по очереди Мистину, Уту и Святану, Эльга верила: Улеб сделает все, чтобы удержать Святослава от порожденных гневом глупостей.
Только потом он подошел к Горяне. Она тоже, как и вся свита Эльги, явилась в гавань Маманта провожать уезжающих, но стояла поодаль, приветливо кивая подходящим проститься купцам.
– Горяна…
– Я Зоя, – мягко поправила она.
– Ну какая ты зая? – вздохнул Улеб.
– Сие значит «жизнь». Я для новой жизни родилась во святой купели, и прежней Горяны больше нет.
Улеб еще раз вздохнул. Он бы предпочел прежнюю Горяну; с ней тоже приходилось нелегко, но нынешняя говорила с ним будто из-за каменной стены.
– Улебушка… – забыв прежнюю суровость, она шагнула к нему вплотную и обеими руками взяла его руку. – Если бы ты знал… О чем мы спорим с тобой? Если бы ты только знал, какое счастье, какое блаженство… Все грехи прежние, сама тень смерти с меня крещением смыта, теперь я перед Богом, будто перед солнцем… Душа моя теперь – капля росы, что от солнца горит, будто диамант драгоценный, сама солнцу подобна, хоть и не может вместить даже малую частицу его. Это такое счастье! Ты бы сам все понял, если бы это испытал. Зачем упрямишься? Ты же хороший человек, добрый, ты можешь понять… Я тебе счастья хочу. Ты подумай об этом, а когда вновь свидимся, скажешь.
Улеб промолчал. Сердце болело и от грядущей разлуки – возможно, очень длительной, – и от того, что солнце греческого бога совершенно заслонило для Горяны весь остальной белый свет. Но сейчас его больше волновало, что он скажет своему князю по прибытии домой.
Но вот купеческие корабли ушли, Ута вытерла слезы разлуки с сыном. Мысли Эльги и послов уже устремлялись к дальнейшим шагам.
Первые дни прошли довольно тихо. Семь дней после крещения, пока не смыто с тела освященное миро, Эльга каждый день посещала богослужения в ближайшем женском монастыре, но из Города новостей не поступало.
Подошла суббота, когда Эльге предстояло ехать на службу не куда-нибудь, а в Святую Софию. Наутро она ждала, сидя на «верхней крыше», откуда и увидела не без радости, как во двор во главе вестиаритов входит этериарх Савва Торгер. Она встретила его, спустившись в триклиний; ему и его приближенным предложили передохнуть и выпить прохладной мурсы после поездки по жаркому солнцу.
– Я не вижу здесь тех бойких молодых людей, приближенных твоего сына, – заметил Савва, оглядываясь с кубком в руке. – Они не желают меня видеть, или это правда, что я слышал, – они уехали?
– Ты слышал правду, – многозначительно кивнула Эльга. – Они уехали.
– Неужели остались недовольны приемом?
– Моему сыну не было передано даже медного фоллиса. Мы не могли понять это иначе как оскорбление.
– Если тебя это утешит, могу сказать: василевс и синклит тоже остались недовольны тем днем после Рождества Богоматери.
– Вот как? – выразительно изумилась Эльга. – По-моему, если они остались недовольны моими дарами, то жадность их величиной со все Греческое море!
– Нет, дарами они остались весьма довольны. Но сама посуди: для вас открыли Магнавру, вытерли пыль с золотых львов и павлинов, показали вам Трон Соломона, принесли из Пентапиргия золотой стол и посуду! Я даже не помню, когда все это в последний раз покидало хранилище!
– А я, вместо того чтобы ходить разинув рот, а потом только кивать и кланяться, от изумления забыв собственное имя, посмела с ними спорить и требовать чего-то большего, чем лицезрение их богатств? Они думали, я соглашусь на все, пришлю им моих собственных отроков – воевать с сарацинами, лишь за то, что мне показали золотой стол и посуду и дали послушать, как рожки дудят за занавеской?
При виде разгневанной Эльги Савва не сдержал смеха и отступил на несколько шагов, подняв над головой левую руку в знак предложения мира:
– Похоже, что так. И теперь вам придется немного подождать, прежде чем царский совет решит, как быть с вами дальше. Как я понял, их уж слишком поразило, что ты почти с порога захотела сразу всего…
Эльга невольно приподняла руку и двинула указательным пальцем: ей не хотелось, чтобы посольству стало известно о ее неудачном сватовстве к дочерям Константина. И Савва умолк: долгая жизнь при дворе василевсов развила в нем тонкое внимание к подобным мелочам. Эльга бросила на него благодарный взгляд и получила в ответ понимающий. Очень хотелось верить в искреннее расположение Саввы, но она не решалась. Все же глава средней этерии – человек Константина и получает пожалования от него.
– Значит, ты не привез нам никаких новостей?
– Ваши дела не по моей части. Важных новостей вам следует ожидать от патрикия Артемия: дела придется обсуждать с его людьми, с Василием, Симеоном и прочими. Но чтобы наладить понимание и тем облегчить переговоры… Если позволишь, я бы дал тебе один совет…
– Буду тебе за это благодарна.
– Попробуй поговорить с августой.
– С Еленой?
– Да, августа сейчас только она, царской невестке Феофано это звание пока не даровано. Должно быть, Елене еще в молодости надоело быть одной из трех-четырех август, потому что в те годы царские венцы носили жены ее отца и братьев одновременно с ней. Так вот, царица Елена – весьма умная и решительная женщина. Причем она всегда стояла на стороне своего мужа против собственного отца и братьев, которые пытались отнять у него власть. Думаю, тебе не помешало бы приобрести ее благосклонность. Вы – женщины, и в своих державах занимаете одинаковое верховное положение, хотя…
– Сами эти державы – не одно и то же, ты хотел сказать?
Савва развел руками: сама понимаешь.
– Но как мне добиться нового приема у нее?
– Есть много способов намекнуть на желаемое, ничего не говоря прямо, и здесь предпочитают такие. К примеру, передай ей просьбу помочь советом в каких-нибудь женских делах… не знаю… спроси, как ей удается сохранять такую свежесть и красоту при таких взрослых детях… Если она пожелает тебя понять, то пришлет приглашение или доверенного человека. И знаешь, что я думаю? Василевс и его приближенные сами будут рады способствовать вашей встрече с августой, надеясь, что ее женская мягкость и мудрость поможет вам найти согласие.
– И как мне передать ей мою просьбу?
Вместо ответа Савва поклонился, выражая готовность служить. Как глава охраны дворца, он пусть и не имел доступа во внутренние покои василиссы, но все же мог выйти на ее ближайшее окружение.
– Я не останусь неблагодарной, – сдержанно заметила Эльга.
Со стороны могло показаться, будто она не слишком-то ценит эту услугу, но это был бы неверный вывод. Напротив, у нее даже сердце замерло при мысли, что этот человек может и, кажется, хочет быть ей полезным в таких делах, где не поможет больше никто.
– Молись за меня – этого будет достаточно, – улыбнулся Савва, и по глазам его Эльга не смогла понять: шутит ли он или и впрямь готов принять такую плату.
– Тогда передай августе, что прошу позволения с моими женщинами осмотреть царские мастерские, где делают паволоки. А если придется подкрепить просьбу дарами, то сейчас тебе передадут кое-что от меня.
«Кое-что» оказалось полусорочком щипаного бобра – прекрасного меха, мягкого, красивого и теплого, носить который в Северных Странах себе позволяют только самые знатные люди. Савва с поклоном принял дар. Эльга подумала: все равно, возьмет он бобров себе или отдаст скопцам, сторожащим опочивальню Елены. Эти легкие меха всяко сделают ее просьбу куда весомее.
* * *
Ответ на ее просьбу пришел самый благоприятный: Елена августа приглашает архонтиссу Эльгу посетить палатион Зевксиппа, где располагаются гинекеи – те ткацкие мастерские, в которых производят самые лучшие шелковые ткани. Этериарх Савва оказался прав… Однако приглашение снова касалось только женщин; когда Мистина помогал Эльге сесть в носилки, вид у него был недовольный. Этериарху, прибывшему сопровождать архонтиссу росов, он кивнул с улыбкой, но Эльга, двадцать лет его знавшая, видела, что улыбка эта принужденная и ложная. Служанки ей передавали разговоры в дружине: де царев воевода что-то к нам зачастил и трется больше возле княгини, будто надеется наших девок к себе в дружину переманить. Насчет источника этих мнений Эльга не сомневалась и внушала Мистине:
– Савва необходим нам как ключ, чтобы отпереть хотя бы калитку в этой каменной стене, коли уж нас не впускают через Золотые ворота.
– Мне бы больше понравилось, если бы он был как Артемий или Иосиф Вринга – не носил бы бороды и не глядел на женщин, – с досадой отвечал Мистина.
Сегодня лодьи русской архонтиссы вошли в Суд и пристали с северной стороны константинопольского мыса, в порту под названием Неорий. Здесь Эльге вновь подали носилки, присланные из дворца, а ее знатным спутницам – лошадей. Позади шли два десятка служанок. Эльга прихватила всех: и родовитым, и простым до смерти хотелось увидеть, как делают паволоки, уже несколько поколений составлявшие предмет восторгов их бабок и прабабок.
Последнюю часть пути они проделали по Месе – Большой дороге, главной улице Нового Рима, ведущей прямо к сверкающим воротам Священного дворца. Здесь нашлось что посмотреть: снизу тянулись ряды колонн, на которые сверху опирался второй ярус домов, а под округлыми резными сводами располагались и лавки, и мастерские, и невесть что еще. Стоял шум, разноголосый крик, тянуло съестными запахами; какие-то красотки выглядывали из-за занавесок и игриво подмигивали вестиаритам. Народу крутилось столько, что приходилось очищать путь для носилок. А со вторых ярусов жители во множестве смотрели на шествие: махали руками, кричали, иногда даже бросали цветы.
Но вот вышли на площадь Августеон, и стало гораздо тише: сюда простой народ пускали только по большим праздникам и в дни богослужений в Святой Софии. Ее каменная громада высилась с одной стороны, с другой находились северные ворота Мега Палатиона, окованные узорными листами начищенной меди. Перед воротами вдоль всей площади расположились шатры торговцев благовониями: их сюда поместил особый указ василевса, желавшего, чтобы сладкий дух этого ценного товара не пропадал зря, а услаждал обитателей дворца. Ряды прилавков выстроились от Милия – столпа, отмечающего начало всех дорог Романии, – до самых ступеней. Из кадок продавали перец, нард, алоэ, корицу, амбру, мускус, смирну, ливан, смолу бальзамон, душистую свеклу, лазурь… Ни происхождения, ни применения этих веществ княгини не знали, однако жадно втягивали носами непривычные запахи, сладкие и пряные, дарившие возбуждение и ощущение своей избранности и благополучия. Запахи Золотого царства…
Вошли под огромную арку зеленого мрамора, со статуями по сторонам. Далее раскинулся полукруглый двор, окруженный узорной бронзовой решеткой. Впереди высилась крыша здания – она сияла золотом, будто там живет солнце, и подумалось, что там внутри должно быть очень жарко.
На входе Эльгу встретило, однако, не солнце, а уже знакомый папий-ключарь.
– Твою светлость ожидает высокая честь, – с поклоном доложил он. – Показать вам гинекеи пожелали августейшие дочери василевса Константина – Анна и Зоя.
Эльга с трудом сдержала удивление. Дочери василевса? После разговора с Саввой она рассчитывала на нечто другое и теперь не знала: вышло лучше или хуже? К ней выслали тех, кто все равно ничего не решает, или…
Она оглянулась на Савву, и он быстро ей подмигнул, будто поздравлял с успехом. Неужели василевсы надумали благосклоннее отнестись к ее пожеланиям? От вспышки безумной надежды на успех Эльгу бросило в жар, но она постаралась сохранить невозмутимый вид. Она плохо помнила лица пяти девушек, которых видела в китоне Елены, да и никак не ожидала, что после того разговора ей позволят увидеть их вновь.
Савва и его люди остались в помещении, где отдыхали несущие службу «львы», и дальше Эльгу со свитой повели помощники папия. К этому времени княгини уже попривыкли и смело шагали по выложенным из многокрасочных камешков цветам и узорам.
Вход в палатион Зевксиппа находился совсем близко от двора с бронзовой решеткой. Их ожидал начальник мастерских: скопец, тучный мужчина, с жирным смуглым лицом, похоже, даже не грек, а сириец.
– Один лишь василевс покупает сирийский шелк-сырец, – при помощи здешнего толмача рассказывал он, показывая шелковую кудель – такую тонкую, белую и невесомую, что напоминала паутинку в росе. – Сирийцы издавна славятся умением прясть шелк-сырец и превращать его в крученую нить, но мы здесь покупаем сырец и делаем все сами. Вот, твоя светлость, это литра шелка, – он показал нечто вроде пучка из пуха, – она стоит пятнадцать номисм.
Взволнованная ожиданием важной встречи, Эльга едва понимала объяснения. Однако отметила: вот за эту малость – пятнадцать номисм, то есть золотых? Лишь на четверть меньше, чем стоит молодой раб. А ведь шелк еще надо обрабатывать – прясть, красить, ткать. Понятно, отчего подобные дары в силах подносить один лишь царь, а на те пятьдесят номисм, что купцам разрешено истратить на паволоки, товара получается так мало.
Посмотреть, как красят пурпуром, не удалось: по причине ужасной вони держать эти мастерские в стенах дворца было невозможно, и их устраивали на берегу моря. Зато Эльге показали уже выкрашенную пряжу, привезенную для ткачей. Княгини только ахали: перед ними выложили мотки всех оттенков – от ярко-красного и голубого до густо-черничного. Оказалось, что цвет красителя зависит от того, где выловлены раковины-багрянки: в северо-западной части Месойос таласса[31] он будет синеватым, на востоке и западе – черничным, на юге – красным.
Вдруг сириец прервал рассказ и воззрился на резную арку входа. Вошли два дворцовых скопца, потом две служанки, а за ними две нарядные девушки. Даже здесь, среди мраморных плит и мозаичных полов, они выделялись среди простых смертных, будто две ирийские птички: белые туники с шитыми жемчугом красными опястьями, столы с вытканными цветами, ожерелья с подвесками из смарагда или сердолика, пояса узорных золотых пластин с самоцветами. Распущенные черные волосы из-под шитых золотом лент красивыми волнами спадали на плечи и грудь. Даже мягкие башмачки, предназначенные для хождения по гладким полам дворца, были из шелка с золотой вышивкой.
– Анна, дочь благочестивого василевса Константина, приветствует архонтиссу Эльгу Росену! – доложил скопец-толмач. – Также ее и спутниц приветствует багрянородная царевна Зоя.
Обе девы по очереди кивнули, и Эльга постаралась запомнить, где какая. Платье цвета моря в ясный день, округлое золотое ожерелье с подвесками из сердолика в золоте – Анна. Рыжевато-золотистая стола, ожерелье со смарагдами и крупным жемчугом – Зоя. Воспитанная в них с младенчества привычка к надменности и умение себя держать боролись с робостью перед лицом владычицы варваров, лишь несколько дней назад вошедшей в число христиан, то есть людей, а робость – с любопытством. Но на сей раз наука одолела природу, и Анна, более старшая из двух сестер, шагнула вперед.
– Мы рады случаю доставить удовольствие архонтиссе и ее приближенным. – Сегодня Эльга впервые слышала ее голос, поскольку при встрече в китоне Елены девушки ни разу не раскрыли рта. – Только здесь, у нас, можно увидеть, как делают порфировые шелка, а еще все виды узоров, какие не умеют ткать больше нигде. В этом искусстве наши ткачи совершенствуются уже много веков, и во всем мире им не найдется равных.
Эльга поблагодарила их за любезность, и две царевны повели гостий по мастерским. По пути рассказывали про египетских ткачей, уже пятьсот-шестьсот лет назад умевших ткать шелка с изображением людей, растений и животных. О сирийских красильщиках, прядильщиках и ткачах, которые использовали шелк-сырец из Индии и Китая, пока, пятьсот лет назад ромеи не начали сами разводить гусеницу, производящую из себя шелковую нить. Гинекеи же, принадлежавшие василевсам ромеев, возникли пятьсот лет назад и находились в разных городах: Александрии, Константинополе, Карфагене.
Поглядывая на своих спутниц, Эльга видела, как порой они морщились. Оказывается, прекрасные греческие платья сделаны из отрыжки какой-то гусеницы! Ярослава брезгливо озиралась, будто боялась, что гусеницы вдруг поползут по полу.
Однако гусеницы остались где-то в Сирии, а здесь во многих чередующихся помещениях стояли ткацкие станы. Огромные сводчатые окна пропускали много света, позволяя оценить богатство красок и тонкость узоров. Русские княгини долго ходили вокруг станов, осматривая со всех сторон. Нити основы здесь были натянуты не сверху вниз, как они привыкли, а над полом, будто стол. Толстый сириец объяснял устройство, но понять удалось мало кому. Натягивались сразу две основы, разных цветов. Чтобы соткать один-единственный ряд, приходилось сначала при помощи брусков, плоских реек и тонких острых спиц выводить вперед нужную основу и нужное количество ее нитей в нужных местах. Тончайших же шелковых нитей на ширину сустава пальца приходилось от шестидесяти до ста двадцати, как им объяснили, – неудивительно, что каждый переброс какого-то из сменяемых утков – одного из трех-четырех цветов – требовал долгой подготовки и узор на широкой тканине рос очень и очень медленно.
– У самита две основы, а утка́ может быть и два, и три, и пять, – рассказывала Анна. – В заправке у него шесть нитей: три связующей основы, три внутренней. А основы бывают каждая своего цвета – так удобнее. Поэтому эта ткань и называется «эксамитос» – «из шести нитей». Сложный узор образуют утки́ разных цветов, а основы скрывают с внешней стороны лишние части.
– Ну, амита – в одну нить, – стала объяснять Зоя, показывая на пальцах. – Димита – в две нити, два цвета, тримита – три нити.
Убедившись, что варварские архонтиссы не кусаются и ведут себя вполне пристойно, багрянородные девы успокоились и оживились. Изумление гостий забавляло их, и они, похоже, радовались: им, девушкам, нашлось дело в ходе приема чужеземных послов, да еще таких важных! Впервые за две тысячи лет – после царицы Савской – к господину всей земли, василевсу ромеев, явилась на поклон женщина – правительница с окраин мира. Не то что все эти бесконечные болгары, ивиры, тарситы, испаны, сарацины, персы, франки, саксы и Бог знает кто еще, кого отец и брат принимают по три посольства за один раз. Неудивительно, что отец приказал приготовить Магнавру, отменил все другие приемы на этот день и посвятил русам все свое время до окончания дел и ухода во внутренние покои. Впервые на памяти дочерей в эти покои был допущен кто-то из чужеземцев, и они смотрели на Эльгу с чувством, будто к ним явилась новая царица Савская – прямо из Библии. Да и не так уж часто им выдавался случай поговорить с кем-то вне привычного круга домашних лиц: из своих покоев они выходили только в церкви, но и там вокруг них смыкался плотный строй – все те же жены царедворцев, служанки, евнухи.
– О боги, он что – наказан? – невольно воскликнула Эльга, увидев первого ткача.
Еще довольно молодой щуплый парень не просто сидел за станком, а нависал над ним на ремешке, обхватывающем нижнюю часть горла. И при этом еще улыбался знатным гостьям.
Оказалось, ничего подобного. Сами ткачи таким образом подвешивают себя к станкам: это обеспечивает легкий, почти невесомый пробой утка в тонких нитях, а значит, однородную плотность ткани. К тому же от усталости ткач со временем начинает невольно опираться на бердо, что тоже вредит гладкому сложению нитей, а при подвешенной верхней части тела это не грозит.
Княгини только переглядывались, вытаращив глаза. Но плотность ткани и тонкость нитей и впрямь были необыкновенными. Они-то думали, сидя дома, будто все знают о прядении и умеют ткать! Да, умеют: лен-полотно и шерсть «в елочку» либо «в рубчик». Ткать учится любая славянская девочка: и простого, и высокого рода. Не умеющая этого считается непригодной в жены, неспособной продолжить род – ибо ткачество есть работа богини-матери, на своем небесном стане сотворяющей зримый мир и его судьбы. Прядение и ткачество – женская часть служения божествам, их вклад в возобновление вечно живущего света белого.
Но если жены русские так привыкли относиться к своему жизненному полотну – простому и без узоров, разве что с косым рубчиком, – то от зрелища этих шелковых миров волосы шевелились на головах под повоями. И насколько узорные паволоки Елениного гинекея были богаче, сложнее и многомернее, чем льняная тканина, которую умели производить они сами, насколько же сложнее, богаче и многомернее был сам этот мир. А значит, и боги этого мира. Вернее, тот Бог, единый в трех лицах, чье величие, мощь и непостижимость они видели здесь на каждом шагу, в каждой вещи. Все те впечатления, которые жадно впитывали их глаза и пытались осмыслить умы, сошлись воедино в этих паволоках, рождая смесь восхищения, вожделения, недоумения и отчаяния.
– Откуда же вы ткачей берете? – спросила Эльга у Анны.
Казалось, что творить эти чудеса должны какие-то особые люди, чародеи либо ангелы. Даже видя своими глазами, как родятся на шелковом полотне эти всадники, орлы в узорных кругах – каждый вид узора имел отдельное название, – гостьи едва могли поверить, что все это сделано руками тех одетых в простые серые туники мужчин и женщин, что нависали над своими станками с ремешком на горле. Как может быть порождено смуглыми руками этих зауряднейших людей вот это все! Эти львы, цветы, слоны, грифоны – те же почти львы, только с крыльями. Деревья, павлины – те птицы с огромными хвостами, что красуются на Троне Соломона. Кони без всадников, обернутые носами друг к другу. Иные узоры по величине достигали локтя, а то и двух. Были там вытканы и люди: кто-то сидит в домике под золотой крышей, а над ним простерло ветви зеленое дерево, кто-то идет с мечом в руке, кто-то мчится вдогон за зверем, держа напряженный лук. Изображенные в пять-шесть цветов, эти картины поражали яркостью красок, точностью всех мелочей, глубиной – казалось, туда можно войти. А ведь это всего лишь полотно, оно плоское! Если потрогать – ощутишь лишь гладкую ткань, а не листву деревьев, конскую шкуру или тепло тела…
И на краю каждого отреза тянулось вытканное имя василевса – будто на номисме или милиарисии.
– Откуда берем ткачей? – Анна удивилась вопросу, ибо для нее работники были такой же неотделимой принадлежностью мастерских, как сами ткацкие станы. – Это же гинециарии.
– Кто?
– Ну, рабы, которые из поколения в поколение занимаются этим делом.
– Потомственные ткачи? И они все рабы?
– Ну да. Ведь это же требует большого умения, и их дети обучаются с малых лет. Этими рабами очень дорожат. Есть особый закон, что если кто из них убежит, его запрещено укрывать. Они стоят очень дорого – не менее пятидесяти номисм.
Номисма – золотой, в нем двенадцать милиарисиев. И на пятьдесят номисм русским купцам разрешено вывезти шелковых тканей – на стоимость одного такого раба в год. Эльга попыталась подсчитать в уме, и вышло: за все то серебро, что ей поднесли в дар от василевса после приема, она не смогла бы купить даже одного ткача!
Устав стоять возле станков, девушки увели архонтиссу русов в китон, куда слуги подали фрукты, хлеб, сыр, мурсу – воду с медом и яблочным соком, разведенное водой вино. Судя по всему, покой предназначался для отдыха женщин царской семьи, посещающих гинекеи, – здесь тоже стояли мраморные скамьи с подушками, столы, журчала небольшая крина, мозаики на полу отличались особой изысканностью, а вдоль стен застыли каменные девы, обнаженные и стыдливо прикрывавшиеся кусками ткани. И снова Эльге захотелось потрогать и убедиться, что эти мягкие складки покрывала образованы гладким камнем, а не настоящим шелком. Она уже немало нагляделась на статуи, но все не могла отделаться от тайного ужаса при виде этих созданий: живых до последнего волоска, но все же каменных.
Этот блестящий мир все время сбивал с толку: шелк его был подобен живым цветам, камень – шелку. Живое и неживое так походило одно на другое, так легко менялось местами, что от этого бросало в дрожь.
– Статуи остались от тех времен, когда здесь были бани, – пояснила Анна, заметив ее взгляд, а Зоя хихикнула.
Поначалу обе дочери Константина казались Эльге очень похожими, и она различала их лишь по платьям. Большие глаза, слегка подведенные черным, выглядели от этого еще выразительнее; ровные тонкие брови одинакового очерка придавали лицам выражение величавой гордости.
Однако потом Эльга пригляделась и заметила: у Анны более точеные черты лица, но кончик носа выдается вперед, как клюв; у Зои нос немного велик и толст, но широкая улыбка яркого рта и белизна зубов позволяют не замечать этого недостатка. И вблизи она наконец разглядела, что глаза у них не темные, как обычно у гречанок: у Анны – серые, а у Зои – зеленые! Это неожиданное, яркое сочетание со смуглой кожей и темными волосами очень украшало их.
И чем дальше, тем лучше Эльга видела, что эти девушки вовсе не так юны, как показалось на первый взгляд. Пожалуй, они ровесницы сестрам Дивиславнам, которые уж лет по десять замужем и имеют по трое-четверо детей. Они старше Святослава лет на пять… хотя это не важно. Почему же такие красотки все еще при родителях? Не из-за носов же! Неужели Константин и впрямь так полон решимости не отдавать дочерей замуж, что готов держать их дома до старости?
– Твоя светлость желает о чем-то спросить? – произнесла Анна.
На лице ее отражалась смесь опасения с еще каким-то тайным чувством. Надеждой? Любопытством?
– Вы очень красивы, – сказала Эльга, опомнившись: загляделась.
Зоя улыбнулась: поняла, что это сказано от души, а не из лести, среди которой они выросли.
– Много раз василевсы ромеев выбирали себе в жены самую красивую девушку державы, – пояснила Анна. – Поэтому красота досталась нам по наследству.
– Хотя не все из них – наши предки, – засмеялась Зоя. – Мы получили красоту, как получили Мега Палатион! – Она взмахнула рукой, показывая мозаики и статуи. – По воле Божьей!
– Была бы здесь Агафья, наша старшая сестра, она бы сказала: «Вся слава дщери Царя внутри! – воздев перст, провозгласила Анна, явно подражая кому-то. – Не тело нужно делать белым и блестящим, но украшать душу»[32].
– «Не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждой»[33], – подхватила Зоя.
– И как если блудница, оставив золотые украшения, оделась бы в простую одежду и украсила себя неизысканно, то ее выгнали бы вон, как не умеющую понять публику, так если благочестивая женщина, одевшись в одежды блудницы, войдет в небесное зрелище, то изгонят ее вон.
– Хватит! – Зоя кинула в сестру виноградиной. – Они ничего не понимают.
– Но мы же должны наставить наших крестных дочерей в истинной вере! – с наигранной обидой сказала Анна и покосилась на спутниц Эльги.
– Для этого есть патриарх. А о блудницах куда лучше может поведать Тасула!
Скопец-толмач, до сих пор изо всех сил старавшийся успеть перевести для новообращенной архонтиссы речения святых отцов, теперь запнулся и вопросительно посмотрел на Зою.
– Не переводи этого! – бросила ему Анна.
Толмач промолчал, и Эльга поняла: дочери василевса сбились на предметы, не предназначенные для чужих ушей. И все-таки дивно: могли бы по пятеро детей иметь, а ребячатся, будто сами дети! Они с Утой и младшими когда-то так же резвились, соскучившись за прялками, только было им лет двенадцать-тринадцать.
И снова ей показалось, что в устремленных на нее ярких глазах девушек отражается некий вопрос. Нет, конечно, они вовсе не хотели уехать вместе с ней в страну северных варваров. Но эта новая царица Савская будто распахнула окно, из которого веяло свежим, незнакомым духом в их застоявшемся, сложно устроенном и не любящем перемен мире, где каждый шаг женщин их положения подробно расписан. Им велели рассказать о мастерских, и они рассказали; им не приказывали расспрашивать архонтиссу русов, а вот этого очень хотелось. Какова ее страна? Каков ее сын, для которого она хочет найти здесь жену? Нет, они не собирались к нему ехать и жить там в зверином логове среди языческих заблуждений, грубости и невежества, но… какой девушке не было бы любопытно на их месте? Особенно еще и потому, что склонности к монашеству они не чувствовали, а других женихов, как видно, Бог им не пошлет. Ибо таким невестам нет равных на земле, и вся любовь их предназначена лишь одному Жениху Небесному…
Однако не расскажешь об этом архонтиссе русов, едва смывшей с тела освященное миро крещения. И они молчали, лишь поглядывали на толмача. Содержание этой беседы будет подробно доложено – родителям, или логофету дрома, или паракимомену Василию. Эльга отчасти угадывала их чувства, но без помощи толмача не могла даже шепнуть им пару слов. А привести сюда своего Торстейна – невозможно: ведь он мужчина, а мужчин сюда не допускают. Только таких, которые «подобны ангелам».
Она усмехнулась про себя, вспомнив свой спор с Мистиной, и вздохнула: похоже, любезность этериарха оказалась напрасной и надежды ее не оправдались. Кроме знакомства с ткацкими станами, ничего она из этого посещения не вынесет.
– Спасибо вам за угощение и беседу, – Эльга поднялась, радуясь, что сейчас не нужно ждать, пока над ухом загудят или смолкнут золотые рожки-органы, – пора нам восвояси.
– О, подождите! – Зоя отложила кисточку черного винограда, которую задумчиво покачивала в руке. – Мы еще должны поднести вам подарки. Тебе как нашей почетной гостье, а еще нашим крестным дочерям по случаю рождения их для истинной жизни во Христе.
Она сделала знак слугам, и из мастерских внесли косяки паволок. Разложили ткани на мраморных лавках. По золотистому полю раскинулись широкие узорные круги, а в них танцевали на задних ногах кони, вытканные черным и красным. По синему полю летели среди цветов золотистые птицы. Красные лани, обведенные голубыми кругами, стояли под деревом, уткнувшись носами друг в друга, будто целуясь от великой любви. На той паволоке, что предназначалась для Эльги, на синем поле сидели золотые львы: хвостами друг к другу, они тем не менее обернули морды назад, так что все же оказались смотрящими один на другого, а по сторонам от них высились золотые же колонны с узорными навершиями. Точно как на том Троне Соломона-царя, на котором ее принимал василевс.
И тогда она не удержалась…
* * *
Слушая объяснения Анны и Зои, Эльга с трудом сохраняла на лице спокойное выражение, а сама чувствовала себя дура дурой. Скопец-толмач старался как мог, но то и дело просил у гостьи прощения: дескать, в языке славян нет таких слов. Или они ему неизвестны, да простит высокочтимая архонтисса его убожество. Схолео – это значит… э… Научение… выучка… где собираются люди, желающие познать науки и перенять мудрость учителя, это и есть схолео[34]. Здесь неподалеку, во дворце Магнавры, было устроено самое главное схолео Греческого царства, и там мудрейшие, ученейшие люди передавали знания отрокам и юношам. Да, любым, всем, кто пожелал.
Анна и Зоя наперебой рассказывали, перечисляя науки, которыми владел знаменитый сто лет назад, при василевсе Феофиле, архиепископ Фессалоник Лев Механик, еще известный как Лев Математик.
– Грамматика – это умение читать и писать. Твоя светлость знает, что это значит?
– Риторике – умение складно говорить и составлять хорошие речи. Искусство красноречия, еще можно сказать.
– Философия – иначе любомудрие, наука о том, как человеку достичь истины и познать добро.
– Арифметика – наука о числах. Ну, цифры, числа, умение считать. – И показывали на пальцах.
– Геометриа… – Чертили какие-то круги на столе.
С «геометриа» вовсе настала беда. Царевны и толмач по очереди пытались объяснить Эльге, что это за слово, которое когда-то означало «измерение земли», но не касается размежевания полевых наделов – это она еще поняла бы, – а применяется для возведения всех удивляющих ее каменных построек. Умение строить? Нет, не совсем… Ах, если бы пришла Агафья, она, возможно, сумела бы объяснить получше, она у нас самая умная!
Короче, архиепископ фессалоникийский Лев знал не только эти слова, но и всю заключенную в них неизмеримую мудрость. Он умел следить ход звезд небесных и по ним высчитывать наиболее удачное время для посева – чем спас однажды целую область от голода. Тут Эльга стала кивать с неложным пониманием: славянские волхвы тоже обладали подобным умением.
– Он был волхв? – решилась спросить она.
И сами греки не всегда ведали истинного Бога: в иное время они поклонялись своим Перунам и Велесам. Эльга не вполне уяснила себе, насколько давно это кончилось.
– Его обвиняли в язычестве и чародействе, – кивнула Анна. – Но эти обвинения были ложны. Он даже от иконоборческой ереси в конце концов отрекся.
Так вот, оказалось, что золотых львов, павлинов и птичек на золотом дереве тоже сделал Лев Механик. Они приводятся в движение водой.
– Живой водой?
– Не могла бы высокочтимая архонтисса еще раз простить мое ничтожество и объяснить: что такое «живая вода»?
Толмач знал только «живой огонь», который русь называла «греческим».
– Это которая не мертвая, – устало засмеялась Эльга.
Мелькнуло привычное с детства мысленное видение двух источников: из одного пьют души умерших, переходящие с белого света в Навь, а из другого – души новорожденных, уходящие из смерти в жизнь. Или духи волхвов, путешествующих по Нави. Но объяснять это у Эльги недостало сил, и она даже обрадовалась, когда ученую беседу пришлось прервать.
Открылась дверь, обитая блестящими медными листами, и в китон в сопровождении служанок и евнухов вступила сама Елена августа.
Дочери ее вскочили и поклонились; Эльга тоже встала и учтиво наклонила голову.
– Мы говорили о Льве Механике! – поспешно доложила Зоя, будто боялась, что их заподозрят в ведении речей иного содержания.
– А! – улыбнулась Елена. – Сей муж – достойный пример для всякого, ищущего мудрости. Благодаря прилежанию, величию природы своей и жизни несуетной, превзошел он все науки так, как иные не в силах превзойти хотя бы одну.
«А иные – и названия их», – отметила в мыслях Эльга: все те странные слова, которые она так и не сумела уяснить, уже разбежались из памяти.
– Довольна ли ты посещением гинекеев? – спросила Елена, усевшись и знаком пригласив Эльгу снова сесть. – Увидела ли ты все, что хотела? Все ли тебе объяснили?
– Да, и я весьма признательна порфорородным царевнам за помощь, и тебе – за позволение прийти сюда.
– Поскольку мы превосходим другие народы по богатству и мудрости, то также должны превосходить их и по одежде, – благодушно кивнула Елена. – Обладая несравненными добродетелями, должны мы иметь и наряды, неповторимые по красоте. Ступайте, – Елена сделала знак дочерям. – Побудьте с сестрами. Дорула спрашивает, куда все исчезли. Вызовите ее и погуляйте в саду с женщинами архонтиссы. Я вижу, им наскучили слишком умные разговоры.
Обе девушки беспрекословно поклонились и вышли; за ними следовали евнухи и их служанки. Эльга отослала за ними собственную свиту; княгини и впрямь рады были выйти на воздух, в тенистый сад. Царица и архонтисса-игемон остались вдвоем, в обществе толмача и служанок Елены.
Эльга молчала: раз уж василисса пришла, значит, ей есть что сказать.
– Все эти дни я пыталась понять, – Елена мягким движением протянула полную округлую руку к кисти желтого винограда на золоченом блюде, – это приобщение к истинной вере сделало тебя такой умной или ум твой – причина того, что ты отреклась от ложной веры в пользу истинной?
– А что тебе кажется более правдоподобным?
Эльга не могла заявить: «Да, я родилась такой умной», – но не могла и приписать свой ум погружению в купель. К тому же у нее легонько екнуло сердце: теперь, когда они остались вдвоем и сидели так близко, она разглядела, что за величавым благодушием василиссы скрывается тот острый ум и твердый нрав, о котором говорил Савва.
– Выбор в пользу истинной веры в любом случае счастье для тебя. Кто бы ни был обращенный язычник, я могу лишь искренне порадоваться о его спасении. Но если говорить о нас и нашей пользе… если умной тебя сделало крещение, то лучше бы ты оставалась язычницей! – засмеялась Елена.
Она и смеялась величаво, неторопливо. Видя ее вблизи, при ярком свете дня, и когда ничто больше не отвлекало, Эльга задумалась: а сколько же лет ее боговенчанной собеседнице? Сыновья их обеих – ровесники, но дочери Елены заметно старше брата. Царица же выглядела как зрелая женщина, с годами приобретшая дородность, но не утратившая красоты. Если бы Эльга и впрямь стала расспрашивать ее о притираниях от морщин, никто не счел бы этот предлог для встречи надуманным.
– Я надеюсь, тебе понравился и тот прием, который состоялся вслед за твоим истинным рождением во Христе, – продолжала Елена, но ее пристальный взгляд из-под затененных краской век выдавал, что она не так уж в этом уверена.
Теперь Эльга разобрала, что у Елены зеленые глаза – вот от кого их унаследовала Зоя. При черных волосах, белой коже и красных губах это смотрелось ярко и необычно, даже казалось неким знаком той Божьей воли, что избрала дочь крестьянина-армянина, сделав ее женой и матерью василевсов.
– Я могу лишь еще раз принести благодарность за тот великолепный прием, который был оказан мне! – с нажимом на последнее слово ответила Эльга. Уж если василисса потрудилась удостоить ее еще одной личной встречи, наверное, она и сама хочет услышать правду. – Я восхищена оказанной мне честью. Самые лучшие покои, самое дорогое убранство и утварь… Но могу лишь сожалеть о том, что моему сыну и соправителю не был оказан подобающий почет.
Глаза Елены раскрылись шире – не впервые ли в жизни она слышала от каких-то варваров упрек, что им мало почета?
– Его люди получили меньшие дары, чем мои служанки, а он сам – вовсе ничего. Неудивительно, что его посланцы пожелали немедленно покинуть Греческое царство. Я умоляла сына ничего не предпринимать до моего возвращения, надеясь, что это недоразумение будет нами улажено. Ведь ты знаешь: в прошлом между русами и греками не раз случались раздоры, и у нас еще слишком мало опыта жизни в дружбе и добром соседстве. Столь слабое дитя не следует подвергать таким испытаниям, – Эльга улыбнулась, надеясь смягчить свои слова, – пока оно не подрастет и не окрепнет.
Она вложила в эту речь лишь напоминание – о походах Ингвара, Аскольда и Дира, Олега Вещего. О том, что грекам трудно защищать свои владения на северном берегу моря, когда приходится постоянно воевать с сарацинами. Но в этих же словах легко было увидеть угрозу.
– Сколько тебе лет, дочь моя? – осведомилась Елена.
– Тридцать шесть, насколько помню.
Эльга надеялась, что не ошибается: время от времени они с Утой садились и начинали перебирать события недавних лет – вехи для памяти, – заново пересчитывая свой возраст. Пока выходило тридцать шесть – и ровно двадцать лет с тех пор, как обе они прибыли в Киев.
– А я уже тридцать восемь лет ношу царский венец, причем это совершенно точно, – снисходительно пояснила василисса, и Эльга отметила: Елена царствует на два года дольше, чем сама она живет на свете. – Я видела немало честолюбивых притязаний, а также то, к чему они приводили. Первое, чему должен научиться всякий христианин, – это смирение. Мы рады оказать нашим духовным чадам царские благодеяния и милости, во всем достойные нашего высокого сана. Но и вам следует понять: новорожденный младенец не равен отцу. Василевс ромеев среди прочих архонтов, кто бы они ни были, – это Христос среди апостолов. Василевс не вступает в дружбу с иными народами, он ее дарует. И всякий, из рук наших принявший средство к спасению, отныне находится под нашим духовным покровительством, но взамен повинуется нам, как почтительный сын. Господь избрал василевса ромеев и дал ему, как лучшему, царство свое над всеми, и положил его, как сторожевой столб на холме, или как изваяния из золота на вершине порфировой колонны, или как могучий город на горе, дабы народы несли ему дары и населяющие землю воздавали ему поклонение. Ведь тебе известно, сколько ценнейших, неповторимых реликвий Христовой веры хранится в Новом Риме? В храме Богоматери Фаросской ты видела Мандилион. Ровно тринадцать лет назад Нерукотворенный лик Спасителя вступил в богоспасаемый град наш через Золотые ворота, как сам Спаситель вступил в Иерусалим, и с тех пор пребывает в нем.
При упоминании Золотых ворот в мыслях Эльги мелькнул образ Вещего и его щита. На Золотых воротах – через которые вступают в свой город василевсы и однажды вошел Нерукотворенный лик самого Спасителя! При Вещем Мандилиона еще не было в Константинополе, и русскому князю тогда не удалось пройти через Золотые ворота, но он оставил щит, давая понять: мы вернемся. И войдем. Именно сейчас Эльга осознала это и едва сдержала слезы волнения.
Елена заметила блеск ее увлажнившихся глаз, но поняла его неправильно. Уж конечно, ей Золотые ворота навевали воспоминания о собственных предшественниках у власти, не чужих.
– У Богоматери Халкопратийской ты на днях лицезрела пояс и ризу Пресвятой Богородицы, ведь ты помнишь?
Эльга почтительно кивнула. После крещения ей показали эту святыню: обычный женский пояс из грубой буроватой пряжи – сказали, это шерсть верблюда, а пояс Богоматерь соткала своими руками. Немного чудно смотрелся на этой простой некрашеной шерсти золотой узор из листьев: его вышила василисса Зоя, которую наложение пояса исцелило от злого духа.
– В храме Святых Апостолов хранятся святые мощи апостолов Тимофея, Луки, Андрея, – продолжала Елена, – Иоанна Златоуста, Григория Богослова, других святых патриархов. Там же возлежит глава апостола Матфея. В Студийском монастыре хранится верхняя часть главы Крестителя. В монастыре Всенепорочной Богородицы – оправленная в золото глава апостола Филиппа и отпечатки стоп апостола Павла, оставленные им в камне. А колонна Константина! Она одна могла бы считаться средоточием всех ценностей христианского мира: в часовне внутри ее подножия хранится топор Ноя, коим он строил ковчег, посох, коим Моисей добыл воду из скалы, и те двенадцать корзин с остатками пяти ячменных хлебов, которые собрали после того, как Христос накормил ими пять тысяч человек! Ты же знаешь об этом чуде? Я обращусь к патриарху, чтобы он показал тебе все святыни. Сам ангел Господень принес святому Константину царские венцы и мантии. Святой нашей покровительницей, равноапостольной августой Еленой, был обретен сам Крест Господень. Нужны ли еще доказательства, что народ ромеев избран Господом? Прежде иудеи считали себя богоизбранным народом, но сказал Иисус: «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его»[35]. И ценнейшие святыни христианства дарованы ромеям в знак того, что мы – наследники Царства Божия. «Очи Господни на праведников и уши Его к просьбе их, лице же Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память их»[36]. И долг всех иноплеменных, особенно тех, кто наречен нашими духовными чадами, – преклонение и покорность.
Эльга не отвечала, замерев на месте. Елена могла подумать, что речь ее произвела на архонтиссу Росии такое впечатление, что та не находит слов. И кое-что в этой речи и впрямь ее поразило. Лишь раз или два в жизни с ней бывало такое: будто божественная сила мягким крылом касается души, отчего мороз бежит по позвоночнику, а перед мысленным взором открывается недоступная земным очам истина.
«Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его…» Господь отнял Царство Божие от иудеев и передал римлянам, как тот светильник для брачного пира, сочетающего Господа с церковью, Иисуса с верующей душой. Олег Вещий был в Греческом царстве и оставил щит на воротах – тех воротах, что служат для заключения священного брака между властителем и державой. А теперь она, Эльга, наследница Вещего, пришла сюда же и взяла светильник веры, чтобы нести его на Русь. «Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу…» Ее народу. Из этой слабой искры в ее руках воссияет свет и озарит всю державу русскую до самых дальних уголков. Все это будет у нас: каменные храмы с золотыми главами, неземной красы палатионы, христианские святыни, золотые львы и павлины. И грамматика, и риторика, и арихметика… Так будет. Она знала, видела это. И от потрясения не могла пошевелиться. Даже свела невольно домиком ладони, будто оберегая тот слабый огонек…
Но вслух она, немного собравшись с мыслями, сказала совсем другое:
– Я очень польщена и благодарна за ту честь, которой ты и его царственность, Константин август, меня удостоили, сделав своей духовной дочерью. Но ведь не меня и не моих женщин ваши полководцы хотели бы видеть в своих войсках на суше и на море. Людей для войска дает – а часто и сам возглавляет – мой сын и соправитель, князь Святослав. Истина Христова еще не коснулась его души. И если я попытаюсь склонить его слух к Слову Господню, он, обиженный пренебрежением, не станет слушать.
– Возможно, Бог поможет нам преодолеть эту обиду, – благодушно кивнула Елена. – Но то, о чем ты сказала в тот раз, невозможно. Всякий народ имеет свои обычаи, разные законы и установления. И надлежит каждому держаться своих порядков и с единоплеменниками своими заключать брачные союзы.
– Я не сидела бы сейчас в этом прекрасном покое, если бы мои предки думали так же, – улыбнулась Эльга. – И у меня не было бы моих детей. Мой отец пришел из-за моря, его предки принадлежали к племени данов. Моя мать – дочь архонта северных кривичей. Они заключили между собой брачный союз, и взаимное расположение помогло им преодолеть разницы обычаев и привычек. Родители моего мужа оба происходили из Северных Стран, однако уже несколько поколений этот род живет и правит на озере Ильмень, среди славян и чудинов. Так и везде в Русской державе: мужи приходили из Северных Стран и здесь брали жен из славянских родов. Союзы воинов и торговцев с землепашцами и добытчиками разных богатств у земли и леса позволили всем нам окрепнуть и многократно умножить добытое. Наша отцовская кровь дарит отвагу, а материнская – прочную связь со своей землей. Русь – это могучее дерево, где корни питаются соками земли, а ветви тянутся к небу. И если благодаря союзу с вашей мудростью ветви наши позолотит свет Христовой веры и ученость ромеев, мы…
Она чуть не сказала «станем сильнейшим народом на земле», но вовремя остановилась. Совсем недавно между ними прозвучало это пророчество: «дано будет народу, приносящему плоды его». Неумно было бы показывать Елене, как она его поняла.
– Но ваши нравы и обычаи, как бы они ни возникли, уж слишком несхожи с христианскими, – возразила Елена. – Чуждые же нравы и различные узаконения обыкновенно порождают враждебность, ненависть и ссоры, что помогает возникновению не дружбы и единения, а вражды и раздоров.
– Я приехала сюда и обратилась в Христову веру, чтобы по возможности сгладить эту разницу нравов и сблизить узаконения. Это не сделается в один день, но надо ведь с чего-то начинать.
– Но для начала просить мою дочь в жены твоему сыну – это чрезмерно смело! – засмеялась Елена. – Болгарам потребовалось три поколения, чтобы ее добиться, и то у нас все осуждают решение моего отца, который отдал свою внучку, мою племянницу Марию, за Петра-болгарина.
– Но ведь ваши стратилаты желали бы получить от нас людей для войска, в то время как у нас хватает своих врагов. Радея о своей безопасности, мы никак не можем послать своих воинов на сарацин, не имея твердого обещания от василевса, что в это время печенеги не потревожат наших границ. Мы должны быть уверены, что Романия так же сильно желает нашей безопасности, как и своей. А для этого нужен залог. Какой же залог лучше, чем невеста? Что дороже для отца, чем багрянородная дочь?
– А какие залоги дадите вы?
– Вам нужны воины. Мы дадим их.
– Воины предназначены умирать по приказу. И такой приказ они получат.
– Но вы не можете желать от нас невесты. Оба василевса женаты, а твой внук – младенец.
– В таких случаях присылают своих наследников… на воспитание в истинной вере. Разве вам такой обычай неизвестен?
– В этом наши обычаи схожи. Мой муж приехал когда-то в Киев ребенком, как заложник от своего отца. Но когда я уезжала из дома, у моего сына вовсе еще не было детей! Он женился менее чем за год до того.
Тут Эльгу пронзила ледяная дрожь: а что, если Елена откуда-то знает о существовании Брани? Нет, дочь она грекам не отдаст!
– Так значит, время обмениваться заложниками и закреплять дружбу семейными союзами еще не пришло, – улыбнулась Елена и поднялась с шелковых подушек. – Рада была повидаться с тобой, дочь моя. Господь поможет отбросить невежество и самомнение и держаться славных дел тех, кто правил в согласии с законом и справедливостью.
По пути домой княгини бурно радовались подаркам – их стоимость возмещала цену поднесенных василевсу челядинов и мехов, – но Эльга думала о паволоках не больше, чем о пыльной листве олив при дороге. По мнению царствующего семейства, время для более тесного сближения руси и греков еще не настало. Если взглянуть на дело здраво, Эльга не могла отрицать: это верно. Греки знают Христову веру уже несколько веков. От своих предков они получили знания таких вещей, которые на языке славян или норманнов даже названий не имеют. Арихметика… как там это, про умение чертить круги? Однако, полезный замысел: собрать самых мудрых людей и велеть им учить отроков… Как это назвать? Выучилище? Научилище?
Пока что русы в глазах ромеев имели лишь одно достоинство: умение воевать. Но пока у них есть нужда в воинах, не стоит оставлять надежду выторговать взамен то, что нужно нам.
По прибытии к Маманту Савва открыл дверцу носилок; навстречу Эльге протянулась, опережая его, другая рука. Эльга вышла на мраморные плиты и с улыбкой попрощалась с этериархом; но лицо ее было как неживое, а взгляд смотрел куда-то вдаль и видел там нечто ужасное.
Она прошла в дом, и едва они скрылись с глаз сопровождающих, как Мистина схватил ее за руку:
– Что случилось? Этот хрен лысый тебе опять намеки делал?
– Да какие намеки! – Эльга в досаде вырвала руку. – Я виделась с Еленой. И она сказала… что если они дали бы заложника, то и мы тоже, а у меня же никого нет, кроме… Брани. И я…
– Но они же о ней не знают!
– Нет.
– Ну так и чего ты боишься? Они ее не получат.
– Но если бы… – Эльга в изнеможении закрыла лицо ладонями. – Я всю дорогу думала: а если бы она мне сказала: отдай Браню, и в обмен получишь Зою или Анну… Что бы я… Во мне все кричит: не отдам! А ум говорит: отдашь… И я не знаю, – Эльга опустила руки и в отчаянии посмотрела на него, – не знаю, что бы я решила, если бы она и правда это сказала…
По лицу ее потекли слезы; Мистина подтолкнул ее к лестнице в китон и загородил спиной, чтобы дружина не видела, как княгиня плачет.
* * *
Наступил месяц октобриос. Все чаще в палатионе Маманта шли тихие разговоры: а у нас-то уже и деревья все позолотели… Девки лен треплют, вот-вот посиделки пойдут… Отроки вздыхали о песнях в беседах, озаренных лучинами и полных игривым блеском девичьих глаз… Впрочем, они и тут не терялись: среди служанок уже четвертая созналась Уте, что затяжелела.
А лето будто и не собиралось уходить с греческой земли: днем еще палило солнце, лишь утром, вечером и ночью притекала прохлада, давая отдых от оглушительной жары. По-прежнему шелковой синевой расстилался Босфор под голубым ясным небом; иные травы сохли и желтели, но кусты и деревья стояли зелеными. Дома уже все нарядились бы в толстые шерстяные свиты, но тут Эльга и вечером обходилась лишь мафорием, наброшенным на голову и плечи. Перед отъездом русские купцы доставили всем женщинам Эльги – и княгиням, и служанкам, – по мафорию и пенуле для греческой зимы. Шуб и кожухов с собой не прихватили, но здесь они и не требовались. Княгини называли мафорий «махорием», полагая, что это название происходит от «махров» – бахромы на концах.
Среди зеленой листвы в саду алели, будто маленькие закатные солнца, созревшие «пунические яблоки» – казалось, желтовато-алую их блестящую шкурку распирают изнутри неведомые сокровища. По ветвям вились виноградные плети, плоды граната красовались среди резных виноградных листьев, соседствуя с черными гроздьями. Порой поднимался ветер (у Ярославы раз с «верхней крыши» улетел ее «махорий» и застрял на ветках, отроки лазили снимать); порой натягивало облака, раз или два выпадал дождь – от него русы почти отвыкли за лето. Вода в проливе оставалась по-летнему теплой, и отроки каждый день ходили купаться. Даже княгини иногда ходили – попозже, как стемнеет.
Уже был назначен последний для русского посольства прием в Мега Палатионе – прощальный обед. Расставание неумолимо приближалось, а дела не двигались с места. Каждая сторона стояла на своем, и никак не удавалось найти решение, которое устроило бы всех.
Когда приехал асикрит от патрикия Артемия – назвать день прощального приема, – женщины не сразу поняли, к чему дело идет, а иные из дружины переменились в лице.
– Но это слишком поздно! – воскликнул Олег Предславич. – Как мы потом поедем домой?
– Когда переговоры проходят успешнее и завершаются быстрее, гости богохранимого василевса успевают отплыть до начала зимних бурь, – развел руками асикрит. – Но даже сам василевс не в силах предотвратить дурную погоду на море. Впрочем, содержание вам будет поступать столько, сколько Бог велит вам здесь пробыть.
– А в чем дело? – спросила Эльга, когда грек уехал.
– Мы и так уже затянули с отъездом, – пояснил Мистина. – Купцы не зря отправились сразу после нашего приема – они каждый год уезжают примерно в это время, чтобы по хорошей погоде успеть домой. По встречному течению плыть дольше, чем мы шли сюда, а море начнет бурлить. В Босфоре эти два месяца будут сплошные туманы, так что и кормчий не поможет, начнутся ливни со снегом и градом. Если мы просидим здесь еще эти три недели, то отплывать после будет просто опасно. Нас размечет бурей, разобьет о скалы, а если мы все же доберемся до устья Днепра, в то время там уже будет лед, и мы не сможем войти.
– Но что же делать?
– Готовься к мысли, что мы будем здесь зимовать. Грек же сказал: кормить будут хоть до весны.
– Что? – Эльга пришла в ужас, женщины загомонили. – Зимовать? До весны? Да нет, никак нельзя! Нам надо домой! Дети… Киев… Это получается, меня не будет дома целый год!
– Ну а я что могу сделать?
– Что же ты раньше не сказал?
– Сказал бы, и что? Ты впервые увидела Костинтина как раз тогда, когда надо было уезжать! Если бы он принял нас сразу, а не через двенадцать недель, то в те дни у нас состоялся бы не первый, а последний прием, и мы успели бы закончить все дела и уехать с купцами. Но ты сама тогда сказала, что все только начинается. Если бы ты ездила только креститься, то назавтра и тронулись бы восвояси. Но ты же приехала разговаривать. И договариваться.
Эльга села на каменную скамью. Все так и есть. По пути сюда они, конечно, рассчитывали на то, что их примут сразу. Как же иначе? Если бы Константин или Роман явились к ней и встали своими хеландиями в Почайне, она приняла бы их в ближайшие дни, дав время лишь отдохнуть и привести платье в порядок. Кому бы пришло в голову заслать гостей из-за моря, скажем, в Вышгород и солить их там двенадцать недель!
– Уж как узнали, что столько ждать, можно было понять… – проворчал северянский посол Полымец.
– И что? – возразил ему Уддгер, молодой приближенный Фасти ярла из Варяжска. – Посмотреть на стены и поехать назад? Если бы мы пришли, как Вещий, с тысячей кораблей, нам бы, может, дали дань за то, что мы просто прогулялись по морю, но мы ведь хотим чего-то другого, нет?
Нет, разумеется, Эльга не могла уехать с пустыми руками – ни с самого начала, когда впервые услышала слово «септембриос», ни после приема, когда отплыли купцы. Даже если бы она еще тогда осознала, что задержка грозит зимовкой, это ничего не изменило бы.
– Ну, зимовали мы в местах и похуже! – вздохнул Хранислав, ладожский посол, боярин Ингвара-младшего. – Хоть посмотрим, какая она, зима греческая…
Благодаря дружбе с этериархом Саввой кто-нибудь из послов с небольшой – отроков в десять – дружиной постоянно выезжал погулять по окрестностям или в Город. В свободные от переговоров дни Эльга с княгинями тоже выбиралась из Мамантова предместья. Осматривали монастыри и церкви – этих в Константинополе и ближайших окрестностях понастроили столько, что, если навещать в день по одному, хватило бы на год. Видели головы святых апостолов – оправленные в золото, закрытые в самоцветных ларцах, и топор Ноя, и корзины с корками ячменных хлебов, уже почти тысячу лет сохраняемых силой Господнего чуда.
Ездили в «сиротопитательницу», иначе сиротский дом Святого Павла, где на счет василевса жили и обучались полезным ремеслам осиротевшие и подброшенные дети. Были в больнице Святого Сампсона близ Мега Палатиона – двухъярусном каменном здании с собственной цистерной, где тоже на средства василевса содержались больные. На первом этаже помещались недужные женщины, на втором – мужчины, их лечили ученые целители, а выхаживали сиделки. Имелись отдельные покои для страждущих различными хворями – лихорадками, болезнями глаз, с ранами и переломами, с болезнями утробы и даже… всякими иными причинами, с которыми в баню стыдно ходить. При каждом отделении служили по два лекаря и человек шесть-семь его помощников; часть из них оставалась с больными и ночью. Пользовали не только молитвами – хотя еще со времен самого святого Сампсония, основателя лечилища, там отмечались чудеса, – но могли вскрыть нарыв, снять опухоль. Для каждого имелся постельник, подушка, одеяло, а зимой выдавалось еще одно – из козьих шкур. Для неимущих держали запас сорочек, чтобы их одежду отдавать в стирку.
Побывали в научилище при монастыре – схо-ле-о, – где мальчики разных возрастов обучались чтению и счету. В честь архонтиссы росов старшие ученики сочинили и пропели особую песнь; жаль, Эльга ничего в ней не поняла, но ей вручили стихи, переписанные на пергаментном свитке, и даже с изображением: женщина в красном платье и с белым убрусом на голове сидит на престоле, будто бы в домике. Сказали, что это она, хотя Эльга не углядела ни малейшего сходства с собой.
Смотрели акведук Валента – огромаднейший как бы мост двухъярусный, состоящий из арочных проходов, где по верхушке были уложены свинцовые трубы, а по ним в Город текла вода, собираемая в подземные цистерны. Изумляясь мощи этого сооружения, Эльга думала: а ведь иные городцы, где нет колодцев, могли бы куда дольше в осаде сидеть, если бы к ним вот так же шла вода по трубам. И еще бы стены возвести такие, как здесь – каменные и высоты неоглядной.
И вот это все, полезность и продуманная устроенность сих заведений, по правде сказать, поразили Эльгу и бояр не менее, чем красоты Святой Софии.
Середина месяца октобриоса выдалась пасмурной и дождливой. Низкие дождевые облака закрывали солнце, и тогда море приобретало густой серо-зеленый оттенок – «зимний цвет», как говорили греки. По большей части русы сидели в палатионе, наружу выбирались только Харди из Волховца и Алдан – они были оба родом из Хейдабьюра, а там дождь почти то же самое, что воздух, – а с ним неугомонный Уддгер и кое-кто из отроков. За эти месяцы у них завелась привычка сидеть в харчевне возле церкви Маманта и пить разбавленное вино с козьим сыром. Возвращаясь, они обычно поддразнивали Харди, который якобы неровно дышит к хозяйке, Георгуле. И изображали руками, к каким именно ее частям он дышит особенно неровно.
Но однажды послы вернулись в немалом возбуждении, причем не от вина.
– Корабли царские возвращаются! – доложил Уддгер, заявившись в триклиний, где служанки накрывали стол к обеду. – Георгула сказала, а ей сказала челядь из стратонеса. На днях вернутся. Уже припасы закупать ездили.
Стратонесом назывался воинский двор – то самое место, где на лето останавливались купцы. Зимой в нем жили наемники, условно называемые русами. Каковы бы ни были отношения между Киевом и Константинополем, с договорами о военной помощи или без оных – сколько-то наемников-северян имелось в рядах царских войск на суше и на море почти всегда. Хотя заселяли сюда не только русов, а всяких, кто на это время имелся. Четыре двухъярусных каменных дома образовывали закрытый двор, куда выходили ряды небольших окошек. Снаружи это и вовсе напоминало крепость, и здания стратонеса далеко не так радовали глаз, как прочие греческие постройки.
– И это отличная новость! – Мистина хлопнул Уддгера по плечу. – Я не я буду, если не найду там кого-нибудь знакомого!
Как в воду глядел. И даже сам не ожидал, насколько окажется прав.
В день прибытия войск Мистина и другие послы северных русских земель чуть не все отправились в харчевню. В гавани Маманта высаживались дружины с царских кораблей, которые потом уходили в Неорий – гавань на Керасе, близ устья, где стояли военные корабли. Наемников оказалось немного – всего сотни две. Люди были самые разные, и не только норманны – а и болгары, сербы, угры, фракийцы, милинги и езериты из Лаконики. Между собой все это общалось на такой дикой смеси славянского, северного и греческого языков, что никто из посторонних их речей не понимал. Царское пожалование им еще не выплатили, поэтому в харчевню они почти не ходили, сидели у себя в стратонесе. Однако Мистина и его отроки каждый день зазывали за стол кого-нибудь из шатающихся близ церкви Маманта и, потратив пару милиарисиев на вино, сыр, хлеб и соленые оливки, заводили беседу.
И вот однажды Мистина увидел, как из церкви поутру выходит мужчина средних лет, среднего роста, худощавый, совершенно неприметной наружности… Лишь бросалось в глаза сочетание загорелой кожи со светлыми волосами, выдавая норманна. Еще не вспомнив, кто это, Мистина застыл на месте, одолеваемый дрожью; это заурядное лицо напоминало ему что-то жуткое, невыносимое…
Выходящий из церкви глянул в его сторону… и тоже замер. Его толкали идущие следом, но он не замечал.
Как во сне, Мистина двинулся вперед. Светловолосый напрягся, но остался на месте.
– Лис… – Мистина наконец вспомнил его имя: всплыло в памяти вместе со всеми обстоятельствами, при которых он в последний раз его слышал. – Далеко же тебя занесло…
Наверное, такое же чувство он будет испытывать, после смерти встречаясь на том свете с земными знакомцами.
– А ты здесь откуда взялся? – помолчав, ответил бывший оружник его отца. – Неужели и тебя… жизнь за море выдавила?
– Нет. Я в посольстве Эльги киевской. Стоим в палатионе Маманта. Неужели не слышал?
– А! Наши филусы[37] говорили, что здесь в палатионе живет какое-то посольство… только у них слово «росы» может означать что угодно. И это Эльга… та, из Киева?
– Пойдем поговорим, – Мистина кивнул на харчевню.
Лис помедлил. Рука его неприметно скользнула к поясу: Мистина краем глаза привычно отметил это движение, но также понял, что сделано оно безотчетно, так и он сам сделал бы это на месте Лиса.
– Не думай, – мягко сказал он, как другому сказал бы «не бойся». – Ты совершил в своей жизни один очень умный поступок. Когда ушел от Сигге Сакса до того, как он выступил против Ингвара. Все, кто с ним остался, вскоре были убиты. Если бы ты участвовал в том деле, а потом ушел сюда, я приехал бы именно затем, чтобы тебя кончить. Но раз уж ты догадался свалить раньше, сейчас мне от тебя ничего не надо. Можем поговорить спокойно.
– А есть о чем? – осведомился Лис.
На лице его отражалось колебание: верить или нет.
За его спиной возникли двое: смуглые, с резкими чертами чернобородых лиц совершенно разбойничьего вида. Добра от богато одетого чужака руса они явно не ждали и жадно следили за ним, выжидая миг, когда нужно будет броситься. Смысла разговора они уловить не могли: Мистина нарочно воспользовался привычной для русской дружины смесью славянского языка и северного, рассчитывая оживить в душе Лиса воспоминания о родине.
– Найдется. К примеру, я только весной видел твоего брата Клина.
– Где он? – вырвалось у Лиса.
– Вернулся в Киев. Живет в Ковалях.
– А отец?
– Пойдем, – повторил Мистина.
– Только эти двое со мной, – Лис, не оборачиваясь, показал себе через плечо на те две смуглые рожи.
Мистина знаком дал понять, что не имеет ничего против. Он ведь тоже был не один.
Засев в харчевне, Мистина велел подать вина, хлеба, сыра, жареной рыбы. Удобные заведения – эти греческие харчевни, всегда можно спокойно потолковать с любым, кого не намерен приводить к себе домой, к кому не намерен идти сам или кто не заслужил чести быть позванным в гридницу. Не дома и не в поле – так, некая межа своего и чужого, только еще со скамьями, вином и закуской. Место ничье, и все здесь равны. Не жаль несколько фоллисов за такое удобство.
– Еще кто-нибудь из наших есть? – спросил Лис.
– Годрик Щука. Помнишь его?
– И больше никого? – Лис посмотрел на Мистину в упор своими светлыми глазами, взгляд которых мог быть тверд и холоден, как лед.
Как и раньше, он выглядел лет на десять моложе, чем был на самом деле, но внимательный взгляд различал тонкие морщинки возле глаз.
– Ранеными тогда подобрали человек десять. Если ты имеешь в виду битву у Малин-городца. У меня остались, кажется, четверо, но тому же минуло семь лет. Я не мстил тем, кто поклялся мне в верности, если ты об этом. Если хочешь повидать Щуку, то пойдем с нами в палатион.
– Что у вас за посольство?
Мистина рассказал. Лис жил в Греческом царстве уже пять лет, но и первые два года провел далеко от Киева и знал только, что Ингвар погиб, а престол достался его вдове и сыну. И раз уж власть в целом не сменилась, возвращаться он считал неразумным.
– И кто там сейчас в Коростене? Тот рыжий?
– Нет, – Мистина покачал головой. – Хакон сидел с тех пор в Смолянске, но умер прошлой зимой.
– А в Коростене?
– Никого там нет! – с досадой ответил старший посол. – И Коростеня нет.
– Что, совсем? – Лис переменился в лице.
Он попал в Коростень в составе Свенельдовой дружины, но прожил там десять лет – достаточный срок, чтобы считать те края почти родными.
– Совсем. Город сгорел. И отцов город сгорел – еще раньше, это сами древляне постарались. Да, с Эльгой тут есть Предслава Олеговна, бышая коростеньская княгиня, но едва ли ей будет приятно все это вспоминать. Она снова вышла замуж, а Деревлянью правит Олег Предславич, племянник Эльги и бывший моравский князь.
Они смотрели друг другу в глаза через стол. Постепенно события семилетней давности яснели в памяти, и Лис осознавал: он сидит перед человеком, чьего отца погубил. Пусть Лис и его товарищи вовсе не покушались на жизнь старика Свенельда, а имели совсем другую цель, – судьба воспользовалась их руками для своих целей.
Но знает ли об этом Мистина? Что он вообще знает об изнанке тогдашних событий? Когда земля загорелась под ногами у остатков Свенельдовой дружины, Лис убрался сперва в Таврию, а потом и за море – как мог дальше, в надежде, что там отголоски тех событий и последствия невольной вины его не догонят. И вот – кто бы знал! Прошло семь лет, и сын покойного Свенельда сидит перед ним. Того гляди, выложит на стол обломок рогатины с раковиной возле втулки и спросит: «Твоя работа?»
Даже местные греки, засевшие в дальнем углу харчевни, попритихли и настороженно посматривали на русов.
– Ну, расскажи, как вы тут живете? – нарушил напряженную тишину Мистина. – Как служится?
Лис, ожидавший, что его сейчас обвинят в убийстве, тайком выдохнул и начал рассказывать, желая уйти как можно дальше от старых воспоминаний о кузнице на берегу Ужа[38]…
* * *
В палатион Мистина вернулся в этот раз очень поздно и нетрезвый; Эльга уже легла спать, однако он сразу прошел в китон, перешагивая через спящих на полу служанок.
– Проснись!
– Что случилось? – Эльга приподнялась в испуге, нашаривая рядом мафорий.
– Я видел Лиса. – Мистина сел на ларь возле постели. – Это парень из бывшей отцовской дружины. Он уцелел после битвы возле Малин-городца, когда мы с Ингваром почти всех их перебили, сбежал и вот уже пять лет живет здесь. Я встретил его у церкви, мы поговорили.
– И что?
– Он рассказал про анатолийские и критские войны с другого боку. В этом стратоносе наших год назад жило семьсот человек, сейчас осталось не больше ста. Прочие – всякая дрянь, по сусекам наскребли. С ним пришли двое приятелей, один болгарин – Леко, а второй езерит из Лаконики, но его зовут Аббас, потому что вообще-то он был сарацинской веры, из бывших рабов, и крестился только в прошлом году.
– Но куда делись все те люди?
Вошла испуганная Ута со свечой в руке: дожидаясь мужа, она не ложилась, и вот вдруг услышала его возбужденный голос из китона княгини. За ней торопились Святана и Предслава.
– Их перебили в прошлом году на Крите, – Мистина оглянулся на вошедших женщин. – И до сих пор греки не набрали и трети нужного им числа людей. Посылали на Крит целое войско на кораблях, с воеводой по имени Гонгила, но он повел себя как дурак, и оттуда вернулась едва одна сотня из семи. И снять войска с других направлений стратилаты тоже не могут. На востоке, в тех самых фемах Анатолия и Каппадокия, что ни год набеги сарацин. Этот Сайф ад-Даула, он тот еще бодряк, про него говорят: «Ни года без похода». Все как пятнадцать лет назад, когда мы сюда ходили, с тех пор легче стало ненамного. Опустошают села, уводят полон. Тот Иван Куропас, чтоб его тролли драли, воевал с ними двадцать лет, но его уже десять лет нет в живых. Пять лет назад, пока корабли опять ходили на Крит, сарацины едва не дошли до Царьграда. В Италии греки воюют с королем Оттоном за южные земли, только в прошлом году там две области подняли мятеж – лангобарды и еще какие-то, я не запомнил. В общем, они отказались повиноваться грекам, подружились с сарацинами и сами стали грабить греческие земли. Константин посылал на них фракийцев с македонцами и корабли с «живым огнем». На островах засели другие сарацины и грабят побережья. Лис не поручится, как сейчас, но раньше сарацинам Сикилея платили двадцать две тысячи номисм в год, чтобы не трогали Южную Италию.
– Сколько?
– Двадцать две тысячи золотых в год! И мне очень, очень стыдно вспомнить, йотуна мать, за какую сумму мы с Ингваром пообещали не делать того же самого с нашей северной стороны. Но откуда ж нам было знать, простоте чащобной, что на белом свете существуют такие деньги! В общем, василевс только успевает поворачиваться. И я очень рад, что не я – доместик каких-нибудь схол и даже не великий этериарх.
– И что это означает для нас? – спросонья Эльга не могла сообразить, почему ради этих сведений, которые уже спутались у нее в голове, понадобилось будить весь дом.
– Это означает, – Мистина наклонился к ней и взял за руку, – что мы нужны грекам не меньше, чем они нам. И мы не зря застряли здесь, может быть, на всю зиму. Продолжай торговаться. Они хотят наступать, чтобы навсегда обезопасить себя от сарацин. Пообещай им шесть-семь сотен оружников – и получишь взамен семь сотен папасов[39]. Правда, я не уверен, что это будет такая уж выгодная сделка… Я бы взял деньгами.
* * *
Мистина еще раз оказался вещуном.
Когда до прощального приема оставалось дней пять, в палатион Маманта пожаловали два посланца от патриарха и синклита. Это были уже знакомый Эльге Вонифатий Скифянин, один из священников Святой Софии, и протоспафарий Каллиник из подчиненных логофета дрома. Благодаря высокому чину царевых мужей, Эльга приняла их сама – сидя на белом троносе в триклинии, где по сторонам на скамьях расположились послы и ее приближенные.
– Василевс, патриарх и синклит рассмотрели пожелания, высказанные высокочтимой архонтиссой, – начал Каллиник.
Эльга слышала этот запев уже десять раз, если не больше, однако сейчас у нее чуть сильнее забилось сердце. Многозначительный вид посланцев выдавал, что сегодня у них и впрямь есть что предложить.
– Знание есть благо для подданных – так говорит высокочтимый Константин, василевс ромеев, – начал Вонифатий – рослый мужчина, немолодой, но еще крепкий по виду, с большой загорелой лысиной, окруженной венчиком седых кудрей. – Ибо сказал Господь: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари»[40]. Снисходя к желанию твоему нести Христову веру и заботиться о спасении подданных, василевс посчитал возможным снизойти к просьбам, кои твоя светлость высказала во время приема. Ты желала, чтобы василевс даровал тебе ученых служителей Божьих, священные предметы и книги, дабы могла ты устроить у себя в Росии церковь Христову.
Эльга величаво кивала, подтверждая: да, этого она желала. Сердце билось в недоверчивом ликовании: неужели она все же переубедила, переупрямила греков? Бросила быстрый взгляд на Мистину: пора готовить щит – скоро будем прибивать на ворота… Он тоже слушал чрезвычайно внимательно.
– И будет согласно со справедливостью, даруемой Богом, и милостями василевса, приличными его положению, если вы с ним обменяетесь тем, в чем каждый из вас имеет нужду, – продолжал протоспафарий Каллиник.
Княгиня вонзила в него пристальный взор: неужели сейчас он признает, что ромеи в чем-то имеют нужду?
В лице Каллиника что-то дрогнуло: этот взгляд его смутил. Едва ли в Мега Палатионе могли прознать о давнем знакомстве Мистины с Лисом, но там, разумеется, было известно о возвращении этерии.
– Поэтому, как уже обсуждалось между твоими людьми и посланцами василевса, ты предоставишь нам в течение года не менее тысячи воинов для морских походов и защиты восточных фем. А василевс и патриарх взамен пожалуют тебе ученых людей, священные предметы и деньги на содержание церквей в течение года в таком количестве, чтобы ты могла устроить по церкви в каждой из ваших славиний, от которой архонты через своих послов выскажут желание иметь их. Содержание и дары будут поступать до тех пор, пока будут служить и посылаться воины по мере нужды в них.
Каллиник замолчал. Эльга смотрела на него, ожидая продолжения.
– Что ты скажешь об этом? – спросил Вонифатий. – Не правда ли, василевс щедр и милостив к тебе, как и подобает духовному отцу к своей почтительной дочери?
По церкви в каждой земле! Эльга окинула взглядом лица приближенных. Володея и Прибыслава выглядели довольными: каждая из них очень хотела иметь у себя в городе церковь. Олег Предславич просветлел, Ярослава улыбалась, Хранислав ладожский кивнул: его князь, Ингвар-младший, не был крещен, но хотел иметь церковь для своих христиан, главным образом русов. Остальные тоже оживились: обещание царских даров кого хочешь обрадует.
– И что еще василевс поручил передать мне? – сказала Эльга, будто предлагая посланцам припомнить забытое.
– Пожелать скорейшего разрешения наших споров к взаимной радости, ибо Господь дарует мудрость, как мы просим Его об этом.
Эльга еще раз окинула взглядом послов; те уже смотрели встревоженно, не понимая, чем она недовольна. Лицо Мистины похолодело: он-то понял.
– Но я просила ученых мужей и священных предметов у патриарха, – напомнила Эльга. – У василевса я просила другого. Я желала, чтобы василевс, заключая с нами договор о присылке воинов в обмен на помощь в устройстве церквей, приказал печенегам, своим союзникам, не тревожить наши земли и не трогать торговые обозы на Днепре и до границ с Болгарским царством. Без этого договора, скрепленного передачей нам залогов дружбы от василевса, мы не сможем выслать наших воинов так далеко от наших собственных земель.
– Которые к тому же могут погибнуть все сразу, как это случилось в походе Константина Гонгилы на Крит, – добавил Мистина.
Протоспафарий Каллиник бросил на него недовольный взгляд: это-то росы откуда знают?
Послы и даже женщины перестали улыбаться, оживление поугасло.
– Также я говорила василевсу о желании моего сына и его людей пойти на каганат и просила добиться для нас поддержки Алании. Об этом он разве ничего не повелел передать?
– Но зачем вам стремиться к новой жестокой войне? Разве хазары совершают набеги на ваши земли, как сарацины – на наши?
– Ромеи стремятся расширять свои пределы во все стороны света: от Ефрата до Южной Италии. Русы же от рождения воинственный народ, и это в их природе.
– Василевсы ромеев сражаются с безбожными агарянами за дело Христа. Твой сын и его люди не могут сказать о себе такого. Те, кто придет в наши схолы, вернее будут спасены. А мы за это дадим тебе воинов Иисуса, что, вооружившись словом Божьим и истиной Христовой, неустанную войну поведут за души вашего народа. Не лучше ли это будет, чем поощрять язычников проливать кровь других язычников?
– А если они будут делать это в ваших схолах, то это же совсем другое дело?
– Вижу, ты понимаешь нас, – кивнул Каллиник.
– Не просто так тебе во крещении наречено имя равноапостольной святой Елены, – напомнил Вонифатий. – В сем Промысел Божий. Она нашла для христиан Крест Господень, а ты принесешь на землю твою духовный крест. И как знать, может, и ты будешь прославлена Господом? Поражение или победа, жизнь или смерть – все это в воле Божьей. И тем, кто всякий миг может покончить жизнь, важнее позаботиться о спасении и избавлении от вечной муки. Ты, архонтисса, как мать своего народа, должна даровать людям путь к спасению. В этом твой долг перед Господом, раз уж ты приняла на себя святой крест. В том спасение и твоей души, рожденной во Христе. Нет для тебя отныне дела важнее, чем дело Христа и святой церкви. Василевс, как добрый отец всем народам, призванный руководить мировым кораблем, предлагает тебе отеческую помощь. Это ведь то, чего ты желала.
«Я желала не только этого», – мысленно ответила Эльга, но не решилась вслух подтвердить, что ее можно причислить к тем жадным варварам, которым что ни дай – все мало.
– И тем, кто вступит в этот договор, – Каллиник многообещающе оглядел послов и улыбнулся княгиням, – в день прощального приема будут поднесены царственные одежды, изготовленные в гинекеях дворца для избранных, возлюбленных детей василевса нашего Константина.
Княгини вытаращили глаза; взоры их вспыхнули. Царские одежды! Те, что расшиты золотом и самоцветами так плотно, что кажутся сплошь золотыми!
– А что про пошлины хорошего скажешь? – осведомился Краян Смолянин.
– И чтобы побольше паволок вывозить дозволили, не заходило у вас разговору? – добавил Негован из Переяславля.
– Возможно, – Каллиник значительно поднял палец, искусно подчеркивая голосом промежуточный смысл этого слова, содержащего и необязательность, и допустимость, – возможно, те, кто поддержит предложенный уговор, будет освобожден от пошлин и получит право закупать крашеных шелков не на пятьдесят, а на сто номисм.
Эльга бросила взгляд на Мистину; он тоже при этом посмотрел на нее, и в мыслях ее прозвучало: «Двадцать две тысячи номисм в год!»
– Невыгодно с вами дружить, – Эльга с сожалением посмотрела на посланцев Константина, – друзьям вы крохи со стола бросаете, а врагов золотом осыпаете. Но дело не в этом. Я не продаю ноги от живой коровы и не покупаю шею от лошади без самой лошади. Будет так: мы заключаем союз с василевсом, в котором мы обеспечиваем безопасность его северных фем и поставляем воинов. Для начала тысячу, а дальше по мере вашей надобности и нашей возможности. Пропускаем и защищаем ваших василиков, что будут искать нужных людей по всем нашим землям – до моря Варяжского. Взамен же василевс обеспечивает нашим землям неприкосновенность от печенегов и вручает залог – тот, о котором он знает, ибо слышал от меня лично. Только тогда мы сможем дать согласие сражаться на его войне, которая нужна ему, а не на своей, которая принесет выгоду нам. О войне же с каганатом, для чего нам требуется содействие аланов, мы сможем поговорить позже.
– Мы могли бы дать людей, – сказал Хранислав. – Нам печенегов бояться не приходится.
– И мы могли бы, пожалуй, – поддержал его Краян.
– Мы без уговора насчет печенегов ни отрока не дадим, – отрезал Претибор Черниговец, для которого угроза от кочевников была не пустым звуком.
– Пусть ваши люди приедут через несколько дней, и мы дадим окончательный ответ: кто из русских архонтов поддержит предложенный договор! – поспешно сказал Мистина, видя по лицам послов, что горячий спор может разгореться прямо сейчас, на глазах у греков.
Эльга бросила на него благодарный взгляд и встала, давая понять, что прием окончен.
* * *
Оставив послов спорить в триклинии – брать у греков деньги на церковь или не брать, – Эльга пошла на «верхнюю крышу». «Если Константин, имея пять взрослых дочерей, ни одну не пожелает нам отдать, – думала она по пути, – то все эти разговоры про духовный союз лысой белки не стоят. Тысячи лет ведется: вступая с кем-то в брачные связи, мы признаем другую сторону такими же людьми. Как в те поры, когда роды раз в год, на Купалии, выходили из своих лесов к реке, как к меже, там обменивались невестами и вновь расходились. И «тот свет» каждый видел на той стороне. Бывает, отдают невесту и тем, кого за людей не считают… будто в лес к медведям… но только по очень большой нужде. А такой край у греков не пришел: все эти двадцать лет они сарацинов теснят, хоть и не без провалов. Если невесту не дадут, значит, им все равно: живы мы там у себя «на крайних северных пределах», нет ли… И пока не станут с нами одной семьей не только духовно, но и телесно, верить им нельзя».
Внизу остался Мистина: следить, чтобы послы не подрались. Каждый из «архонтов» имел право сам принимать решение, касающееся его земли; правда, серьезная ссора с киевским князем грозила лишить возможности сноситься с греками и полностью обесценивала такую дружбу. Но ведь одеяния царственные уже будут получены!
За эти месяцы Эльга привыкла сидеть на «верхней крыше» в тени, глядя на зелень сада и оливковые рощи вокруг палатиона. Гранатовые деревья, усыпанные ярко-красными крупными плодами, были так хороши, что она не могла налюбоваться. Рабыни поместья уже собирали с ветвей золотые лимоны. Здесь, среди гранатов, сики, винограда, яблок, груш и прочего, так легко рисовался мечтам райский сад, где сам воздух напоен красотой и сладостью…
Едва усевшись на скамью с подушками, Эльга увидела в двери с лестницы еще одного человека.
– Не могу слушать, как полуслепые со слепыми спорят, где есть свет истинный, – вздохнул отец Ригор, когда Эльга знаком предложила ему присесть. – Иисус говорил: «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться»[41]. Значит сие, что обещанное нам выше человеческого.
– Во что одеться – это ты про одежды царские?
– Нет. Я про то, что не о печенегах тебе надо думать, а о спасении души. Все мы в свой срок явимся перед судилище Христово, и каждый получит то, что заслужил, живя в теле, доброе или худое. И как спросит тебя Господь: что ты сделала доброго для слова Моего на Руси? Будешь ты Ему отвечать, что без печенегов не могла строить церковь Божию? Сотни, тысячи душ ты можешь этой церковью спасти, а ты, по языческому обычаю, заботишься о добыче для жадных до золота и крови? Подумай: каково тебе будет, когда ты, дочь духовная самого царя земного, чей престол – как солнце перед Господом, принуждена будешь сказать: мало я потрудилась на ниве Господней! Ты теперь христианка, и нет у тебя иного долга, кроме как перед Господом. И нет у тебя ни отца, кроме Господа, ни матери, кроме церкви.
– Ох! – Эльга вдруг прижала ладони ко рту.
Глазам стало горячо и больно от слез. Если бы знал этот болгарин, что он такое сказал! Нет матери, кроме церкви! Да у нее давно нет матери. Мать ее много лет ни жива ни мертва, не человек и не навка. Она обитает в глухом лесу, является людям на глаза не иначе как в птичьей личине и сторожит межу Яви и Нави. Ничто на свете не отстояло дальше от Святой Софии, чем ее избенка за тыном с коровьими черепами. Но почему-то именно здесь, за морями и землями, Эльга уже не в первый раз вспоминала ту, чей образ не тревожил ее много лет. Раньше она мирилась с тем, что сама оборвала связи с родом, а мать ее живой ушла на грань Закрадья. А среди мозаик и цветного мармароса вновь стала вспоминать и думать о судьбе Домолюбы Судогостевны, что теперь звалась Бура-баба.
Ригор защищал перед ней ту единственную правду, которую знал. А она, Эльга-Елена, княгиня русская, как в далекой юности, вновь видела перед собой две дороги. И вновь принуждена была выбирать.
Если она просто примет предложение василевса и синклита, даст обязательство прислать воинов, то получит взамен священников и сможет учить русов и славян Христовой вере. И Господь зачтет ей это, как бы ни мало она успела. Главное – сделать этот выбор в пользу истины Христовой. И тогда в небе ее будут ждать распахнутые объятия любви.
Но тем самым она не только подвергнет русские земли опасности, но и признает Русь служанкой Греческого царства во всех земных делах. А это уже совсем иное дело.
– Нет у меня ни отца, ни матери, – проговорила Эльга, не глядя на Ригора. – У меня есть только сын и за ним – вся земля Русская. Если Господь мне отец отныне, то она мне мать. Была и всегда будет. И я ее без защиты не оставлю и унизить не дам.
– Ты выбираешь между спасением души и…
– О спасении душ заботятся пастыри, а князья – о защите земли. Я желаю помочь христианам русским – и тем, что есть, и тем, что еще будут. Но не могу предать всех людей русских – ибо я судьбой, родом, Богом поставлена владеть и беречь их всех, сколько есть. Христиан, язычников, славян, русов, чудинов, голядь, угров… кого у меня только нет! От хазар даже кое-кто остался.
– Не тому я тебя учил, – нахмурился Ригор. – Где истинная родина всякого христианина? В Царстве Божием! Последуя одному, другое оставить надлежит. Идущий за Христом не должен иных целей иметь.
– Ты прав. Но в тот день, когда я все иное оставлю и за одним Христом пойду, я перестану быть княгиней.
– И это будет наилучшим для тебя!
– Но день тот еще не настал. А пока я княгиня, я о Русской земле, как о дитяти своем и о матери, должна буду сначала позаботиться, а о себе и своей душе – потом.
– Что ты говоришь? Не признающий Господа первым своим владыкой уже делается рабом другого господина!
Эльга молчала, пытаясь найти в своей душе этого «другого господина». И находила разве что… Олега Вещего, родство и сходство с которым сделало ее тем, что она есть. Отвага и удача которого сделали землю Русскую тем, что она есть. Всю свою взрослую жизнь, с тех пор как поняла великую важность родства с Вещим, Эльга мечтала увидеть его – хотя бы во сне. Но именно здесь, в Греческом царстве, он показался ей близким, как не казался даже в его старой киевской гриднице.
Достойные его наследия должны вести Русь только вверх. Она, Эльга, стала христианкой, чтобы сделать ее равной иным прославленным державам, а не служанкой их.
Василевс правду сказал: одно крещение не делает народы равными. Нужно три крещения, он сказал: твоего деда, отца и тебя самого. Хорошо, пусть. У нас есть время, мы подождем. Если нас не пускают в Золотые ворота, мы уйдем, но оставим свой щит – на память и как обещание вернуться. Через калитку для рабов мы в чужой богатый дом не полезем.
– Постой! – Эльга подняла руку, мучительно пытаясь вспомнить, что говорил ей патриарх. О чем-то таком он говорил, что сходилось с ее мыслями. – Ни эллина, ни иудея… ни свободного, ни раба… о чем это?
– Сие речи апостола Павла, – ответил Ригор. – «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского; ибо все вы одно во Христе Иисусе»[42].
– Вот видишь! – Эльга наконец ухватила свою мысль за хвост. – Если мы – христиане, значит, и мы равны грекам. И не должны служить им, как несвободные. И несправедливо, если они отказывают нам в правах равенства перед Богом.
– Так то христиане! – Ригор всплеснул руками, выходя из терпения. – Но как русы-язычники станут христианами, если ты отказываешь от построения церкви!
– Знаешь, отец! – Эльга коснулась его рукава. – Мне будет очень трудно объяснить русам, что они должны стать рабами Божьими и в том найти свое блаженство. Может, я до конца жизни с этим не успею. Но никому и никогда не под силу объяснить им, что они должны стать рабами греков! И вот этого не будет никогда. Мы будем ровней христианским народам, а не слугами их. Не сразу, но будем, а кто раз на колени встал, тому подняться трудно. Пусть Иисус мой отец, но земля Русская – моя мать, а мать и Бог велел почитать. От нее я вовек не отрекусь, и пусть Господь меня судит!
* * *
Золотые львы шагали вереницей по полю паволоки, разложенной на ларе. Глядя на них, Эльга так ясно видела перед собой все оставленное позади: мраморные палатионы, светлые крины, алые «пунические яблоки» в саду, зеленоглазую царевну Зою, что сквозь них едва просвечивала изба на Святой горе. В следующие дни после приезда в Киев Эльга неспешно разбирала свои тюки и укладки. Их сложили в клети, и теперь отроки приносили по одной. Княгине помогали бывшие спутницы: как ни хотелось Ярославе и Володее поскорее отправиться домой, Эльга не велела им уезжать раньше пира. На этом пиру, который чуть раньше или чуть позже дать придется, ей очень пригодятся женщины, одетые в роскошные греческие паволоки. И чем их будет больше, тем лучше.
Два дня искали и тесали подходящую колоду – чтобы годилась по ширине и не качалась на дощатом полу. Глядя, как челядины ее устанавливают у стены между двух укладок, Эльга тайком вздохнула по ровным мараморяным полам палатиона Маманта. Но вот колоду покрыли куском полотна и водрузили на нее «Пастыря». По теплому времени дверь в другом конце избы и оконца открыли, в полутьме белый мармарос загадочно мерцал, но разглядеть изваяние было трудновато. Совсем не так эти вещи смотрелись на галереях и в палатионах, полных света!
* * *
…К тому дню Эльга уже привыкла и перестала вздрагивать при виде белых «идолов», день за днем стоявших все в том же положении. Даже полюбила сидеть на «верхней крыше», то есть галерее третьего яруса, глядя на узоры мощенного мармаросом двора, на сад, на небо вдали над Босфором. Какие виды на закат отсюда открывались – в смеси всех оттенков синего, черного и пламенно-золотого! Другие русы тоже больше времени проводили на воздухе. Летом снаружи душила жара и от нее прятались в прохладе каменного дома; и теперь снаружи оказывалось теплее, чем внутри, и на солнышко ходили греться. Впервые задумались: как же зимовать без печей? Мардоня, грек-управитель, успокаивал: в доме на первом ярусе есть какой-то «гипокауст» – трубы под полом триклиния, куда от особой печи проходит нагретый воздух. Ближе к Брумалиям, когда станет совсем холодно, можно будет начать топить.
По утрам Мистина гонял отроков по двору, будто в Киеве перед гридницей. Точно дома, Эльга поднималась и чесала волосы под доносящийся снизу стук дубовых палок по щитам и окрики: «Ноги согни… Ноги согни! Да шире ноги, тля!» Ута и служанки готовили еду, а по вечерам женщины собирались к единственному в доме очагу – в поварне. Сначала только вздыхали: а у нас-то уже лен обмяли, обтрепали… Потом раздобыли прялок, велели купить в предместье шерстяной кудели и стали прясть: руки скучали без привычной работы. Потом запели песни, и получились павечерницы. Жизнь пошла как всегда – словно и не занесло их за море, в чужое царство.
Когда сказали, что явился «царев воевода», Эльга велела позвать гостя сюда. Она уже заметила, как Савва со своими людьми въезжает во двор.
– Вижу, ты, королева, уже привыкла к статуям, – войдя на галерею, этериарх поклонился Эльге и поправил ус.
Сразу следом за ним вошли Святана и Горяна: тоже поклонились и скромно уселись поодаль, всем видом выражая готовность служить госпоже. Эльга не звала дев – кто-то другой послал их сюда, чтобы она не оставалась с Саввой наедине. Кто это сделал, Эльга знала совершенно точно.
– За эти пять месяцев они ни разу не шевельнулись и никого не укусили, – улыбнулась она, кивая на беломраморных людей. – Поэтому я почти начала верить, что и дальше все будет хорошо. Я видела немало таких в Мега Палатионе и даже в гинекеях. Если василевс позволяет держать каменных людей там, где живут его жена и дочери, надо думать, никакой опасности нет.
– Ты наблюдательна и мудра, – снова улыбнулся Савва. – Знаешь, многие люди глазасты: все примечают. Но только умные люди умеют делать из увиденного полезные выводы.
– Хотела бы я, чтобы насчет меня ты оказался прав, – Эльга подавила вздох.
Видела она очень много. Казалось, в одном только палатионе Маманта она увидела мир более широкий и наполненный, чем познала за тридцать шесть лет жизни на Руси. Но вот выводы… Выводы получались настолько простые, что она не верила этой простоте.
– Садись, – она показала этериарху на скамью напротив себя. – Но сколько смотрю на этих идолов, а все мне кажется, что они были живыми людьми.
Вблизи ее любимой скамьи сидела на мараморяной подставке белая женщина с царским венцом на голове. Закутанная в мафорий, она одной рукой опиралась о камень, а в другой держала пучок колосьев и пристально глядела куда-то вдаль. Эльге часто хотелось спросить у царицы: кого ты ждешь? Мужа из полюдья? Сына из похода?
Жутко и подумать, как давно царица ждет… Как бы то ни было, тот, кого она любила, давно уже мертв. Но встретились ли они?
– Ты ведь не знаешь сказания о девах Горгониях? – обратился к ней Савва. – И о той из них, что звалась Медуса?
– О Медусе… как ты сказал? – Эльга повернулась к нему. – Медуся? Это она? Ее так зовут?
Эльга кивнула на царицу с колосьями, но Савва покачал головой:
– О нет. Будь здесь статуя Медусы, она бы тебе не понравилась, хотя в Мега Палатионе есть ее изображения, ты могла их видеть. В давно минувшие времена, когда греки поклонялись ложным богам, морской владыка породил трех дочерей, и их назвали Горгониями, что значит «ужасные». Они поистине были ужасны, ибо на головах вместо волос у них росли ядовитые змеи. Они появились на свет, имея на себе род кольчуги: все их тело покрывала чешуя из меди, которую не брал ни один меч. Руки их были также из меди, а когти – из острого железа. Еще у них имелись крылья из золота, и на них они могли носиться быстрее ветра. Зубы их были подобны длинным ножам, губы – красны как кровь, а глаза горели такой яростью и злобой, что при виде их всякий смертный обращался в камень. Все окрестности их жилища полнились окаменевшими от ужаса людьми. Как тебе кажется: возможно ли, что эти люди, кого мы здесь видим в камне, – жертвы дев Горгоний?
Эльга потрясенно смотрела на каменную стражу вдоль галереи. Так она и знала! Сразу же видно, что эти люди родились от живой матери, как всякие смертные. И теперь ясно, какое злое колдовство обратило их в камень.
– И г-где они жи… жили? – Она перевела взгляд вытаращенных глаз на Савву. – Эти Горгонии?
– Говорят, что обиталище их стояло на крайних западных пределах мира, на берегу реки под названием Океан.
Не сказать чтобы Эльга представила себе, где это, но боялась, что для таких чудищ, да еще крылатых, не слишком далеко.
– Королева, не тревожься! – Савва пересел ближе к ней и накрыл ее руку своей загорелой морщинистой рукой. – Я же сказал: это случилось в языческие времена, до того как родился истинный Бог. Но Иисус Христос, явившись к нам, лишил силы всех чудовищ и все зло древности. Ты уже вошла в Христову дружину, и теперь Он защищает тебя от всего этого. Ни Горгонии, ни иные старые демоны не могут подступиться к тебе, защищенной силой святого креста.
Он перекрестился второй рукой, побуждая Эльгу сделать то же самое. И ей стало легче: и впрямь, ведь святое крещение очищает и ограждает человека от зла старого, безбожного мира.
– И как Христос победил их? – спросила она, ожидая узнать еще что-то новое о Боге-Сыне, совершавшем подвиги на земле.
Патриарх ей про бой Христа с Горгониями не рассказывал.
– Силой Христа были побеждены две из них – до того бессмертные. Но одна, по имени Медуса, родилась смертной. Она умела обращать всех встречных в камень: для этого ей хватало лишь прямо взглянуть на них. Но ее одолел один человек, его звали Персей. Прежде чем идти к ней, он навестил норн, и они дали ему три сокровища: обувь с крыльями, волшебный мешок и шапку, которая делала невидимым всякого, кто ее наденет. Когда пришел он в западные пределы мира, то увидел множество окаменевших людей: юных дев, зрелых мужей, жен с малыми детьми и отважных юношей, которые тоже хотели уничтожить Горгонию, но плохо подготовились к походу. Ты ведь знаешь, я думаю, что без хорошо подготовленного оружия и снаряжения в дальнем походе и доблесть мало поможет, – добавил Савва, на миг вернув мысли Эльги в привычный круг дружинных разговоров и понятий. – А один человек подарил Персею кривой нож – единственное на свете оружие, которое могло пробить медную чешую Горгоний. Еще он взял с собой медный щит, который ему вручила одна мудрая женщина. Он надел свою крылатую обувь и невидимую шапку, взлетел в воздух и стал наносить удары Медусе, глядя на нее не прямо, а через отражение в медном щите. Таким образом он избежал ее губительного взгляда и смог отрубить ей голову. Но хуже всего было то, что голова ее не умерла. Она по-прежнему могла превращать людей и животных в камень своим взглядом. Думаю, после смерти хозяйки голова ее стала еще ужаснее и свирепее. Персей положил эту голову в свой волшебный мешок и взвился в воздух. Сестры Медусы погнались за ним, желая отомстить, но он в своей крылатой обуви несся быстрее, чем они на золотых крыльях. И вот Персей завладел головой Медусы и потом еще много чудовищ и злых людей превратил в камень с ее помощью – даже ее мать, ужасную морскую богиню. Об этом деле рассказывают еще много всякого, но главное тебе уже ясно: вот какие страшные дела творились тут, пока не пришел Иисус Христос и не спас людей.
Эльга слушала, застыв и не отрывая глаз от статуй. Теперь она знала их ужасную судьбу. Вот какое зрелище сделало их глаза слепыми и белыми.
И эта царица… Наверное, ее сын был из тех отважных юношей, что хотел убить Медусу. Но не преуспел, и мать ждала его так долго, что сама обратилась в камень. И сидела так сотни лет…
– Но почему же… – подавляя дрожь в голосе, Эльга повернулась к Савве. Его светло-серые глаза смотрели на нее дружелюбно и пристально. – Почему же Христос не оживил их вновь, ведь он всемогущ?
– Он не стал их оживлять, и в том сказалось милосердие Божье! – Савва похлопал ее по руке. – Ведь к тому времени как пришел Христос, эти люди были каменными уже много веков. Все их друзья, родные и близкие давным-давно умерли. Помнишь сказания о людях, которые оказывались в стране альвов и, думая, что провели там всего один день, пропадали на сто лет? Я всегда жалел их: они возвращались чужаками в родную страну и незваными гостями в собственные родные дома. Христос не стал подвергать этих людей ужасам одиночества. Он оставил их каменными в назидание нам и доказательство своей великой силы…
А зимой, когда греки отмечали праздник Рождества: в церквях отправляли службы, василевсы давали пиры в триклинии Девятнадцати лож, где гости вкушали пищу не сидя, а возлежа, – Савва снова приехал в палатион Маманта и привез Эльге подарок. Это оказалось что-то очень тяжелое, в большом деревянном ящике, но этериарх приказал обращаться осторожно. Сняли крышку, развернули рогожу; по мозаичному полу триклиния рассыпалась солома, и Эльга ахнула: перед ней очутился беломраморный юноша с ягненком на плечах, только величиной с шестилетнего ребенка.
Сколько раз она видела, как живые пастушки носят так ягнят – и славяне, и греки. На этом юноше была рубаха по колено, на боку висела сумка, длинные кудри красиво рассыпались по плечам. Руками он с двух сторон держал ягненка за ноги, а взгляд его устремлялся вдаль – то ли искал верную дорогу к стаду, то ли высматривал опасность. Даже ягненок, весь в завитках каменного руна, бодро воздел хвост кверху и вытянул шею, по виду довольный своим положением. Шероховатый мармарос от времени приобрел серо-желтый оттенок, но по-прежнему дышал жизнью в каждой черте.
– Ох, этот из них! – воскликнула Эльга. – Тех несчастных…
Ей сразу представилось, как все произошло. Ягненок отбился от стада и скрылся в лесу; отрок пошел его искать и уже нашел, но на обратном пути был застигнут Медусией или какой-то из ее злобных сестер – и окаменел…
* * *
И вот теперь каменный юноша, бережно перевезенный через море в числе других греческих сокровищ, стоял на дубовой колоде в княгининой киевской избе, между двух укладок, и на лице его в полумраке читалось новое чувство: изумление. Он будто спрашивал себя: куда это я попал? Что за темная дыра?
– Ты в Киеве, дружок, – мягко сказала ему Эльга. – На крайних северных пределах, как у вас говорят, хотя мы-то знаем, что на север до краю еще ехать и ехать.
Она погладила каменную складку рубахи, будто хотела поправить. Вспомнилось, как рука этериарха Саввы лежала на ее руке: успокаивая, прогоняя страх, внушая твердую убежденность, что она поступила верно, нашла именно ту защиту от всякого зла жизни этой и будущей, какая только может быть…
И, как ни мало сходства замечалось меж этим кудрявым юношей и седоусым этериархом, при виде Пастыря она всегда вспоминала сначала Савву, а потом уж Христа. И почему-то казалось, что в этом мараморяном юноше сохранилась частичка человека, которого ей не увидеть больше никогда в жизни.
Эльга сама не очень понимала, почему жалеет об этом. Почти с первой встречи Савва так смотрел на нее, будто желал ласковым взглядом коснуться души; в глазах седого царьградского льва архонтисса росов представала еще молодой, прекрасной, мудрой и добродетельной. Он ничего не знал о ее прошлой жизни: ни о Князе-Медведе, ни об Ингваровом кургане. Он видел в ней деву, спасенную святым Георгием из пасти змея, и радовался, что обрел в ней попутчицу на дороге в Царство Небесное.
Какой-то частью своей сути Эльга и впрямь была этой девой. Но, оставаясь княгиней, не могла стать только ею. Жалела ли она об этом?
А есть ли смысл жалеть?
– О боже Перуне! – раздался вдруг рядом изумленный голос. – Это что такое?
Эльга обернулась: перед ней стоял Святослав. Обрадовалась: ей казалось, что в прошлую встречу они поссорились, ну, то есть не поняли друг друга, и она не решалась больше идти к молодым, хотя ее тянуло к внуку. Как хорошо, что Святослав пришел сам! Она хотела его обнять, но остановилась: взгляд Святослава был прикован к Пастырю.
– Отрок каменный! – Вытаращив глаза, князь рассматривал диво, не приближаясь. – Это кто? Это их бог? Идол?
– Это не идол, поклоняться идолам Господь запрещает, – мягко пояснила Эльга. – Но это сам Бог Иисус Христос.
– А почему с овцой?
– «Я есмь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец»[43] – так он говорил. Как всякий пастух заблудших овец в чаще находит, из волчьих зубов изымает и на чистый луг выносит, так и Христос души наши из тьмы извлекает и в райский сад помещает. Потому и Христовы люди в давние времена поклонялись ему в образе пастыря.
– Больно хлипок, – оценил Святослав. – А вот ягненок у него ничего, веселый. Так вот, матушка! – Он повернулся к Эльге, упирая руки в бока и готовый забыть о каменном отроке. – Я насчет пира нашего пришел поговорить. Свирьковна тебе кланяется.
– Как она? – улыбнулась Эльга, радуясь привету от невестки.
– И вот что я решил, – не отвечая, продолжал Святослав: видимо, держал в мыслях эти слова всю дорогу от Олеговой горы до Святой. – Что тебе больше богам служить нельзя – пусть, мы ведь так и договаривались. Но если я, великий князь русский, богов оставлю без благодарности, что мою мать родную в дальнем пути сохранили, то будет мне бесчестье, а богам обида. Потому завтра принесем жертвы, всю дружину и бояр позовем на пир. Такова моя воля.
Эльга слушала и думала: это не сын сейчас с ней разговаривает. Это Прияслава Свирьковна, княгиня молодая. Эльга достаточно хорошо знала Святослава, чтобы отличить, где он говорит сам, а где повторяет чужие слова. Этой речи его научила жена. Но возразить нечего. Он – великий князь русский, обязанный почитать богов. И если жена-княгиня напоминает ему об этом, так ведь для того ее и брали. Для того она, Эльга, и побуждала сына жениться: чтобы себе найти в ней преемницу, а народу дать старшую жрицу Святой горы. Так они и договаривались.
– Это… да. Людям… понравится, – с запинкой отозвалась она и вновь посмотрела на каменного пастыря. – Только я… мне на том пиру быть нельзя.
– Ты – моя мать, княгиня русская. – Святослав встал перед ней и расправил плечи. – Кланяюсь тебе от меня и жены моей и прошу пожаловать ко мне на пир. – Он низко поклонился, коснулся рукой дощатого пола. – А будет воля твоя прийти, или бог тебе не велит – ты и решай.
– За честь спасибо… – отозвалась Эльга, сама задетая тем, как жалко прозвучал ее голос. – Но может, лучше… Не подождать ли, пока… Как Свирьковна сейчас сможет? Не такое для нее время, чтобы жертвы приносить. Подождите, пока разрешится! Не так уж долго осталось.
– Я ей говорил. Но сперва родин ждать, потом еще три месяца. А там за дитя жертвы и на имянаречение пир. Про нынешний повод все забыть успеют. И боги тоже. Нет, мы уж сейчас. А потом – еще раз. Да неужели, – Святослав посмотрел на мать, выразительно перекосив рот, – ты и на имянаречение родного внука не пойдешь?
– Пойду! Это же внук… он дитя…
Эльга пыталась сообразить, не будет ли какого греха в этом. Возможностей согрешить, как она теперь знала, на пути человеческом что луж на дороге после ливня – и не захочешь, а наступишь. Но ведь и греки дают детям имена, устраивают пиры по этому поводу.
– Ну, так я пойду! – Святослав приобнял ее за плечи, прикоснулся лбом к ее повою и вышел. – Будь здорова.
Эльга смотрела ему вслед. Он все сделал как надо: и как князь, и как сын. Она ни в чем не могла его упрекнуть. Почему же душу пронзает чувство горечи и обиды?
Княгиня коснулась каменной руки Пастыря. Василев ураниэ, параклите![44] «Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». Создатель и утешитель – вот, кому можно пожаловаться даже на родного сына… на собственное сердце, на нестойкость духа, который трепещет от нынешних и будущих раздоров. Перед ней были два отрока: один живой, другой мраморный. Одного она сама произвела на свет, другой сотворил небо и землю. Но сейчас именно этот второй казался ей куда добрее и ближе, а первый стал непонятным и даже грозным.
Об этом ее предупреждали. Объединяя с Господом и родными по духу, крещение разделит ее с родными по крови, если они язычники. В своем доме они порой не смогут сесть за один стол, разделить пищу. И после смерти их дороги разойдутся окончательно. У Эльги обрывалось сердце при мысли о том, куда проляжет путь Святослава, его жены, детей… Мистины, Улеба, Грозничара и детей Володеи, Станибора и детей Прибыславы, Тородда и детей покойной сестры Беряши, Соколины и детей покойного деверя Хакона, всей плесковской родни… Сколько их, родных и дорогих ей людей, кого ждет ужасная участь!
Но нет. Еще не поздно все изменить. Они молоды. Их дороги еще могут в будущем повернуть в сторону истины Христовой. Если поможет Пастырь Добрый…
А все же зря Прияна затеяла принесение жертв. Беременной бабе не стоит принимать участие в таком деле, пусть она даже княгиня. Она и так сейчас стоит на грани Яви и Нави, незачем ей привлекать дурные глаза к себе и будущему дитяти.
Но разве им объяснишь? Молодые все лучше стариков знают. И сейчас, когда Пастырь проник не просто в Киев, но в княжий род и на Святую гору, понятно, что Святослав и Прияна с особой силой хотят подтвердить свою преданность старым богам.
Что сделать? Как им объяснить?
* * *
– А нам кто помешает? – сказала Володея, когда Святослав ушел. – Мы свой пир закатим, не хуже того.
– И куда лучше! – подхватила Прибыслава. – Мы же приправы привезли? Вот пусть мужи киевские наше угощение попробуют и сами убедятся, где брашно вкуснее: когда его ложным богам посвящают или когда оно силой Господней благословлено?
– Себя вспомни! – захохотала Володея. – Как ты у августы за столом чуть не осрамилась!
– Да я… Ну и что? Пусть-ка теперь бояре осрамятся, будут знать силу Господню!
– Ой, бабы! – Эльга взялась за голову, но против воли рассмеялась. – Где я вам здесь хтаподия[45] возьму? Да и не через брашно благодать Господня входит.
– Чего же нет? Помнишь, Полиевк рассказывал, как Христос хлебом и рыбой народ кормил без счета? Кто поел, тот уверовал. И у нас – кто поест, тот уверует. Вот увидишь!
– А все-таки хорошо было бы бояр хлоподием угостить! – размечталась Володея.
На такое легкое обращение киевлян Эльга не надеялась, но послала за Утой, дабы обсудить грядущий стол. Долго совещались со своими стольниками, разложив мешочки с привезенными приправами.
– Корица и гвоздика – это к рыбе. Тимьян, мята, анис – сделай отвар и добавь в чистую воду колодезную, так подавай.
– А пиво? – изумлялся Близина.
– Пиво потом.
– Как же за столом и без пива? У меня все сварено, поставлено…
– Разведи воду с медом, выжми сок из яблок, малины и другой ягоды, разбавь и подавай. Это называется «мурса», греки за едой пьют. Она освежает, зато драк у них не бывает в приличных застольях.
– А что – драка? – Близина разводил руками. – Кто сильно разбуянится, так отроки есть – уймут…
– Горчица – это для мяса. Размешай ее с медом, помажь мясо, как будешь запекать. Это перец – сверху посыпать чуть-чуть, как будешь солить. Хрен, чеснок – сам знаешь. Вот это дафни[46]. Будешь варить похлебку рыбную, сделай так: возьмешь леща да окуня, сваришь с этим листом, перцем и луком. Потом положишь морковь и репу, муку на масле обжаришь, а после всего вольешь сливок и укропу – вот этой травкой посыпать…
За всей готовкой наблюдала Ута, и вышло почти так, как в палатионе Маманта. Но подавали, выстлав блюда зеленью и обложив поросят и ягнят цветами, собранными у Днепра. Соленые оливки и маслины Эльга велела разложить в мисочки и выставить понемногу: знала, что сразу никому они не понравятся, но пусть пробуют и дивятся.
Перед началом пира Эльга едва не разругалась с княгинями. И все, как водится между женами, будь они высокого рода или низкого, из-за нарядов.
– Когда к себе домой приедете, тогда свои лоросы наденете! – говорила она им. – Где это видано, чтобы за одним столом пять княгинь в ряд сидели! Лорос может носить только одна госпожа! В том вся суть.
– Но нам подарили всем! – восклицала Прибыслава. – Мы тоже княгини!
– Вот там, где вы княгини, там и будете красоваться! А здесь княгиня – я одна. Игемон!
Это была правда, поэтому родственницы надулись, но покорились.
Логофет дрома не зря выспрашивал, а его помощники не зря записывали положение приближенных Эльги. Те из них, кто носил княжеское звание в той или иной земле – сама Эльга, Олег Предславич, Ярослава, Прибыслава, Володея – получили особые подарки. Еще при первой встрече с василевсами их поразили лорос и внушительная золотая мантия – из пурпурного шелка, почти сплошь расшитая золотом и усаженная драгоценными камнями; благодаря им на первый взгляд казалось, будто василевс «одет в золото».
И какой же восторг охватил русских княгинь, когда в завершение второго в их жизни обеда у Елены августы им поднесли почти такие же лоросы – четырем женщинам и одному мужчине из числа крещеных «архонтов Росии». Они были сделаны из красного шелка, обильно украшены золотым шитьем, где в гнездышках узоров блестели кусочки цветного стекла: голубые, зеленые, смарагдовые, белые, красные, золотисто-желтые, выточенные в виде кружка, квадрата, листика. На каждом лоросе их сидело около сотни, и все вместе сливалось в золотую реку самоцветных искр.
– Ты не просила царских венцов и одежд для себя и своих людей, но добрый отец не отпустит дочь из дома без хорошего приданого! – сказала Елена августа, и Эльга поняла: той передали ее слова, когда-то сказанные патриарху. – Примите эти лоросы в знак нашей дружбы и вашего звания христанских архонтов, чтобы надевать их на службу великого праздника Пасхи. Это лишь знак того золота божьей благодати, в какую одеты все истинно верующие. Мои дочери сами шили эти лоросы для вас.
Елена милостиво улыбалась, глядя на онемевших от восторга княгинь. Эльга принудила себя улыбнуться, но на самом деле у нее оборвалось сердце. Даже в животе похолодело. Подумалось: вот он, ответ греческих царей на все ее притязания! «Царские одежды», расшитые кусочками цветного стекла! Те самые, о которых просят все варвары, но о которых она не просила, потому что хотела большего!
Может быть, эти лоросы – знак признания греками их, русов, прав и положения? Но от знаков мало толку, если за ними не следуют дела.
– О, Патор имон![47] – Прибыслава от восхищения даже вскочила, всплеснула руками, сделала движение, будто хотела прижать подарок к груди, но не посмела прикоснуться. – Это мне? Теперь я… Пусть мне наши тоже «прости-носис» делают!
В глазах ее уже отражалось будущее величие: вот она сидит на престоле в гриднице княжьего двора в Свинческе, в золотом царском лоросе, во всем подобная царьградской василиссе, а мужи смолянские лежат перед ней ниц, онемевшие от такой роскоши… Жаль, венца нет, как у августы.
Но с этим торжеством княгиням смолян, древлян и черниговцев предстояло потерпеть: в Киеве «архонтисса-игемон» могла быть только одна.
И вот начался пир. Нарочитые киевские мужи и жены по парам заходили в гридницу княгини Эльги, ведомые отроком, и застывали сразу за порогом. Они не узнавали этого места, где бывали много раз. Бревенчатые стены скрылись под пестрыми восточными коврами, шелковыми одеждами, паволоками, от которых все сияло.
Первыми пришли молодые – Святослав с Прияной. Младшая княгиня выглядела усталой, снова с припухшими веками, и под шелковым подолом подаренной далматики виднелись все те же старые, расшлепанные поршни – в них было легче отекающим к вечеру ногам. Князь держал жену за руку, будто боялся, как бы с ней чего не случилось. Войдя, она застыла посреди покоя, вынуждая и его остановиться. Взгляд ее расширенных глаз скользил по сторонам.
– Тот подземный покой был огромен и роскошно убран, на стенах висели драгоценные одежды, а золотые чаши сияли так, что не требовалось огня… – бормотала Прияна. – Каждый день по триста мужей и триста жен садились за столы в доме, и им закалывали по тридцать телят и тридцать ягнят…
– Что – похоже? – усмехнулся Святослав. – Ты видела у Кощея все такое же? Только здесь у нас не Кощей хозяин, а вон кто!
В дальнем конце длинной клети стоял невиданный престол из белого резного мармароса, а на нем, на шитой золотом шелковой подушке, восседала княгиня. Поверх ее белых одеяний вдовы сиял широкий лорос, потоком золота и самоцветов обвивавший плечи и стан.
– Мать Макошь! – охнула потрясенная Честонегова боярыня. – Будто Солнцева Дева на белом облаке!
Увидев ее, Эльга закрыла рот рукой, пряча улыбку. Дородная боярыня оделась в шитое золотыми крестами облачение греческого священника. Далматика выглядела далеко не новой: шелк засалился, шитье потерлось. Видимо, главы рода Избыгневичей заседали в ней на пирах с самых Олеговых времен. А ведь всего год назад и сама Эльга могла бы спокойно натянуть что-нибудь из добычи викингов, грабивших церкви на Босфоре. Но уж теперь они с княгинями одеты, как положено у первых жен Мега Палатиона.
Играли рожки. Эльга подумывала спрятать рожечников за занавеси меж опорных столбов, как в Магнавре или Юстиниановом триклинии, но за столбами стояли столы. Можно будет так делать, если принимать гостей без угощения. Тут не Мега Палатион, где семь дворцов и пятьсот сорок дверей. Здесь все в одной клети: и обеды, и разговоры, а ночью отроки еще и спят тут. Что делать, если весь ее двор едва ли не меньше одной Магнавры…
Огонь в очагах не горел, зато дымились бронзовые курильницы, источая благовонный дух. Сладкие запахи, будоражащие и умиротворяющие одновременно, будто отделяли душу от тела и указывали ей путь куда-то далеко от всего привычного; лишь войдя сюда, каждый уже ощущал себя в Золотом царстве. Каждую пару гостей отроки подводили к княгине, чтобы обменяться приветствием; Эльга ласково спрашивала о здоровье и благополучии, потом приглашала разделить с ней трапезу, и Близина рассаживал гостей по местам. Эльга в шутку даровала ему должность трапезита, и он, заучив греческое слово, очень этим возгордился.
Ездившие с Эльгой уже сидели за почетным поперечным столом перед ее мраморным троном. Олег Предславич с женой, обеими дочерями и зятем Алданом – мужем Предславы, Мистина с семьей – все нарядились в цветные шелка, и казалось, само василевсово семейство не могло бы выглядеть роскошнее. Вся посуда блестела белым серебром и красной медью, перед каждым стоял золоченый кубок с самоцветами, а перед Эльгой – чаша в виде лебедя, целиком выточенная из хрусталя и прозрачная, как лед. На гостевых столах убранство было победнее, но тоже ни одной простой вещи: только медь, бронза, расписная глазурная посуда.
Когда все устроились, по знаку Близины рожки умолкли, Ригор-болгарин встал перед очагом, между столами.
– Патер имон, о эн тис уранис[48]…
Хлеб наш насущный даждь нам днесь… Побывавшие в Царьграде заучили главные молитвы по-гречески, но для киевлян Эльга велела Ригору потом повторить по-славянски. Однако греческие слова молитвы производили более сильное впечатление даже на тех, кто их не понимал: непривычная роскошь обновленной гридницы создавала здесь островок чуда, будто всякий вступивший сюда переносился в Греческую землю с ее богатством и чинным обычаем. «Мы из Киева не ездили, а все чудеса повидали!» – шепнула Честонегова боярыня своей невестке.
Но вот все сели, отроки стали вносить угощение. На удивление, соленые оливки понравились Прияне. Весь вечер та невольно хмурилась от головной боли, но старалась держаться: мужеством эта молодая женщина не посрамила бы своих предков. Оливки немного ее оживили: велев подвинуть миску ближе, она кидала зеленые ягоды в рот одну за другой, только косточки летели. Эльга решила завтра послать ей корчагу, пусть угощается. Святослав ел все: свинину с горохом, тимьяном и медом, рыбу с корицей и гвоздикой, дичь с горчицей и перцем – и из любопытства, и потому что был неприхотлив, как и все его гриди.
Остальные с осторожностью пробовали новые блюда: из-за греческих приправ привычный вкус мяса или рыбы изменился, и Эльга видела, что лишь почтение к хозяйке иной раз мешает боярам выплюнуть взятое в рот. Зато иным понравилось, и боярыни даже стали расспрашивать, что это за травки да порошки и где их взять.
– Да ну его! – украдкой ворчали бояре вполголоса, чтобы не обидеть Эльгу. – Деды ели мясо без горшицы всякой, и мы поедим!
– А то и не поймешь, чего такое в рот кладешь!
– От травок этих греческих такой во рту пожар – любое дерьмо положат, не заметишь!
– Да ты гляди, чего жрешь!
– Я гляжу, и что? Поросенок на блюде лежит – сам в платье! А внутрях осетрина у него! Перепела берешь – а в нем окунь белый! Будто он беременный, скоро окуня родит!
Эльга смеялась над этими разговорами. Она не поняла, как греки делали «мягкие туши», где вместо костей подложены кусочки вареной сливы или груши, но надеялась сообразить со временем.
Да что там поросенок с окунем внутри! Что сказали бы ее гости, подай она каракатиц, омаров, креветок, мясо дельфина – морской рыбы с человека ростом, похожей на плавучего борова. Или трогальца… то есть щупальца хтаподия – морского гада, какого Прибыслава не сумела удержать в себе… Выложи она вустриц на стол, от одного их вида гости уделали бы ей всю гридницу. Она сама, честно сказать, так и не смогла себя пересилить, чтобы это попробовать…
Когда убрали кости, стали подавать пироги: с укропной добавкой, с овечьим и козьим сыром, из медового теста с ягодой. Тут все оживились: сладкое и есть сладкое. Расставили кувшины вина: Эльга привезла цельное, а здесь его щедро разбавили водой с медом, сделав «мурсу». Орехи, здешние и греческие, смешали с медом разных видов и цветов и положили в открытые пирожки: смотрелось так красиво, что иным было жалко есть.
Эльга осталась довольна тем, как все прошло. Киевские мужи и жены, потрясенные красотой нового убранства гридницы, видом беломраморного трона, блеском лора, благовониями и непривычным вкусом блюд, так и не задали ей вопроса, которого она ждала скрепя сердце: так чего все же хорошего привезла-то, матушка, от греков, кроме этой каменюги, приправ и паволок?
Но уже не сегодня завтра бояре киевские опомнятся и им придет в голову: так чем разбогатела держава Русская? Что изменится в отношениях с Греческим царством?
На этот вопрос у Эльги не имелось внятного ответа. Дружина уже знает: ничего. «Царь над царями» желал лишь получить поддержку русов в его делах, полагая, что в этом и заключается даруемая им дружба. Полгода княгиня и послы бились лбом о стену греческого чванства, но так ее и не пробили. Поддержки Константина Эльга не добилась ни в чем: ни в церковных делах, ни в военных, ни в семейных.
Что говорить киевлянам, дабы хоть представить свои дела получше, чем они есть? К концу своего гощения в греках Эльга могла бы упасть духом, если бы не опыт покойного Ингвара, чей первый поход в ту сторону тоже окончился разгромом. И не мысль о Промысле Божьем, который все устроит как лучше для нас, пусть мы сами пока этого и не видим. Но сейчас она полагалась на Мистину, который обещал взять эти разговоры на себя.
И он же по пути домой подал ей мысль, которую Эльга поначалу посчитала совершенно безумной.
Второй раз после Месемврии они ночевали в Болгарском царстве, в каком-то тесном и душном гостином дворе. При всем желании хозяин смог всему посольству предоставить только один дом – длинный, глинобитный, весь состоящий из единственного пустого помещения. Не было даже лежанок: устроили постели на полу. Совсем не мраморные покои «у Мамы», но всех так воодушевляла мысль – наконец-то едем домой! – что никто не жаловался. Часть отроков несла дозор снаружи, прочее посольство спало вповалку. Эльга сидела на своем постельнике среди сопящего и храпящего царства: тревога не давала ей заснуть. Екало сердце при мысли о Святославе: не сбылось ничего из того, на что надеялся сын, посылая ее за море.
Скрипнула дверь, появился Мистина, проверявший дозоры. Неслышно прошел между спящими и сел рядом с Эльгой.
– Я вот что подумал… – Он знал, какие мысли не дают ей покоя. – Запустим слух, будто Костинтин к тебе сватался.
– Что? – Эльга воззрилась на него в изумлении.
– Это самое.
– Но у Костинтина есть жена!
– Ты ж говорила, что она дольше на троносе сидит, чем ты на свете живешь!
– Ну и что? У христиан коли есть жена, значит, есть, пока жива, другой нельзя.
– А и хрен с ней! – непочтительно ответил Мистина. Эльга поймала себя на чувстве зависти: не став никому из знатных греков духовным сыном, Мистина мог говорить о них, что думал. – Скажем, что царь ее хотел в монастырь отослать, а тебя на ее место взять. Вот и тронос твой пригодится: дескать, он и подарил, что предлагал тебе с собою царствовать.
– Но Костинтин мне долго объяснял, почему царям ромейским нельзя вступать в браки с иноземцами! – смеясь над нелепостью этого замысла, едва выговорила Эльга.
– Бояре этой речи не слышали. Через Уту и девок запустим слух, что будто он сватался, а ты отказала сморчку старому. На дары не польстилась. Мои девки Острягиным и Себенеговым расскажут, да под страшную клятву молчать, будто это тайна несказанная. Поклянитесь, скажут, головой апосто… тьфу! Грекам только дай чьей-нибудь головой поклясться, и я у них подцепил. Словом, назавтра весь Киев будет сию тайну знать и обсуждать. А если меня кто спросит, я рассержусь: да как вы подумать могли, будто наша княгиня за паволоки себя грекам продаст! Устыдятся еще.
– Погоди, но ведь Костинтин меня принимал от купели…
– Не руками же принимал? – возмущенно перебил Мистина.
Раньше он ни разу не спрашивал Эльгу о пережитом в день крещения. Но сейчас ему уж слишком ясно представилась она – с распущенными светлыми волосами, в белой сорочке, облепившей мокрое тело… Однажды он уже видел это. Очень много лет назад…
Эльга могла бы ответить, что из купели она выходила за занавеской, которую держали служанки Елены, а крестный отец ее увидел уже вытертой и одетой в сорочку и паллий, но не стала: пусть помучается.
– Теперь он мне духовный отец, а по закону греческому на духовной дочери нельзя жениться.
– Вот скажем, что под этим предлогом ты и отказала. А он, дескать, обиделся. Потому и даров на втором обеде дал в два с половиной раза меньше, чем на первом.
– Поверят? – с сомнением спросила Эльга.
– Еще как! С костями проглотят. Знаешь же: людей хоть не корми, только дай про чужую любовь посудачить. Наше выслушают, своего с три короба наврут и все перепутают. И мы молодцы останемся, а тебе будет честь, что царя перехитрила. Клянусь головой василевса!
Эльга вздохнула. При всей нелепости этого замысла ничего получше она предложить не могла.
– Что бы я без тебя делала! – насмешливо прошептала она, чувствуя себя разом умницей и дурочкой.
– Свои люди – сочтемся, – обнадежил он.
* * *
Наутро Киев полнился разговорами о пире у княгини: бывшие на нем делились увиденным и услышанным, прочие завидовали. К полудню народ во множестве потянулся на Святую гору: сегодня назначили жертвоприношение в честь возвращения княгини и послов. После него, само собой, пир, на сей раз у князя. Но из побывавших в Царьграде на нем могли присутствовать не более половины: те, кто сохранил верность старым богам.
– Теперь тебе должно это прекратить! – сказала Горяна.
Ее родители на рассвете уехали к себе домой, в Овруч. «Греческая дружина» Эльги, с которой княгиня так сжилась за этот год совместных испытаний, продолжала распадаться. При всех прежних несогласиях за время поездки Эльга свыклась с племянником Олегом и его женой и даже выучилась без затруднений понимать Ярославу, которая говорила по-ляшски. Но нельзя же вечно держать их при себе: у них свой дом. На киевских горах жизнь шла дальше; хватит оглядываться назад, на сказку мраморных палатионов, пора обращаться к насущным делам.
Зато Горяна не покинула Киева. На этом мягко, но решительно настояла Эльга, хотя знала, что моравское семейство будет недовольно. Несмотря на новое их единство во Христовой вере, причины для осторожности никуда не делись. Олег Предславич по-прежнему приходился родным внуком Олегу Вещему, а Горяна оставалась его единственной наследницей. Два года назад Эльга стремилась женить на ней Святослава, чтобы вновь слить воедино оба ручья Олеговой крови и предотвратить возможные в будущем раздоры. От племянника она зла не ожидала, но если мужем Горяны станет посторонний человек, это грозило бедами. За несколько дней обжившись заново дома, Эльга вновь осознала важность тех вещей, о которых за год в чужой стране, среди других понятий, совсем позабыла.
И вот перед княгиней снова встал вопрос: что с Горяной делать? Девушке сравнялось семнадцать лет, и держать ее при родителях – здоровую, хорошего рода, в доброй славе и с приданым, – больше невозможно. Да и отпустить с родителями в Овруч – тоже. Можно взять с Олега Предславича клятву крестную, что он не выдаст дочь замуж без совета Эльги. Ну а что, если столь знатную деву ближайшим же летом похитит какой-нибудь удалец, чтобы потом требовать часть наследства Вещего?
– Хотела я увидеть Горяну моей невесткой, да Богу не поглянулось, – говорила Эльга своему племяннику. – Пусть хоть так со мной поживет. Я привыкла к ней, как к дочери родной.
– Мне она и есть родная дочь, и она у меня одна, – прямо сказала Ярослава.
Княгиня древлянская не скрывала своей обиды, но понимала: это ничего не изменит. Ее дочь, добрая девушка, всей душой преданная Христу, была опасна для княгини киевской из-за самой своей крови.
– Я ее не обижу, – мягко заверила Эльга.
Она понимала чувства Ярославы: помнила, какой ужас пронзил ее от одной мысли, что василисса Елена может потребовать к себе Браню. В тот день она порадовалась, что не взяла дочь в Греческое царство. Она оставила девочку дома, опасаясь трудностей пути, но там, как выяснилось, не ждало ничего особенно страшного. Скучая в разлуке, Эльга порой жалела, что не решилась взять ее с собой. Как бы хорошо они с Браней гуляли по саду палатиона Маманта, ели виноград, любовались душистыми цветами! А в зимний дождь сидели бы на «верхней крыше» и выдумывали всякие повести про каменных людей…
Теперь она могла лишь кормить девочку финиками да без конца расписывать царьградские чудеса.
– Бычка привели! – доложила Браня, вбежав со двора в избу. – И народу уже – множество! Святшу с Прияной ждут.
Она даже прыгала на месте от возбуждения.
Горяна отошла как можно дальше от двери и села на ларь в углу. Сложила руки на коленях и приняла замкнутый и отчужденный вид. Потом сморщилась с негодованием: из оконца понесло запахом дыма. Это вокруг жертвенника разложили шесть костров из дубовых поленьев. Долетал гул голосов.
– Ты не должна позволять это! – сказала Горяна, видя, что Эльга следит за ней. – Как ты теперь можешь терпеть, чтобы у самых дверей твоих стояли идолы?
– Я думала об этом, – Эльга кивнула. – Поговорю со Святославом: если согласится, перенесем святилище отсюда куда-нибудь еще. На Щекавицу или Воздыхальницу. Нам отсюда будет ничего не видно и не слышно.
– Нет, его не должно быть совсем, – настаивала Горяна. – Не может быть идолослужения в городе, где княгиня – христианка!
– Здесь княгиня – язычница. Это Прияна, – напомнила Эльга. – Мы так и договаривались, когда собирались креститься: Прияна остается вместо меня – и вместо тебя, поэтому мы можем следовать за Христом.
– Но нельзя же только нам самим следовать за Христом, а всем этим людям позволять погибнуть! – Горяна в негодовании махнула рукой в сторону оконца, через которое доносился гул большой толпы. – Ты же знаешь: все идолы – это дерево и камни, но кто служит им, тот служит дьяволу! Как ты можешь спокойно смотреть, как все они идут к своей погибели? Твой сын, его жена – мать твоего внука? Все другие? Твои же слуги, весь город!
– Горяна…
– Я Зоя!
Зная, что русским христианкам предстоит возвращаться в языческую страну, патриарх немало говорил с Эльгой и ее спутниками об идолах: и до крещения, и после, всю ту долгую осень, зиму и часть весны. Объяснял мертвую суть идолов, и то, что нельзя есть пожертвованное идолам, пусть они всего лишь камни и не могут причинить вреда; раскрывал опасность соблазна для других, кто увидит, как понимающие едят жертвенное мясо, и подумает, что идолы достойны почтения.
– Нужна любовь! – горячо повторяла Горяна, чья молодая память крепко усваивала услышанное. – Любовь, созидающая в пользу ближнего. Мы через Христа перешли от заблуждения к истине, сделались верующими, знающими единого истинного Бога. Мы должны помогать слабым, тем, кто еще не знает Бога. Господь же говорил: «Итак идите, научите все народы»[49]. Не будет ли греха, если мы будем молча смотреть, как они едят этого бычка, думая, что это приближает к их ложным богам, а на самом деле – к дьяволу? Нужно объяснить им, – сама увлеченная своей речью, Горяна встала. – Я пойду объясню: идолы – камни и деревья, Господь запретил поклоняться и служить им.
– Горяна…
– Я Зоя!
– Зоя, сядь!
Девушка села: когда наступало время, Эльга умела сделать свой голос твердым, как сталь, и одно слово действовало, будто крепкая рука на плече.
– Но если мы знаем, что Господь запретил и накажет детей их до третьего и четвертого рода, и ничего не скажем, соблазним их, тех, за кого умер Христос, тем мы согрешим против Христа! – сбивчиво выпалила Горяна.
Проклятье для «третьего и четвертого рода» на самом деле пугало Эльгу не меньше, чем ее собственный возможный грех. Ведь в эти роды-колена входил и тот внук, что у нее уже был, и все те, кому еще только предстояло появиться. Для кого она трудилась весь век, пытаясь из разношерстых племен, объединенных только русской данью, сделать державу, имеющую надежду хоть когда, хоть через триста лет, стать похожей на Романию? Для кого стараться, если ее внуки, призванные той державой править, поколение за поколением должны идти во тьму, отвечать за поклонение идолам?
– Апостол Павел говорил это про тех, кто ест идоложертвенное, пусть и со знанием, что идолы не боги, – снова мягким голосом напомнила Эльга. – А мы ведь не едим. Мы к Святославу на пир не пойдем.
– А он к нам ходил! – напомнила Браня.
– Святослав вчера приходил к нам и ел благословенное. Пока, для начала, я думаю, этого достаточно.
– Ему не будет пользы, если он ел без веры!
– Но и вреда не будет. Пока нам следует довольствоваться этим.
– Пока! Христос пришел уже почти тысячу лет назад! А люди все еще поклоняются идолам! – Горяна снова показала за оконце. – Сколько мы должны ждать их спасения – еще тысячу лет? Так и будет, если мы ничего не станем делать! Мы ведь принесли сюда весть о Христе – почему мы должны ее таить?
Эльга промолчала. Прежде чем что-то делать для распространения новообретенной веры, приходилось ой как сильно подумать. Для Горяны-Зои все просто: вот заповедь, вот грех, вот спасение. Но у нее ничего и нет, кроме души. Больше того: она не хочет иметь больше ничего! Мечтает быть как святая Фекла из Иконии – отказаться от замужества и проповедовать Христа.
А та Зоя, что осталась в Мега Палатионе… Эльга на миг представила зеленоглазую царевну – ту, что понравилась ей больше прочих, пусть и нос у нее великоват, – сидящей напротив, на скамье, под бревенчатой стеной… И едва не засмеялась. Если сама она дней десять в Греческой земле опомниться не могла, то Зое не легче удалось бы освоиться здесь. Только вообразить царевну в черной бане – ее, привыкшую к белому мармаросу, гладкому как шелк… Едва ли она нашла бы чем восхититься. Так что Господь все устроил к лучшему… ну, пока. А там видно будет.
Нет, Костинтин повел себя неразумно. У Эльги нашлось время все обдумать спокойно, и она была убеждена в этом. Отказывая почти во всех ее просьбах, василевс – самолично и через доверенных людей, – все это время пытался ей внушить: получив крещение из рук ромеев, русы должны почитать его, как отца, и повиноваться, как отцу. То есть прислать людей для войны с сарацинами, на тех условиях, которые приняты в Романии. Но Эльга не могла согласиться с тем, что Русская земля теперь должна стать служанкой земли Греческой и забыть о собственной пользе. Вера ценна сама по себе, но Эльга обратилась к ней, видя в этом средство сделать русь равной грекам, в то время как греки, наоборот, видели в своей вере средство подчинить все прочие народы. И пока греки не примут необходимости считаться с русами, Эльга полагала не слишком-то добрым делом увеличивать здесь число людей, повинующихся греческим пастырям.
Когда она думала об этом, ей казалось, что вместо прежней, одной-единственной Эльги теперь существуют две: княгиня и христианка. Их желания и обязанности уже столкнулись и противоречили друг другу. Она колебалась, не зная, которой из них слушаться. Нет ничего важнее спасения души – но ведь и власть над русью ей дал Бог, желая, чтобы она распорядилась этим даром как можно лучше. И если она станет заставлять русь кланяться грекам…
Олег Вещий этого не одобрил бы. Сожалея о его душе, – он ведь умер язычником, – Эльга тем не менее не отреклась от главного его завета. Сделать Русь сильной. Ставить ее как равную каганам и василевсам. Не уступать. Приняв веру греческую, она осталась княгиней русской.
В оконце долетел громкий звук множества мужских голосов. Эльга знала, что это означает: Святослав вышел в середину круга перед камнем-жертвенником. Здесь уже стоит рыжий бычок из княжьих стад, его держат двое отроков, а рога у него увиты жгутами из цветов и зелени: Прияна сама собирала на заре. Сейчас подошла молодая княгиня, в руках у нее горшок масла и метелочка из перун-травы. Вот она мажет маслом лоб бычка. Потом чертит Перуновы знаки на его боках… Святославу подают молот…
Стой! Эльга опомнилась и затрясла головой. Сколько раз она сама проделывала все это – в прежние годы, когда на площадке святилища стоял с молотом и жертвенным ножом в руках Ингвар, потом, после его смерти, Мистина или Асмунд, в последние два-три года – Святослав. С того дня, как окрепшему отроку впервые хватало сил своей рукой оглушить жертвенного бычка, он становился перед богами князем на деле, не только по званию. Столько раз Эльга была при этом, что сейчас отчетливо видела каждый шаг, совершаемый на площадке, даже сидя к ней спиной, за бревенчатой стеной и тыном.
Но нельзя об этом думать. Она должна стыдиться того, что столько лет служила бесам, а не участвовать в этом деле и сейчас – пусть лишь в уме.
Однако удержать мысль удавалось с трудом. Там, за тыном ее двора, собрались все, с кем она всю жизнь была неразделима. Ее сын – наследник мужа. Асмунд – ее брат. Мистина – свояк, с которым они, к счастью, и после ее крещения продолжали понимать друг друга с полуслова. Улеб, почти все бояре и воеводы. Как и предки их, они все вместе обращались к своим богам… ложным, каменным идолам, мертвому дереву… своим прямым предкам.
Навалилась растерянность и тоска, на сердце будто давило холодное железо. Эльга не знала, кого жалеет: близких, идущих во тьму кромешную, или себя, новой верой оторванную от них.
«Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…»
Сосредоточившись на молитве, она едва расслышала за оконцем многоголосый ликующий вопль. Это Святослав перерезал горло лежащему на земле бычку, кровь хлынула в поднесенное Прияной ведро.
– Вчера у тебя на пиру сидели, а сегодня на идольский пир пойдут, – проворчала Горяна.
– Помнишь притчу о гостях на брачном пире? Когда Царь послал рабов своих на распутья, они ведь звали гостей. А не тащили их силой.
– Но Царь послал войска убить тех, кто не послушался его приказа, и разорил города их! – с мстительным чувством возразила Горяна.
– Но только после того, как они убили его посланцев и среди них Сына. А Павел что говорил о званых? «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение»[50]. Слышишь? Милосердие, кротость и долготерпение! Вот – оружие христианина.
В этом Эльга видела способ разрешить спор между княгиней и христианкой. Княгиня должна быть настойчива и решительна, если желает быть достойной своего звания, но христианке подобает мягкость и убеждение добрым примером.
– Но так никто ничего не поймет! – в отчаянии воскликнула Горяна. – Никто ничего не поймет, если мы не избавим людей от идолослужения! Они уже тысячу лет не понимают!
Горяне хотелось увидеть, как Царствие Небесное наступит на земле, и она боялась не дожить до полного его торжества, если ждать придется еще тысячу лет.
Неужели все молодые такие непримиримые? Эльга пыталась вспомнить себя. Да уж, ее податливой никто не назвал бы – она убежала из дома, собираясь не просто выйти замуж за парня, которого никогда не видела, но и перебраться на другой край белого света. Но все же она была другой. Она все время искала правильный путь – и до замужества, и после. Едва не на каждом шагу оглядывалась и прикидывала: туда ли иду? И сейчас оглядывается еще того пуще, потому что уже знает: не все так просто, как кажется. Что бы там ни казалось…
А у Горяны все просто. Она не ищет путь, не идет – она уже там. Она будто родилась «в правильном месте» и теперь пытается затащить туда всех, до кого дотянется. Такая вера – дар. Счастлив тот, кому она дается, и злополучен тот, кому вечно приходится воевать с собственным разумом.
– Если мы разрушим капище, люди только озлобятся, – сказала Эльга. – Не будут знать, как им жить, кого почитать, к чему стремиться. Ведь нравы и обычаи слагались многими поколениями. Нельзя просто так взять и отнять у людей то, во что верили все их предки. Если мы сбросим идолов с горы в реку, люди пустятся бежать следом, будут плакать, бояться гнева богов. Вылавливать идолов и снова ставить. А если мы делом убедим их, что наша вера истинна, они сами покинут идолов и придут к нам. Будем кормить голодных, помогать всем нуждающимся и тем учить Божьей любви. Будем зимами на павечерницы собирать девок киевских, и не о глупостях болтать, а рассказывать о Христе и Матери Его Марии. Пока прядут – будут слушать. И со временем «брачный пир наш наполнится возлежащими». Да у нас пока и нет иных средств учить людей вере. Ведь мы не привезли епископа, иереев, икон, священных одеяний, книг и сосудов. Возможно, мы получим все это на будущий год – когда василевс пришлет к нам ответное посольство. Если он за этот год обдумает все, о чем мы говорили, и поймет, в чем мы правы – его посольство привезет нам добрые вести не только о Христе.
– Ты как будто готова ждать еще тысячу лет!
– Это мы торопимся, а у Бога времени много. Будет мало – еще сотворит, – улыбнулась Эльга. – А если на стеклянную гору без железных когтей карабкаться, и то время, что есть, только даром растратишь.
– На какую гору?
– Это сказка такая…
Эльга задумалась, стоит ли рассказать Горяне сказку бабы Годони, но ей помешали: раздался быстрый торопливый стук в дверь, заглянул ее старший оружник, Зимец.
– Княгиня! Выйди. Той княгине худо.
«Той княгиней», ради отличия от «нашей княгини», ее челядь называла Прияславу. Но за год поездки Эльга совсем отвыкла от этого и не сразу сообразила: о ком он? Но потом вспомнила, что за «та княгиня» есть тут поблизости – и кинулась за дверь.
* * *
У ворот сразу наткнулась на них: Улеб и Радольв вдвоем вели под руки с трудом бредущую Прияну. Ее платье спереди и даже убрус покрывали брызги крови, а мокрый подол сорочки путался в ногах. Эльга сперва ахнула от ужаса, потом сообразила: это кровь бычка. А вот подол промок от другой причины…
– Мы хотели ее донести, она не дается, говорит, сама пойду! – словно оправдываясь, с досадой крикнул Улеб.
– В баню постельник сенной! – Эльга обернулась к своей челяди. – Поставьте воду греть, бегите за Утой, Честонеговой боярыней, и пусть она Шишкариху свою приведет!
Прияна едва передвигала ноги. Ее повой был сдвинут ото лба назад, так что виднелся пробор в светло-русых волосах, – видимо, навалился жар. Она тяжело дышала и судорожно сглатывала. Ее привели в княгинину баню, где челядинки уже разложили на лавке постельник, набитый сеном. С Прияны стянули платье, размотали длинный убрус, сняли черевьи. Эльга села рядом и взяла ее за руку.
– Что-то ты, дочка, поспешила, – она старалась говорить бодро. – Не терпится?
– Еще… не срок! – почти с возмущением выдохнула Прияна. – Под Купалии должно… я высчитала.
– Видно, обсчиталась! Ну, не беда. Я за бабами послала. Второй раз оно куда легче, сейчас рано – к вечеру все, глядишь, и устроится.
У Прияны вид был такой решительный, будто она собиралась на битву. Но когда вдруг за дверью послышался голос Святослава – он хотел войти, но Скрябка с решимостью, возможной только в этом единственном случае, преградила ему путь, – Прияна обернулась, и на лице ее промелькнуло выражение, будто именно оттуда она ожидает помощи.
Эльга встала: без подкрепления рабыня не отобьет приступ князя киевского.
Святослав обнаружился за дверью не один, а в окружении половины ближней дружины: и Улеб, и Икмошина ватага, и прочие.
– Началось у нее, – полушепотом сказала сыну Эльга. – Хоть и раньше срока, а уж воды отошли, значит, не хочет сынок больше ждать.
– Так надо же домой! – Святослав махнул рукой в сторону Олеговой горы. – Я хотел ее отнести, она не дается, Улебка говорит: давай к княгине…
– И правильно, – Эльга кивнула племяннику. – Куда ей до Олеговой горы брести! А понесешь – оступишься, уронишь, совсем… худо будет. Ступай-ка ты сам домой и ватагу свою забирай.
– Я здесь побуду!
– Да это дело долгое! – напомнил Радольв. – До утра, может…
– Нечего тебе здесь быть, – сказала Эльга. – У тебя там… бычок дожидается.
Она поморщилась, упомянув «идоложертвенное», но раз уж князь взялся приносить жертву, нельзя бросить дело на полпути.
– К йотуновой матери бычка!
– Люди собрались, – поддержал Эльгу Улеб. – А не доведешь дело до конца, как бы не…
Он показал глазами на дверь бани, не желая вслух намекать на опасность.
– Вы тут не помощники. Вон мне помощники идут! – Эльга увидела в воротах сразу всех: Уту со Святаной, Честонегову боярыню с ее нянькой Шишкарихой, лучшей на Киевой горе повитухой, и Володею с Прибыславой. Нынче утром они пошли навестить Ростиславу, и там их всех застала весть о начале родин молодой княгини.
– Во-он у меня какая дружина! – протянула Эльга, думая, как бы загнать баб в избу, чтобы не толпились возле роженицы. – Так что ступай, сыне, начинай ваш пир, а мы, глядишь, еще успеем вас до ночи порадовать.
Грузная Честонегова боярыня уже бойкой копной закатилась в баню и там, взяв ковш с водой, стала брызгать на Прияну, приговаривая:
– Как я легко брызну, так тебе легко родить…
* * *
Выгнали всех лишних и закрыли ворота. Однако народ не покидал площадки святилища и не сводил глаз с Эльгиного двора: многим хотелось первыми узнать, какое дитя принесет молодая княгиня: «с щелинкой» или «с шишечкой»[51]. Эльга вызвала к себе в избу Честонегову боярыню, Соловьицу: та принимала у Прияны первые роды. Для этого дела зовут старших родственниц, и обычно помогает свекровь; но год назад Эльги и ее сестры не было в Киеве, а другой родни здесь не имелось ни у самой Прияны, ни у Святослава. Только через Вещего они состояли в отдаленном родстве с Избыгневичами, и это оказалось кстати: Соловьица славилась легкой рукой, и из ее собственных внуков выживало три четверти. Будучи матерью взрослых детей и бабушкой растущих внуков, она благодаря полноте и здоровью сохранила свежесть круглого миловидного лица, нежный звонкий голос и даже некий задор, свойственный молодухам. Бойкая и говорливая, она-то охотно поехала бы за море, но муж не пустил. До сих пор Эльге не выпадало случая ее расспросить, как все прошло, пока сама она добиралась до Царьграда. Но опасаться Соловьица не видела причин: молодая княгиня была здоровой и крепкой, в самой поре.
Схватки шли несильные, хотя обычно, если дитя не доношено до полного срока, они бывают чаще. Эльга, не видевшая первых родов невестки, теперь волновалась, будто эти и есть первые, но старалась держаться бодро. Уж казалось бы, дело не новое: Ута при ней рожала пять раз, Живляна, Дивуша, жены их братьев и Колояра – все по три-четыре раза. И трех месяцев нет, как Эльга и Ута вдвоем принимали Живляниного младшего «гречонка» в беломраморной бане палатиона Маманта.
Но теперь – иное дело. Это был первый родной внук Эльги, появлявшийся у нее на глазах. И потому все хотелось придумать еще какое-нибудь средство помочь делу; чтобы не суетиться от беспокойства, она передала верховное руководство Соловьице. Вместе с ней или Утой они водили Прияну по бане вокруг печи, что облегчает схватки и ускоряет дело. Прияна крепилась, не жаловалась и почти не кричала, только охала при слишком сильных схватках. Послали за поясом Святослава, бросили на пол и велели ей переступать, чтобы дитя скорее пересекло мостик с того света на этот.
– Ехали мы, ехали, – припевала Соловьица, – по мосточку ехали, по жердочке ехали. Прыг да скок, через мосток, выезжает наш сынок…
– А там, у греков, в Мега Палатионе особый покой такой есть, – рассказывала Эльга Прияне, чтобы отвлечь ее в промежутках между схватками, – называется Порфира. Пол в нем из белого мармароса, а на стенах доски приделаны из камня – сей камень порфир и есть. Он сам красный, как брусника спелая, и с белыми крапинками. Это у них царский цвет – никто, кроме царей, такого платья носить не смеет. И вот коли соберется рожать царица, царева жена, ее в Порфиру ведут. И когда родится дитя, то его прозывают «порфирогенет», то есть «рожденный в Порфире», наследник царев, это значит…
Сама Эльга не бывала в Порфире, но не раз видела этот камень и представляла, о чем говорит. Да, не очень-то эта баня с бревенчатыми стенами и черным потолком, пропахшая дымом и душистыми травами – полынью, «заячьей кровью», мятой, нивяницей, мяун-травой, – похожа на отделанную блестящим ярким камнем Порфиру. А ведь здесь появляется на свет не менее важное для своей державы дитя: его отец – князь, мать – княгиня. Были бы Святослав и Прияна парой августов, и это дитя с рождения называлось бы порфирородным, или, как там говорят, росло бы «в порфировых пеленках»… Только тогда вокруг роженицы читали бы молитвы, а не пели «ехали мы, ехали».
Может, помолиться? Но Эльга отвергла эту мысль: не стоит. Прияна – «Кощеева невеста», у нее другие покровители.
Вспомнилось, что рассказывали про невестку: дескать, она восьмилетней девочкой умерла, ее опустили в могилу бабки-колдуньи, а потом старшая сестра привела ее обратно в белый свет живой[52]… Непонятно, каким образом этот слух из Смолянской земли перебрался в Киев: не то купцы разболтали, не то челядь самой молодой. Святослав уверял, что это все брехня собачья и Прияна вовсе не умирала. Но что его жена близка с Кощеем, признавал даже он. И сейчас Эльга по-новому испугалась, вспомнив об этом. Если старые боги – суть бесы, то Кощей – сам владыка ада!
Даже сердце замерло, дыхание перехватило. Потом стало чуть легче: вспомнилось, что одно дитя Прияна уже принесла благополучно, значит, Кощею ее чада не нужны. И все же…
– Я выйду, – встав с лавки, обратилась Эльга к Уте и Соловьице. – У себя буду… гляну, как там Браня… кликните меня сразу, если что…
В избе сидели «архонтиссы», как она за этот год привыкла их называть: Прибыслава, Володея, Святана. Уже и Живляна с сестрой Дивушей прибежали, услышав новость, и все наперебой делились воспоминаниями о собственных родах. Завидев Эльгу, женщины умолкли и обернулись к ней с ожиданием на лицах.
– Чего болтаете? Молились бы лучше.
Эльга прошла между ними к «чурову куту», где вместо прежних деревянных чуров теперь стояли две иконы, подаренные патриархом: Богоматерь Одигитрия и святая Елена.
Феотоке парфене, хэре кэхаритомэни Мариа…
Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие… Эльга не так много молитв успела заучить на слух, но эти зато годились для всякого случая душевного смятения. Она молилась не о Прияне, а о себе, пытаясь в мысли о Божьей любви обрести поддержку. Но она еще не научилась доверять Иисусу – при мысли о Боге к ней снова возвращалось чувство своего одиночества перед небом, впервые испытанное утром после крещения. В повседневных делах – даже если это княжеские повседневные дела – она жила и действовала по привычке, но в затруднениях, где земные силы не могли помочь, ее дух обращался к новообретенному Богу и начинал отыскивать тропинку к Нему…
* * *
Сквозь оконце долетел дикий рев. Княгини от неожиданности взвизгнули и подскочили на скамьях. Где-то рядом, за тыном, во тьме прохладной весенней ночи, разом завопили сотни мужских голосов. Как гром среди ясного неба! А для людей бывалых это напоминало боевой клич войска, бегущего навстречу вражескому строю. Порыв бури, грозящий сорвать кровли с изб, вопль ярости, жажды крови, битвы и победы.
Эльга, стоявшая прямо под воротами своего двора, зажмурилась, но удовлетворенно кивнула. Это она приказала засевшим снаружи отрокам и горожанам по данному знаку вопить что есть мочи. Есть и такое средство подтолкнуть дитя, если никак «пути не найдет» – и отроки с великой радостью ухватились за случай помочь в таком важном деле. Уже стемнело и близилась полночь, народ частью разошелся, но осталось достаточно таких, кто сам хотел разнести по городу долгожданную весть.
А женщины в княгининой бане за этим ревом едва расслышали истошный крик роженицы: чрево ее сделало последнее мучительное усилие и наконец вытолкнуло своего медлительного обитателя наружу…
За тыном еще орали, но уже вразнобой. Услышав сзади скрип двери, Эльга обернулась: на пороге стояла Ута и махала ей рукой. Подобрав подол, княгиня, не по годам и положению, резво пустилась бегом через двор.
В бане горели лучины и масляный светильник. Баба Шишкариха возилась с роженицей, дожидаясь последа. Соловьица изо всех сил дула на что-то маленькое у себя на руках. Эльга напряженно ждала слабого крика, который возвестит, что переход благополучно завершен.
Но длилась тишина, лишь слышно было, как Соловьица дует и дует дитяте в нос.
Эльга подбежала к ней. Младенец – такой крошечный и слишком бледный… Ему полагалось бы быть красным, сморщенным, с уродливо разинутым ртом, недовольно вопящим… Но он был тихим и белым, как вылепленный из теста.
– Не дышит… – горестно прошептала Соловьица. – Мертвенький…
Эльга взяла тельце в дрожащие руки. Обмытое от крови, оно еще хранило тепло материнского тела, но не могло подкрепить его собственным живым теплом…
* * *
Сенный постельник Эльга велела увезти на зольник в дальний овраг и сжечь вместе со всеми рушниками, которые вынесли из бани. Прияна еще оставалась там: хотя бы три дня ей не следовало покидать место, где она так неудачно открыла ворота на тот свет. Молодая женщина лежала лицом к стене; вокруг нее говорили все, что положено в таких случая: со всеми-де бывает, ни одной быбы нет, что хоть одно бы дитя не потеряла, а ты еще молода, и будет еще у тебя семеро сыновей и три дочери… Но она будто не слышала.
Узнав, что дитя родилось мертвым, Прияна только один раз попросила дать его ей.
– По всему видать, еще в утробе умерло, – шепнула Эльге Соловьица, уже видевшая таких. – Сам беленький, губки синенькие. Оттого и родины до срока начались.
Они все говорили «дитя», однако приметы не обманули: это и впрямь оказался мальчик.
Когда у Прияны забрали бледное холодное тельце, она не возражала. Не кричала, не отказывалась верить. Ее остановившийся взгляд был устремлен в пространство, на лице неприметно менялось выражение, будто она все же кого-то видит, с кем-то мысленно разговаривает.
Роженицу слегка лихорадило, и Соловьица поила ее отваром брусничного листа и спорыша. Прияна глотала, но оставалась бледной, вялой, почти отказывалась есть.
На второй день Эльга решила допустить к ней Святослава: он рвался с самого начала, но мужчине нечего делать там, где открываются ворота на тот свет. Когда же он вошел, Эльга увела женщин к себе в избу. И, задержавшись у двери снаружи, наконец услышала всхлипывания, перешедшие в судорожный плач. Докса то Фео![53] Как ни горько, а коли плачет, стало быть, приходит в себя.
– Я заберу ее домой! – заявил Святослав, вскоре зайдя в Эльгину избу. Вид у него был решительный и гневный, и никто не стал возражать: его жена. – Но почему? – в негодовании обратился он к Эльге. – С чего вдруг? Первый же хорошо родился!
– Это со всякой случиться может. У иных и половина мертвыми родится, а то и…
– К йотуну иных! Я хочу знать, почему мой ребенок у моей жены… Вы что-то не так сделали? – Князь грозно глянул на Соловьицу и Уту.
– У нее отекали руки и ноги, болела голова, – напомнила Ута. – Так обычно бывает перед родами у тех, у кого дитя умерло в утробе. Колоярова Зорка трижды мертвых рожала, и всегда у нее было так.
– Но почему?
– Судьба такая! – Ута развела руками. – Со всеми бывает, и вы тоже люди…
– Вы могли бы постараться!
– Дитя умерло еще до родин, потому они и раньше настали – чрево отторгло мертвого. При родинах его только Бог оживил бы!
– Так почему твой бог его не оживил? – в ярости закричал Святослав матери. Внятных ответов на его нынешние вопросы быть и не могло, но гнев на судьбу требовал выхода. – Зачем ты ездила в такую даль! Про печенегов и алан никакого толку не вышло, пошлины остались старые, только дань за целый год зря разбросали! Могли бы здесь куниц в Днепр пометать, меньше бы хлопот, а урожай тот же! Только радости, что тряпки да две доски с бабами! – Он обвиняюще ткнул в иконы на полочке. – Где он был, твой бог? Что же он не сделал ничего? И вы еще хотите, чтобы я крестился? Чтобы василею этому троллеву кланялся, как раб, а он меня за отрока бессловесного держать будет! А нашлось дело, так от бога этого толку, что от старого отопка! Шел бы он к лешему, и вы все с ним вместе! Идол этот песий, чтоб ему!
Святослав вдруг шагнул к Пастырю и мощным толчком кулака сбросил с колоды. Женщины ахнули: беломраморный юноша с ягненком на плечах рухнул на дощатый пол, а Святослав вышел, хлопнул дверью, так что содрогнулась вся изба.
– Ой, божечки! – охнула Ута и побежала к Пастырю. – Вроде цел… Я позову, пусть поднимут…
– Погоди! Успеется.
Эльга села и перевела дух. Она не сердилась на сына за грубые слова и несправедливые обвинения: и князь киевский тоже человек, в горький миг и ему надо найти виноватого и гневом облегчить боль. Пусть кричит.
Ее била дрожь, сердце остро щемило от тревоги: что-то в его словах все же очень задело ее. Какое же все-таки горе! Было бы сейчас у нее два внучка, два княжича… Только приехали, теперь бы жить дома да радоваться… Она уже привыкла мысленно видеть на своих коленях двух мальчиков, и теперь чувствовала себя ограбленной. Горе всегда бывает некстати, но сейчас оно пришлось особенно не вовремя.
Эльга посмотрела на иконы, думая попросить у святых прощения за невоздержанность сына-язычника. «Что же твой бог ничего не сделал?» – сказал Святослав. Вот что ее ранило: какая-то правда в его обвинениях имелась. Бог и Его Пресвятая Матерь и впрямь могли бы помочь. Ведь Иисус однажды оживил сына вдовы, а в другой раз – дочь Иаира, ей рассказывал об этих чудесах патриарх. «Не бойся, – говорил Христос, – только веруй, и спасена будет!»[54] Господь сказал «спасена», но ведь умершая девушка ожила! Ну и что, если Прияна – язычница. Какой хороший выдался случай совершить Господне чудо! Эльга даже покачала головой: оживи дитя, и Святослав с женой, убежденные в истинной силе Господней, крестились бы в тот же день. А за ними – вся русь.
Она даже вознегодовала на себя: почему не догадалась помолиться об оживлении дитяти? Ей бы подумать об этом сразу, как взяла на руки холодеющее тельце. Если бы она сообразила, если бы Господь услышал ее – не только Святослав с Прияной, но весь Киев мог бы разом обратиться в истинную веру! Выходит, вся ее вера только в уме, а в душу по-настоящему и не проникла.
– Кириос о Теос! – Эльга в отчаянии схватилась за голову. – А что, если нам этот случай Господь послал, а мы из-за малой своей веры…
– Это Кощей его забрал, – почти одновременно сказала Ута, чьи мысли шли в другом направлении.
– Обычно покровители первенца забирают, – Эльга отпустила руки и глянула на сестру.
– Ну… где нам Кощеевы помыслы судить? Первенца оставил, а этого захотел взять.
– А может… – прошептала Володея, не решаясь говорить такое вслух, – Кощей теперь разгневался на нас, что мы крестились… отомстил… Когда первый-то рожался, мы еще только ехали в греки. Вот и обошлось. А теперь…
Эльга посмотрела на младшую сестру. От затылка до копчика пробрало морозом от мысли: это так и есть! Все сходится!
– Не вздумай кому-нибудь еще это сказать! – в испуге взмолилась Ута к Володее.
Ей сразу представилось, какие жуткие последствия эта мысль может повлечь, проникни она в народ.
– Нет, нет! – Эльга затрясла головой, стараясь взять себя в руки. – Не может быть! Старые боги – это камни и дерево! Они бессильны! Они не могут…
– Через них жертвы принимает дьявол! – напомнила Горяна. От возбуждения она даже посмела вмешаться в беседу старших женщин, хотя ее мнения не спрашивали. – Кощей – сам Сатана! Это сделал он! Теперь-то ты видишь, что только крещение – спасение, а идольская вера – гибель! Прияна ходила служить идолам, вот что она от них за свои жертвы получила! Господь им ясно путь указует, а они как слепые!
– Ой, бабы! – Соловьица выбежала на середину избы и развела руки, будто пытаясь загородить спорщиц друг от друга. С ее крупным телом это нетрудно было сделать. – Бросьте мякину молотить! У всех дитяти умирают – и в утробе, и при родинах, и после! У крещеных умирают, у некрещеных умирают, у угорских баб умирают, у хазарских умирают! Вон, у нас на улице ниже Карнуй живет, у него в дому летошний год две жены мертвых родили. Судьба наша бабья такая! Коли хоть один бы бог мог уберечь, все бы бабы только ему и молились!
Эльга с благодарностью посмотрела на нее: здравый смысл опытной женщины утишил смятение в мыслях. Но тревога не утихала.
* * *
Соловьица ушла восвояси, Эльга приказала держать ворота двора закрытыми и никого незваного не пускать. Отроки подняли Пастыря и вновь возрузили на колоду. «Прости, родной!» – мысленно обратилась к нему Эльга, погладив складки мараморяной туники. Неприветливо Пастыря Доброго встретила Русская земля.
Пробовали молиться, но тоска и гнет на сердце не отпускали. Через оконце долетал неясный шум за тыном, но Эльга старалась не обращать внимания: любопытные еще долго не уймутся. Шли бы работать, будто дела никому в городе нет!
Заглянул Зимец:
– Воевода пришел!
Женщины обернулись к двери: вошел Мистина. И тут они невольно встали, изумленные: на нем была кольчуга, на плечевой перевязи висел меч, а судя по легкому стуку о дерево, в сенях остался отрок с воеводским щитом и шлемом.
– Отец, ты на кого исполчился? – ахнула Ута.
– Да я не один, я со всей дружиной, – Мистина взглянул на Эльгу. – У двора пришли дозор нести. А то народ сильно раздухарился, как бы не вышло беды.
– Что?
– Болтают по городу, что у тебя тут болван каменный, из греков привезен, а из-за того болвана княгиня молодая мертвое дитя родила.
У Эльги что-то оборвалось в груди, похолодели жилы.
– Кто такое говорит? – выдохнула она, прижав к сердцу стиснутый кулак.
– Кто говорил, того уже заткнули. Но слух не поймаешь. Перед воротами у тебя пол-Киева толчется. Увидят отроков оружных – присмиреют. Может быть…
Эльга направилась к двери: Мистина хотел ее остановить, но она вышла во двор. Под навесом и впрямь сидели двое Мистининых отроков-оруженосцев; при появлении княгини вскочили. Высокий тын мешал увидеть, что делается снаружи, но ясно доносился гул большой толпы – возбужденной и разозленной.
– Это что же, – Эльга обернулась к вышедшему за ней свояку, – они меня винят, что у Прияны дитя умерло?
– Говорят, греки изурочили[55] княгиню, то есть тебя, а ты – молодую, – прямо отрезал Мистина. Вид у него был злой и раздосадованный: сбывалось то, чего он опасался. – Что у тебя в дому две навки-лихорадки на досках начертаны, и от них пойдут по городу всякие беды. Говорят даже, что теперь ни одна баба живого не родит, а спастись одно средство: доски и болвана каменного в Днепр сбросить.
– Да Господи! – Эльга всплеснула руками. – Будто до меня не водилось в Киеве христиан! Да сто лет назад уже были! Аскольд князь крестился…
– Ты забыла, что с ним стало? Где он, Аскольд, где род его? Толком могилу показать не могут!
– Ригор десять лет здесь живет, и церковь стоит, и купцы есть христиане, и у них иконы в домах! Никогда же ничего…
– А князя Предслава старого не помнишь?
– И не совестно тебе! – в досаде крикнула Эльга. – Его бы не тронули, если бы вы с отцом народ не взбаламутили!
– Мы сделали это ради тебя! Ради вас с Ингваром! А ты теперь пытаешься сама подставить свою голову под тот же топор! Будто Предслав тебя ничему не научил!
– Что я такое пытаюсь? Ты ездил со мной в греки и видел каждый мой шаг! Что я сделала не так? И чем я виновата, если Прияна… Будто раньше мертвых не рожали!
– Я не знаю, что там с Прияной, я не повитуха! Но пока крестились купцы, до этого людям не было дела. Но сама княгиня – иная стать!
– Я уже не княгиня! – сказала Эльга о том, что и позволило ей сделать выбор в пользу греческого бога. – Прияна – княгиня.
Мистина лишь выразительно посмотрел на нее. И Эльга сама поняла: в глазах людей она, княжья мать, погубила невестку.
– Что она для них, и что ты, – напомнил Мистина. – В глазах людей ты – дочь Вещего, в тебе его кровь, слава и удача. Ты двадцать лет Киев хранишь. Ты Деревлянь победила и всю Русскую землю от большой войны уберегла. Ты была их богиней, их Макошью и доброй Долей, а кем стала? Прияна вышла приносить жертвы – и потеряла дитя! Сразу же, как ты приехала с твоими… греческими досками! Да любой пес поймет: это гнев богов! И поймет – за что. Даже брякнул кое-кто, чтоб лучше б ты-де за царя шла и с ним в Царьграде оставалась, коли ты теперь его веры! У Святши треплются, что мы съездили без толку и только зря раздали грекам сорок сороков соболей. Злы все: и купцы, и отроки, и сам Святослав – первый. А тут такое дело! И правда, сглазил кто-то! Найду – пополам разорву!
От злобы и досады в его голосе у Эльги холодело в груди: казалось, он осуждает ее. Все эти двадцать лет Мистина был ей ближе брата. Им случалось спорить и даже ссориться, но она знала, что он всегда на ее стороне, пусть и пытается порой вести ее не туда, куда хочет она сама.
– Но ты же не веришь, что я… – растерянно начала она.
Уж лучше бы ее сразу обвинили в том, что она съела солнце и луну!
– А! – Мистина только махнул рукой и шагнул к воротам. Потом обернулся: – Теперь ты поняла, почему я не стал креститься?
В ворота чем-то ударили: не то бревном, не то чьим-то телом. Шум возрос, слышались неразборчивые, но яростные крики. Раздавался треск дерева, и напряженный слух ловил: вот-вот зазвенит железо.
Мистина кивнул отроку, надел шлем и пошел к воротам, на ходу затягивая ремень. Перед дверью на крыльце стояла Ута и молча, без единого движения, смотрела ему вслед.
* * *
Вернувшись в избу, Эльга притянула к себе Браню и крепко обняла. Приходилось делать вид, будто ничего пугающего не происходит, но при мысли о дочери у нее слабели ноги и хотелось кричать от страха. Мелькали в памяти воспоминания о том возмущении почти двадцатилетней давности, когда погиб старый князь Предслав – заодно с христианским проповедником отцом Киланом, который жил в его доме. Тогда подученные Свенельдом и Мистиной люди обвинили отца Килана, будто он воровал кур и пил их кровь, а потом насмерть загрыз чьего-то челядина с Киевой горы[56]. На самом деле основной удар предназначался не ирландцу и даже не князю Предславу, а сыну его Олегу, которого таким образом заставили освободить для Ингвара и Эльги киевский стол.
Но сейчас никакого заговора не могло быть. Она, Эльга, никому не мешает. Она уступила все свои священные обязанности невестке и хочет теперь лишь добрым примером внушать людям веру в Христа. И сразу же из нее сделали ту ведьму из страшной сказки, что поедала новорожденных детей своего пасынка-князя и винила их несчастную мать! Почему? Людей пугают любые перемены в их сложившемся мире. Злоба, трусость и глупость бывают похуже всякого заговора.
Тот давний мятеж подготовили умные люди, поэтому погибли немногие, больших потрясений, погромов и грабежей удалось избежать. Как только цель была достигнута, все быстро успокоилось: вчерашние буяны наливались пивом в гриднице, во все горло славя нового князя – Ингвара.
Нынешнее возмущение вышло само собой: никто его не возглавлял, люди хотели всего лишь выбросить в Днепр «навьих баб на досках», чтобы плыли себе назад к грекам. Они испугались перемен в привычном порядке и хотели, чтобы все стало по-прежнему. Источник зла им виделся в изваянии юноши с ягненком на плечах – чем глупее, тем убедительнее. К счастью, уважение к Эльге, двадцать лет мудро ими правившей, все же пока сдерживало дурные чувства. И оружники Мистины, конечно, тоже.
Но напуганные люди способны на любые безумства.
Эльга обратила взгляд к иконам, но невольно смотрела на них как на своих гостей, которых обязана защитить от злобы соплеменников. Нужно было молиться, но она лишь привыкала вкладывать живое чувство в греческие слова заученных молитв. Ей хотелось говорить с Богоматерью попросту, как с женщиной, которая старше, мудрее и сильнее. Перед глазами ее сияла Мария – такая, какой она впервые увидела ее над собою, на золотых сводах Святой Софии. Хотелось спросить: «Неужели ко мне вернулось то зло, что сотворилось двадцать лет назад – пусть не моими руками, но ради меня?»
И ведь Килан, Предслав и Олег были христианами! Неужели Господь выбрал этот миг, чтобы отомстить за своих?
Но почему ей – и теперь, когда она тоже стала для Господа своей?
– Выйди послушай, что там, – велела она Скрябке.
Пошла бы сама, но не имела сил.
Скрябка отворила дверь – в избу ворвался такой гвалт, что Эльга невольно встала. Захотелось немедленно затолкать Браню в голбец и накрыть чем-нибудь: безрассудный порыв испуганной матери, какой переживали тысячи и тысячи женщин в подобный миг. Это не был настоящий шум сражения – в нем больше грохота и лязга железа, – но, похоже, перед двором разворачивалась потасовка и давка. Все ее дворовые отроки и челядь собрались возле ворот внутри, вооружившись кто чем. Даже холопы держали дубье. Эльгу начало колотить.
И тут снаружи долетел хорошо ей знакомый звук – рев боевого рога.
Отроки Мистины стояли прочной «стеной щитов» в три ряда, выставив вперед копья. Лезть на копья никто не хотел, но в княгинин тын летели из толпы камни и поленья. Народные метательные снаряды стучали по щитам, иногда задевали головы в шлемах. Чтобы не служить мишенью, Мистина не сел на коня, на котором приехал, а тоже укрылся за щитом. Толпа напирала. Он дал знак трубачу.
Раздался тягучий звук рога, пугающий и будоражащий одновременно.
Толпа ответила ревом, камни и палки полетели гуще.
– Шаг! – крикнул Мистина.
И «стена щитов» двинулась вперед.
– Хей! Хей! – Отроки надвигались на толпу, прижимая ее к площадке святилища.
Видя нацеленные на себя острия копий, которые с каждым шагом придвигались, передние ряды толпы подались назад. Началась давка. Кто-то бежал на площадку, но там не могли поместиться все, а к тому же она кончалась с двух сторон крутыми, заросшими обрывами. Кто-то пытался выбраться на пологий всход, ведущий прочь со Святой горы, кто-то бежал по улице вдоль тынов. Висел крик, будто над полем настоящего побоища.
Наконец крики отодвинулись и постепенно стихли: безоружная толпа разбежалась. Валялись оброненные палки, потерянные шапки, два ножа и кресало, лопнувшие пояса, даже оторванные полрукава. Слава Богу, ни пятен крови, ни мертвых тел.
Отроки Мистины вернулись и окружили двор – воевода опасался, что буяны оправятся и соберутся вновь.
Уже почти ночью явился Святослав: приехал верхом, с тремя десятками своих гридей.
– Видела, что твой бог наделал? – неприветливо бросил он матери. – Говорят, греки княжью мать заколдовали, и теперь у нее черный глаз. У тебя, то есть!
– Святша, сынок, ты в уме? – мягко спросила Эльга.
Как ни хорошо она его понимала, это показалось уже чересчур.
– Я-то в уме! – с досадой ответил Святослав. – Первый раз она рожала – тебя не было, Ригора не было, и все хорошо сошло! Она в тот раз боялась, говорила, как бы Кощей своей доли не потребовал, мы ему тайком жертвы приносили все девять месяцев!
Эльга слегка раскрыла глаза: она этого не знала, а ведь находилась в Киеве почти все то время.
– И помогло! Все сошло гладко. А тут ты приехала, и Ригор, и эти бабы навьи! – Святослав снова ткнул в сторону бывшего чурова кута. – Посылали вас за добром, а привезли вы одно худо!
– Может, греки еще одумаются, – вставил Мистина. – На будущий год приедет посольство…
– В жабу я катал это их посольство! На березовой постельке я его видал – на осиновых дровах, три полена в головах! Вот что! – с усилием взяв себя в руки, Святослав повернулся к матери. – Надо вам пока уехать.
– Куда? – растерялась Эльга.
Она еще после дороги из греков дома не обжилась!
– Ну… хоть в Вышгород. Пока тут все утихнет. А то мне самому придется твой двор дозором обходить, гридей здесь держать, чтоб никто не лез. Не будет тебя здесь – эти клюи пернатые уймутся, остынут. Тогда вернешься.
Эльга сидела молча, переменившись в лице. Ее изгоняют из собственного города. Родной сын. Не укладывалось в голове, что она должна бежать от киевлян, как от бешеных собак – от тех людей, что всего-то лет восемь назад, после Древлянской войны, прославляли ее и понесли бы в лодье на руках до самого верха горы, пожелай она только.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят», – сказал Иисус на кресте о мучителях своих. Его смерти желали все те, кого Он пришел спасти. И после того все повторялось для многих святых мучеников, встречавших только зло от тех, кому они хотели помочь. Эльга сидела застыв, пораженная тем, как неизбежно путь каждого верующего во Христа повторяет путь Иисуса. И хотя ее не распинали, не били и не жгли, все же те люди русские, кому она хотела принести спасение в жизни вечной, увидели в ней своего врага. Забылись двадцать лет уважения, забылось все хорошее, что она за эти двадцать лет для них сделала.
Даже кровь Вещего не помогла.
Но из этого с непреложной ясностью вставало понимание: эти люди очень нуждаются в Христовой истине.
– Поедем сегодня, – прервал ее мысли суровый голос Святослава. – Я велел лодьи изготовить. Собирайтесь. Мои гриди с Икмошей тут побудут, а как стемнеет, они вас выведут к Почайне и в лодьи посадят. Я буду там ждать. Провожу вас – и назад. Дам знать, как все уляжется.
Эльга поколебалась, но близость прижавшейся к ней Брани заставила принять решение.
– Поедем ко мне в Чернигов! – подала голос встревоженная Володея. – Все равно мне домой пора, нагулялась я по гостям-то! Претибор меня каждый день понукает: поедем да поедем!
– А Прияна как? – спросила Эльга у сына. – Не лихорадит ее?
– Как, как? – проворчал Святослав. – Пригрозил, что кормить буду насильно, теперь вроде ест.
– Если еще лихорадит, сразу посылай за Честонеговой боярыней. Даже Прияне не говори – посылай, та знает, как лечить.
И невольно подумала: как тут будешь лечить? В зелье – лишь полсилы, главная сила – в заговоре. Заговаривать можно тех, кто моложе тебя, но Прияна знатностью рода превосходила не только Соловьицу, но и саму Эльгу. Оттого, надо думать, лечение так мало помогало. А ни Эльга, ни Ута, ни даже старая боярыня Ростислава – родная внучка Вещего – заговаривать больше не могли, потому что крестились и отказались от помощи старых богов.
– Она что… винит меня?
– Кощея она винит, – угрюмо ответил Святослав.
– А… ты-то сам? – решилась спросить Эльга.
Было тяжело и страшно, но она не могла дальше жить, не зная, видит ли сын в ней свою мать или злую ведьму-мачеху.
Святослав помолчал, и за этот миг у нее похолодели руки.
– Если это из-за Кощея – то моя вина, – наконец ответил он, не глядя на Эльгу. – Если Кощей – то я должен ее оберечь. Значит, у меня удачи не хватило.
И тут Эльга невольно пожелала: «Пусть лучше сын винит меня. Пусть думает обо мне что хочет, но только не верит, что удача покинула его самого – мужа, отца, князя русского…»
– Но это я узнаю, – продолжал Святослав. – Если моя удача со мной, тогда уж…
Эльга не совсем поняла его, но промолчала. Даже не решилась больше утешать, а лишь кивнула Скрябке и Бажане, чтобы собирали пожитки, а сама взглянула на Пастыря. Святослав, к счастью, уже не нападал на него, но старался в ту сторону не смотреть. Что с изваянием делать? Взять с собой, благо не слишком тяжел? И оставить на вышгородском дворе, подальше от глаз?
Заболело сердце, будто предстояло расстаться с родным чадом. Вспомнился этериарх Савва: его морщинистое лицо с неизменно бодрым выражением, загорелый залысый лоб, веселые светло-серые глаза, задорно загнутые вверх кончики седых усов. Поднося свой дар, Савва стремился ее порадовать и никак не предполагал, что здесь Пастырь Добрый принесет Эльге такие тревоги. В том солнечном мире, откуда он взят, благоухал золотой лимон, алели цветы и плоды «пунического яблока». Как легко было любить Христа там, где его прославляли со всех сторон!
Там она мечтала свернуть все Золотое царство в колечко и унести с собой. Глупая! Даже этот скромный дар, изваяние времен первых веков христианства в Греческом царстве – еще до святого Константина, – и то не могло прижиться здесь, на Руси.
* * *
Пока челядь собирала пожитки для отъезда в Вышгород, Эльга послала за отцом Ригором – опасалась, как бы и ему не пострадать. Но священник уезжать отказался: передал, что все в воле Божьей, а он от своего долга христианского не отступит. Долгом же он считал стойкость и отвагу под раскатами грома. Эльга не настаивала: ему виднее, в чем его долг.
В том же настроении пребывала и Горяна.
– Я тоже останусь! – воскликнула она, выслушав переданный через отрока ответ Ригора.
– А ты поедешь со мной, – спокойно возразила Эльга.
– Святая Фекла ни огня, ни зверей диких не убоялась, и я…
– Святая Фекла сперва до Антиохии с проповедью прошла, а ты пока ничем не отличилась.
– Так ты же меня не пускаешь с проповедью!
– А тебя разве апостолы благословили, как ее?
Пока Горяна подыскивала ответ, Эльга занялась другими делами. Пожалуй, сейчас она в душе радовалась, что Олеговна-младшая не стала ее невесткой. Девушка была чистосердечна и по-своему добра, но упряма, как гора каменная, и кроме своих убеждений не видела и не принимала в расчет ничего. Хорошей княгини из нее бы не вышло, а вот вреда она могла бы натворить много. Да так, что скорее отвратила бы людей от Христа, чем привлекла к нему. Эльга часто повторяла ей заветы апостола Павла: «Смиренномудрие, кротость, долготерпение». Но это было не по ней.
Однако выпускать девушку из рук Эльга не собиралась. Та по-прежнему оставалась правнучкой Олега Вещего и дочерью Олега Предславича, ныне князя древлянского. Любая недобрая сила могла использовать Горяну-Зою как оружие против киевских русов, даже не спрашивая ее согласия.
– Но я никогда не выйду замуж! – уверяла Горяна. – Одного Иисуса Христа я люблю, ему одному свою жизнь посвящу, и не будет мне иного дела, кроме проповеди евангельской. Лишь Его невеста непорочная – душа моя. Отпустите меня только: я по Руси пойду, хоть до Варяжского моря доберусь, буду подаянием питаться, но слово истины Христовой язычникам нести!
Эльга едва не хваталась за голову.
– Ты не понимаешь! – убеждала она, сама себе напоминая про кротость и долготерпение. И уже подумывала, что Горяна ей Богом послана для упражнения в этих добродетелях. – Здесь не Антиохия. Никто не будет тебя зверями травить ради испытания веры. Первая встречная ватага тебя захватит, сперва сами попользуют – все! – а потом хазарам продадут. Будешь другим рабам проповедовать, только они, очень может быть, по-славянски не поймут.
– Ну и что? – уже потише, но с прежним упрямством отвечала Горяна.
– Даром весь твой подвиг пропадет!
– Не пропадет. Господь увидит. Он зачтет.
– Сперва хоть одного хворого исцели молитвой, как Фекла, тогда поговорим.
Той же ночью Святослав с ближними отроками отвезли Эльгу с Горяной, Прибыславу и Володею с челядью в Вышгород. Ута осталась при муже и семье, другие спутницы княгини тоже: принадлежа к воеводским родам, они могли не беспокоиться о своей безопасности.
К утру добрались до места. Город Вышгород был еще Олегом Вещим заложен на расстоянии одного пешего дневного перехода вверх по Днепру; на лодье с гребцами добирались быстрее. Укрепленный городец Вещий устроил как место зимнего проживания войска, которое летом ходило в походы. После Вещего князья селили здесь половину «большой дружины» – поскольку держать в самом Киеве восемь сотен человек бывало затруднительно, – которая к тому же охраняла переправу торговых путей. Детинец стоял на высоком берегу Днепра, с широким видом на реку и на плоский левый берег. По внутреннему кругу вдоль вала с частоколом выстроились большие дружинные дома, каждый на полсотни человек. Отдельно стояли баня, поварня, оружейня; клети для припасов помещались под боевым ходом, а кузницы стояли вне городца, чтоб не наделали пожара.
На здешнем княжьем дворе жил воевода Соломир Дивиславич. Вместе с сестрами выращенный Утой, он забеспокоился о семье приемных родителей, хотя давно имел свою. В большой избе, предназначенной для княжеских наездов, никто не жил, а Соломка, ездивший с Эльгой в Царьград, после долгого отсутствия имел своих дел по горло. Поэтому первые дни Эльга занималась обустройством дома, беспокоясь в душе, сколь долго им придется здесь прожить.
Назавтра же уехала Володея со своим послом и отроками – ее путь в Чернигов лежал вверх по Днепру. Очень звала Эльгу с собой – хотя бы погостить, – но та не хотела в такое время уезжать далеко от Киева. Еще через день собралась к себе в Смолянскую землю и Прибыслава. Она очень тревожилась: как там в Киеве Прияна, ее родственница по мужу и залог дружбы между смолянами и киевскими русами. Все знали, что за неудачными родами часто следует лихорадка, которая вполне может свести роженицу в могилу. Умри сейчас Прияна – это имело бы важные последствия и для Прибыславы, не только как для родственницы, но и как для княгини смолянской.
– Вы того… Макошь… То есть Феотоке Парфэне да сохранит Приянку, дай ей Господь здоровья, но если вдруг что… – говорила она. – У Ведомы, ее сестры, старшей дочке уже девять лет должно быть – года через три-четыре будет у нас еще для вас невеста.
– Не будем пока об этом, – Эльге не хотелось больше думать о невестах для сына. Пусть ей не видать в семье Зою или сестру ее Феофано, однако при мысли о маленькой девочке из Свинческа, призванной заменить царевну, тянуло на горький смех. – Свирьковна оправится, она молода, духом и телом крепка. Ты ведь помнишь: ее уже хоронили. А кого до времени хоронят, тот два века живет.
Прибыслава в ответ многозначительно опускала углы рта. Она скорее склонялась к мысли, что в этот раз Кощей намерен забрать жертву, однажды от него ускользнувшую.
Но вот уехали обе княгини. Не считая Соломира и его семьи, при Эльге остались лишь Браня и Горяна. Если бы не дела, совсем опустились бы руки от тоски: она и не помнила, когда в последний раз чувствовала себя такой одинокой. Наверное, в то последнее лето, когда жив был Ингвар: тогда судьба разлучила ее и с мужем, и с Утой, и с Мистиной. Святослав жил на Волхове, а Браня была еще младенцем. В то лето Эльга скучала, жаждала, чтобы хоть кто-то из близких вернулся к ней поскорее. Еще не зная, что Ингвара ей суждено увидеть лишь мельком перед разлукой навек.
Пытаясь развеяться, Эльга водила своих двух питомиц гулять по лугам над Днепром. Вечерами девушки из ближних весей собирались на опушке березовой рощи, водили круги и пели песни в ожидании близких уже празднеств Ярилы. Даже до княжьего двора долетали эти голоса. Браня расхаживала перед крыльцом в кружочке из трех Соломировых дочек, совсем еще крошек, и распевала, помахивая березовой веткой:
Березынька кудрявая, Кудрявая, моложавая, Под тобою, березынька, Все не мак цветет, Под тобою, кудрявая, Не огонь горит, Красные девушки, Во кругу стоят…– Во клугу стоят, – послушно повторяли шепелявые «красные девушки», кому еще много лет оставалось до участия в настоящем ярильском хороводе.
Вышгородские отроки тосковали и вздыхали. Давным-давно между князьями и местными старейшинами положили твердый ряд: отроки на игрища не ходят, с парнями не дерутся и девок не портят. Вот если кто выслужится и разбогатеет настолько, что надумает жениться, тогда милости просим, сватайтесь, мы вам дадим невесту, какую сами выберем. Многие так и делали, и за три-четыре поколения их дворы образовали вокруг детинца несколько улиц. Разбогатевшие оружники частью ходили в воеводах, частью подались в купцы и развозили по Руси товары, доставленные княжьими людьми из греков.
Молодые же пока маялись бездельем, хотя воевода и старался занимать их упражнениями и разными работами, как мог.
– Матушка, так что князь на это лето решил? – то и дело спрашивали Эльгу отроки и их старшины. – Куда пойдем-то?
И довольно скоро, еще до Ярилы Сильного, княжьи замыслы прояснились.
Святослав сам приехал в Вышгород. Людей привел немного: только Икмошину ватагу.
– Ну, что там, в Киеве? – первым делом спросила Эльга, едва обняв сына. – Прияна как?
Святослав явился все в той же рубахе швами наружу: иной «печальной сряды» он не признавал. Но вывернул он рубаху после смерти младенца, и Эльга боялась, не появился ли у него новый повод для «печали».
– Все утихли. Говорят, ты идола своего назад к грекам отправила, – усмехнулся Святослав, но вид у него по-прежнему был мрачный. – Это, я думаю, Свенельдич постарался.
– Жена-то как?
– Лихорадит ее. Не сильно, но так… поколачивает. Честонегова боярыня ее чем-то поит. Ест как младенец: молочка, творожка… Я ей говорю, Ярик больше тебя съедает!
– А дитя как?
– Дитя хорошо! – Лицо Святослава впервые прояснилось.
– Кто за ним смотрит? Может, я бы взяла его пока…
– Нет, Прияна не отдаст. Дивуша смотрит.
Эльга кивнула, успокоенная: Дивуша, жена Асмунда, привыкла глядеть за хозяйством молодого князя и вновь явилась на службу, когда настоящая хозяйка слегла.
– Я могу уже вернуться? Если стихло все.
– Да я думаю, можешь… – протянул Святослав, будто не придавал этому большого значения. Сев на лавку, он зажал ладони меж колен. – Ты мне вот что скажи…
– Что? – с тревогой спросила Эльга.
– Есть чего-то, чего я не знаю? – Святослав поднял голову и пристально посмотрел на нее. – О чем с греками толковали, мне мужики рассказали. – Под мужиками он разумел Мистину, Алдана, Одульва и прочих послов, спутников Эльги. – Но ты говорила с царем наедине, потом с царицей. Что они на самом деле хотят от нас? Почему вы с чем уехали, с тем и вернулись… только и прибытка, что бобров и соболей на твоего идола каменного выменяли?
Эльга сложила руки и глубоко вздохнула, раздумывая, с чего начать.
Вскоре после ее беседы с василиссой Еленой в палатион Маманта явились два посланца от логофета дрома: Родион и Порфирий. Оба носили звания спафариев, и Эльга, зная, что сан этот не из больших, сама к ним не вышла, а велела беседовать Мистине, Алдану и кое-кому из послов. Подчиненные Артемия доложили, что синклит, обдумав и обсудив высказанные архонтиссой Росии пожелания, поручил им передать ей следующее предложение. Василевс и синклит повелят своим посланцам сопровождать людей архонтиссы для переговоров с западными печенегами и окажут помощь в заключении союзного договора, по которому степняки поклянутся не нападать на русских купцов и не тревожить подчиненные киевскому князю земли на то время, что его воины проведут на службе у василевса.
– Кто будет давать нам залоги исполнения этого договора? – спросил Мистина.
– Вы получите заложников от печенегов. И те останутся у вас на все время, пока ваши воины не вернутся в Росию.
– Мы передадим предложения синклита архонтиссе. Возвращайтесь за ответом через день.
Вечером на «верхней крыше» собрался собственный «сиклит» Эльги, состоящий из ее родичей и послов прочих князей. Днем по-прежнему давила жара, не позволявшая покидать мраморную тень палатиона, однако к вечеру теперь наступало облегчение, с моря веяло прохладой.
– А у нас уже снопы возят… – вздыхали послы.
– Первый желтый лист полетел… Глядишь, умиляешься: будто березки плачут, с теплом прощаясь.
– Журавли летят, курлычут…
– И гуси клиньями – смотришь и мнится, будто сими клиньями и тебе боги путь кажут в дальние края…
– Эк без леса-то жить тоскливо! – воскликнул Зорислав, посол князя Видяты из Шелонь-городца. – Тут одни скалы, да кусты, да пустыри – тьфу! Не деревья, а срам один. Верите, всяку ночь мне бор сосновый снится…
По лицам послов было видно: они не только верят, но и сами скучают по родным лесам, даже если и не все осознают это.
– Грибы пошли… – вздохнул Лютегость плесковский.
– Лютеша, кончай грибы собирать и послушай, что я тут говорю, – призвал к вниманию хмурый Мистина. – Мы уже в дальних краях, дальше всяких журавлей, и приехали сюда не варежки разевать, а дело делать. Нам предлагают заключать союз не с греками, а с печенегами. А греки обещают всего лишь поспособствовать. Но если печенеги дадут нам заложников, а потом обманут и нападут, то грекам будет горя мало. Их дело – сторона.
– А главное, выйдет, что мы, русь, – ровня с печенегами, – добавила Эльга. – С кочевниками, кого василевс своими духовными детьми не зовет, поскольку среди них христиан не водится. Он нас не просто ниже себя ставит – а равняет с теми, кто ниже нас.
– Но у Ингоря ведь был уговор с печенегами насчет прохождения через пороги, – напомнил Претибор черниговский, – и у Святослава есть.
– То мы заключали ради своей пользы, – возразил Одульв. – А то будет ради греческой.
– Воины нужны грекам, – Эльга кивнула сыну старого посла и воеводы Ивора, – а чтобы мы их дали, своих заложников должны прислать печенеги.
– Они-то пойдут на это? – усомнился Претибор, не раз имевший с печенегами дело. – Им-то какая выгода?
– Подарки царские.
– А что, если подарки возьмут да обманут?
– Только так соглашайся, – сказал Краян, посол от смолянского князя, – если заложников нам дадут сами греки. А коли им нужды нет, обманут ли печенеги и живы ли те заложники – какой тут уговор?
Еще десять лет назад Краян был всего лишь главой рода Озеричей, проживавшего близ смолянских волоков. Сам, вместе с сыновьями, обрабатывал поля и дальше городца Свинческа не бывал – незачем. Но вот в Смолянскую землю пришел киевский князь Ингвар, в то же время сын Краяна, Равдан, женился на старшей дочери князя Сверкера; теперь он был воеводой и приходился свояком Прияне, княгине киевской. Из обычного старейшины, каких тысячи по всем славянским землям, Краян превратился в нарочитого мужа всей державы Русской и теперь вот, сидя в палатионе Греческого царства, уверенно рассуждал о греках и печенегах, о которых первые сорок пять лет своей жизни думал меньше, чем о звездах на небе.
На этом все согласились, и такой ответ дали посланцам синклита. Те уехали, обещав передать.
Через пару дней в палатион Маманта явился знатный старец: Варда Фока, из прославленной семьи, давшей Романии немало полководцев. Сам он тоже провоевал почти всю жизнь, одно время был доместиком схол Востока, то есть старшим воеводой всех сил, посылаемых против сарацин, но там не отличился и, уступив должность своему сыну, жил на покое. Ему подкатывало уже лет под восемьдесят, и из любопытства Эльга сама явилась в триклиний, куда его провели. Она, кажется, ни разу в жизни не видела настолько старого человека. Да в силах ли он еще ходить? Проживший два человеческих века, он казался живым гостем из царства мертвых.
С ходьбой у Варды Фоки не вполне ладилось: сюда он прибыл не верхом, а в раззолоченных носилках, и в триклиний вошел, сильно хромая и опираясь одной рукой на раба, а другой – на резную трость из слоновой кости, отделанную золотом. На седой голове его сидела красная шапочка, смуглое лицо густо покрывали морщины. Под морщинистыми веками прятались глаза, а над ними топорщились удивительно черные брови. Крупный вислый нос придавал ему такое сходство с вороном, что Эльга едва не засмеялась.
Оказалось, что сиклит и василевс просили старого полководца разъяснить русам их заблуждения, из-за коих они отказываются от очень выгодных предложений.
– Не василевс должен уговаривать вас выступать в числе наших войск, а вы – просить о чести быть принятыми! – говорил Варда, будучи усажен напротив Эльги. Она слушала с беломраморного троноса, который ей не так давно доставили в подарок от василевса Романа. – Скажите, кто-нибудь из вас слышал рассказы о том, как ваши люди лет пятнадцать назад высаживались в Анатолии?
– Мой отец был при этом, – откликнулся Одульв.
– И он тебе не рассказывал, – Варда Фока повернулся к нему, – сколько там разных богатств? Откуда, вы думаете, ромеи берут свое золото? Его добывают в анатолийских реках. Его там – как речного песка! Там полно шелка из Сирии, драгоценных камней и благовоний из Индии. И если мы наконец разобьем этого проклятого эмира, Сайф ад-Даулу, то у нас каждый воин поедет домой в золотых башмаках и шелковой тунике! Или, может, вы желаете попасть на Крит? Тамошний эмир собрал у себя такие богатства, что можно построить целый город. И василевс щедро раздаст их тем, кто будет участвовать в захвате. Золото, серебро, лучшее оружие, шелка, вино, кони, красивые рабыни! А? – Он подмигнул Войко, как самому молодому среди сидевших вокруг него. – Бог благословил оружие ромеев, и мы в последние годы не раз громили богопротивных сарацин на востоке и на юге. В Алеппо, Тарсе и Триполи наши полководцы наносят сарацинам удар за ударом. Несколько лет назад мой сын Никифор – сейчас он доместик схол Востока, – взял в Каппадокии сарацинскую крепость Хадат. Мы дошли до Ефрата! Вот-вот наши войска проложат себе путь в Междуречье, и мы войдем в Сирию, где окончательно уничтожим проклятого дьявола Сайф ад-Даулу. На море патрикий Василий Эксамелит сжег множество кораблей эмира Тарса. Многие правители сарацин уже просят мира и готовы пойти под покровительство василевса ромеев. Но мы не намерены останавливаться. Наша цель – остров Крит, это гнездо проклятых сарацин. Нам нужны люди, не боящиеся сражений, и мы готовы достойно платить за службу.
Старик пустился в рассказы. Он удивительно хорошо помнил походы последних пяти десятилетий, сыпал названиями областей и городов, которые русы слышали впервые: Малатия, Самосат, Мелитена, Амида, Мараш, Баграс, Тарс, Феодосиполь, Хилат, Битлис…
– Когда мы взяли Мелитену и Самосат, многие сарацины там признали силу Христовой веры и крестились, – повествовал он. – Там жило одно племя, под названием бени-хабиб, это такие дьяволы, я вам скажу, вы таких не видывали! Раньше они все норовили пограбить наше приграничье, но после побед патрикия Иоанна приняли христианство и стали нашими верными слугами и союзниками. А это двенадцать тысяч отлично вооруженных всадников! И василевс щедро наградил их: наделил удобными землями на берегу Ефрата, создал пять новых фем и поручил им охрану – и осыпал прочими милостями. Так неужели вы, – Варда Фока огляделся, – окажетесь глупее каких-то сарацин? Вы же русы! А я хорошо знаю русов: чуть-чуть не застал вашего архонта, которого звали так же, как тебя…
– Олег?
– Да. Вам же нужна добыча, и ради нее вы готовы на все! Почему теперь надо уговаривать вас идти за добычей, будто добродетельную девицу – на блуд?
– Здесь есть разница! – обстоятельно, по своей привычке, объяснил Алдан, который когда-то прибыл в киевскую дружину Ингвара в протертой до дыр полосатой датской сорочке и в коротком кафтане с заплатами на локтях, а теперь сидел в шелку, будто патрикий. Но его грубоватое лицо, на котором удивительным образом сочеталось добродушие и скрытая угроза, осталось то же. – Мы сами берем добычу, где считаем нужным, и сами ее делим меж собой.
– Но полным-полно ваших уже служит в этерии и в войсках! Уже чуть ли не сто лет!
– Но еще ни разу русский князь не сдавал внаем свой меч.
– Когда предлагают такую цену, можно сдать не только меч… – проворчал старый ромей.
– Василевс так щедр к нам! – улыбнулась Эльга. – Но мы, как верные его друзья, не хотели бы допустить, чтобы враги ударили ему в спину в то время, как его и наши силы будут сосредоточены в Анатолии либо на Крите.
– О каких еще врагах ты говоришь? – настороженно прищурился Варда Фока.
– О хазарах. Что, если они нападут на Херсонес и Климаты, зная, что никто сейчас не может помешать им?
– По прежнему договору с твоим покойным мужем, я так помню, вы и должны были защищать наши северные владения.
– Мой сын желает пойти дальше. А именно, навсегда лишить каганат возможности угрожать кому-либо. И гораздо лучше нам заняться этим, чем посылать своих людей на Крит или в Анатолию. Мы ведь можем благодаря своему расположению и положению подвластных нам славиний, – Эльга взглянула на смолянина Краяна и черниговца Претибора, которые имели ближайшее отношение к этим делам, – напасть на каганат со стороны славянских земель, откуда он не ожидает. Если же в это время союзный грекам архонт Алании нападет со своей стороны, то каган не сумеет послать войско сразу в двух направлениях и неизбежно будет разбит. Таким образом, мой сын возьмет свою собственную добычу, не принуждая василевса награждать его людей, и к тому же окажет Романии немаловажную услугу: Таврия вновь целиком вернется под вашу власть. Разве это предложение не лучше того, что вы делаете нам?
– Ваша держава еще слишком молода для таких свершений! – сварливо отозвался Варда. – Сколько поколений твоих предков правило в вашем Киаве, как его?
– Там правил мой родной дядя, Олег, которого мы зовем Вещим.
– А держава ромеев насчитывает тысячу лет!
– Ну, что же? – Эльга слегка наклонила голову. – У вас тысяча лет уже позади. А у нас, я думаю, впереди.
«Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его…»
– Держава наша молода, – продолжала Эльга, – но мой дядя и мой муж создавали, расширяли и укрепляли ее не для того, чтобы она, как служанка, трудилась для чужого блага. У нас есть своя польза и свои дела, которые мы ради нее готовы выполнить. Мы желаем союза с греками, а не печенегами. Мы предлагаем вам договор, несущий взаимную выгоду, но можем заключать его только на равных. Иначе мы нарушим приказ Олега Вещего, который начертан в наших сердцах и держится там так же прочно, как заветы святого Константина – на священном престоле Святой Софии.
– Лучше бы ты вспомнила своего мужа, а не дядю! – в негодовании закричал Варда и даже поднялся, опираясь на золоченый посох. – Я был там, когда он со своими разбойниками явился на фему Армениакон! Я отшвырнул его прочь, а потом пришел Иоанн и прогнал его к Босфору, под сифоны жидкого огня! И вы еще смеете желать равенства с нами! Все варвары глупы, жадны и самодовольны! И одного крещения бывает мало, чтобы вложить им ума!
Эльга встала, переменившись в лице. И подняла руку, приказывая оставаться на месте вскочившим мужчинам.
– Ты очень стар, василик, – сказала она дрожащим от ярости голосом. – Поэтому тебя никто не тронет. Но если ты надеешься добиться от нас уступок, оскорбляя память моего мужа, то передай синклиту, что он очень-очень ошибся в выборе посланца!
С этим она ушла, предоставив дружине проводить гостя.
И теперь, спустя много месяцев, за которые она обдумала все произошедшее, Эльге приходилось объяснить сыну:
– Беда в том, что греки не желают признавать нас за ровню. Они в своих глазах – владыки мира, повелители всех его сокровищ земных и небесных, а мы – разбойная ватага, которая не раз приходила грабить их окраины и даже порой Божьим попущением доходила до стен столицы. Им безразличны наши выгоды. Они хотят лишь использовать нас для защиты своих собственных выгод. А когда мы желаем действовать по своему разумению, они пытаются нам препятствовать, чтобы вынудить отдать свои мечи им на службу.
– Но ты же обещала! – напомнил Святослав. – Что если ты крестишься и станешь вроде как дочерью Костентина, то мы сможем говорить с ними как равные.
– Так будет, но, похоже, не сразу. Болгарам понадобилось три поколения…
– Болгарам понадобился Симеон и хороший поход под Царьград! – Святослав встал. – Вещий был прав. И отец был прав – с ними можно разговаривать, только стоя с войском под стенами! По-вашему, по-женски, от них ничего не добьешься! Но я-то не женщина! Я с ними поговорю так, чтобы они поняли. Придется им понять!
По его лицу Эльга видела: он сказал так не просто в сердцах, а задумал нечто вполне определенное.
– Что ты хочешь сделать?
– Пощупать брюхо василевсу. Сходить на Таврию. Пока он там со своими сарацинами любится, мы ему напомним: рано он расслабился и решил, что коли тебя там в лоханку макнули, мой меч от этого заржавел! Я им не отрок, чтобы на посылках бегать. Я их заставлю меня уважать! На подарок мне царь поскупился – я сам себе возьму, что понравится. Хотите ехать домой – собирайтесь, – добавил он. – Заодно посмотрим, как народ, а то я всю большую дружину возьму. Или хочешь здесь пока пересидеть?
– Ты чего еще придумал! – Эльга тоже встала. – Чтобы я от своих же людей в Вышгороде хоронилась? Я поеду в Киев! Кто же там останется за тебя?
Его жену Эльга даже не брала в расчет. И не будь Прияна в родильной лихорадке – незачем проверять, какая правительница из молодой княгини, когда прежняя еще в силах.
Святослав кивнул и пошел к двери. На полпути обернулся:
– Вот еще что. Ты идола своего, – он показал на Доброго Пастыря в дальнем углу, – здесь оставь. Ничего ему не сделается, Соломка приглядит. Толку от вашего крещения – с песий хрен, а стыда и беды не оберешься! И если моя удача со мной – чтобы я про греческого бога у меня в Киеве больше не слышал.
Он вышел. Эльга посмотрела на Доброго Пастыря.
Святослав рассуждал как все те язычники, которые желают, чтобы после крещения на них сразу свалились с неба все благодеяния и царские одежды в придачу. Но дело-то не в этом. Не в том, чтобы получить от Бога счастье в земной жизни, а в том, чтобы научиться из несчастья ткать золотую и багряную одежду для своей души. Эльга стала христианкой, чтобы вынудить греков видеть в русах людей и союзников, равных им. И даже если это не сделается за один день, один год, пусть даже на это потребуются труды поколений и лишь ее внуки, как внуки Симеона-царя, будут признаны достойными – надо же с чего-то начинать. Первый венец сруба под землей остается, но без него и конек не поднимется.
Но Святослав был другим. Подобно предкам, он знал: победу у судьбы вырывают силой и отвагой.
Вскоре снаружи послышался ураганный рев сотни голосов. Это дружине объявили поход: идем на Таврию. Несся торжествующий гул рога, крики: «Слава князю нашему!»
Эльга кивнула сама себе. И Святослав тоже прав. Есть задачи, которые надо решать сейчас, не откладывая на долю будущих поколений. И если мы хотим чего-то добиться, надо применять все средства.
Часть третья
Йотуна мать – сильнейшая в мире великанша. Что только ей не под силу, и какие только чудеса не совершаются ее именем! Под шум морских волн Улеб рухнул на мокрые прибрежные камни, прямо возле мокрого бока лодьи, и эти камни казались измученному телу мягчайшим, прекраснейшим ложем, с каким не сравнятся и набитые пухом жар-птиц постельники в мраморных китонах греческого царя. Правда, ему никогда не нравилось спать на мраморе.
Волны шипели совсем рядом, накатываясь на берег Боспора Киммерийского. Стоило закрыть глаза – и мерещилось, что вот-вот накроет с головой. А может, это шумело в ушах. Около сотни гридей Святослава киевского четверо суток не ступали на твердую землю, не выпускали весел из рук, почти не ели и измучились от жажды. Но сейчас это казалось почти чепухой – ведь они были живы и на земле! Они лежали на камнях в просоленной, высохшей на теле за последние спокойные сутки одежде, возле своих мокрых лодий, зато восхитительно твердая земля уже не могла вдруг расступиться и поглотить или накрениться, залить и перевернуть – как это у них на глазах произошло со скутаром Бергмара Оленя, который не справился с волной.
Будь проклята эта йотунова буря! Поход начался довольно удачно – как любой набег на земли греков, о котором те не проведали заранее. Русы высадились близ устья Днепра, где сидел в своем городце Торд Железная Шея с дружиной. Царьградские греки считали эти земли своими и крепко за них держались: здесь добывали соль и рыбу, поблизости пролегали ветви Шелкового пути, а здешние жители предупреждали о готовящемся набеге руси на сам Царьград. Если успевали…
Но сейчас им предупредить не удалось никого. Святослав с восемью сотнями большой дружины промчался по землям близ устья Днепра как ураган. Позади него оставались лишь догорающие поселки. Пленных, скот, всевозможную добычу собрали и переправили к Тордову городцу. Пока отдыхали и обсуждали дальнейшее, весьма ожидаемо явился херсонесский стратиг со своим войском. Пешее войско русы разбили в первой же схватке; неприятным явлением оказался отряд тяжелой конницы. Святослав даже не знал, что у стратига появились катафракты; местным их содержать было не под силу, похоже, прислали из других царевых фем. «Стена щитов» выдержала первый натиск, но прогнулась; спас положение отряд печенегов, которых Святослав позвал с собой, повстречав возле порогов. Они зашли сбоку и с тылу, и в конце концов катафрактов порубили.
Печенеги что ни год получают подарки от царевых посланцев, в обмен обязуясь не нападать на Херсонес и даже удерживать русов. Но Святослав отлично знал: стоит поманить их добычей, и они засунут свои обещания куда подальше.
Однако идти на Херсонес, давая стратигу время собрать все свои две-три тысячи копий, Святослав счел неразумным.
– А пойдемте сразу под Сурож! – предложил Стейнкиль Рыжий.
Это был парень на несколько лет старше Святослава, рослый, худощавый, с острыми чертами лица, усыпанного веснушками, которые, как ни странно, придавали ему еще более хищный и опасный вид.
– Обойдем Херсонес морем, выйдем к Сурожу прямо! – продолжал он. – Они-то не ждут, думают, что херсонесский стратиг первым биться будет, а до них когда еще дойдет. А стратиг пусть со своими котохряками на берегу ждет.
Дружина зашумела с одобрением. Сурож считался чем-то вроде маленького Царьграда: в нем издавна жили ремесленники и торговцы, к тому же через него проходил Шелковый путь. Для захвата самого города дружины в восемь сотен все же мало, но можно было взять хорошую добычу в предместьях и в гавани, где в летнюю пору всегда стоят корабли с дорогими грузами.
Решили оставить добычу пока в Тордовом городце, а самим идти по морю на Сурож. Лодьи, в которых пришли с Днепра, для этого вполне годились, и немало людей в дружине достаточно знали море вокруг Таврии.
Только вот колдуна – заклинателя хорошей погоды, – не нашлось.
По выходе из жерла Днепра, в том месте, где пресная вода сменяется соленой, Святослав велел принести в жертву пленника из захваченных в селениях, и первые четыре дня все шло хорошо. Везло с ветром, и русские скутары под парусами быстро шли на полудень. На каждом имелось по две смены гребцов, отроки по очереди спали меж скамей, подложив под себя лишнюю одежду и накрывшись плащами от брызг. Их предки во многих поколениях привыкали к такому, и никто не ощущал особых неудобств. Они уже прошли Херсонес, и слева тянулись скалистые, обрывистые берега Таврии, когда внезапно началось…
Небо разом потемнело, волны будто налились свинцом и подернулись мутной пеной. Море, до того такое дружелюбное и теплое, вдруг ожило; у него обнаружились свои желания, причем довольно хищные. Полученной жертвы ему показалось мало. Никто не ждал такого среди лета: во всю ширь, сколько хватал глаз, плясали короткие крутые волны, будто жадные языки чудовища с тысячей пастей. Русские скутары скакали на спинах морских змей, словно скорлупки. Боковой ветер бил в борта, заставляя отклоняться от намеченного пути. К счастью, их гнало на полудень: подуй ветер обратно – и русов швырнуло бы на скалы, не спасся бы никто.
Изначально лодий насчитывалось больше тридцати, по двадцать-тридцать человек на каждой. Паруса убрали. Одни поворачивали носом против волны, пытаясь бороться, другие – кормой, чтобы внутрь попадало меньше воды. Но держаться вместе было невозможно: уже к рассвету мокрый и усталый Святослав различил вокруг еще лишь пять, остальных разбросало на неоглядную ширь.
– Скоро прибудем прямо в Царьград! – пытались шутить насквозь промокшие гриди, из которых последний посчитал бы бесчестьем показать, что падает духом. – И оглянуться не успеем, как будем под той вашей стеной, где каменные псы в кудельных воротниках.
– Чащоба! Львы это!
А потом ветер переменился и понес их на восток. Час от часу положение ухудшалось. Гриди трудились изо всех сил: опираясь веслами о волну, старались выравнивать положение судна, свободные от гребли вычерпывали воду. Во все строны расстилалось открытое море, но этому голодные, измученные, продрогшие гриди даже радовались: при таком ветре и волнении и в бухту не вдруг войдешь, а прижми их к скалам – это верная смерть.
Но вот ветер стал стихать, волны улеглись. Святослав рискнул вновь поставить паруса, и лодьи двинулись дальше на северо-восток. По всему судя, суша лежала там.
К вечеру показался берег – холмистый, покрытый серо-желтыми скалами, кое-где припорошенными мелкой зеленью. Уже стояла тишь, под синим небом расстилалась голубая, со смарагдовым отливом морская гладь.
Когда лодьи коснулись днищем песка, только всемогущая йотуна мать помогла гридям собраться с силами, чтобы выволочь их на берег. И рухнуть рядом самим.
Было похоже на похмелье: когда даже лежа хочется держаться за землю, чтобы не качало.
Постепенно приходило осознание: они остались живы, но больше пока поздравить не с чем. Их тут не более сотни, где остальная дружина и цела ли – неизвестно. А берег вокруг – какая-то часть Боспора Киммерийского. Владения каганата.
Опираясь локтями о каменистую землю, Улеб попытался приподняться. Его мутило. Зверски болела голова – будто меж бровей загоняют железный штырь. От морской воды горели глаза под опущенными веками, драло горло и болело в носу. Уши тоже болели. От голода сводило живот.
Улеб подтянул ноги, оперся о землю коленями, выпрямил руки.
– Вылитый лев с Вуколеона, – одобрительно пробормотал валяющийся рядом Радольв. – Воротника мохнатого не хватает.
Улеб хрипло зарычал и выпрямился. Вот это вуй Асмунд и называет «дружинный дух». Когда тело говорит: лежи себе подыхай. А дух приказывает: вставай, ублюдок, и иди уже куда-нибудь!
* * *
– Там по ручью две сотни каких-то клюев валит!
Услышав эту новость, Сигват Волкогон переменился в лице.
Половину из той сотни, которая оказалась на берегу Боспора Киммерийского, Святослав оставил охранять лодьи, а с второй половиной сам отправился по берегу – выяснить точнее, куда попали, как отсюда выбираться и, главное, найти воды и еды.
С двумя последними задачами справились легко. Вскоре наткнулись на речку, густо заросшую рогозом, и в этом рогозе повстречали кабана. Взрослый кабан летом – не лучшая добыча, но и за то богам спасибо: окружили и приняли на копья. Пытаясь прорваться, кабан повалил Дрему из Икмошиной ватаги – протащил по земле и разодрал рубаху в клочья. Сам Дрема отделался ссадинами и громче всех хохотал. Сорочка его превратилась в кучку особенно грязных лохмотьев – просто грязной она была и до того, как у всех, – и Святослав отдал ему свой плащ, чтобы комары не загрызли до смерти. Кабанью печень съели прямо сырой, подкрепились, по-быстрому обжарив кусочки мяса над углями. Соли не нашлось, но никто не жаловался. Не встреться им кабан, наловили бы змей и лягушек. Не в первый раз…
После этого разделились. Сигвата с его людьми Святослав послал обратно на стоянку – отнести мясо и приказать его запечь к вечеру. Прочих разослал по сторонам. Требовалось найти хоть какое-нибудь селение: выяснить поточнее, куда попали, достать еды, одежды, проводников, бочки для воды и все прочее, что нужно в пути обратно к устью Днепра и что они растеряли за то время, пока их болтало по морю.
Пока ни сам Святослав, ни кто-то другой не произнес вслух «мы возвращаемся в Киев». Сперва надлежало выбраться отсюда и выяснить, что стало с остальной частью дружины. Если бы удалось собрать людей и потери оказались бы не слишком велики, то можно было бы, не возвращаясь, еще походить по побережьям Таврии. Но сначала выбраться и вновь собрать рассеянные силы…
Впереди тянулось русло речки, и на нем гриди услышали многоголосый говор. Подобравшись поближе, посмотрели. В сторону берега направлялась немалая толпа: на вид с пару сотен будет. Судя по языку и виду, местные. Что за народ тут жил, Сигват с трудом мог бы сказать: не то греки, не то хазары, не то степняки какие, а скорее, смесь всего понемногу.
– Они прямо к нашим идут, – сообразил Белош. – Чего им там делать?
– Так это же местные! – пояснил Лейви. – Они этим и промышляют.
– Чем?
– Да грабежом! После бури ходят на берег поискать, не выбросило ли кого. Разбитые лодьи – их добыча.
– Что не разбито – разбивают и грабят, – хмыкнул его брат Фольки. – Чего делать будем?
– Пойдем пока за ними, – решил Сигват. – Посмотрим.
Вшестером на двухсотенный отряд не нападают, оставалось наблюдать.
Хотя дураку ясно: что-то делать надо. Там у лодий всего полсотни человек, и они, голодные и усталые, от двух сотен, свежих и воодушевленных близостью добычи, не отобьются. Кроме оружия, взять с них нечего: одни мокрые рубахи на плечах. Но сами лодьи чего-то стоят, а если удастся захватить пленных, то купцы-греки за них дадут по двадцать золотых номисм за каждого.
Русы хорошо знали, зачем греки скупают полон: рабы использовались не только в домашних работах, но и в огромных поместьях богатых греческих бояр. А непривычные к жаре пленники с севера жили там не так уж долго, поэтому грекам все время требовались новые рабочие руки. Русы наживались на этом уже сотню лет, каждый год отправляясь за полоном и сбывая его за Греческое море. Но также они и понимали, что сами могут, случись неудача, оказаться в этом деле не продавцами, а товаром.
В прибрежных холмах местные залегли и стали осматривать стоянку.
– Давай, труби! – Сигват кивнул Белошу, у которого на плече висел рог.
* * *
Старшим на стоянке Святослав назначил Улеба. Тот и сам догадался выслать дозорных на холмы, окружавшие бухту, но те не смогли бы увидеть прячущихся в зарослях у речки нападавших, если бы издалека не донесся вдруг рев боевого рога. Рог был свой, и знак он подавал понятный: тревога.
К тому времени люди Улеба лишь напились пресной воды из ручья и набрали вдоль полосы прибоя плавника для будущих костров. Не помешало бы оттащить лодьи подальше от воды, но стояла тишь и гладь, а от голода у самого Улеба кружилась голова, и это дело он отложил на потом – когда удастся хоть как-то подкрепить силы уставших отроков.
За это он потом не раз сказал себе спасибо.
Тревожный рев рога все услышали сразу, и объяснять, что делать, не приходилось. Сидевшие и лежащие отроки вскочили, расхватали щиты и шлемы и выстроили стену, спиной к воде. Куда вставать лицом, все понимали: они видели только одно направление, где заросли заслоняли даль, и рог звучал именно оттуда.
Из сотни оказавшихся на этом берегу людей щиты сохранили около половины – остальные унесло морем во время бури. Но все ушедшие оставили их здесь: не стоит таскать такую тяжесть, пока сражений не предполагается.
Одновременно с этим из зарослей над ручьем посыпались люди – вопя и потрясая оружием. Их оказалось в несколько раз больше, но первый натиск «стена щитов» выдержала. Напоровшись на мечи и копья, нападавшие отхлынули; на прибрежной гальке осталось не меньше трех десятков тел. Откатились, впрочем, недалеко и принялись забрасывать русский строй сулицами, стрелами, просто камнями, подбирая из-под ног. Целили в головы и в не защищенные щитами ноги. В дружине появились раненые. Две хазарские ватаги пытались зайти с боков. И хотя вооружением и выучкой русы заметно превосходили нападавших, сказывалась усталось и голод, а главное, тех было уж слишком много.
– Отходим! – кричал Улеб, понимая, что если остаться на месте, то здесь они, чуть раньше или чуть позже, все и полягут.
Русы пятились. Шаг за шагом шум прибоя за спиной становился ближе.
Они почти наткнулись на свои лодьи, лежащие в нескольких шагах от воды.
– Берковец! Сталкивайте три лодьи! – заорал Улеб. – Тверд, мы прикрываем!
Видя, что вожделенная добыча вот-вот уплывет из рук, «хазары» вновь ринулись на приступ.
«Стена щитов» рассыпалась: два десятка отроков развернулись и стали сталкивать лодьи в воду, прочие бросились навстречу местным, с диким яростным криком рубя направо-налево и стараясь оттеснить их. К этому времени нападавших уже осталось на ногах не так много: среди них мало кто имел шлемы, щиты тоже нашлись не у всех, и прибрежная полоса была усеяна смуглокожими телами. Русы тоже понесли потери: среди тел на гальке лежали и свои, но прорваться, чтобы попытаться их подобрать, – нечего и думать.
– Отходи! – орал Улеб. – В лодьи!
Отбиваясь уже по колено в воде, русы прыгали в лодьи. Здесь нападавшие отстали: понимали, что за эту строптивую добычу придется заплатить многими жизнями, а на это они не рассчитывали. Давили только числом и наглостью: явно не кагановы воины, а так, дрянь прибрежная.
Когда лодья уже отходила, еще какие-то трое промчались через полосу прибоя и с воплем: «Свои! Возьмите нас!» – влезли на борт. И уже отходя от берега, Улеб разглядел, что это Сигват Волкогон и двое из его малой дружины.
– Ты откуда? – тяжело дыша, он схватил Сигвата за плечо. – Где князь?
– Так это мы вам трубили! – Столь же жадно глотая воздух, доложил Сигват. – Кабана… несли. Князь… послал.
– Где он сам?
– А клюй знает!
Стрела с берега вонзилась в борт совсем рядом с рукой Сигвата, и он пригнулся, прячась за чей-то выставленный щит. Из бывших с ним пяти человек трое пропали при прорыве через прибрежную полосу. Разделанного кабана бросили в зарослях, откуда Сигват ударил в тыл хазарам, и три лодьи остались на берегу – на них у Улеба не хватило людей.
Отроки налегали на весла, выгребая прочь от берега. Для стрел они теперь уже были недосягаемы. А уцелевшие хазары бегали по берегу, скакали, забравшись в пустые лодьи, и выкрикивали что-то оскорбительное.
– Ой, что это у них? – вдруг охнул Дыбун рядом с Улебом.
– Где?
– Вон, тот, с копьем…
Улеб пригляделся и похолодел. На одном из полуголых хазар на берегу болтался красный плащ – тот самый, который он видел не далее как нынче утром. В этом плаще ушел с берега Святослав, и это был единственный красный плащ в уцелевшей дружине.
Может, просто похож? С такого расстояния Улеб уже не мог сказать точно, но видел светлую полосу отделки по краю, изрядно замызганную.
А другой хазарин размахивал копьем, на которое был надет шлем с полумаской.
– Рус! – полуразборчиво орали оттуда по-гречески. – Рус, куда бежишь? Вот твой архонт! Возьми его с собой!
Улеб судорожно сглотнул. Нечего и пытаться разглядеть, что там надето на копье под этим шлемом. И даже плащ мог оказаться совсем другим, не Святшиным. Но легче становилось ненамного.
Теперь, когда прямая угроза своей жизни и жизни оставшихся людей миновала, явилась мысль, от которой пробрало морозом.
Где Святослав?
* * *
Близилась полночь, и в Киеве давно все затихло, когда к пристаням Почайны подошла лодья. В месяц вересень ночи уже полны густой, непроглядной тьмы, но в полнолуние свет луны превратил реку в сплошное поле искрящегося серебра, и черный очерк лодьи на нем отчетливо выделялся. К причалу вышла стража: десяток отроков из дружины Мистины, под началом Скудоты.
– Это кто там? – окликнул десятник. – Что за лешии?
– Из княжьей дружины мы, – донесся ответ с реки. – Улеб Мистинович.
– Улеб? Это я, Скудота! Откуда ты? Князь возвращается?
– Я это! – Улеб на носу лодьи помахал рукой.
Лодья пристала, Улеб с тремя отроками перебрался на причал.
– Ну, как вы? – При свете принесенного факела Скудота узнал его и обнял. – Воротились? Где все? Как поход?
– Войско в Витичеве. Завтра будет здесь. Меня вперед послали.
– Ну, как сходили? – со всех сторон посыпались вопросы оружников.
– Добыча?
– Потери?
В голосах слышалось возбуждение, сшитое из надежды и опасения.
– Есть и добыча. Полону взяли у греков, скот есть, утварь всякая…
– Потеряли много? – По голосу Улеба Скудота понял, что проход прошел не гладко.
– Неполную сотню. Ну, пусти, брат, после все расскажу.
Скудота посторонился. Неполная сотня из восьми – не очень большие потери, в пределах неизбежного. Кто именно не вернулся, есть ли среди них те, кого он знал – это все прояснится завтра. Когда большая дружина войдет в Киев, будут жертвоприношения, пиры, дележ добычи и подарки тем, кто хранил стольный город во время похода.
От предложенного факела Улеб отказался: дорогу к Свенельдовой улице, где родился на старом дворе своего деда, он легко находил и в темноте. Все давно спали, только две собаки бегали за тыном да дремали под навесом крыльца двое челядинов-сторожей.
С тяжелым сердцем Улеб постучал в родительскую избу. Челядин сказал, что отец дома, никуда не уехал, и это обещало облегчение: вот-вот эта невыносимая тяжесть с его плеч будет снята и переложена на другие – широкие и выносливые. Сколько Улеб ни вспоминал те злополучные дни, сколько ни прикидывал, мог ли где-то поступить иначе, чтобы избежать несчастья, но нигде не находил вины. И все равно не мог избавиться от чувства стыда, подмешанного к горю.
– Кто там? – окликнул Мистина с лежанки, услышав легкий стук в дверь спального чулана.
И по привычке длиною в жизнь опустил ладонь на рукоять топора, лежащего у постели на полу.
– Отец! – Улеб вошел и остановился у порога. Огня в избе не горело, и после залитого лунным светом двора в жилье было темно, хоть глаз коли. – Это я, Улебка. Проснитесь.
– Что случилось? – подала голос Ута из-за спины мужа. – Сынок? Вы все вернулись?
Радость мешалась в ее голосе с недоумением.
– Беда случилась. – Улеб плотно закрыл за собой дверь, чтобы челядь не слышала. – Вставайте…
* * *
Эльга проснулась и не поняла отчего. Уже потом, приподняв голову, услышала тихий, но настойчивый стук в дверь.
– Кто там? – Бажаня, спавшая у порога, первой поднялась и подошла к двери.
– Скрябка, разбуди княгиню, – раздался голос отрока Вощаги, старшего над дозорными во дворе; через дверь он не разобрал, кто ему отвечает, но было ясно, что снаружи свои.
После недавней смуты Эльга велела увеличить дозор по ночам с пяти до десяти человек. В Киеве все шло обычным порядком, но она понимала: любое неприятное происшествие может вновь взбудоражить умы.
– Я сейчас, – ответила она и отодвинула занавесь – из царских гинекеев, затканную дивными золотисто-желтыми птицами.
Дверь открылась, вошла Ута. Эльга вытаращила глаза. Сестра явилась к ней среди ночи?
– Случилось что? – Эльга спустила ноги с лежанки на медвежину, служившую ковром.
– Оденься, – попросила Ута. – Свенельдич со мной пришел.
Бажаня и Скрябка зажгли три свечи на столе и ларе. Эльга торопливо обмотала косы вокруг головы, надела волосник; Бажаня поднесла ей платье, но она схватила с ларя свиту и натянула прямо на сорочку, запахнула, стремясь скорее получить объяснения. Ута не плакала, но казалась совершенно потрясенной. Мелькали нелепые мысли о каких-то чудесах, которые могли заставить самых близких людей разбудить княгиню среди ночи. Змей-Ящер в Днепре всплыл? Что-то вроде того – недаром же Ута смотрит на нее с таким испугом.
– Уж не Прияна ли… – начала Эльга, но умолкла: невестка за последние два месяца вполне оправилась, и хотя оставалась мрачной, ждать возврата лихорадки не имелось причин.
Нет, не Прияна. Эльга видела это по лицу сестры и продолжала блуждать в догадках. Но вот она оделась, и вошел Мистина. Эльга шагнула ему навстречу, открыла рот, но тут увидела за спиной свояка еще одного мужчину и замерла.
Несмотря на полутьму, Эльга легко узнала племянника, которого знала ровно столько же, сколько родного сына.
– Уле… – начала она, но перехватило горло.
Сестрич ведь ушел в поход со Святославом и вернуться должен был с ним. Его могли послать вперед – предупредить о приходе войска. Но зачем будить ночью – не побежит княгиня сейчас прямо быка резать и хлеба месить. И если бы ей хотели сказать всего лишь «Святослав возвращается!», эти слова уже прозвучали бы. И ради них сестра не явилась бы за полночь, чуть ли не со всей семьей…
Такого убитого лица у Улеба Эльга не видела никогда. Не случалось еще в его жизни таких горестей, чтобы…
Она снова села на лежанку. Ута опустилась рядом и взяла ее за руку, но Эльга едва заметила.
– Я… – Улеб всего лишь поклонился ей почти от двери, хотя в любой другой день подошел бы и обнял. – Мы…
Он умолк и детским взглядом воззвал к отцу о помощи.
Таких глаз Эльга у него не видела много лет. Парню двадцать первый год – он уж давно не дитя. И от мысли о единственном возможном объяснении ее сердце все падало и падало вниз по холодному колодцу и никак не могло достичь дна.
– Они расстались со Святшей, и никто не знает, где он, – произнес Мистина, тоже не в силах больше тянуть это молчание.
В первый миг на Эльгу плеснуло облегчением. Ей не сказали: «Он погиб».
– Нас разметало бурей в море возле Таврии, – торопливо заговорил Улеб. – Мы шли с ним на одной лодье. Нас вышвырнуло близ Карши хазарской. Святша взял Икмошу с его орлами и пошел на охоту и окрестности посмотреть. Меня оставил при лодье и дружине. А потом на нас напали хазары, в общем, местные какие-то. Нам пришлось отбиваться и потом отплыть. И они кричали… кричали, что… – Улеб будто задыхался, не в силах набрать в грудь столько воздуха, сколько требовалось для дальнейшей речи, – что вот ваш архонт… Но тел мы не видели, они могли и наврать!
Он не стал пересказывать, как хазары размахивали чьей-то головой в шлеме, надетой на копье, когда кричали: «Вот ваш архонт!» Даже если те и встретили Святослава с малой дружиной, откуда им было знать, что он князь? И это могла быть вовсе не Святшина голова, а вообще что угодно. Хоть травы пучок – издалека же не разглядишь.
– Н-но вы искали его? – лишь чуть-чуть дрожащим голосом уточнила Эльга.
– А то ж! Отошли сначала на запад и потом наткнулись на Одульва и Сигдана. Они одиннадцать лодий успели по бухтам собрать. И мы с ними пошли обратно в те места. Высадились, прошли почти до самой Карши. Похватали людей, допрашивали всех, особенно кто полоном промышляет. Но там главные жуки сидят в Карше. Никто не сказал, чтобы видели пленных русов. В одном месте указали, что натыкались в то время на ватагу. Сказали, что человек десять перебили. Мы велели показать место, где тела…
Улеб вдохнул, зажмурился на миг, принуждая себя вернуться к воспоминаниям.
– Велели могилу раскопать… – тихо продолжал он среди гнетущей тишины: слушатели едва дышали. – Ну, там… они ж не первый день лежали… Не опознали никого. В том селе нашли перстни, два обручья, торсхаммера три… они сказали, взяли с тех мертвых. Вот.
Улеб полез за пазуху, вынул замызганный льняной лоскут с красным вытканным узором, видимо, оторванный от рушника, и выложил на стол горсть потемневшего серебра.
Мистина передвинул поближе светильник, разровнял украшения ладонью. Все молчали. Обычные витые обручья и кольца, «молоточки Тора» – в дружине такие есть у всех. Никаких особенностей, что позволили бы опознать хозяев.
– Ты ведь отрокам показывал? – Мистина поднял глаза на сына.
Улеб кивнул, потом помотал головой:
– Никто не признал. У меня у самого… – Он положил руку на грудь, где на шейной гривне болтались три серебряных кольца: так гриди носят свои сбережения.
Ясно, что эти вещи взяты у кого-то из русской дружины, но назвать чье-то имя было невозможно.
– Вот это, – Улеб ткнул пальцем в витой браслет с застежками-петельками и зарубкой почти посередине, – Сечень сказал, это Дремы.
– Дремы?
У Эльги вновь оборвалось сердце. Дрему она знала: женатый на Славчиной дочери, он входил в Икмошину ватагу. Она привыкла видеть его среди тех, кто всегда окружал Святослава.
– Мы поселков пять сожгли… не нашли следов, – докончил Улеб. – А потом решили отходить: там же Карша, в ней тудун, у него людей куда больше. Если брать Каршу, то это двадцать раз по столько надо, сколько у нас было. Там уже сам каганат, не Таврия даже…
Мистина молча кивнул. Брать Каршу стоило бы, имея надежду, что пропавшие сидят в городе как полон, приготовленный к продаже. Но кто эту надежду даст? Не такие люди Святослав и его гриди, чтобы сдаваться. Но даже если их взяли живыми, то из Карши уже могли увезти. И даже сами продавцы, хоть режь их на куски, не скажут, был там князь Святослав или нет, потому что просто не знают этого! А от одного отчаяния затевать серьезную войну с каганатом – без подготовки, без той поддержки, которой они с Эльгой так и не добились, будучи в Царьграде…
– А войско где? – спросила Эльга.
Она слегка задыхалась, будто осознание беды все прочнее стягивало петлю на горле. Разметало бурей… Если в придачу к Святославу пропала большая дружина…
Небо над головой пошло черными трещинами.
– Больше семи сотен цело! – поспешно успокоил Улеб. – Сейчас в Витичеве. Мы частью по пути людей собрали, частью они сами раньше нас к Торду вернулись. Да Бряцало со своей сотней добычу стерегли. Мы потеряли три лодьи, да остальные еще четыре. Считая Бергмара Оленя, он у нас на глазах утонул. Где Альрек Шило и Ульвид Рог со своими, никто не знает. Может, их и правда в Царьград унесло, а может, еще вернутся.
– Асмунд где?
– В Витичеве. Завтра приведет дружину.
– Асмунд все правильно сделал, – подал голос Мистина. – Ходить на Каршу с семью сотнями нет смысла, а дружина сейчас нужна здесь. И нам надо решать, что мы завтра будем людям говорить.
Эльга ощутила наконец, что Ута сжимает ее руку. Захотелось вскочить, закричать: это неправда, неправда, он жив! Она сглотнула, подавляя судорогу в горле, предвестницу рыдания: ей ведь и не сказали, что сын мертв. Просто никто не знает, где он.
– Он еще может найтись, – подтвердил ее мысли Мистина. – Пока тела никто не видел, хоронить его рано. Он удачливый. Но у нас Киев и дружина без князя. И неизвестно, на какой срок. Может, он завтра их догонит. А может, вестей не будет до зимы.
«И зимой тоже», – мысленно закончила Эльга, так отстраненно, будто речь шла о сыне какой-то другой женщины.
И тогда – все. Не будет у нее больше сына… Вот так: двадцать лет был – и вдруг нет. Она пыталась окинуть взглядом полуденные края – жерло Днепра она видела дважды в минувший год, – но мысленный взор терялся на просторах, известный ей лишь понаслышке. Таврия, Климаты, Херсонесская фема, Боспор Киммерийский, хазарские крепости Карша и Самкуш, за которыми начинает каганат… Хазарское море, Персия, куда уже не первый век увозят полон… Горы, холмы, полустепи и степи, проливы, приречные заросли… Как найти там человека, пусть даже он князь? Живого, мертвого? Все равно что уронить кольцо посреди моря и вглядываться в синие глубины… Безнадежно.
Наваливалась растерянность, за которой уже мерещился ужас невосполнимой потери. Захотелось обеими руками вцепиться в лежанку. Перед лицом зашевелился туман той пропасти, в которую она уже падала однажды – восемь лет назад, когда Олег Предславич привез ей весть о гибели Ингвара. Но тогда он точно сказал ей, что муж погиб. Не оставалось никаких сомнений – ни у вестника, ни у нее самой. Теперь же никто не знал в точности, что случилось и что об этом думать. Сердце будто качалось на доске. То ввысь, к светлым небесам: никто не видел Святшу мертвым, он может быть жив! – то вниз, в черную пропасть: исчезнув на землях каганата, он очень даже мог погибнуть. И если Улеб, Асмунд и дружина вернулись, значит, еще семь сотен человек думают, что мог…
Голова пошла по кругу. Ута обхватила Эльгу за плечи, и только тут княгиня осознала, что чуть не упала.
– Он еще может вернуться, – дрожащим голосом сказала Ута. – Пока никто не видел тела, мы не должны думать, что… Надо жерт… надо молиться! Бог поможет.
Надо жертвы… Это единственное слово зацепилось в сознании, как рыбка за сеть. Если Святослав еще может вернуться, нужно принести жертвы, и тогда…
– Эльга! – Мистина подошел ближе, сел на лежанку с другой стороны и взял ее вторую руку. – Послушай меня! Завтра в Киев вернется большая дружина. Семь сотен гридей. Завтра в городе и на полдня пути вокруг не останется ни одной собаки, которая не будет знать, что князь пропал и, может быть, погиб. Люди снова придут к твоим воротам и спросят: что с князем? Надо что-то делать. Прикидываться, будто мы что-то знаем и чего-то ждем. Да, люди тоже будут говорить: он еще может уцелеть, но думать все будут одно – как нам дальше жить, если он не вернется. Нужно завтра не дать разгореться этому пожару и ждать.
– И опять… – прошептала Эльга, сжимая его пальцы, будто тонула, а он мог ее спасти, – опять они скажут, что виновата я и мой греческий бог…
Ута охнула и даже выпустила ее руку: это ей не приходило в голову.
– Пес твою мать! – Для Мистины эта мысль тоже оказалась нова.
Захваченные тревогой за сестру-княгиню и племянника-князя, о греческом боге они не подумали. Необходимость с ним считаться еще не вошла в их привычки. А вот о необходимости считаться с городом Киевом Мистина не забывал и во сне.
– Может… – заикнулась Ута: она подумала, не скрыться ли сестре опять в Вышгород, как в тот раз.
Но не стала продолжать: этот выход даже ей, женщине стойкой, но не боевитой, показался недостойным. Для нее, может быть, он и подходил. Но не для ее сестры-княгини, которая никогда не стала бы тем, чем стала, если бы в трудный час выбирала бегство.
– Надо сказать… и показать всем, что я верю… – хрипло произнесла Эльга. Скрябка поднесла ей воды в серебряной чаше, и она жадно глотнула. – Верю, что он жив и вернется. Будто я знаю, где он…
Но как? Она прижала пальцы к закрытым глазам, будто желая отгородиться от света и увидеть подсказку во внутренней тьме. Она ведь верит. Правда верит, что сын вернется. Гибель близкого человека трудно принять, даже когда видишь тело. А когда тела не видишь, то душа на первых порах сама собой продолжает жить, будто ничего не случилось.
И нужно много времени пустоты, чтобы в нее постепенно, капля за каплей, проникло осознание: он больше не придет. Пока однажды эти капли не сольются в уверенность: его больше нет.
Жены русов сгинувших за морем мужей ждут три года… А потом начинают считаться вдовами.
Но Киев не заставишь три года ждать. Уже совсем скоро… завтра… за воротами закипит напуганная толпа, требующая ответа: что делать и… чья вина?
Эльга взглянула на Улеба, понуро сидящего у двери.
Сейчас он уже старше на пару лет, чем тот Ингвар, которого она увидела впервые. Это Ингвар тех времен, когда они заняли киевский стол и их сыну шел второй год… Сын… ему нужна помощь… Если бы отец был жив! Из-за этого сходства мерещилось, будто сам Ингвар где-то здесь. Он поможет… И Эльга не стыдила Улеба за его уныние: уж слишком он привык жить для своего брата-князя. Вырос в уверенности, что рожден служить Святославу, что его обязанность – погибнуть на пару вдохов раньше своего вождя. А сейчас даже не знает, полагается ли ему дышать дальше.
Она не могла сообразить, можно ли Улеба в чем-то винить: это дружине виднее. Уж конечно, воеводы и гриди все эти дни и недели только и делали, что разбирали каждый шаг и спорили, кому как надо было поступить. Асмунд завтра ей расскажет, к чему дружина пришла. Но не это главное. Как успокоить и утешить толпу? Прогнать страх, призвать надежду?
Совсем недавно она слышала что-то полезное… толковое… Ута сказала…
– Надо жертвы, – Эльга подняла глаза на Мистину. – Нужно завтра же послать по улицам объявить: княгини приносят на Святой горе жертвы за благополучное возвращение князя. Рано. Прямо с утра! До возвращения дружины! Пусть это будет первое, что они услышат. А как дружина вернется, сразу позовем Асмунда и старших на гору. Так и Киев, и гриди будут знать: мы верим в добрый исход и делаем для него все, что в наших силах.
– Молоде… Хорошо придумала! – Мистина выдохнул. – Так и сделаем. Жеребца? Ты дашь? А… – Он запнулся, вспомнив, что Эльга больше не принадлежит к тем, кто приносит жертвы богам. – Кто – я и Асмунд?
– И я, – спокойно ответила Эльга. – Мы с Прияной, если она будет в силах.
Улеб поднял голову. Его родители тоже ничего не сказали вслух, но на лицах всех троих отражался один и тот же очевидный вопрос.
Эльга вздохнула. Как будто непонятно!
– Люди должны видеть, что я – с ними, – внятно, как детям, пояснила она. – Что у них есть княгиня… старая княгиня, к которой они привыкли. Что все по-прежнему. И дела наладятся: боги смилостивятся, князь вернется, и все мы будем жить-поживать, добра наживать.
У Мистины прояснилось лицо. На такое средство он даже не рассчитывал, но понимал, что Эльга права: после прошлых сомнений и смуты участие княгини-матери в жертвоприношении порадует народ вдвое сильнее, чем могло бы раньше. Люди увидят: если возникнет угроза настоящей беды, княгиня будет с ними, как была всегда. И никакой «идол белокаменный», «навьи бабы на досках» не помешают.
Но Мистина понимал и еще кое-что. И боялся указать на это Эльге. Да сознает ли она: найдись сейчас какой-нибудь песий хрен, кто станет бегать по городу и кричать, мол, князь погиб, а виновата княгиня-мать, что отступилась от богов и тем их разгневала – тут и Вышгород не спасет. Ей придется бежать, уже не от смуты, а ради спасения жизни. И хорошо, если он успеет прорубить ей путь к лодьям…
А Эльгу в это время осенила другая мысль, от которой она вновь закрыла лицо руками.
– О Кириос! – Опустив ладони, она взглянула на Улеба и Мистину. – Прияна же еще не знает?
И прочла по их лицам: не знает. Первым делом они пошли не к молодой жене Святослава, к ней, к матери, от нее ожидая совета и помощи.
И кого послать к Прияне с этой вестью? Она еще слаба… Не Мистину же… Соловьицу, может? Уту?
Но по устремленным на нее глазам Эльга видела: не сгодится тут Соловьица. Это ее, Эльги, сын, ее невестка. Ей и идти…
Скрыть новость было нечего и думать. Ни от молодой княгини, ни от киевлян. Невозможно утаить то, о чем знает семьсот человек.
* * *
Рано утром Эльга приехала к Прияне и застала ее в постели: лихорадка почти отступила, но молодая княгиня пока не окрепла настолько, чтобы проводить на ногах весь день. Бледная, сильно исхудала, она, однако, старалась держаться бодро. При виде свекрови хотела встать, но Эльга велела ей лежать.
– Мы решили принести жертвы за благополучное возвращение Святши, – Эльга села на край лежанки и взяла ее за руку. – Сегодня вернется большая дружина.
Маленький Яр ползал по постели возле матери, и Эльга не могла не улыбнуться, глядя на него. Есть ребенок – есть будущее.
– Откуда ты знаешь? – Прияна оживилась. – Был гонец?
– Ночью приехал Улеб. Большая дружина с Асмундом идет из Витичева, а он поехал вперед.
– А…
– Святши с ними пока нет. Он с частью людей задержался близ Карши. Там с ним Икмоша со своими. Когда они вернутся, пока никто не знает, но мы решили принести жертвы, чтобы успокоить людей и не допустить никаких волнений. Ты согласна, что это правильно? – Эльга склонилась ближе к невестке.
– Д-да, – несколько растерянно кивнула Прияна.
Она видела: от нее что-то скрывают.
– Ты в силах пойти на Святую гору? Если нет, не тревожься: там буду я и все сделаю как надо.
И тут глаза Прияны потемнели. Она поняла: дело худо, если свекровь, покинувшая старых богов, готова к ним вернуться. Губы ее дрогнули, но она не сразу нашла слова для вопроса.
– Ты знаешь что-нибудь? – прошептала Эльга, наклонившись еще ниже. – О нем?
С самого детства Прияслава оказалась тесно связана с Навью. Несколько раз она уже предвидела чью-то смерть; у нее на руках умер Хакон, младший брат Ингвара и дядя Святослава. И Эльга все это утро думала с тревогой и надеждой: если со Святославом и правда случилось нечто… очень худое, Прияна может это почувствовать. Кому, как не жене, матери его сына?
Прияна откинулась к изголовью. Бледное лицо с растрепавшимися за ночь волосами, белая сорочка, худоба – все это делало ее похожей не то на русалку, не то на покойницу. Эльгу пробирала дрожь, но она не выпускала исхудавших пальцев невестки, будто это помогало поддерживать связь с сыном.
– Я не вижу… не слышу… глухо все, – прошептала Прияна. – Будто я оглохла и ослепла… ну, там. Хочу его найти и не могу.
– Не мучай себя! – Эльга сильнее сжала ее руку. – О дитяти думай. Ему ты больше нужна. – Она посмотрела на Ярика. – Святша – мужчина, с ним гриди, они справятся без нас с тобой. А вот здесь, в Киеве, без нас никак. Мы должны позаботиться, чтобы народ успокоить. Пойдешь на Святую гору?
– Пойду, – кивнула Прияна. – Я могу вставать. Только устаю быстро.
– Пир устроим у меня, а ты потом хочешь к себе иди, а хочешь – у меня отдохни. Главное, помни: народ нас обеих должен видеть в бодрости. И тебя, и меня. И Яра с нами.
Хорошо, что Прияна так ничего и не узнала о замысле Эльги сосватать для Святослава греческую невесту – такая новость могла бы подорвать ее силы. Успех замысла, в общем, даже не грозил Прияне разлукой с мужем, но звания княгини лишил бы. Эльга ничего не имела против Прияны, относилась к ней почти как к дочери, но… при чем здесь это?
Восемь… нет, уже почти десять лет назад ее, Эльгу, приводила в ужас мысль, что Ингвар возьмет вторую жену. Тогда речь шла о смолянской княжне Ведоме – старшей сестре Прияны. Эльга почти возненавидела Мистину, которому этот замысел принадлежал, и дулась на него целый год. А его замыслу противопоставила свой: подобрать Ведоме другого жениха. И даже сама отправилась с мужем и дружиной в Смолянскую землю, опасаясь, что у нее за спиной Ингвар и Мистина ее как-нибудь обойдут.
А ведь Ингвар тогда имел право искать другую жену: у Эльги как был, так и остался один-единственный сын. И если…
Эльга бережно сжала руку Прияны, вглядываясь в изможденное лицо невестки. Если длительная родильная лихорадка приведет к бесплодию, то царевна, не царевна – Святославу все-таки понадобится другая жена.
Сейчас она еще не впускала в сердце мысль о том, что он может вообще не вернуться.
Прияна обещала к полудню прийти в святилище, и Эльга поехала домой. Невестка восприняла плохую новость наилучшим образом: обошлось без крика, слез и обвинений. Может, она просто не до конца поняла, что происходит. Эльга нарочно постаралась представить случившееся как можно более обнадеживающим. Не сказала, что, по прикидкам гридей, со Святославом может быть от восьми до пятнадцати человек – тех, кто высадился вместе с ним и Улебом, но не был потом обнаружен среди живых или мертвых.
Но сегодня в город придет дружина. Кто-нибудь обязательно расскажет молодой княгине, как все случилось. И хотя бы та будет готова.
А кого винит дружина? Чьих богов?
Эльга ехала верхом, в окружении двух десятков отроков. На киевских торгах и на причале уже объявляли о сегодняшнем возвращении дружины и принесении жертв. Народ на улицах и всходе махал шапками, кричал. Иные орали: «Слава князю нашему!» – кажется, еще не поняв, что Святослава среди прибывающих нет. Эльга улыбалась с седла и кивала направо-налево. Но именно сейчас поняла, что движется по лезвию ножа.
* * *
К жертвоприношению все было готово. Вымели площадку святилища, с княжьих лугов привели рыжего жеребца. Стояли возле камня-жертвенника горшочки с маслом и медом, ждал пучок перун-травы, молот, жертвенные ножи и ведро для крови. Дубовые дрова лежали по кругу, разложенные на шесть куч. Приехала Прияна с ребенком и отдыхала пока у Эльги. Ждали только подхода дружины и прибытия старших воевод.
– Ригор просится, – доложил Эльге Зимец. – Пускать?
– Пускай, – кивнула она.
Не требовалось особого дара, чтобы предсказать его появление. Как и суть предстоящего разговора. Горяна исчезла со двора сразу, как приехала молодая княгиня, но сегодня Эльге было не до того, чтобы бегать ее ловить.
– Будь жив, отец! – Эльга встала и шагнула навстречу Ригору. От возбуждения ей не сиделось на месте. – Хорошо, что ты пришел. У нас беда, а у меня две беды.
– Господь поможет, чадо, – Ригор как будто даже растерялся. – Совета и утешения тебе нужно?
– Да. Первая наша беда: князь, мой сын пропал и никто не знает, жив ли он. – Эльга с беспокойством оглянулась на Прияну, но та сидела, держа ребенка на руках, с видом спокойным и решительным. – Потому сегодня будем приносить жертвы Перуну, чтобы помог ему вернуться благополучно. А вторая моя беда – я должна в этом участвовать, чтобы смут и раздоров в городе не допустить. Придется мне на грех пойти, и ты меня научишь, как его искупить.
– Не греши, чадо! – Ригор развел руками: дескать, какой еще науки надо. – Коли ты знаешь, что грех…
– Я знаю, но другого выхода нет. Народ должен видеть: мы делаем что можем, с богами в согласии.
– Но то народ темный, языческий! Ты же просвещена, ты знаешь, что идолы и боги ваши – камни и дерево! – воскликнул Ригор, вынужденный повторять то, что все здесь, – кроме Прияны, – и так уже знали. – Как ты можешь с ними в согласии быть?
– Я должна показать согласие с народом. Иначе здесь будет страшная смута, и она куда больше вреда принесет, чем мой грех.
– Остановись, княгиня! – Ригор подошел ближе, будто хотел заслонить ей дорогу. – Сам патриарх тебе завещал: сохраняй в чистоте одежды крещения! А ты! Едва год прошел, а ты уже снова кровью идольской жертвы хочешь их запятнать!
– Не хочу.
– Ты же знаешь, что жертвы эти князю не помогут, ибо нет силы у идолов!
– Знаю. А народ верит, что есть.
– Но твое дело – просвещать народ, а не потворствовать его заблуждениям!
– Я буду просвещать. Но прямо сейчас, сегодня, его надо успокоить. Пойми, – Эльга с мольбой заглянула ему в глаза и заговорила очень тихо, почти шепотом, чтобы даже Прияна не слышала: – Ты помнишь, что недавно стряслось. У княгини родилось мертвое дитя, и народ решил, что виноваты я и наш Бог. Сейчас исчез сам князь, и он может погибнуть. Если хоть кому-то придет в голову, что беду послали боги, разгневавшись за мое крещение, то мы погибнем все. Я, ты, Горяна, все христиане киевские. Будет хуже, чем тогда с Предславом…
– Смерти мы не боимся, ибо в воле Божьей…
– Да разве я за себя боюсь! – Эльга мельком подумала о Бране, но сказала о другом. – Если народ поднимется на меня, в Киеве будет кровавое побоище, пожар, раздор на долгое время. Святослава нет, и если я погибну, Киев и земля Русская останутся без верховной власти. Вся держава наша развалится и в руки врагов упадет. Снова будут поляне хазарам дань платить, как сто лет назад. Вот чего я боюсь. И все отдам, чтобы этого не было.
– Всякая власть от Бога – ты помнишь? И твоя тоже. Господь рассеял врагов своих! Бог дал тебе власть, у других отнял. Бог наставил тебя на истинный путь. Власть в Киеве ныне – только твоя, понимаешь ты? У тебя все есть:
дружина, сила. И ты, имея в руках слово Божье, Крест Господень, и меч, Богом врученный, – пятишься? Уступаешь врагу, когда должна смело напасть на него? Твой долг – не потворствовать язычникам, а крест утвердить там, где идолы стоят. Нет в тебе доверия к Богу, к любви Его, а значит – веры нет!
Эльга опустила голову. Он прав. Нет в ней доверия к Богу. Не верит она, что Бог уладит это дело, удержит киевских христиан и язычников от битвы у ее ворот. Или в то, что именно так и будет лучше.
Захваченная мыслями о Святославе, она не заметила намека, который Ригор вложил в свою речь: Господь убрал с ее пути иных властителей – противников Христа. Она не могла так думать о родном сыне, которому грозила смертельная опасность.
Понимала она одно: никаких битв. Тем язычникам, кто погибнет, это уж точно блаженства не принесет.
– Господь заповедал: «Я Господь, Бог твой; пусть не будет у тебя других богов, кроме Меня», – горячо продолжал Ригор, пользуясь ее молчанием. – И ты, принимая крещение, клялась Ему в верности. Где твои обеты? Христос сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия»[57]. Христос смерть на кресте принял, чтобы уничтожить грех. А ты делаешь уступку врагу… такую уступку… сколько невежд совратишь ты этим… Земного царства своего ты жалеешь? А о царстве вечном, царстве во Христе, уже забыла? Ты знаешь Христа и уклоняешься от чаши горькой? Крест на тебе – знак, что теперь ты исполняешь только волю Распятого за нас, сколько бы бед и несчастий ни послал Он тебе.
Эльга молчала. Она совершенно точно знала, что делать ей как княгине русской – но и христианка в ней тоже знала, и согласия они достичь не могли. Приходилось выбирать. Огромное мужество и вера нужны, чтобы заботиться о душе, пренебрегая всем остальным. Жития святых полны рассказами о таком мужестве.
Она хотела вести Русь по пути Христа, чтобы сделать ее светлее и сильнее. Чтобы и сюда упали хоть капли того золотого дождя, что уже пролился над Греческим царством и принес научилища, излечилища, странноприимные и сиротопитательные дома, механику, риторику, грамматику и даже оживающих золотых львов. Чтобы дать каждому закон любви и доброты, освещающий путь во тьме жизни. Сделать каждого частью единства более широкого и могущественного, чем свой род и предки. Но пока вокруг нее сгущалась тьма, и она брела в этой тьме, держа на руках Русь, будто свое дитя. Какая мать не отдаст ребенку все, даже жизнь? Даже душу…
Но ведь Авраам для Бога готов был пожертвовать и своим сыном. И тогда его спас сам Бог, видя преданность старца. Так что же – ничего не делать? Отпустить свой народ и державу тонуть в кровавой мгле смуты? Которую сама она не увидит, потому что погибнет первой – вместе с девятилетней дочерью и всеми домочадцами? Родичами и воеводами, которые вступятся за нее?
Решиться на это в надежде, что в последний миг Господь через ангела своего отведет руку с ножом?
Нет. Решаться на это надо без надежды. Какая ценность в даре, если его предлагаешь, зная, что останешься при своем?
У дверей раздался шум.
– Воевода Асмунд пришел! – донеслось из сеней.
Эльга подняла глаза. Вошел Асмунд – здоровенный, суровый на вид, с немытыми седеющими волосами и свалявшимися косичками в давно не чесанной бороде.
Ну вот. За этим разговором ей не донесли, что большая дружина прибыла.
– Цела будь! – приветствовал брат-воевода сестру-княгиню и сразу перешел к делу: – Мне Свенельдич рассказал. Мы собрались. Ты идешь?
– Я иду. – Эльга встала.
* * *
«А ты помнишь, архонтисса, каковы смертные грехи, что человека от Бога отдаляют и благодати лишают?» – когда-то давно спрашивал ее Полиевкт, когда они прогуливались по галерее патриаршей схолео при Святой Софии.
«Помню», – отвечала она.
«А первый какой?»
«Гордыня».
«А почему?»
Патриарх тогда не дал ей ответа, желая, чтобы архонтисса Росии подумала сама. И она давно уже поняла почему. Чтобы верить в Бога и повиноваться Богу, надо отказать своему уму в праве решать, что хорошо, а что дурно. Надо верить слову Божьему и исполнять заветы. Тогда спасен будешь. А пока ты думаешь, пытаешься умом проверить, хорошо ли заповеданное Богом, подходит к твоей жизни или не подходит, – ты не следуешь за ним.
В Константинополе ей рассказывали, что уже лет двадцать на другом берегу Босфора, в городе Халкедоне, спасается на столпе некий отшельник, по имени Лука Столпник. Возложил на себя обет молчания, а чтобы не нарушить невзначай, держит во рту камень. Здесь, в Киеве, Эльге иной раз казалось, что только так и можно спасаться – стоя на столпе и держа во рту камень. Не имея никакой связи с землей и людьми, на ней живущими. А когда приходится делать выбор между своей праведностью и миром в Киеве – тут хоть залезь на тот столп, где царь Устиян медный стоит, – не поможет.
Истинно верные полагаются только на Бога. Те, у которых душа перед Богом – будто капля росы перед солнцем, что отражает всю мощь его света, хотя не может вместить и малой частицы его. Но Эльге ее душа представлялась глубокой темной водой, куда пока лишь изредка падает светлый луч понимания Бога, ощущения близости Бога – то, что зовут благодатью.
Ах, если бы она могла думать о себе так, как о ней думали другие!
* * *
Цветущей греческой весной русы снарядили свои корабли. Накануне вечером в триклинии устроили пир для вестиаритов и этериев из стратонеса, и до полуночи весь палатион полнился криком на невообразимой смеси славянского, северного и греческого языков. За год многие из Саввиных «львов» сдружились с отроками Эльги, и перед отъездом случилось несколько разменов: кто-то из ее дружины перешел в среднюю этерию, кто-то простился с ней, желая перебраться на Русь. Мистина как-то полдня торговался с Саввой по поводу этого размена, но охотно шел на уступки, очень довольный, что он и княгиня уезжают, а любезный седоусый этериарх остается.
Савве русы на прощание поднесли меч, привезенный для подарков и приберегаемый на самый важный случай. Прекрасный рейнский клинок, серебряный с позолотой набор, отлитый с хитрыми северными узорами; рукоять резной кости, тоже с серебряным навершием и кольцом посередине. Никакой князь не постыдился бы показаться с таким мечом.
– Мы решили преподнести тебе этот наш дар сейчас, при отъезде, – говорил ему Мистина, – а не в начале, чтобы ты знал: мы делаем это в знак нашей дружбы и уважения, когда нам уже ничего от тебя не нужно. Мы привезли его, еще не зная, где найдем такого друга, который будет его достоин, и поверь мне: вот я сам очень рад вручить его тебе, а не кому из этих… боевых «ангелов».
Сейчас он уже не беспокоился о том, что сам Савва – не из «ангелов». Этериарх принял дар, улыбаясь в седые усы, они обнялись под радостные крики дружины. Эльга тоже улыбалась, облегченно вздохнув. Чуть ли не весь год она боялась, что эти двое в конце концов подерутся, будто Георгий и змей за царскую дочь.
Если бы не необходимость поспать перед дорогой через Босфор – по проливу до Греческого моря предстояло идти целый день, – они гудели бы всю ночь. Но вот настало утро. Дружина выступила из палатиона Маманта и по мощеной дороге двинулась к гавани на Суде. Опять махали им смуглые земледельцы и жители предградья, а позади и впереди шествовали вестиариты в золоченых шлемах. В толпе служанок прибавилось пять младенцев и восемь греческих жен, приобретенных отроками за этот год.
Когда лодья уже ждала и женщины толпились у сходней, Савва Торгер подошел к Эльге и снял шлем.
– Позволь мне проститься с тобой, как другу, – сказал он, почтительно кланяясь. – Этот год я запомню наравне с теми, когда Бог посылал мне наилучшие наши победы. Я живу на свете шестой десяток, едва ли мне осталось очень долго, и поэтому смело могу обещать, что запомню тебя до конца моих дней! – Он улыбнулся, и, как всегда, Эльга не поняла, шутит он или нет. – Ум твой по силе и ясности подобен уму мудрейших мужчин, но заключен в тело прекрасной женщины и одарен добрым сердцем. Беседы с тобой доставляли мне величайшую отраду, как в иной раз минуты молитвы. Я даже думаю: уж не знак ли это? Может быть, ты окажешься прославлена Господом так, как мы сейчас и предвидеть не можем? Но как бы то ни было, я счастлив знать, что ты на пути к спасению. Едва ли нам с тобой приведется увидеться вновь в земной жизни. Но разве это важно? Может, мы не увидимся и в жизни будущей, но я буду знать: исполняя заповеди, мы оба войдем в Царствие Небесное. Ты будешь спасена Господом, и это радует меня не менее, чем если бы…
Мистина стоял у него за спиной, и Савва его не видел. Но, вероятно, чувствовал тяжелый взгляд старшего посла.
Эльга тогда подала ему руку, и он сжал ее обеими руками, а его светлые глаза на загорелом морщинистом лице сияли, как диаманты.
Нет. Никакому мужчине не суждено больше разделить ее судьбу. Но мысль, что этот человек где-то там за Греческим морем молится о ней, приносила Эльге облегчение. На молитвы Саввы она полагалась куда больше, чем на собственные.
* * *
Во время жертвенного пира Эльга сидела на своем беломраморном престоле, по бокам ее разместились Асмунд, Мистина, Улеб, Прияна с княжичем на руках. Горяна, Предслава, Ута, ее дочь и другие крестившиеся не пришли: Эльга велела им оставаться дома. Уж если ей приходится брать на себя вину перед Христом, то иных она за собой тащить не желала, хотя Ута и порывалась прийти помочь. Как и двадцать лет назад, у нее не было иной госпожи, кроме сестры-княгини, и иной заповеди, кроме служения ей. А Эльгу мучила совесть – она изменила Богу и не знала, примет ли Он ее оправдания.
Однако ее личная жертва, похоже, оказалась не напрасной. Настрой в гриднице висел тревожный, но не безнадежный. Много вспоминали первый поход Ингвара на греков, когда сам князь после разгрома едва вернулся в Киев живым. Однако вернулся же. И сын его вернется, ибо унаследовал удачу отца и предков матери.
На следующий день, едва Асмунд проснулся – впервые за несколько месяцев в чистой сорочке, в собственной постели, возле собственной жены, – как ему доложили: свояк явился. Мистина вошел, приветливо кивнул хозяйке, своей падчерице Дивуше. Сел напротив Асмунда, положил руки на стол и глянул на него исподлобья:
– Говори.
Уже сутки его мучила тревога: а что, если Улеб все же допустил какую-то промашку, о которой не посмел ему сказать? На людях сохраняя уверенный вид, Мистина не знал покоя и почти не спал ночь. Улеб не приходился Мистине родным сыном, но воевода вырастил его и был намерен отвечать за него, как за своего.
* * *
Святослав сидел посреди береговой площадки и глядел в море. Позади него восемь гридей рыли могилу: четверо разрыхляли песок секирами, остальные выгребали обломками щитов.
На место стоянки они вернулись незадолго до вечера – и нашли там только следы недавнего сражения. В стороне валялись на камнях раздетые тела отроков из тех, что оставались с Улебом – девять человек. Разбитые щиты с вырванными умбонами, какие-то тряпки… пятна крови на песке и камнях… два отрубленных заскорузлых пальца… Ни лодий, ни единой возможности понять, чем все кончилось.
Ни про какую краду и речи быть не могло, но не бросать же тела братьев на съедение лисам! Не обнаружив среди мертвых Улеба, Святослав облегченно вздохнул про себя: троюродный брат был ему ближе всех, хотя и за каждого из остальных он стал бы мстить, как за родного.
Но кому?
Люди населяли эти края уже не первую тысячу лет. Когда-то здесь стояли цветущие греческие города, полные золота, беломраморных статуй, храмов и дворцов, а в окрестностях их в изобилии выращивался хлеб и виноград. С греками здесь смешивались местные племена с давно забытыми именами, а еще разные скифы, тавры, готы, гунны, сарматы, гузы, аланы, булгары, зихи… Из-под власти греческих василевсов эта земля за последние века перешла в руки хазарских каганов, здесь поселились и собственно хазары, хотя те, кто сейчас выращивал здесь хлеб и ловил рыбу, хазарами могли называться лишь для простоты. Правил этим краем тудун, сидевший в Карше, а местное население, помимо земледелия и рыболовства, промышляло прибрежным разбоем и беззаконной торговлей в обход кагановых сборщиков мыта.
Все понимали: на стоянку русов напал какой-то местный отряд, пытавшийся захватить пленных для продажи. В какой мере хазарам это удалось, оставалось неясным. Следы показывали, что лодьи все ушли в море. Но кто в них сидел – свои, чужие? Если девять тел погибших гридей остались на месте, значит, полем боя завладели враги – они унесли своих мертвых, а чужих бросили.
Святославу повезло, что с ними оказался Вемунд. Самый старший из восьми спутников молодого князя – ему, видимо, перевалило на четвертый десяток, хотя точных своих лет Вемунд не знал, – он в юности участвовал в походах Хельги Красного на Хазарское море и видел эти места. Только благодаря ему малая Святославова дружина, оставшись в одиночестве на чужом враждебном берегу, имела представление, где находится и как отсюда выбираться.
– Вот здесь мы, – Вемунд воткнул нож в землю. – Вот здесь Карша, тудун и его войско. – Он положил слева камень. – Вот так идет пролив – то есть Бычий брод. – Он положил ветку. – Вот здесь, за полуостровом, море Самакуш[58]. Если добраться до Самакуша и пойти вдоль берега на запад и север, то выйдем в степи. А через них – к днепровским порогам. Там уже не пропадем, если на печенегов не наткнемся.
Князь и семь его гридей молча слушали, сидя в кружок на земле. Иггимар и брат его Грим, Белча и брат его Хавлот были сыновьями старых, еще Ингваровых гридей, причем оба отца погибли с Ингваром в один час. Красен и Вемунд состояли с этими семьями в свойстве, будучи женаты на сестрах Икмоши и Белчи. Градимир и Девята – самый младший из всех, семнадцатилетний, – происходили из старых киевских родов, давно примкнувших к руси. Все они очутились в той ватаге, которую повел на разведку сам Святослав.
Сидеть здесь и дальше не имело смысла – только дожидаться нового отряда, возможно, даже тудуновой стражи, против которой девять русов не выстояли бы. Предстояло искать пути домой: оставшись за морем без лодьи и вообще почти с пустыми руками. Если сюда, почти на другой конец света, их занесло мощной волной, то обратно придется ползти малой каплей…
– Пойдем на север, вдоль Бычьего брода, – предложил Вемунд. – Дальше вдоль берега Самакуша и потом степью.
– Мы так до зимы идти будем, – заметил Белча.
– Пешком – само собой, – поднял глаза Вемунд. – Надо скутар какой найти. Вроде наших тех.
– Может, прямо один из наших? – хмыкнул Икмоша.
– Хорошо бы. Куда-то же их увели. Тут всем местным такие нужны – рыбу ловить, шелка возить помимо мытников хазарских.
– А стража тудунова, надо думать, рыщет вдоль берега? – предположил Святослав.
– Истину молвишь, княже! – по-славянски сказал Вемунд и отчасти издевательски поклонился, не вставая с земли.
Святослав хотел пихнуть его по-дружески, чтобы не зарывался, но не стал. По уму рассуждая, Вемунда им надо нести на руках и обмахивать от мух, поскольку без него они здесь пропадут.
– Но прямо здесь нам скутар не нужен, – продолжал Вемунд. – Мы сейчас вот здесь, – он потыкал ножом в землю на прежнем месте. – Карша – от нас к северу, а мимо нее нас на скутаре не пустят. Враз повяжут.
– Как же быть?
– Сушей обойти. Ночью. И скутар искать на полуночном берегу, уже на Самакуше.
И девять русов двинулись в путь. Поклажи с собой у них имелась самая малость: одежда, что на себе, и оружие. Даже посуда и прочие походные пожитки, уцелевшие во время бури, оставались в лодьях и ушли в Хель вместе с ними. Чтобы не умереть с голоду прямо сейчас, надергали в том же ручье корней рогоза. Идти предстояло через довольно засушливую местность, где не будет и этого. Очень жалели, что не в чем взять с собой воды.
Весь день шли на север, стараясь выбирать низинные места, чтобы не бросаться в глаза издалека. Люди попадались часто, но русы уступали дорогу, лежа за камнями и в зарослях. Идти старались по каменистой земле, где не остается следов; если попадались песчаные участки, пересекали их, ступая след в след. Дважды видели на дорогах десяток тудуновой конной стражи: может, просто те несли дозор вблизи богатого торгового города, а может, искали чужаков. Святослав не мог знать, проведали ли о них что-то местные власти. Но о столкновении с Улебовыми людьми в бухте они уж точно слышали. В одну из этих встреч пришлось пережидать, лежа в канаве по уши в воде – больше укрыться оказалось негде.
Жарило солнце, но тень чахлых зарослей встречалась редко. Один раз полежали под скалой, чтобы хоть немного остыть. Редкие ручьи и канавы давали о себе знать зеленью растущих над ними ив, но подойти удавалось не всегда: рядом стояло жилье, и один раз долго пришлось ждать, пока хазарские бабы, таскавшие воду ведрами в сад, уйдут в свою мазанку. После них воды осталось мало и была она вся взбаламученная, но русы не жаловались.
Хорошее укрытие давали сады и виноградники, но там приходилось опасаться хозяев. Не раз видели, как местные жители – не то греки, ставшие подданными кагана, не то хазары, заселившиеся сюда еще во времена владычества василевса, – поливают свои посадки. Еще с незапамятных времен, с греков – первых насельников этих жарких сухих краев, для полива применялось хитрое устройство: вода шла от ручья по разборной глиняной трубе, и эту трубу переносили из одной борозды в другую, по очереди, пока не окажется напитан весь сад или виноградник. Раза два, наткнувшись на такую работу, русы долго лежали в уже увлажненных участках сада, меж деревьев, обвитых виноградными плетями с полусозревшими красноватыми гроздьями, ожидая, пока виноградари отойдут подальше и дадут им дорогу.
Раз возле тихого с виду виноградника наткнулись на бабу: средних лет, с простым покрывалом на черных волосах, в мешковатом льняном платье и портах, как ходят хазарки, она собирала с листьев крупных улиток в корзину. Шедший первым Икмоша почти наскочил на нее, не дойдя трех шагов. Баба увидела их в тот же миг: охнула, вытаращила глаза, выронила корзину…
Икмоша, даром что здоровый и тяжелый, метнулся к ней, будто рысь; вцепился обеими руками в голову и с хрустом повернул. Баба рухнула к его ногам, не издав больше ни звука. Так и унесла к своим хазарским богам жуткое зрелище: беловолосый лохматый демон с красным, обожженным на солнце лицом, в мокрой от пота и бурой от грязи рубахе… Тело вместе с корзиной затащили подальше в заросли, в сухую канаву, и прикрыли ветками, чтобы белая льняная одежда издалека не бросалась в глаза. И пошли дальше. Улитки полезли назад на листья…
Когда вдали показались стены Карши, нашли укромное место и остановились на привал. Есть было нечего, кроме таких же гадских улиток. Виноград еще не поспел, зато по пути мимо садов нахватали слив и яблок. Обходились этим, приправляя йотуновой матерью.
Дождавшись ночи, двинулись вперед и обошли Каршу. Дальше до самого моря расстилалась пустынная местность, где на сухой солончаковой почве почти ничего не росло. Ее миновали за ночь и к рассвету наконец выбрались на берег Самакуша.
Казалось, пешего пути дальше нет. Во все стороны на пологом берегу тянулись полосы желтого песка, поросшие жесткой травой. Сновали шустрые серые ящерицы; оголодавшие на сливах и яблоках гриди смотрели на них нехорошими глазами. Измученные жарой, нашли укрытую от глаз бухточку, искупались в теплых зеленовато-серых волнах, кое-кто даже прополоскал пропотевшие рубахи и разложил на раскаленных камнях сохнуть.
– А-а! – дико заорал вдруг Градимир, указывая пальцем на прибрежные камни. – Живем!
Все обернулись, но ничего примечательного не обнаружили.
– Ты чё, сдурел? – одернул его Святослав.
– Что ты там увидел?
Гриди таращились в море и не видели никаких причин для радости.
– Чащоба вы дурная! Это ж мидья!
– Чего?
– Того! Едят вот это! – Градимир еще раз ткнул пальцем в сторону камней, усеянных чем-то вроде черных камешков с острым краем. – Греки только так наворачивают! Правда, Радольв?
Он огляделся, по привычке надеясь обнаружить рядом своего друга Радольва, который ездил с ним вместе в Царьград, но вздохнул и махнул рукой.
Радольв оставался на стоянке с Улебом, и что с ним теперь – только боги знают.
– Собирай, будем печь! – уже спокойнее пояснил Градимир. – С мидьей с голоду не помрем.
– Это что, камни? – не понял Икмоша. – Я тебе что, тролль, что ли, камни жрать?
– Не хочешь – не жри, нам больше достанется.
Это оказались не камни, а что-то вроде улиток, только жили они в тонкой роговой коробочке из двух половинок, черных и шершавых снаружи и серовато-белых, гладких изнутри. В огромном количестве мидья лепилась к камням в воде; их оставалось только отодрать оттуда и запечь в костре. От жара створки сами открывались, и внутри обнаруживался желтоватый комочек, похожий на мягкий орех, из-за чего парни нарекли мидью «морским орехом». По вкусу оказалось ни рыба ни мясо, однако съедобно. Парни даже повеселели; Градимир принялся опять рассказывать, как их угощали мидьёй с приправой из укроп-травы и лимонного сока, на золотом блюде с самоцветами, за столом у василевса, но Святослав вскоре велел ему заткнуться. Сидя на песке и выковыривая присыпанную пеплом мидью из воняющей морем раковины, невыносимо слушать про запеченных поросят, из которых прехитрые греки умудряются вытаскивать кости, заменять их варенной в меду грушей, а потом опять собирать целого поросенка, будто так и было! Да еще и лопают все это особой золотой рогатинкой.
Кое-как подкрепившись и передохнув, пошли искать лодку…
* * *
Сначала они нашли козу. Даже не думали: набросились и зарубили. Вскрыли брюхо, вытащили горячую печень и честно поделили на всех. Не хватило терпения разводить костер и обжаривать или запекать мясо. Да и времени: ясно же, что коза домашняя, значит, близко жилье.
Хазарская деревня обнаружилась довольно скоро: пять-шесть обмазанных глиной хатенок под камышовыми крышами, вблизи моря. На песке лежали четыре мелкие лодки и одна большая. В песке перед хатами возились голые смуглые дети, лежали два-три пса – ветер дул от деревни, поэтому те не учуяли чужаков. В тени у печек хлопотали женщины. Видно было несколько мужчин: один рубил плавник на колоде, другой возился у растянутых на просушку сетей, третий смолил челн.
Русы разглядывали все это, лежа на песке на пригорке, среди жесткой травы. При каждом прикосновении она оставляла тонкую линию пореза на грубой коже рук, а шуршащие в ней ящерицы заставляли гридей то и дело беспокойно дергать головой на звук.
– Будем ночи ждать? – спросил Хавлот.
– А к чему? – отозвался Белча.
– К ночи могут еще вернуться.
– А нам надо? Вон, скутар лежит. Как раз поместимся.
– В домах быстро шарим: чем укрыться, котлы, из еды что найдем. Козу, – Святослав кивнул на еще одну козу, на этот раз серую, привязанную вблизи крайнего дома. – На баб не отвлекаться – времени нет. Сразу все тащим в лодью и отчаливаем. Хавлот, сними вон того клюя, с топором.
Хавлот, имевший при себе лук, наложил стрелу и выстрелил. Хазарин, рубивший плавник, без звука завалился на свою колоду: стрела дрожала в спине между лопаток. Тот, что чинил сети, уставился на него в изумлении.
– Пошли, – сказал Святослав.
И первым встал во весь рост.
Все свое оружие гриди сохранили, щиты и шлемы не понадобились. В деревне оказалось всего четверо мужчин, считая того, застреленного. Остальные едва успели схватить кто нож, кто просто дубину – но это им не помогло против мечей и секир в руках киевских гридей. Быстро обошли все мазанки, в один удар заканчивая с теми, кто обнаружился внутри. Не тронули только детей, что еще не могли говорить. Лежавшие снаружи тела затащили в жилища. Выгребли одеяла из козьих шкур и овечьей шерсти, пару медных котлов, несколько глиняных мисок и ложек – все то, что нужно для похода. Забрали рубахи и обувь, что выглядела получше. Нашли немного зерна и запас вяленой рыбы. Притащили мекающую козу, связав ей ноги. Проверили весла, нашли парус в самой большой из мазанок и столкнули лодью.
Само расположение хазарской рыбачьей деревни указывало на место, где от берега можно отойти сразу на достаточную для лодки глубину. Лодья отчалила от усыпанного серым ракушечником берега и сразу расправила парус. Ветром развеяло отголоски истошных криков умирающих, лишь трое-четверо маленьких детей плакали, еще не понимая толком, какая случилась с ними беда. С глинобитной стены крайнего домика молча взирал на мертвецов последний свидетель – грубо сделанный деревянный крест. А серое пятнышко паруса удалялось на запад и скоро слилось с зеленовато-серой волной…
* * *
Видя, что в благополучное возвращение князя верят нарочитые мужи и обе княгини, киевляне поверили тоже, и начавшееся волнение утихло, не успев набрать силу. Если где и возникали разговоры о гневе богов, то быстро умолкали: для его смягчения было сделано все нужное. О том, как княгине искупать свою вину перед ее Богом, никому из посторонних знать не полагалось. Глядя на дело как княгиня, Эльга снова и снова убеждалась в верности своего решения: сейчас, когда Святослав пропал и, возможно, погиб, оставшихся русов и киевлян нужно сплачивать всеми силами, а не бросать друг на друга в кровавой бойне.
Закончилась молотьба. По утрам холодало, летели по ветру желтые листья. Над киевскими горами неслись клинья гусей и лебедей. Эльга вспоминала, как жила год назад в палатионе Маманта, где в эту же пору можно было сидеть на «верхней крыше», накинув мафорий на тонкое шерстяное платье, и глядеть на алеющие в ветвях «пунические яблоки». В рощах близ палатиона тогда уже созревали оливки; еще зеленые, почти незаметные среди листвы, они уже годились для масла. Царевы рабы стояли возле старых олив с большими корзинами, подвешенными на шею, и обеими руками проворно срывали округлые твердые плоды…
Мафорий Эльга и сейчас носила, особенно когда шла в церковь, но поверх теплой свиты и белого шелкового убруса. И мерещилось, будто в нем задержалось благоухание роз и олеандров…
Каждый день Эльга ждала вестей. Люди Мистины на причалах расспрашивали каждого, кто прибывал с нижнего Днепра, но о Святославе никто не слышал. Большая дружина отдыхала перед выходом в полюдье. Пришла пора решать, кто из воевод возглавит поход. Эльга привычно ожидала, что этим займется Асмунд, а Мистина останется при ней вершить дела в Киеве. Все как в прежние лета, пока Святослав еще рос. Эльге вспоминались те последние перед смертью Ингвара два года, что юный сын прожил на севере, в Волховце. Тогда она тоже скучала по Святославу. Но теперь с ней не было Ингвара, и потихоньку совершалось именно то, чего она боялась: в душу холодными каплями, одна за одной, просачивалась уверенность, что сына у нее больше не будет… Первоначальный всплеск недоверия уступал рассудку. Все доводы убеждали, что Святослав погиб. Спасти его могло лишь чудо, а от чуда мы ждем быстроты. Не случись оно скоро, вера в него стремительно тает, и надежда становится чем-то вроде сказки, которую рассказываешь сам себе. Душу заливали осенний холод, серая унылость и промозглая мгла. Свет надежды тускнел день ото дня, и уже усилием воли приходилось поддерживать в себе веру, что солнце вернется.
Эльга часто ездила навестить Прияну. Через несколько дней отважилась показать ей привезенное Улебом серебро: а вдруг здесь есть какая-то вещь Святослава, которой она, Эльга, не заметила у него? Но Прияна ничего из них не узнала. Тем не менее невестка слабела и дурнела от тоски: лихорадка не возвращалась, но молодая женщина оставалась такой же худой, бледной, вялой, а глаза ее приобрели такое выражение, будто она постоянно вглядывается в тот свет, но ничего там не может разглядеть. Эльга уговаривала ее поесть, заставляла выпить греческого вина с медом и травами, приказывала служанкам одеть дитя и вела обоих погулять над Днепром. Еще чего не хватало – сын вернется, а жена исчахла.
Почти всегда Эльга встречала на княжьем дворе Асмунда и радовалась, что хотя бы о дружинных делах может не тревожиться. Отроки всегда должны видеть перед собой «самого главного», который и жить научит, и наградит, и накажет, если что. Уверенный вид воеводы будто намекал: я знаю, где князь, а вам об этом знать не положено, вот и несите свою службу.
Однажды Асмунд отправился провожать княгиню на Святую гору. Пока они ехали по городу, он вел беседу о лодьях и снаряжении для полюдья, но Эльга знала его всю жизнь и понимала: что-то у него на уме есть иное.
– Свенельдича видел вчера, – начал Асмунд еще во дворе. – Потолковали. Сделаем как всегда: я в полюдье пойду, он при тебе останется.
Но когда они вошли в избу, Асмунд сел и посмотрел на Эльгу в упор:
– Только ходить будем против прежнего дольше. Придется в Деревлянь заворачивать.
– Зачем? – насторожилась Эльга. – Ты что-то знаешь?
Слово «Деревлянь» и сейчас, восемь лет спустя, отдавалось в душе тревожным звоном железного била.
– Я ничего не знаю. Мистина такого ничего не говорил. Но не может быть, чтобы про наши дела там не прослышали. А если меня волыняне спросят: где князь, которому мы данью обязаны? И что я им отвечу? Так пусть видят, что русь по-прежнему сильна. Половину большой дружины возьму, половину Свенельдичу оставлю. Чтобы не вышло, как с Ингваром.
Эльге стало страшно. Асмунд не сказал этого, но ей казалось, он почти примирился с мыслью, что Святослав не вернется. Свою тоску и ночную бессонницу она относила на счет материнской тревоги, но Асмунд обо всем судил здраво. Он тоже был привязан к племяннику, которого вырастил, но смотрел на дело как воевода.
А воевода точно знал: без князя дружине нельзя.
Заходя к сестре в эти полгода после ее возвращения от греков, Асмунд всегда так внимательно озирался, будто тут в каждом углу сидело по птице павлину. Обычным своим порядком оглядев стены, занавеси и полки, он снова посмотрел на сестру:
– Ничего не хочешь мне сказать?
– Ты о чем? – Эльга растерялась. – Я ничего не знаю. Откуда мне?
– Ну, думай. – Асмунд встал.
Дня через три после этой странной беседы княгиню попросили в гридницу: пришли бояре. Эльга вошла, закутанная в синий мафорий с золотым греческим узором по краю; при ее появлении мужчины встали со скамей по обе стороны прохода. Следуя к своему «царскому» престолу, она оглядывала лица, здороваясь. Честонег с сыном Воротишей, Себенег с двумя сыновьями, Братилюбовичи, Светимовичи, Доморад, Родислав. С другой стороны воеводы – Мистина, Асмунд, старый Ивор, Вуефаст, Сигдан, кое-кто из молодых.
– Уж не принесли ли вы мне вести какой? – сразу начала Эльга, усевшись на трон белого мрамора.
Веселым видом княгиня давала понять, что рассчитывает на добрую весть, но в груди холодело и сердце замирало от испуга, что ждет ее нечто иное…
– Нет, матушка, – ответил Честонег. – От тебя хотим весть услышать.
– От меня? Не имею я вестей. Имела бы – вас бы ждать не заставила.
– Давненько ждем, матушка, – продолжил Доморад. – Уж месяц миновал, как дружина в Киеве, а князь как в воду канул. Волнуется народ. Нельзя голове без тела, а державе без князя.
– Но месяц – это не так уж много. Ингвара и больше в Киеве не бывало – иной раз и по полгода ждали.
– Ингвар-то с дружиной ходил. А теперь дружина-то дома…
– До Таврии далеко. И по хорошей погоде – месяц добираться, а по осени, по распутью, непогоде… Нужно ждать и надеяться…
«На Бога», – хотела Эльга сказать, но побоялась услышать в ответ: «Где же он, твой бог? Отчего не помогает?»
– Мы, само собой, князя нашего очень ждем живым и невредимым, – вступил в беседу Любокрай, – только мы ж не вещуны… и вещуны сказать не берутся, когда он воротится. А без головы жить неуютно, – боярин беспокойно засмеялся, но никто шутки не поддержал. – Скажи уж нам, матушка, не томи…
– Что я должна сказать? – Эльга пыталась сдержать досаду и желание расплакаться у всех на глазах. Зачем они ее мучают? – Я не знаю, где мой сын! Если узнаю, хоть сон вещий увижу – сразу вас соберу и скажу, Богом клянусь!
– Да ты другое скажи! – тоже с досадой воскликнул Доморад. – Если Святослав совсем сгинул, кто у нас князем-то будет?
Повисла тишина. Эльга судорожно сглотнула и схватилась за грудь, будто эта краткая речь ее ударила.
Христос Пантократор! Вот о чем подумать призывал Асмунд! До сих пор ее мысли о будущем не шли далее рубежа «вернется – не вернется», не осмеливались заглянуть за него.
– Потому что получается вот что, – начал Асмунд, и все обернулись на его суровый, уверенный голос. – Ты прости, сестра, но люди видят: второй раз у нас князь пропадает, оставив жену с дитем. Как Ингвар сгинул, так теперь и сын его. И нынешнее дитя еще меньше прежнего – на втором году. При тебе и Святше мы со свояком, – он кивнул на Мистину, – пять лет правили, а со Святшиным мальцом – пятнадцать лет будем править! А коли не доживем? У нас уж бороды седеют, да, свояк?
Мистина молча отвесил медленный кивок, пристально глядя на Эльгу.
– Уж говорят люди, не кончилась ли удача рода Олегова? – сказал Честонег, и Эльга вздрогнула.
– Говорят, не огневались ли боги на род ваш? – подхватил Доморад. – Чтоб два колена подряд такая беда…
– Что вы хотите от меня? – вырвалось у Эльги, но голос прозвучал еле слышно.
– Дружине нужен князь. – Асмунд посмотрел на нее, потом на Мистину. – Я не гожусь: я только Вещему родич, как и ты, но не Улебовичам. Тородд меня князем над собой не признает. А Тородда не признает Киев и полуденные русские земли, потому как Ингоревичей волховецких и ладожских здесь отроду не бывало. Явится Олег Предславич, но он больше не женат на дочери Ульва волховецкого и даже наследников его крови не имеет. Все наши данники вспомнят о древней воле и чести дедовых могил, и опять нам придется держать землю, чтобы не рассыпалась. Опять древлян воевать, уличей, волынян, смолян… У младенца годовалого в ручонках силы не хватит!
– Но я помогу – пока Ярик подрастет, авось Бог даст мне веку…
– Его мать – не ты! – напомнил Мистина. – Если мы провозгласим младенца князем, у нас получится две княгини-правительницы: ты и Прияна. Она ведь молчать не будет, она роду не простого! У нее в роду князей побольше, чем… ну, ты поняла. А как вы уживетесь? У вас даже боги нынче разные!
– И чего ты хочешь?
– Я не хочу! – Мистина с отчаянным и горестным видом ударил кулаком по бедру. Эльга давно не видела его в таком негодовании. – Йотуна мать, я не хочу этого, как сорок тысяч троллей не хотят видеть Тора, но я больше ничего не могу придумать!
Эльга закрыла лицо руками. Потом опустила ладони и посмотрела на Честонега:
– Оставьте меня сейчас с моими братьями, мужи киевские. Приходите завтра, и я дам вам полный ответ.
* * *
С братом и свояком Эльга беседовала за крепко закрытыми дверями, и отроки следили, чтобы никто их не тревожил и не мог подслушать под оконцем.
Потом к ним позвали Улеба.
Он вошел, не понимая, зачем понадобился старшим; на лице его отражалась решимость и готовность принять любое наказание за то, что он, вопреки оправдательному приговору Асмунда и облегчению Мистины, втайне продолжал считать своей виной.
Они ждали его: Эльга сидела на ларе, двое мужчин по сторонам на лавках. Улеб вошел и остановился между ними, оглядывая лица. Они смотрели на него и будто чего-то ждали.
Потом Мистина встал, в три медленных шага подошел к сыну и положил ему на плечи обе руки. У Эльги перевернулось сердце: Мистина был выше Улеба почти на голову – как был выше Ингвара. Бесчисленное множество раз она за эти двадцать лет видела их вместе, но сейчас, в этот миг, все менялось. Мистина лишался сына и обретал нового князя. Мучительно похожего на того, какого он потерял восемь лет назад.
– Ты не знаешь, что мы должны тебе сказать?
– Нет, – выдавил Улеб.
– Если Святша через год так и не вернется, нашим новым князем будешь ты.
Если бы парню сказали, что решено принести его в жертву Перуну за возвращение Святослава, он удивился бы меньше.
– Да вы… – Улеб едва не выразил сомнение, в своем ли они уме, но не решился сказать такое отцу, дяде и тетке-княгине. – А Ярик? У Святши сын есть! Куда мне? Я-то кто?
– Потише! – Мистина через силу усмехнулся и сжал его плечо. – Даже если бы ты был тем, что о себе думаешь, ты и тогда бы по загривку заслужил за такой вопрос. Ты – внучатый племянник Вещего, как и Святша.
– Но у Вещего другие наследники есть, – Улеб посмотрел на Асмунда. – Вон, дядька ему братанич.
– Зато Асмунд – не родня Улебовичам.
– Но я-то…
– А ты – родня.
– Как?
– Да неужели за двадцать лет тебе никто никогда не говорил, – вступила Эльга, – что ты похож на Ингвара, как… родной его сын?
– Не может быть, чтобы за двадцать лет никто не ляпнул, – подал голос Асмунд. – Я уж лет пятнадцать как догадался, да неужели во всем городе и дружине я один глаза имею!
– Ну… – Улеб нахмурился и опустил взгляд. – Болтали козлы всякие… Только я им пасти-то позатыкал.
– Молодец! – Мистина снова сжал его плечо. – Но ты похож на Ингвара, потому что он – твой отец.
Улеб смотрел на него с таким видом, будто с ним говорят на зверином языке, но он тем не менее, к собственному изумлению, все понимает. Скажи ему это кто другой – получил бы в зубы за попытку опорочить родителей. Но сам отец… Сам Мистина произнес эти невозможные слова.
– Не спрашивай сейчас, как это вышло, – добавил воевода. – Как-нибудь потом, если захочешь, мы тебе расскажем. И ни о чем не спрашивай мать. Просто поверь нам: это правда. И мы знали об этом всю жизнь. И сам Ингвар знал. Поэтому тебя нарекли в честь Ульва, его отца, а не моих дедов Халльмунда или Драговита. Теперь ты – наследник Ингвара, почти такой же, как Святша. Мы сказали тебе сегодня, потому что завтра об этом будет знать весь Киев. А ты до завтра постарайся привыкнуть к этой мысли. Иди проветрись.
Улеб посмотрел на Эльгу, будто ждал: может, хоть она развеет это безумие. Но она лишь улыбнулась ему.
Год. Еще год она отвела для надежды. И хотя по существу ничего не изменилось, это решение подкрепило ее душевные силы.
Глядя, как Улеб уходит, она вдруг подумала: а ведь был бы Ингвар не русским князем, а ромейским августом, он мог бы по тамошнему обычаю оскопить «лишнего» сына еще в раннем детстве. У них так принято: чтобы побочный сын не пытался оттеснить законного. Ибо скопец может быть лишь слугой василевса, но не василевсом. Эти «подобные ангелам» высокородные калеки, тем не менее, порой достигают высоких степеней – вплоть до первых лиц державы, как нынешний паракимомен Василий Ноф или друнгарий флота Иосиф Вринга. И даже совершают подвиги на поле брани: именно евнух, смотритель царских одежд по имени Феофан, поразил «живым огнем» отступающее из Анатолии войско Ингвара. Вспомнив, что как хранитель сокровищницы-вестиария является и начальником вестиаритов-«львов», а значит, человеком военным, заведующий хламидами собрал корабли, какие нашлись в городских гаванях, и поставил на них смертоносные бронзовые сифоны. Видимо, отваги и присутствия духа его не лишили вместе с теми частями мужского тела, в коих, по общему мнению, эти прекрасные качества содержатся.
И как же, должно быть, рвали себе волосы на убереженных частях тела венценосные отцы в таком положении, в какое попала сейчас Эльга!
* * *
А на следующий день Эльга созвала всех киевских бояр и старейшин – в таком количестве, сколько поместилось в гридницу. И объявила, что у покойного князя Ингвара есть еще один сын.
– Я всегда, еще до рождения Улеба, знала, что он – сын моего мужа, – бесстрастно говорила она, в белой с синим одежде сидя на беломраморном ромейском троне. – Но Улеб – дитя моей сестры, и для меня он всегда был не менее дорог, чем мой родной сын Святослав. Если мой сын не вернется, через год мы провозгласим князем его брата Улеба Ингоревича. Я благословлю его принять наследство отца вслед за братом и надеюсь, что он будет угоден и вам. А пока он будет править от имени Святослава, с помощью родичей, воевод и бояр.
От изумления киевляне поначалу онемели, во все глаза глядя на Улеба возле трона. Это потом они будут говорить друг другу, что-де всегда знали, потому что «Мистишин сын» похож на покойного князя, как точный его слепок. Сейчас же те из них, кто помнил Ингвара, могли лишь изумляться своей прежней слепоте.
А Эльга, ожидая их ответа, еще раз пожалела Мистину. Сегодня он в гридницу не пришел. Даже его проверенного мужества не хватило бы – стоять под теми взглядами, которые сейчас на него обратились бы. Весь город, вся держава, весь белый свет узнает много лет хранимую им тайну: что жена родила ему не его сына. Зато как оправдалась его предусмотрительность: еще тогда он взял у князя-побратима позволение назвать младенца именем Ингварова отца. Теперь это сослужило службу и Улебу, и самому Мистине: в княжеском имени содержится половина прав на престол, а Мистина тем изначально дал понять, что растил сына своего князя и побратима, не будучи обманут ни единого дня. Все равно что принял на воспитание, выдавая перед людьми за своего. И ведь он действительно стал для Улеба наилучшим отцом, какого можно пожелать. Думая об этом в гнетущие мгновения тишины, Эльга почувствовала, что прощает мужу сестры все их прошлые и будущие ссоры разом.
В то время как Эльга говорила с боярами, Ута навестила Прияну. Внезапное появление у покойного Ингвара еще одного сына могло обрадовать многих, но уж точно не молодую княгиню – не то жену, не то вдову. Пытаясь поставить себя на место невестки, Эльга понимала: та поначалу откажется верить. Но не поверить Уте, матери Улеба, Прияна не сможет. Ей придется принять это открытие и дальше как-то с этим жить.
Назавтра Прияна явилась на Святую гору. Бледная, исхудалая, она, однако, оделась в лучшее платье из своего приданого, украсила грудь золочеными застежками из наследства бабки Рагноры. У Эльги даже мелькнула мысль: так ее на краду положат… Ребенка Прияна с собой не принесла, однако говорить желала именно о нем.
– Я верю, что Улеб – сын Ингвара, – сразу начала она, едва Эльга поднялась ей навстречу. – Но у Святослава есть его собственный сын! Законный! Даже если Святослав не вернется, его стол должен унаследовать наш сын. Таково было условие, при котором мы заключали брак. Я не допущу, чтобы моего сына оттеснили дети… – она сжала губы, чтобы не вырвалось что-нибудь оскорбительное, – потомки побочного наследника! Вы не имеете права сами принимать такое решение! На это должны дать согласие все светлые князья и бояре Русской земли! И они поддержат права моего сына, потому что Ярополк – дитя от законного брака, и его родители оба принадлежат к княжеским родам!
– Ты сказала всю правду, до последнего слова, – подтвердила Эльга, когда Прияна наконец замолчала. – Я все это знаю. Ваш брак со Святшей так и задумывался: чтобы никто не смел усомниться в законности рожденных в нем наследников.
– Но как же так? Почему теперь я слышу, что киевским князем станет Улеб!
– Потому что Яр еще слишком мал.
– Святослав тоже был мал! – возразила Прияна, которая впервые увидела своего жениха сразу после того, как он осиротел.
– Ему исполнилось тринадцать к тому времени, он уже получил меч. А Яру до того еще двенадцать лет расти! Мы не можем еще на двенадцать лет оставить державу под управлением женщин и воевод. Руси нужен настоящий князь. Иначе люди решат, что наш род, род Вещего, утратил удачу. А без удачи и веры людей никто из нас не сохранит своих прав.
Прияна пристально взглянула на нее. Легко читались ее мысли: это ты, мать Святослава, изменила богам, оскорбила чуров, приняла чужого бога и тем, быть может, навлекла неудачу на весь род!
Эльга и сама так подумала бы, если бы не знала, что ее связи с чурами порвались более двадцати лет назад.
– Улеб может править за Яра, как за Святослава правили Асмунд и Мистина, – добавила Прияна. – Но князем должен быть Яр!
Ни мать, ни отец младенца Ярополка не изменяли богам. Его не должна коснуться неудача бабки.
– Асмунд и Мистина сами не имели права на киевский стол. А Улеб имеет, потому что он – внучатый племянник Олега Вещего и внук Ульва волховецкого. У него ровно те же права, – Эльга вздохнула, – что и у Святши. Если мы откажем ему в этих правах, это будет оскорблением всего нашего рода.
– Но он побочный сын! – в отчаянии воскликнула Прияна. – Ингвар не признал его при жизни!
– Признал, – Эльга вздохнула еще раз. – Мистина не мог бы назвать своего сына именем Ингварова отца, если бы Ингвар не дал на это согласия.
Прияна помолчала, не в силах опровергнуть этот довод. Имя, нареченное Улебу при рождении, означало, что настоящий отец признал его еще тогда. И молча наделил правами наследника. Но растил его Мистина, потому что Эльга одновременно с Утой родила собственного сына и не нуждалась в соперниках для него, а также хотела покоя и счастья своей сестре. Ута слишком много горя пережила до того, чтобы позорить ее за то, в чем она не виновата, и отнимать первенца.
Глядя на тогдашние события с высоты минувших лет, Эльга лишь диву давалась: как позаботилась судьба о сохранении их рода! Там наверху кто-то знал наперед…
Судьба… Но судьбы ведь нет. Есть Господь наш Иисус, все творится по Его воле. Не мог же он заботиться о язычниках, которыми были тогда все они поголовно.
Однако Бог отдал им с Ингваром киевский стол, отняв его у христианина Олега Предславича. Почему? Может, и в этом заключен некий замысел Божий, который разгадать поможет лишь время?
– Но что же тогда… достанется Яру? – вновь заговорила Прияна. Охваченная беспокойством за судьбу единственного ребенка, она с трудом собиралась с мыслями. – Пусть тогда он будет объявлен наследником Улеба!
– Это можно будет сделать при одном условии, – мягко сказала Эльга. – Но давай сейчас не будем об этом говорить. Еще ничего не решено, и ты устала.
– Нет! – Прияна требовательно взглянула на нее. – Я хочу знать, что это за условие. Яр должен быть объявлен наследником Улеба, даже если у того будут свои дети.
– Это можно устроить, если ты выйдешь за Улеба, – прямо сказала Эльга.
Невестка хочет правды – она имеет право ее знать.
Прияна переменилась в лице. Потом помотала головой.
– Нет! Я не могу… Святослав… Я не пойду за другого, я верю… он жив…
– Ведь свадьба не сейчас, – попыталась успокоить ее Эльга. – Речь о том, что будет через год.
– Год – это мало! Нужно ждать три года! До тех пор нельзя никому отдавать престол! Эти три года Яр должен считаться наследником, как будто его отец жив!
– Святослав – мой единственный сын, и уж поверь, я не меньше тебя хочу и надеюсь увидеть его живым. Но если через год он еще не вернется, тянуть дольше будет нельзя. Мы с тобой можем… и будем ждать его всю жизнь, если не получим доказательств, что… что его больше нет. Но Русская земля должна жить дальше. И если ты через год выйдешь за Улеба, то Яр останется наследником киевского стола. Тогда не будет споров между сыновьями Святши и Улеба. Они все родятся от одной матери и будут всегда заедино.
– Я не хочу! – твердила Прияна. Голос ее срывался, на глазах блестели слезы. – Я не пойду за другого! Я люблю Святослава, я буду ждать его, сколько придется! Буду ждать до самой смерти! Но я знаю: он жив! – вдруг закричала она. – Я знаю: когда он умрет, я пойду за ним в Кощное! Я уже видела это однажды, я знаю, как все будет! И пока он не зовет меня, значит, он здесь, на белом свете! Ему не нужны другие наследники!
Эльга сама едва сдерживала слезы. Она жаждала поверить Прияне, но боялась, что в невестке кричит лишь отчаяние. Что ее бесы морочат…
– Успокойся! – Она хотела обнять молодую женщину, но та вырвалась, будто ее пытались взять в плен. – Мы будем ждать. Год – это очень долго. Святша вернется. Но люди должны знать, что у них есть князь. Мужчина, а не дитя.
– У них есть! – стараясь взять себя в руки, твердила Прияна, но весь ее облик источал горе. – Князь Святослав!
Эльга не хотела отпускать ее, но Прияна, успокоившись и умывшись, уехала к себе. А Эльга села на скамью и привычно устремила взгляд на икону Богоматери.
Как бы она хотела, чтобы Святослав вернулся! Отдала бы жизнь, если бы его жизнь можно было выкупить у судьбы… старых богов… истинного Бога… Это нужно не только ей, но всей земле Русской. Много князей – порой хуже, чем ни одного. И если Прияну не удастся уговорить на второй брак, это еще больше все осложнит.
Ведь взрослый князь не может быть неженатым. Так или иначе Улебу теперь жениться придется, и обязательно на деве знатного рода.
И хуже всего то, что эту деву Эльга уже знала…
* * *
Год назад, когда пятеро княжьих послов вместе с купцами вернулись домой, вот так же золотились боры за Днепром, кое-где обрызганные багрянцем. Той осенью Улеб, по правде сказать, ходил довольно хмурый. Было стыдно перед князем и людьми, что ничего из желаемого достичь не удалось, а к тому же его угнетала разлука с Горяной. И пуще того опасения: эта «придурь» засела в ее голове так прочно, что и возвращение из-за моря не сделает их ближе друг к другу.
Приехавших тогда много расспрашивали: о царстве Греческом, о переговорах. Немало толков вызвала весть о крещении Эльги; болтали даже, что она-де не вернется, и тогда еще кто-то выдумал, будто она для того и крестилась, мол, чтобы выйти за греческого кейсара… Ну не могли люди придумать другой всем понятной причины, по которой не старая еще вдова поехала бы за море в гости к чужому царю. Но Святослав только смеялся над этими слухами. У Киева имелась молодая княгиня, чтобы возглавлять жертвенные пиры – в Дедовы дни, на Коляду, на Ладин день, и никто не чаял беды.
Вспоминая сейчас те дни, Улеб жалел, что не ценил тогда своего счастья. И проклинал эту злосчастную поездку к грекам, которая всем принесла одни беды. Горяна теперь воротит от него нос, потому что он язычник, у Прияны умерло дитя, потому что старая княгиня крестилась, а Святослав от обиды на царя и его бога пошел в этот поход, явно начатый не в добрый день…
Если бы Улеба кто-нибудь спросил, что он предпочитает: киевский стол или возвращение Святослава – он без колебаний выбрал бы второе. От своей матери, Уты, он унаследовал чувство нерушимой преданности тому, кого с рождения ждала более высокая судьба. Почему он сам не пошел с Икмошиными орлами на берег? Почему Святослав не остался возле лодьи? Сейчас князь был бы в Киеве, и все шло бы хорошо…
Самым тяжким днем в жизни Улеб считал тот день, когда стоял возле белого каменного трона Эльги, а взгляды двух десятков бояр и старейшин вонзались в него, будто стрелы. Открытие тайны давало неистощимую пищу сплетням: будут теперь все языки Киева ворошить события двадцатилетней давности. Ута не показывалась со двора, зная, что в нее теперь мало пальцами не будут тыкать. Мистина выходил как ни в чем не бывало, но ему попробовал бы кто хоть намекнуть, что жена родила не его ребенка…
Но день ото дня все усложнялось. Перед Улебом вдруг обозначился тот же самый выбор между двумя невестами, который его брату Святославу пришлось сделать два года назад. Однако Святослав – человек отважный и удачливый. Он решил дело в мгновение ока. Улеб же имел два года на то, чтобы узнать обеих. Но, будто судьба над ним издевалась, эти два года все переменили и многократно усложнили. Горяна стала христианкой, а у Прияны теперь имелся на руках сын Святослава и наследник его стола.
Улеб знал, что старшие обсуждают его судьбу меж собой. Знал, что Эльга послала в Овруч к Олегу Предславичу. Раз уж судьба, как это ей свойственно, по своей воле наградила его княжеским столом, проще всего было и дальше плыть по течению: его принесло бы именно туда, куда ему самому и хотелось. Но свой первый княжеский поступок Улеб намеревался совершить по собственному выбору.
У входа в избу его встретил плач ребенка: у Яра резались очередные зубы. Юная девушка, сидя на медвежине на полу, пыталась отвлечь его берестяной погремушкой, а Прияна с усталым видом протягивала руки:
– Давай его мне.
Улеб от порога поклонился ей, подхватил дитя и подкинул к кровле избы.
– Это кто тут ревет? Это князь наш будущий ревет?
Яр от изумления затих.
– Сладу нет, – вздохнула Прияна. – Ну, ты ходил туда? Какие новости?
«Туда» означало Святую гору, где сейчас сосредоточилась вся киевская власть.
– Ходил. – Улеб посадил дрыгающего ножками Яра к себе на шею. Как старший из шестерых детей Уты, он привык возиться с мальцами. – Поговорить хочу.
– Малка, ступай, – Прияна махнула рукой девушке.
Та поднялась и улыбнулась Улебу. Малке, старшей дочери Предславы, исполнилось двенадцать лет, и за то время, пока мать путешествовала, она заметно выросла. Чертами высоколобого лица, светлыми волосами, белесыми бровями она напоминала своего давно покойного родного батюшку, последнего древлянского князя Володислава; не сказать чтобы судьба наделила ее особой красотой, но сейчас Малка вступала в ту пору, когда всякая девушка дышит свежей прелестью расцвета и кажется привлекательной. Отроки уже на нее оборачивались, и она порой отвечала им быстрым озорным взглядом.
Малка вышла; Улеб сел на скамью возле лежанки Прияны, не спуская с рук барахтающегося племянника. Они виделись часто: при Святославе жили почти одной семьей, а теперь Улеб заходил к невестке мало не каждый день.
– Ничего не слышно? – как всегда, спросила она.
Улеб привычно покачал головой.
– Что-нибудь мы так или иначе узнаем, – уже не в первый раз обнадежил он ее. – Так я вот что! – Он с трудом решился на этот разговор, но что проку мямлить? – Они на Святой все толкуют, на ком мне жениться.
– Ну? – Прияна подняла глаза, помня, что ей сказала Эльга.
– За Олегом в Деревлянь послали.
– Значит, Горяна?
– Да… Но я вот что… – Свободной рукой Улеб взъерошил волосы. – Я… Ну, если ты хочешь и дальше быть княгиней киевской, я на тебе женюсь.
Прияна чуть заметно вздрогнула и не сразу ответила. Улеб подкинул Ярика у себя на коленях, будто намекая, ради чего им нужно это решение. Чтобы потом не пришлось выбирать, которого из двух князей сын наследует за ними.
Два года назад они со Святославом поехали в Смолянскую землю, собираясь привезти оттуда жену для него, Улеба. Эльга выбрала для своего сына Горяну, и Мистина уговорил княгиню отдать «лишнюю» смолянскую невесту в их семью. Святослав не возражал. Но только до тех пор, пока не увидел девушку. А когда увидел… не прошло и двух дней, как Улеб понял: Прияславы Свирьковны ему не видать. Князь возьмет ее себе.
И поняв это, он стал смотреть на Прияну как на жену брата и свою невестку. Теперь она выглядела уже совсем не так хорошо, как два года назад – исхудала, подурнела. Но это ничего не значило: за эти два года он привык видеть в ней женщину своей семьи; ради брата и ради нее самой готов был на все, лишь бы она жила счастливо.
– Я не могу, – Прияна покачала головой. – Я не выйду ни за кого, пока не буду точно знать… Нет, и потом тоже не выйду.
– Но это же не сейчас. Через год. Тогда мы уже…
– Я буду знать! – перебила Прияна. – А он жив сейчас, я это чувствую. Ты помнишь, еще тогда, пока мы ехали от Полоцка, он просил меня рассказать, как я побывала у Кощея? И потом сказал: я хочу, чтобы ты сходила за мной на тот свет. И тогда я увидела…
Прияна подняла голову и устремила взгляд в темную бревенчатую стену. На лице ее отразилось такое воодушевление, будто она видит что-то иное.
– Мне тогда вдруг открылось: иду во тьме, а в руках у меня огонь… И горит этот огонь в голове человечьей. Иду, ищу… Святослава я ищу, и этот огонь мне путь освещает… и это – его голова!
– Но что все это значит? – Улеб даже опешил от жути.
– Я не знаю. – Прияна опустила голову, лицо ее погасло. – Я, наверное, узнаю, когда он будет мертв. А пока этого не было – он жив.
Улеба пробрала дрожь. Ярик снова захныкал у него на руках, и Прияна взяла его. Прижалась щекой к детской головке.
– Я больше не хочу быть княгиней киевской… – прошептала она. – Без него ничего не хочу. Буду просто ждать. Хоть до старости буду ждать. Уеду домой, к сестре… А ты женись на Горяне.
Улеб вздохнул, не зная, что сказать. Его тоже не оставляло чувство, будто он пытается завладеть женой живого брата, хотя с каждым днем надежда увидеть Святослава живым казалась все меньше и меньше оправданной. Если Святослав все же мертв, то долг брата – сохранить за его женой и сыном все права и почет. Но не против же воли… Прияна ведь тоже почти не верит. Она лишь утешает сама себя, не зная, как будет дальше жить без мужа. Два года всего им и досталось быть вместе!
А эти ее видения… Она с восьми лет такая.
* * *
Серо-зеленые волны катились на белый песок. Над головами носились стаи чаек, и еще с воды было видно, как промчался табун лошадей. Людей при них не было: значит, некрупные большеголовые коньки – дикие, степные. Северный берег моря Самакуш, оно же – Меотийское болото, оказался совершенно пологим, и даже вдали, сколько хватал глаз, оставался ровным, как стол. На беловатом песке, среди жесткой побуревшей травы, порой попадались крошечные озерца с пресной водой, что очень порадовало русов, которым порой приходилось долго блуждать, чтобы найти, чем наполнить взятые в хазарской деревушке два бочонка.
Шли то на веслах, то под парусом. Приставая на ночь к берегу, ставили в море сети, утром варили улов, и обычно это составляло их пищу на весь день. Да в придачу «морские орехи», которые запекали и брали с собой. Правда, через пару дней они уже не лезли в горло, но куда податься? Зато недостатка в соли теперь не ощущалось – на местных почвах она валялась под ногами. Возить бы ее отсюда к нам – осеребриться можно по уши, приговаривали Красен и Белча. Иногда удавалось подстрелить пару птиц или зайца.
Хуже всего было то, что на этих местах познания Вемунда кончались. Если они не слишком ошиблись со своим местонахождением, то на северо-запад отсюда где-то далеко протекал Днепр, его порожистый участок. Но между Самакушем и Днепром простирались степи, владения кочевников, в основном тех же «хазар». Хазарами они назывались, будучи подчинены кагану, хотя по крови и языку могли принадлежать к любому из множества кочевых, полуоседлых и оседлых народов. Как и русью все чаще называли всякого, кто жил на землях киевского князя руси, от кого бы ни вел свой род.
Пересечь степи пешком, без проводника, почти с пустыми руками – нечего и думать. Из способов добыть пропитание у русов имелся один лук и рыбацкая сеть, но в степи она, само собой, поможет мало.
– Надо людей искать, – со вздохом признал Святослав, когда они вечером сидели у костра и ели запеченную рыбу с «морскими орехами», втайне тоскуя по хоть маленькому кусочку засохшего хлеба. – Нужны кони. Проводник.
Гриди понимали, что он прав, но искать встречи с местными жителями было делом довольно рискованным. Весьма возможно, и местные попытаются захватить их и продать на Хазарское море. С другой стороны, здесь уже довольно далеко от Карши, где любая встреча с человеком несла нешуточную опасность попасть в руки тудуновой стражи и приходилось убирать любых свидетелей своего присутствия. Здесь жили тоже хазары, но представителей власти и крупных военных сил здесь быть не должно.
– Найдем небольшое селение, – продолжал Святослав думать вслух. – Чтобы они сами нас боялись и не пытались напасть. Купим коней и наймем проводника. Выкладывай, у кого что есть.
Он поставил у костра медный хазарский котелок, пустой. Бросил туда свой торсхаммер узорного серебра, обручье, два кольца. Примерно то же нашлось и у других, кроме Девяты, который по молодости лет серебра не заслужил. Еще имелись поясные пряжки – бронзовые, и пара бронзовых же застежек на плащах. Оружие… Мечи и секиры у ближней княжьей дружины были хороши, но гриди скорее рубахи бы сняли, чем пожертвовали клинками. Богаче всех оказался щеголь Градимир, даже в поход ходивший с серебряной гривной на шее.
– Кто-нибудь знает, почем здесь кони? – спросил Белча.
– Коней много, вон, табунами носятся ничьи, – Красен кивнул в сторону степи. – А серебра мало. Значит, серебро должно быть в цене. Будем торговаться.
Найти здесь людей оказалось не так просто. Деревушки местных «хазар», по крови – аланов, булгар, готов и потомков всех перечисленных, стояли не прямо у моря, а примерно на поприще вглубь, на берегах ручьев и балок. Первые две, которые удалось обнаружить, оказались покинуты. Домики из сырцового, высушенного на солнце кирпича, на каменном основании, под тростниковой крышей стояли целые, прибранные, без следа разорения или пожара, но пустые – ни людей, ни скота, ни даже псов.
– Пойдем-ка еще пройдемся, – предложил Вемунд. – Где-то я слышал, вроде от купцов, что здешние хазары зимой ближе к морю спускаются, а летом со скотом дальше в степь уходят. Но от воды далеко не отойдут, и пойдем по реке вверх.
– А если там ничего нет? – возразил Святослав. – Не у всех же скот, и здесь должны рыбаки быть.
Переночевали в покинутой деревне – в пустых домах, откуда выветрился запах жилья и дыма. Огня не разводили, только набросали на голые доски лежанок сухой травы и укрылись своими же плащами. После многих ночевок под открытым небом было даже тревожно очутиться в тесноте стен, хотя Святослав, само собой, спать разрешил по очереди, а трое из девяти постоянно несли дозор снаружи.
Князь оказался прав: едва тронувшись в путь наутро, наткнулись на рыбака в челне. Тот едва успел причалить, выбрав свои сети. При виде целой ватаги – десятка заросших, грязных, самого зверского вида чужих мужиков, – попытался сбежать, и пришлось гнаться за ним, призывно крича и показывая пустые руки. В конце концов здоровяк Икмоша догнал рыбака, опрокинул на песок и с торжествующим видом уселся сверху.
– Слазь, скотина! – велел Святослав, тяжело дыша после погони. – Раздавишь! Накинулся, как на девку…
Радостно ржущий Икмоша наконец выпустил свою добычу: все восемь его товарищей к тому времени уже стояли вокруг, отрезая рыбаку пути к бегству. Тот сел среди ракушечника, боязливо глядя на них и прикрывая голову руками: обычный хазарин, носатый, скуластый, смуглый, черноглазый, в драной рубахе из серой грубоватой шерсти и босиком.
– Не бойся, – сказал ему Святослав, показывая безоружные руки. – Мы тебе худого не сделаем, только хотим узнать: где тут можно лошадей купить?
Хазарин несмело помотал головой. Святослав без особой надежды повторил то же самое на северном языке, потом оглядел своих:
– Кто-нибудь по-хазарски знает?
– Лаша есть? – вступил в беседу Красен. Он происходил из купеческой семьи, и хотя конями его родные не торговали, кое-что подцепил из речи хазарских и угорских торговцев. – Тур лаша, хура лаша? Ула лаша?[59]
Он задумался, соображая, как будет «где купить?», но таких слов не вспомнил.
– Сирэ мен кирле? – робко подал голос рыбак.
Русы вопросительно воззрились на Красена, потом переглянулись.
– Лаша какую-нибудь надо! – Красен показал рыбаку перстень у себя на пальце и изобразил, будто скачет верхом.
Рыбак взмахом указал куда-то вдоль берега.
– Где? Далеко?
Он еще что-то сказал. Святослав знаком предложил ему встать и велел:
– Веди! – И изобразил пальцами по руке, будто идет.
Рыбак указал на свой челн: видимо, пешком было далеко. Святослав велел Икмоше и Гриму сесть с ним, чтобы не сбежал, остальные на своей лодье тронулись следом.
Плыли пару поприщ, потом рыбак знаками предложил высадиться и повел русов куда-то вдоль балки, прочь от берега. Еще через поприще показалось селение: такие же домишки из сырцового кирпича, но уже не менее десятка. Рыбак повел незваных гостей к домикам, громко крича что-то. Русы подобрались, на всякий случай взялись за рукояти мечей и секир.
Навстречу бросились с лаем два пса. Вышли два парня, за ними женщина. Святослав сразу не понял, чем ее вид его удивил. И лишь потом догадался: одеждой ей служила не мешковатая хазарская рубаха, а платье без рукавов, которое держится на лямках через плечи, сколотых бронзовыми застежками. В таком же, только покрасивее, ходили порой и его мать, и Прияна, и другие жены северных родов. На голове женщины было белое покрывало, и держалась она, несмотря на малый рост, уверенно, как хозяйка.
Рыбак начал торопливо что-то объяснять по-своему. Тем временем вокруг собралось несколько мужчин, и русы озирались, стараясь вид иметь миролюбивый, но одновременно грозный. Последнее получалось куда лучше.
Выслушав рыбака, женщина посмотрела на Икмошу: видимо, решила, что самый здоровый и есть главный. Что-то сказала. Содержания речи русы сразу не поняли, но уловили в словах нечто знакомое.
– Мы ищем, где купить лошадей, – по возможности ясно сказал Святослав. – Лошадь, конь, жеребец. Нужно.
– Лошадь нужна тебе? – довольно внятно повторила женщина.
На явившихся к ней на порог десяток молодых мужчин – очень грязных, заросших дикими бородами, по виду изголодавшихся и недобрых, к тому же с хорошим оружием, выдававшим их принадлежность к сословию воинов, – она смотрела без всякой радости. Однако они протягивали к ней пустые ладони и настойчиво твердили «мир».
Она сказала еще что-то – никто не понял. Тогда она осенила себя крестным знамением, и Красен повторил за ней: его отец крестился со всей семьей еще лет десять назад. Женщина удовлетворенно кивнула и указала на дом: будьте гостями, значит.
* * *
Святослав когда-то слышал, что в Таврии и прилегающих краях живут какие-то люди северного языка – готы. На его счастье, объясниться с ними было можно; хазарский рыбак уловил в речи русов нечто знакомое и привел к тем людям, которые могли их понять. В селении главной считалась фрейя[60] Химинхильд – женщина средних лет, самая богатая хозяйка с тремя сыновьями. Муж ее с челядью лето проводил дальше от моря, со скотом на пастбищах. Велев оставить оружие у порога, Химинхильд пустила гостей в дом и велела подать угощение: хлеба, рыбной похлебки, молочной сыворотки и даже сушеного инжира – здесь он назывался «смакка». Сначала хозяйка прочитала молитву:
– Атта унсар ту ин химинам…
Красен разобрал, что это «Отче наш», которую он знал по-болгарски и по-гречески, только здесь ее произносили на готском.
Постепенно гости и хозяева столковались. Язык готов заметно отличался от привычного Святославу и гридям северного, но многие слова совпадали: дом, селение, рука, сильный, страна, лодка, брат, сестра…
Оказалось, что у фрейи Химинхильд лошадей для них нет: есть лишь три кобылы, и те служат на пастбищах пастухам.
– Вам нужно ехать в Адомаху, – втолковывала она, показывая на восток. – Туда. Там город… не город, торг. Там продают скотину и лошадей.
– Далеко дотуда?
– По морю пять дней, если Бог даст добрую погоду.
– Нет ли где поближе? – в нетерпении воскликнул Святослав.
– Здесь в округе не живут богатые люди. Здесь нет скота на продажу, только для себя.
– Нам еще проводник нужен, – напомнил Градимир.
На вопрос о проводнике фрейя Химинхильд лишь удивилась.
– Мы никогда не ездим в степь, – она покачала головой. – Только на пастбища, а зимой все живем здесь, у моря. Зачем нам забираться дальше? Ездят только торговцы и кочевники. Там, в Адомахе, ты найдешь людей, которые знают любые пути, даже в Шелковые страны, Иерусалим и Рум.
По закону гостеприимства, фрейя Химинхильд предложила русам переночевать, но Святослав решил не задерживаться. Им предстояло пять дней добираться до Адомахи, причем на восток, что удлиняло предстоящий путь в Киев.
– Мне надо скорее ехать домой, – ответил он на приглашение хозяйки и ухмыльнулся вдруг пришедшей мысли: – А не то мои домашние подумают, что я умер.
– Вот смеху-то будет… – протянул Градимир.
* * *
Пять дней мимо борта лодьи тянулись пустынные, скучные берега, покрытые солончаками и жесткой травой, порой – болотами. Теперь Святослав знал, что люди здесь есть, просто сидят поодаль от моря. Но Адомаха, как заверила фрейя Химинхильд, стоит вблизи берега, и они ее не пропустят. Хотя никто не брался предсказать, как выглядит хазарский город, который «не город, а торг».
Но вот наконец сероватые волны принесли их к устью реки. Плоские берега густо заросли лозой. Об этой реке говорила Химинхильд, называя ее Ликос – Волчья. Вдали за устьем виднелось нечто вроде селения. Вытащив в подходящем месте лодью, русы двинулись туда. Свободные от каких-либо укреплений, домики из сырцового кирпича вольно разбежались, какой куда хотел; зато не меньше иного городца оказался загон для скота, разделенный на множество загонов поменьше. За жердевыми загородками толпились быки, овцы, лошади; нашлись и верблюды, возле которых отроки застряли, тараща глаза. В Киев это чудо заходило редко. При каждом загоне сидела вооруженная стража. Еще дальше, со стороны степи, маячило три-четыре десятка степняцких веж и кибиток, еще дальше паслись какие-то табуны. И даже им, киевским гридям, после пустынных берегов стало неуютно вблизи такого обилия людей и животных.
Пришлось довольно долго слоняться меж строений, отыскивая, с кем поговорить. Хазары лишь лопотали по-своему и показывали пальцами в разные стороны. Наконец нашли гостиный двор – сооружение из кирпича-сырца, длинное, темное и пустое, по виду лишь тем отличное от помещения для полона, везомого на продажу, что дверь стояла нараспашку. Внутри обнаружился хозяин, понимающий в том числе и по-славянски. Он дал мальчишку, который отвел к хазарам-торговцам. Сперва долго шли мимо вереницы привязанных верблюдов – их держат подальше от лошадей, которые почему-то их не выносят и начинают биться, если верблюд шагает мимо. Возле одного снова застыли: это был всем верблюдам верблюд, огромный, как гора, с двумя крепкими горбами, будто скалистые вершины, с пышной гривой на длинной шее – «вроде как у льва», по словам Градимира.
– Которого Ульва? – спросил Девята.
– Не Ульв, а лев! Чащоба…
Наконец нашли купца, имевшего коней на продажу, по имени Ухтияр. Хазарин попался вредный и упрямый: на серебряные перстни глядел с пренебрежением, зато настойчиво предлагал меняться на мечи. Гриди еще на берегу замотали грязными тряпками рукояти, чтобы дорогие наборы не мозолили глаза охотникам до чужого добра, но хазарин как-то углядел, что у этих русов оружие в пятьдесят раз лучше, чем одежда.
Его послали подальше и ушли. Скоро на гостиный двор явился другой торговец, по имени Хирам, родом жид, сносно говорящий по-славянски и даже уверявший, что бывал в Киеве. С ним столковались насчет коней, а о проводнике он упомянул сам.
– Воевода, тебе же нужен человек, который знает дорогу отсюда до Днепра? – обратился он к Красену. Тот в основном и торговался, и Хирам за главного посчитал его. – Ты ведь не хочешь сам идти через степь, глядя на звезды?
– Мне нужен такой человек, – согласился Красен. – Но только если он недорого запросит.
При всей своей любезности Хирам взял за двенадцать лошадей почти все серебро, что нашлось у русов, и посчитал стоимость лодьи. Осталось только на дорожные припасы, а еще требовалось купить седла и прочее снаряжение, хоть какой одежды и обуви не менее чем для пятерых.
– Он ничего не возьмет! – заверил Хирам. – Я сам дам вам два мешка сушеной рыбы и полмешка ячменя, если только вы его заберете с собой и пообещаете не выпускать из рук ближе Киава.
– Что еще за беса ты нам суешь? – удивился Святослав.
– Это истинный демон, – кивнул Хирам. – Он очень неуживчив, я нанял его, когда пострадал от разбоя и мне очень нужны были новые люди. Но он со всеми ссорится и чуть что затевает драку. Клянусь богом, я чуть не бросил его посреди степи. Вчера его побили одиннадцать раз – я сам виноват, что число стало нечетным, но эти его недозволенные речи… Не желаю с ним больше иметь дела, он навлечет на меня божий гнев. Но мне не разрешают оставить его здесь. Сам бог свел нас всех здесь: он проводит вас к Днепру, и пусть никогда не возвращается. Вас же всего девять, значит, больше девяти раз за день ему едва ли достанется.
Русы переглянулись. Навязывать себе на шею такое сокровище по пути через чужую, враждебную землю никому не хотелось. Но на оплату проводника не оставалось средств: разве что продать чей-нибудь меч – «или Девяту», как предлагал Икмоша, но оба предложения Святославу не нравились. «Я так похож на дурака, да? – ответил им один булгарин, с которым они пытались сговориться на гостином дворе. – Задаром идти через степь, рискуя своей жизнью, а потом чтобы вы, придя на место, меня просто убили, или взяли в рабство, или выгнали взашей без медного фоллиса? Кто вы такие, почему я должен вам верить?»
Вид русов, и правда, не особо внушал доверие, а денег на покупку оного не хватало.
– А этот твой бес точно дорогу знает? – усомнился Градимир.
– Расспросите его и сами убедитесь.
– Он кто родом?
– Хазарин, но понимает по-славянски.
В тот же вечер Хирам привел проводника, который нес на плечах обещанные мешки с припасом. Они ждали драчливого здоровяка, но это оказался мужичок невысокого роста, худой, жилистый, чернявый, настолько обожженный солнцем, что возраст его определялся с трудом – больше двадцати, но меньше шестидесяти. Зато темные глаза горели недобрым огнем, правая бровь была изломана шрамом, а на лице – вернее, на роже, – виднелись две-три свежих ссадины. Звали его Елаш, но русы сразу стали называть «наше лихо».
– Слушай, ты! – Икмоша подошел к нему, не приближаясь вплотную, но всем своим видом выражая готовность размазать хазарина по стенке. – Мы идем к Днепру. Ты нас ведешь. Если приведешь по-хорошему, дадим тебе гривну серебра и коня. Задумаешь лихо – сверну шею.
– Трех коней, – угрюмо бросил Елаш. – Сворачивали уже такие…
– Двух!
– Двух коней и барана! Или возьми барана и пусть он тебя ведет через степь!
Еще два дня отдыхали в гостином дворе, объезжая своих новых лошадей, чтобы попривыкли к хозяевам. На третий день, едва взошла утренняя звезда, тронулись в путь – прямо в степь, где не видно конца и края. Из Елаша Лихо удалось выжать, что к Днепру можно выйти дней за семь-восемь. Ну, если все будет хорошо…
* * *
Когда предстоящие перемены стали известны киевской дружине, радости они вызвали немного. Один только Стейнкиль обронил: «Повезло нам», – но взгляд его не потеплел при этом, а гриди вокруг стояли с настороженными лицами, лишь кое-кто пытался неуверенно улыбнуться. Улеб с трудом сдерживал желание сказать: «Я не виноват». Он понимал отроков: Святослава все любили, почитали, и теперь людям с трудом давалась мысль о том, чтобы заменить его другим, к тому же – одним из своих. Он и сам бы думал так же, если бы ему предлагали в князья… ну, Стейнкиля, Радольва… В общем, кого-то из тех, кто раньше был одним из многих. Ведь все двадцать лет своей жизни Улеб считался лишь троюродным братом Святослава, двоюродным племянником Эльги. Благодаря высокому роду отца и матери, их близости к князю Ингвару и его жене, Улеб считался лишь на полступеньки ниже Святослава, служил чем-то вроде моста между княжьей семьей и дружиной, которые и без него пересекались неоднократно. Но все же князь должен быть не таким. Князь – особенный. Святослав с рождения был особенным, а Улеб – нет.
Снова поползли разговоры: мог ли Улеб все же найти Святослава, если бы задержался на том берегу близ Карши подольше? В другой раз никому не пришло бы в голову, что Улеб мог нарочно оставить своего брата. Но когда выяснилось, что он стал наследником Святослава… Улеб не слышал подобных обвинений, но чувствовал, что гриди могут думать и об этом.
Хуже всех к новому вождю отнеслись остатки Икмошиной ватаги. Из нее в Киеве сейчас оказалось только трое: Добровой, Жарко и Гвездан. Они были детьми прежних жен Ингвара, перед его женитьбой на Эльге розданных гридям; рожденные от других мужчин, сейчас эти дуралеи начали болтать: дескать, а может, и мы тоже сыновья Ингвара, раз такое дело! Если Улебке можно, мы-то чем хуже?
– Мы уйдем! – объявил Добровой, оставшийся над ними старшим. – Святославу мы служили, а Улебке не будем! Мы, может, сами такие же князья!
Правда, на другой же день новоявленные «князья» исчезли: срочно отправились в Витичев, как объявил дружине Асмунд. Причем надолго, поскольку Желька, мать Добровоя и Жарко, уехала с ними. До этого Желька и три молодые бабы – жены Красена, Вемунда и Дремы, – все слонялись по городу и причитали о пропавших молодцах, чем тревожили умы. К Эльге Желька таскалась каждый день, но та, и без нее имея довольно забот, скоро велела не пускать. Молодухи остались на местах, но притихли. Видимо, кто-то им объяснил, что слишком громкие глотки замолкают навсегда. Однако любви к Улебу в дружине от этого не прибавилось. Такого отчуждения он не чувствовал еще никогда.
* * *
Конечно, толки о будущем Улеба не прошли мимо Горяны, которая жила у Эльги и слышала все, что вокруг княгини говорилось, если только девушку нарочно не высылали прочь.
– Я послала к твоему отцу, – в один из этих дней объявила ей Эльга. – Думаю, он приедет сам. И если все сладится, скоро ты будешь обручена.
Горяна поджала губы скобкой: так она делала, если была несогласна или недовольна, но, как ученая вежеству дева, перед старшими держала эти чувства при себе.
– Что тебе не нравится? – мягко спросила Эльга.
При всех бедах и сложностях, которые на нее уже обрушились и еще ждали впереди, скривленные губки Горяны она не могла принимать близко к сердцу.
Горяна со значительным видом открыла рот, но Эльга вдруг вытянула руки ладонями вперед:
– Нет! Ни слова про Феклу Иконийскую! Если я еще раз услышу ее имя, то брошу в тебя чем-нибудь!
Она огляделась, но рядом на ларе лежала только кошка.
Горяна закрыла рот и застыла с таким видом, дескать, больше сказать нечего.
Подошла Браня и вручила матери подушку, кивнув на Горяну: можно кинуть этим. Эльга обняла ее и прижала голову дочери к груди, а сама подумала: неужели пройдет еще лет пять и ее забавница Браня станет такой же причудливой?
– А я пойду замуж! – тут же объявила Браня. – Как будет хороший жених, сразу и пойду! Да!
У нее уже имелась красиво отделанная укладка: ночью она спала на ней, не испытывая ни малейшей тесноты, внутри могла жить, как в домике, и потихоньку собирала туда пояски и рукавицы собственного изготовления – в приданое. Конечно, княжеская дочь мужу не холсты и полотна принесет, но обычай есть обычай.
– Ты у меня умница! – Эльга поцеловала ее и снова прижала к себе.
Сердце щемило при мысли о Святославе: в эти тяжкие месяцы она думала о нем куда больше, чем когда с ним все было в порядке. Хотелось заплакать от горя, но боль смягчалась благодарностью судьбе, что у нее есть еще дочь. Если бы не Браня – она бы этой осенью ума лишилась. Ни горе, ни надежда, одна гнетущая тоска неизвестности, будто петля на горле. Так, должно быть, чувствовал себя Один, вися в ветвях на ветру, пронзенный копьем, в жертву себе же… Ну, тот бес, которого ее северные предки почитали за своего божественного пращура…
Саму Эльгу в первый раз обручили в возрасте на два года моложе, чем Браня сейчас. Но Эльга даже не думала о женихах для дочери, на своем же опыте убедившись, как быстро начал меняться мир после Олега Вещего: через пять лет роду будут нужны союзы уже с совсем другими людьми.
Но участь Горяны приходилось решать прямо сейчас. Судьба… или Господь Иисус, или дух Олега Вещего – словом, та неведомая сила, что управляла беспримерной долей Эльги, вернула ей возможность соединить обе ветви Олегова рода. Ту возможность, что однажды уже ускользнула: когда Святослав, вопреки совету матери, выбрал в жены смолянку Прияну.
– Но послушай… Зоя! – Эльга посмотрела на Горяну. – Помнишь, еще два года назад я тебе толковала, как важен для всех нас и для руси этот брак? Но тогда мы говорили о Святославе, а его самого здесь не было, ты его не знала. А теперь речь идет об Улебке, и ты с ним хорошо знакома. Не рассказывай мне, что он тебе не нравится. И я, и Ута, и наши бабы видели, что вы друг на друга все поглядываете – и в Киеве, и в Греческом царстве. Он и раньше был для тебя добрый жених, а теперь станет князем. Лучше не найти. Чего тебе не хватает? А проповедовать никто тебя не пустит, пока апостол Павел не явится и не скажет, что ты избрана.
– Апостолов тоже при жизни гнали сильные, бранили разбойниками и в темницы бросали. – Наконец Горяна разомкнула уста. – И Феклу… – она резко наклонилась, пропуская над собой брошенную шелковую подушку, и продолжила: – Мать родная повелела сжечь за отказ идти замуж, но она и того не убоялась. И теперь Господом прославлена и к лику равноапостольных жен причислена.
– Жечь тебя никто не будет. – Эльга едва удержалась, чтобы не добавить «не надейся». – Но до чего же девки чудные пошли! Мы молодыми только о женихах и думали. Проповедовать! Да как могло на ум взойти…
– Но вы же не знали Христа, что бы вы стали проповедовать? – едва ли не снисходительно ответила Горяна.
Эльга улыбнулась. В памяти замелькали обрывочные воспоминания о юности, проведенной в Варягине – воеводской усадьбе над бродом реки Великой, в десяти поприщах от Плескова. Осенние супрядки, на которые они с Утой часто ходили за реку, в Люботино, где жила родня Уты по матери. Всякие игры на Коляду…
А потом и вовсе засмеялась, зажав себе рот ладонью. Браня, не зная, в чем дело, засмеялась с ней заодно, а Горяна покосилась со значением, будто знала.
Греки, оказывается, свою Коляду тоже весело празднуют. Снега у них почти нет, деревья стоят зеленые, лишь кое-где мелькает желтизна. Холодает лишь настолько, как у нас к вывозу снопов, и в солнечное время можно выйти в одном платье – лишь дожди идут чередой. К началу зимы на оливах чернеют созревшие плоды, и мало не до того срока еще порой расцветают особо храбрые розы. С конца месяца ноэмбриоса начинаются Брумалии – праздники по случаю самых коротких дней в году, и завершаются к солоновороту. На солоноворот греки отмечают Рождество Спасителя, а перед ним месяц предаются разгулу. Знатные люди устраивают у себя пиры, простой народ рядится: мужчины одеваются в женское, женщины – в мужское платье. Буйные ватаги что ни ночь слонялись и по проастию Маманта, где до утра не закрывала двери харчевня, и русские отроки редко когда пропускали возможность поучаствовать. Как дома, делали себе личины разных чуд рогатых, пугали греческих девок.
В один из таких вечеров, уже в густой полутьме, Эльга тайком вышла из палатиона и через сад побежала к воротам. Провожала княгиню только рабыня, Инча, и по виду архонтисса росов сейчас ничем не отличалась от простой гречанки: шерстяная синяя накидка-паллий, светло-коричневый мафорий с золотой каймой, позаимствованный у сестры.
Возле ворот ее ждали несколько мужчин.
– Приветствую тебя, королева! – Этериарх Савва вышел вперед и поклонился. – Ты не передумала? Тогда прошу за мной. Как удачно, что сегодня нет дождя.
Снаружи ждали лошади, и с помощью Саввы Эльга села в седло.
– Твои люди знают, куда ты уехала? – спросил он, подавая ей поводья.
– М-м-м… Не все. Я сказала женщинам, что хочу прогуляться, но надеюсь, мужчины не заметят, что меня нет, пока я не вернусь. И не успеют устроить в проастии Маманта восстание варваров!
Высадившись из лодьи в Неории, они вновь сели на лошадей и поехали по Месе. Близилась ночь, когда они достигли Большой дороги, как называли главную улицу, но Город и не думал спать: везде было полно огней и шума, бродили ватаги ряженых, и Савва даже взял лошадь Эльги под уздцы, оберегая княгиню. Во всех лавках и харчевнях сияли светильники, шло веселье; сквозь занавеси доносился смех и женский визг.
Сегодня всадники спешились не возле обитых медью ворот Халки – главного входа в Мега Палатион, а с северной стороны дворца, у ипподрома. Савва провел Эльгу через Кентинарий – башню, которая защищала жилые покои дворца с севера и охранялась средней этерией.
– Вот она, наша Башня Пьяниц! – хмыкнул Савва, вводя гостью в высокое сводчатое помещение.
Десятка три отдыхающих вестиаритов вскочили при его появлении, с любопытством тараща глаза на женщину, закутанную в мафорий так, что виднелись только глаза.
Однажды Эльга уже проходила через эту башню – в день своего первого приема у Константина. Но тогда здесь царил порядок и «львы» стояли ровным строем, в золоченых шлемах и с копьями. Теперь же они, частью нетрезвые, полуодетые и лохматые, сидели за длинными столами, где стучали кости и стояли кувшины с вином.
– Почему пьяниц? – шепнула она.
– Потому что за сто лет греки так и не сумели приучить этих троллей разбавлять вино водой, а потом уже пить. Здесь каждый вечер – пир в Валгалле и драка, прости меня Господь.
– Но ведь обращению с вином приходится каждое поколение учить сначала?
– Именно так.
Миновав башню, Савва и Эльга углубились в переход. Она расслышала шуточки, летящие вслед: дескать, хёвдинг красотку себе подцепил, а нам в башню не дает водить… Откуда им было знать, что «красотка» понимает северный язык.
Они долго шли через покои, переходы, даже через какую-то церковь, сейчас пустую и тихую. Эльга и не пыталась что-то рассмотреть при скудном свете факелов или понять, где они находятся. Будто в той волшебной горе у троллей… Еще в первые свои посещения Мега Палатиона она поняла, что он, пожалуй, больше всего Киева, и надо провести здесь лет тридцать, как Савва, чтобы суметь найти дорогу. Раскинувшийся на холмах, дворец то поднимался, то опускался; из одних покоев в другие приходилось идти по лестницам то вверх, то вниз; порой Эльге казалось, что они спускаются вовсе под землю, но, к ее удивлению, за окнами вновь мелькало ночное небо и даже желтела луна. Загадочно мерцали медные и бронзовые двери, позолота, стеклянная мозаика, гладко отполированный мармарос. Порой она даже видела, как скользит в большой колонне их отражение – будто идут навстречу призрачные обитатели этого зачарованного дворца.
Порой они натыкались на слуг или придворных, почти все кланялись этериарху средней этерии, но никто не спрашивал, куда, зачем и к кому он ведет женщину, закутанную в покрывало. Для Мега Палатиона это обычное дело? Любопытно: часто ли Савва приводит сюда женщин для себя? Судя по несколько удивленному оживлению этерии – нет, не часто. Эльгу пробирала дрожь, хотелось смеяться без всякой причины. Уже лет двадцать с ней не приключалось ничего подобного… но и тогда, в юности, когда приключалось, ей было страшно, а не весело. Вдруг начало казаться, что ей снова пятнадцать лет, и она следовала во мрак за царьградским львом, как когда-то за плесковским медведем, со стесненным дыханием и бьющимся сердцем.
Но вот они миновали узкую темную лестницу и вышли на какую-то галерею. Еще на выходе до Эльги донеслось пение – торжественное и слаженное, но не такое красивое, как в церкви.
– Это здесь, – шепнул Савва, держа ее за руку. – Триконха. Мы пришли. В самое время.
На галерее висела тьма, зато внизу, в палате, горело немало огней. Савва провел Эльгу немного вперед и остановился возле толстой, как вековой дуб, колонны красного порфира с белыми прожилками. Свободную руку Эльга прижала к груди: от быстрого шага и волнения она запыхалась.
При свете сотен свечей внизу все блестело, искры играли на золотистых глазках мозаики, будто выложенные картины перемигивались. Впервые Эльга увидела царскую палату сверху: взору ее открылось широкое узорное поле, по которому люди ходили ногами! Чуть не ахнув от восторга, она сама закрыла себе рот: Савва предупреждал, что нужно вести себя тихо.
В середине стояло золотое кресло, в котором кто-то сидел, будто раззолоченный идол, а вокруг него двигались по кругу десятка три людей с зажженными свечами. И они пели, пританцовывая на ходу, кружась, приседая и подпрыгивая, от чего колебались дрожащие огоньки свечей в их руках.
Кто бы мог подумать, что в этом чинном дворце возможно такое!
– Что они поют? – шепнула Эльга Савве, невольно наклонившись вперед, чтобы лучше видеть.
– Василикии, конечно, – шепнул он в ответ и приобнял ее сзади, прислоняя к себе. – Отойди немного назад… Они поют хвалу нашему богохранимому василевсу. «О утренняя звезда, восходящая Эос, взором отражающая лучи солнца, бледная смерть сарацин! Многие лета! Народы, поклоняйтесь ему, чтите его, склоняйте перед ним свои шеи!»
И тут Эльга узнала человека в середине хоровода: это Константин! И чуть не засмеялась в голос: василевс ромеев принимал восхваления, словно украшенная венками и рушниками березка, возле которой девы славянские водят круги с величальными песнями. Только без свечей.
Все это – непривычная обстановка, темнота, дрожащие огоньки, занятное зрелище, пение и рука этериарха, который придерживал ее сзади, будто боялся, что она бросится вперед, – наполняло ее теплой дрожью, тревогой и весельем. Впервые за двадцать с лишним лет Эльга перестала быть княгиней русской, наследницей Вещего, а стала… просто самой собой. И это было настолько непривычное ощущение, что она не знала, как с ним быть. Слишком она отвыкла быть просто собой, той, над которой не довлеют княжеские права и обязанности. Женщиной, которая может думать только о себе.
Да и знала ли она вообще эту женщину?
Ей показалось, что Савва позади нее наклоняет голову и касается лицом ее затылка под мафорием. Вдруг заныло в животе; впервые она ощущала такую близость совершенно чужого мужчины и потому растерялась. Ну, да, она знала, конечно, что из одной почтительности к иноземной княгине никто не станет беспокоиться о ее увеселениях. Развлекать знатных иноземцев входит в обязанности вовсе не этериарха средней этерии, а логофета дрома. Но теперь, когда она уже не сомневалась в природе его чувств, у нее захватило дух. Явственно исходящее от Саввы желание будоражило и пугало ее, но она не двигалась, словно ничего не замечая. Кириа тон Уранон, будто она не княгиня и мать взрослого сына, а девка в своей первой поневе!
Пение внизу смолкло. К василевсу подкатили тележку. Эльга видела такие в Аристирии, где их в день приема угощали сладкими блюдами за золотым столом с цветной эмалью: там на таких тележках подвозили целые горы яблок, персиков, винограда и прочего овоща. Зоста патрикия Павлина тогда еще заметила, как повезло архонтиссе росов со временем посещения: в месяц септембриос спелые свежие фрукты в наивозможнейшем изобилии.
И что теперь будет? Константин станет раздавать приближенным яблоки, будто дева, изображающая богиню Идун на северном Празднике Дис?
Примерно что-то такое и началось. Служитель со свитком встал рядом с тележкой и начал зачитывать имена; другой служитель брал что-то с тележки и передавал василевсу, а Константин вручал это царедворцам, которые по одному подходили к нему и совершали проскинесис. Иные касались протянутыми руками багряных башмаков августа, потом вставали сами, а к иным он, в знак особой чести, наклонялся, будто хотел помочь подняться. Двоих или троих даже лобызал в уста. Эльге уже рассказывали, что это придворное лобзание – как церковное, каким прикасаются к святыням: не размыкая губ. Однако никакой русский князь не стал бы лобызать своих воевод, отроки бы нехорошо обозвали… И это тоже показалось ей смешным.
– Сегодня день буквы «зита», – шепнул Савва ей прямо в ухо.
Голос его был хриплым и напряженным, и Эльга с трудом понимала, о чем он говорит: захваченная ощущениями, она едва могла сосредоточиться на словах.
– Что это значит?
– Сегодня вызваны для награждения те, чьи имена начинаются на букву «зита». Захарии, Зиновии, Зиноны и все им подобные. Каждый день по одной букве, а всего их двадцать четыре – как раз всех букв хватает на месяц празднества.
– А что он им раздает? Яблоки?
– Это мешочки с деньгами. Каждого награждают по чину, титулу и заслугам, но всего, я слышал, при нашем добром василевсе Константине раздают на каждых Брумалиях по три с половиной тысячи номисм.
– Больше они не будут танцевать?
Эльга отстранилась от Саввы и отступила от мраморного ограждения дальше в тень. Она устала от своего возбуждения и не знала, как быть. Слишком далеко она ушла от девчонок в темных рощах, с которыми бывают такие приключения, и не могла решить, в какой мере может к чему-то подобному вернуться.
Не отвечая, Савва сделал шаг вслед за ней, в темноту галереи. Несмотря на мафорий, из-под которого освободила только лицо, Эльга всем существом ощущала, что и этот седой цареградский лев источает то же волнение. Да разве она и раньше не видела, что этериарх Савва из тех людей, у кого седина в волосах вовсе не ложится инеем на мужское чувство? Впервые они остались только вдвоем, без свиты и челяди, и эта уединенность наполняла ее трепетом, как невесту, ожидающую жениха на сорока ржаных снопах…
Будь она простой вдовой – могла бы вновь выйти замуж за достойного человека, годы еще позволяют. И та простая вдова, которой она могла бы быть, не отвергла бы Савву – не только достойного, но любезного и умного мужчину. Однако она – не простая вдова. И в этом деле свободна даже менее, чем любая из ее рабынь.
– Они будут еще танцевать? – повторила Эльга. – Или петь?
– Н-нет… – Савва наконец услышал ее вопрос. – Когда дошло до раздачи денег… значит, веселье кончилось.
– А у нас наоборот. Правда, мы не деньгами, а припасами раздаем. Или кольцами, обручьями – за столами, на пиру. Потом все пьют до утра.
Савва коснулся ее рук; его ладони показались Эльге очень горячими, и она отняла свои. Происходило нечто такое, чему не находилось места в ее жизни, и оттого она не знала, принять это нечто или оттолкнуть, пока не поздно.
– Что-то я тоже как пьяный… – Он коснулся лба. – Когда так темно, у меня плохо получается разглядеть свои годы, зато твоя красота становится даже ярче, чем днем. Все же ты гораздо больше похожа на утреннюю звезду, чем наш богохранимый космократор… Здесь после вашего приема ходило много разговоров…
– Каких?
– Все болтали, что если царица Савская была так же хороша собой, как Эльга Росена, то неудивительно, что иные народы ведут свою родословную от нее и Соломона. Будь я на месте Соломона… то есть… я хотел сказать…
В голосе его звучала растерянность, и по сравнению с обычной уверенной шутливостью искренность этих чувств особенно тронула Эльгу.
– Вот как! – Она засмеялась, прижавшись спиной к холодной мраморной стене. – Но если говорить о наших годах после крещения – тебе уже целых двадцать пять, мне же всего четыре месяца. И боюсь, мои няньки меня хватятся. Пожалуй, мне пора.
Они пошли назад, через те же покои, лестницы и переходы, то темные, то полуосвещенные. Савва держал ее за руку, и Эльга шла за ним, неся в душе смесь облегчения и чувства потери. Этому нет места в ее жизни, и незачем воображать, как она повела бы себя, если бы была не княгиней, а совсем другой женщиной.
У северных ворот за башней Кентинария Эльга снова села в седло. Город все так же веселился, перед мордами лошадей плясали и кривлялись слишком высокие плечистые «женщины», совершая непристойно-игривые телодвижения, и напыщенные «мужчины», у которых из-под накидок выпирала грудь. Слышались песни, говор, в котором Эльга не разбирала ни слова, но ощущала тот же настрой, каким полнится Киев в ночи Коляды.
У ворот палатиона Маманта Савва помог ей сойти с седла. Кто-то из его людей открыл ворота, заглянул внутрь. На пустом дворе стояла тишина, в окнах не горело огней. Савва провел ее через сад, постучал в дверь поварни; ожидавшая госпожу Инча торопливо отперла. Этериарх остановился на пороге.
– Спасибо тебе! – Эльга протянула ему руку. – Я видела уже немало чудес Греческого царства, но этот ночной хоровод патрикиев со свечами не забуду никогда.
– Я тоже, – тихо сказал он и наклонился; Эльга ощутила, как его усы прикоснулись к ее руке, и вот он уже удалялся по дорожке во тьму.
Инча заперла дверь. Эльга немного постояла, приходя в себя, потом побрела через триклиний к лестнице в китон. Наверху в тихом переходе горели два факела. Она прокралась к своей двери, толкнула ее и вошла. Внутри мерцал огонек: Ута оставила свечу на ларе у лежанки. Володея и Прибыслава на своих постелях, челядинки на полу – все спали, укутавшись в шерстяные и меховые одеяла. Жаркие летние ночи уже сменились холодными зимними, а печей в китонах не имелось.
Старясь никого не разбудить, Эльга прикрыла за собой дверь…
И тут из темноты выдвинулся черный великан; крепкие руки вцепились в ее плечи, с силой притиснули к стене. И знакомый голос гневно прошептал ей в лицо:
– Йотуна мать, где ты была?
Эльга сначала вздрогнула от испуга, потом узнала великана и расслабилась.
– У деда на бороде! – Она пихнула его кулаком в живот. – Ты чего набрасываешься, как тролль за дверью! А если бы я подол со страху обмочила?
Мистина взял ее за плечи и вытолкнул назад в переход. Уставшая Эльга округлила глаза от удивления: таким злым она его давно не видела.
– Где ты бродила? – Он прижал ее к отделанной мрамором стене, упираясь руками в эту стену по обе стороны ее головы. – Я уже думал, тебя украли!
– Не жужжи! – осадила его Эльга, надеясь, что их приятная беседа не разбудит все посольство. – Ута знала, где я, и не говори мне, что ты у нее не спрашивал!
– Я спрашивал! Но тебя уже след простыл! Почему ты мне не сказала?
– Да потому что ты бы вцепился зубами в мой подол и не пустил!
– Я вцепился? Да я бы просто дал в морду этому старому козлу! Куда ты полезла? А что, если бы он завез тебя куда-нибудь и… Ты княгиня! Хочешь, чтобы о тебе болтали, будто русская архонтисса бегает ночью с мужиками, как распутная холопка?
– Да что ты ко мне пристал! – возмутилась Эльга. – Я не девчонка! Не твое дело, куда и с кем я хожу. Ты мне не отец и не брат.
– Я тебе свояк – это и отец, и брат, и муж, если понадобится. И я не потерплю, чтобы из меня делали дурака ради каких-то грибов трухлявых!
При свете факела Эльга посмотрела в его глаза, где неприкрытый гнев мешался с тревогой и даже обидой. Как хорошо она знала это лицо: этот прорезанный парой продольных тонких морщин лоб, серые глаза, резковатые правильные черты, нос, искривленный давним переломом. Двадцать лет назад эти глаза смотрели на нее с дерзким вызовом и обещанием (княгиня Мальфрид как-то назвала их «блудливыми»), а губы складывались в снисходительную и чуть-чуть игривую усмешку. За эти годы Мистина научился всегда хранить оживленный и дружелюбный вид, а еще обзавелся красивой густой бородой. Не рыжей, как была у Ингвара, а того же оттенка, что и русые волосы. Сейчас ему чуть перевалило за сорок, и проблески седины его даже красили. И ей гораздо чаще случалось самой при нем выходить из себя, чем видеть, чтобы он утратил власть над собой.
Вдруг Эльга опустила голову. Послышались странные звуки. Мистина сперва подумал, что довел ее до слез, и наклонился, стараясь с высоты своего роста заглянуть ей в лицо, но тут понял, что она смеется.
– Ты! – Эльга сжала кулаки и ударила его по широкой груди. – Когда-то… я помню… я убежала из дома, а ты меня увез. И теперь… ты… ты боишься, что я с кем-нибудь другим убегу от тебя?
Мистина шумно выдохнул. Будучи человеком выдержанным, он очень редко орал на женщин и быстро отходил.
– Какого беса тебе вздумалось гулять вдвоем с этим козлом? Чего такого особенного он мог тебе показать, чего у других нет, йотуна мать? Не могу поверить, что ты так забылась… Уронить честь своего рода и руси ради какого-то сморчка…
От вида его гневно раздутых ноздрей Эльгу все сильнее разбирал смех: не из боязни за честь руси он так рассвирепел. Она смеялась, зажимая себе рот обеими руками, чтобы не перебудить всех; не зная, как понимать этот смех, Мистина сбросил мафорий с ее головы прямо на пол, обнял ее и прижал к себе так сильно, что она охнула.
– Я никому не позволю… – прорычал он, прижавшись лицом к ее лбу. – Я убью любого, кто вздумает к тебе подкатывать!
– Я знаю! – Эльга немного отстранилась и приставила кончики пальцев к его груди – к тому месту, где без следа зажил небольшой порез на коже. – Одного такого ты уже убил! У меня на глазах!
– И другого убью! Сколько их ни будет! Ты – наша удача, и мы ни с кем не станем тебя делить!
– Я ваша, ваша! – подавляя смех, Эльга боднула Мистину в грудь, понимая: на самом деле он хочет сказать «ты моя» и не смеет. – Пусти! Куда я могу от вас деться, если я…
Она не знала, как это выразить. Почему-то этой ночью, в далеком Греческом царстве, среди непривычно теплой и бесснежной зимы, она с особенной силой ощутила, как всем существом, тысячей нитей связана с далекой державой руси на берегах Днепра, Ловати, Волхова. Там, где в эту пору лежат синие снега, горят костры, пляшут ряженые в шкурах, и сам он, Мистина, в ночь солоноворота входит в ее гридницу, одетый Велесом… Томило сожаление, что она сейчас не там.
Сняв с себя обязанности княгини и старшей жрицы, поклявшись в верности иному богу, она все же оставалась сердцем Руси и так же не могла уйти от нее, так сердце не может выйти из тела. Что тому причиной? Кровь Вещего, его неукротимый дух, стремящийся вперед и вверх, на земле, на море и в небе? Всегда имеющий щит наготове и только ищущий, куда бы приколотить.
Но именно поэтому никто из мужчин больше владеть ею не может. Вместе с собой она неизбежно отдала бы Русь, а у Руси уже есть князь. И Мистина, имея к ней куда более, чем у других, личное чувство, лишь выразил мнение всей дружины. Ты – наша…
Утомленная поездкой и всеми переживаниями, не имея больше сил для борьбы, Эльга прислонилась к мраморной стене, подняла лицо и закрыла глаза. Горячие губы жадно прильнули к ее рту. Змей, обвивший ее крепкими кольцами, жаждал убедиться, что его права на нее никем не отняты.
После смерти Ингвара на свете остался только один мужчина, для которого Эльга была сначала женщиной, а уже потом – княгиней. Он, Мистина Свенельдич, который впервые увидел эту девушку в мокрой сорочке русалки у брода и на руках унес в новую, княжескую жизнь. Удача руси должна остаться с русью. С ним, который двадцать лет служил ей и иными нитями был связан с ней теснее, чем даже покойный муж.
Здесь, в Греческом царстве, он боролся за нее не только с этериархом…
…А здесь, в Киеве, эта вот семнадцатилетняя чудачка сидит перед княгиней и мечтает, чтобы родная мать потребовала сжечь ее живьем за отказ от брака.
– Знаешь что, – Эльга задумчиво посмотрела на Горяну. – А как хочешь. Тут и помимо тебя невесты найдутся. Я ведь и сама еще могу замуж пойти.
С тех пор как они с Мистиной полушепотом переругивались среди мраморных плит у двери китона, все снова изменилось.
Горяна вытаращила глаза: ничего подобного ей в голову не приходило.
– Я найду себе такого мужа, что землю Русскую не даст в обиду, – продолжала Эльга. – Еще лет пятнадцать мы с Божьей помощью проскрипим, а там и Ярик подрастет. Только проповедовать я тебя все равно не отпущу. Может, разрешу в Греческое царство вернуться и в монастырь пойти. Хочешь?
* * *
– Она обещала отпустить меня в монастырь! Ну, почти обещала!
– Она сказала, что сама выйдет замуж? Ты хорошо расслышала – она именно так и сказала?
Трое зрелых мужчин – князь, священник и купец – с напряженным ожиданием уставились на юную девушку в светлом платье из белой тонкой шерсти, лишь с небольшой отделкой зеленого с золотистым шелка. Олег Предславич, вчера поздно вечером приехавший из Овруча, и его дочь сидели в избенке на Подоле, где жил отец Ригор. Изба была невелика и совсем не богата: простые горшки и миски, деревянные ложки, непокрытые лавки, укладка без украшений из меди либо кости. Праздничное облачение и священные сосуды между службами хранил купец Аудун – один из старейшин киевских христиан, имевший у себя на дворе крепкие клети, надежные замки и постоянно сторожащую добро челядь. Но то имущество церковное, а сам Ригор за богатством не гнался и жил скромнее иного кузнеца. Все лишнее раздавал бедным, от дорогих даров отказывался, если только не имел на примете христианина, которого нужно выкупить из рабства.
Трое гостей зашли к священнику после воскресной службы, когда Эльга с приближенными отправилась к себе на Святую гору. В эти полгода после возвращения княгини от греков Ильинская церковь на Ручье стала уже тесна: на службы в конце недели она бывала полна народу. Кроме княгини с приближенными, приходили многочисленные купцы-христиане со своими семьями, и порой всякого звания киевляне являлись к Ригору, изъявляя желание креститься, «чтобы с княгиней был один бог». Эльга обещала зимой приготовить бревна, надеясь в следующие годы расширить церковь.
– Княгиня сказала, что найдет себе мужа и станет с ним править, пока Ярик не подрастет, – уверенно повторила Горяна.
– И кто это будет? – взволнованно спросил Олег Предславич.
– Не знаю. Она не назвала никого.
Олег Предславич и отец Ригор посмотрели друг на друга.
– Кто это может быть? – спросил Олег. – Кто тут есть возле нее, чтобы годился…
– Да нет вроде никого… – задумался Аудун. – Воеводы все женаты. Бояре… Князя чужого не возьмет она в мужья, и люди киевские, русь не позволит… Дружина… кого же дружина признает, чтобы с ней правил?
Они еще раз подумали; в долгом совместном путешествии древлянский князь, священник и купец хорошо узнали людей и отношения ближнего круга Эльги. На лицах отразилась тревога, и Ригор обозначил угрозу вслух:
– Нет, не может быть! Бог не попустит княгиню до такого греха, чтобы у сестры мужа отнять!
Олег не ответил, но явно не успокоился. Оба они знали Мистину, а Олег догадывался, что именно Свенельд и его сын подготовили ту смуту, в которой он лишился киевского стола. Само собой приходило в голову: теперь, когда этот стол, похоже, свободен, на что Мистина не пойдет ради достижения цели?
– Ты ведь не знаешь, отец, – проговорил Олег. – Двадцать с лишним лет тому… еще когда я и жена моя покойная, Мальфрид, Киевом владели… Мистина Свенельдич хотел Эльгу за себя взять. Он привез ее из Плескова, а Ингвара тогда в Киеве не случилось… не помню, где он был. Мы ждали его. А Мистина… Малфрид мне говорила… Он ведь тоже роду хорошего, с князьями в родстве. Кто из них, он или Ингвар, женился бы на старшей племяннице Вещего, тот и мог бы за киевский стол побороться… В тот раз у него не вышло. А когда Ингвар сгинул… Еще диво, что Мистина восемь лет ждал!
– Но у него жена…
– Он же язычник! – воскликнул Аудун. – Упорный и нераскаянный! Ему хоть три жены, хоть пять – не знает греха. А что сестра – по старому обычаю, у свояка на свояченицу больше прав, чем у женихов со стороны.
– Он и ее от Христа отвратит, – отец Ригор покачал головой, видя близкую беду. – Она и так уже, прости ее Господи, на идольское мольбище ходила… С таким мужем дорогу в церковь забудет, свою душу загубит и всю русь…
Повисло молчание.
– Батюшка! Отче Ригоре! – напомнила о себе Горяна. – Но вы-то благословите меня в монастырь, если княгиня правда отпустит?
Мужчины посмотрели на нее.
– Эх, девица! – вздохнул отец Ригор. – Тут речь о спасении целой державы идет, а ты о себе одной радеешь…
– Ну а что я могу сделать… – пробурчала Горяна.
– Ты можешь выйти за Улеба, – подсказал ей отец. – Тогда он сможет стать князем, и Эльге не понадобится муж.
– Я не пойду за язычника! – Горяна встала. – Твоя воля надо мной, батюшка, но я лучше из дому уйду и стану на дорогах проповедовать…
Олег Предславич слегка отмахнулся: эту песню и он слышал уже очень много раз.
– Так уговори его креститься! – предложил Аудун.
– Да разве я не уговаривала! – Горяна воздела руки. – И там, в Царьграде, до последнего дня уговаривала!
– Попробуй-ка еще, коли отец, – Аудун глянул на Олега Предславича, – и… и святой отец благословят, – он посмотрел на Ригора. – Улеб Мис… Ингоревич – парень молодой. Ты, дева красная, ему по нраву. Ты ж его на что уговаривала?
– Креститься! Говорила, какое это счастье невыразимое – видеть душой Бога живого…
Аудун слегка скривился и помотал головой: девка умна, а дура.
– Вот был бы я парень молодой, да подойди ко мне такая красота несказанная, как ты, да скажи: соколик мой, цветик мой лазоревый, хочу быть женой твоей и княгиней, чтобы править нам Киевом, жить-поживать, детушек наживать. Одна беда: Господь мне за нехристя идти не велит. Прими крест честной, и будет нам счастье!
Горяна вопросительно посмотрела на двух отцов: родного и духовного. Они молчали, но это молчание означало поддержку речи понимающего жизнь купца.
– Если отрок примет крест, то и свою душу спасет, и тебе выйдет перед Богом заслуга! – сказал отец Ригор. – И будете вы христианской четой на княжьем столе. Подумай только: мольбища-требища запустеют, церкви Божии везде поднимутся. Господь вас наградит. Всякому Он свой крест посылает. Кому проповедовать и зверями быть растерзанну, а кому – иным путем помочь просвещению, и не с дороги, а с княжьего стола нести руси и славянам свет веры Христовой.
– Я поговорю с Улебом, – решил Олег Предславич. – Все же девице самой не к лицу…
* * *
А Мистина, которого киевские христиане так опасались, при известии о возможном замужестве Эльги подумал совсем о другом.
Вопреки обыкновению, по которому он первый узнавал все речи и замыслы Эльги, эта весть до него дошла кружным путем. На Свенельдов двор явился Олег Предславич, желая поговорить с Улебом. Однако говорить ему пришлось главным образом с его отцом – как теперь выяснилось, названым.
– Княгиня меня в Киев пригласила, чтобы снова речь завести о замужестве моей дочери, – начал Олег, усевшись в гриднице, где двадцать лет назад Свенельд, тогда старший киевский воевода, возглавлял застолья.
– И мы, весь род ее, поддерживаем это решение, – кивнул Мистина, нынешний обладатель хозяйского места. – Для мира в Русской земле ничего нет лучше, чем обе ветви потомков Олега Вещего соединить.
– Но тут есть препятствие, и ты его знаешь. Моя дочь крещена, а твой сын не последовал примеру княгини и своей родной матери…
– Однако моя жена остается моей женой, хотя она теперь крещена, а я – нет, – возразил Мистина.
– Отец духовный не благословит мою деву на брак с язычником, и я против его воли свою власть отцовскую применить не смею…
Глядя в спокойные, жесткие серые глаза воеводы, Олег не знал, как продолжать беседу. Он не мог сказать Мистине «твой сын должен креститься, иначе князем станешь ты сам, а мы этого не хотим». Бросил взгляд на Уту – она приходилась ему, как и Эльга, двоюродной теткой, хотя была лет на тринадцать моложе. Может, стоило поговорить с Утой? Открыть ей глаза на опасность лишиться мужа? Но Олег не мог уверенно сказать, каковы отношения этих троих, скрытые от глаз даже близкой родни. Малейший проблеск ревности или недовольства со стороны Уты дал бы им оружие в руки. Но ждать этого теперь – когда открылось, что сама Ута еще двадцать лет назад «провинилась» перед Эльгой, родив дитя от мужа сестры?
– Улеб… – Олег Предславич посмотрел на парня. – Моя дочь сердцем тянется к тебе. Она мало склонна к замужеству и предпочла бы служить Христу. Если она не станет твоей женой, то, я думаю, мы с моей княгиней никогда не дождемся ни зятя, ни внуков. Но если ты примешь крест, то получишь жену добрую, княжий стол, счастье в земной жизни и спасение души – в жизни вечной. Неужели на такую долю еще уговаривать надо?
– Я не изменю богам, моим предкам и всей дружине, – тихо, но твердо ответил Улеб.
Наедине с собой он мог колебаться, думая о Горяне, но под взглядом отца обретал твердость. Ибо Мистина сам по себе олицетворял русскую дружину во всей ее мощи и славе.
– А если ты отвергнешь крещение, то не получишь ничего! – В отчаянии Олег Предславич забыл об осторожности. – Ничего! Княгиня возьмет себе нового мужа, и все мы останемся у пустого горшка…
– Что? – перебил его Мистина. – Какого, йотуна мать, нового мужа? Ты о чем, Олежко?
Олег с упавшим сердцем воззрился на него: осознал, что невольно выдал свою тайну. Но тут же ободрился: судя по потрясенному виду Мистины, тот и не знал о желании княгини, и не ждал от этого ничего хорошего для себя.
– Она сама сказала…
– Что она сказала? – Мистина шагнул к нему, не веря, что подобный замысел мог возникнуть у Эльги без его ведома.
– Сказала, что если моя Горяна за Улеба идти не хочет, то она, Эльга, возьмет себе мужа и будет с ним править до возраста своего внука, Яра Святославича.
– Кому сказала? Когда?
– Горяне моей. Вчера.
Мистина помедлил несколько мгновений, взглянул на жену, но и Ута являла собой воплощенное недоумение.
– Я схожу, отец… – Она встала.
– Сам схожу. – Не прощаясь, Мистина кинулся вон из гридницы.
Было слышно, как он кричит во дворе:
– Вешка, коня!
* * *
Олег Предславич сказал Мистине больше, чем сам думал. И посчитал бы, что на оплошность его толкнул сам Господь, если бы понял, как сильно ему удалось напугать непробиваемого воеводу. Ведь если кто и был осведомлен о мыслях и желаниях Эльги почти столько же, сколько она сама, то разве что Мистина. И он точно знал, в каком случае она попыталась бы утаить подобный судьбоносный замысел от него.
Сегодня вечером у Эльги, как всегда по воскресеньям, давался пир для киевских христиан – всех прихожан Ильинской церкви, с которыми вместе она присутствовала на службе. В основном там числились купцы, посещавшие Царьград, Болгарское царство, Мораву, но значились среди приглашенных люди и других званий. Много было самих моравов, чехов, болгар, даже кое-кто из крещеных хазар. Видя, как за княжеский стол запросто садятся купцы и кузнецы, и другие киевляне порой прикидывали, до чего почетно иметь с княгиней одного бога. Особенно сейчас, когда она вновь осталась единственной обладательницей верховной власти над русью и славянами.
Эльга собиралась на пир: уже надела далматику из синего шелка с золотыми львами, и теперь Бажаня расчесывала ее волосы, чтобы заново уложить под убрус. Мистине не требовалось доклада и разрешения, чтобы сюда войти, Эльгины отроки обычно лишь кланялись при виде старшего воеводы и ближайшего родича княгини. Но сегодня они просто разбегались с его пути.
Услышав грохот у двери, Эльга подняла глаза:
– За тобой что, гонятся? Подожди в гриднице, я сейчас выйду.
– Нет, это они все выйдут, – Мистина бросил свирепый взгляд на Бажаню, и та опустила гребень. – Все к… х-хренам ползучим, мне с княгиней перемолвиться надо.
– Да что с тобой такое? – Эльга встала, с изумлением глядя на кипящего негодованием свояка. – Не случи… лось ли чего?
Мелькнула мысль – весть о Святославе! – но Эльга ее отвергла. Если бы пришли вести о сыне, дурные или добрые, Мистина был бы удручен или весел. Но он был непритворно разгневан!
Она молчала, не отменяя этого приказа, и челядь заторопилась на выход. Скрябка забрала Браню, тоже одетую в нарядное шелковое платье.
Эльга огляделась, взяла приготовленный на ларе белый шелковый убрус и накинула на распущенные волосы. Заплести ей косы Бажаня не успела, но сидеть перед мужчиной простоволосой неприлично, даже если это свояк. Иные жены биты бывают, если перед свекром без пояса или босые покажутся…
Но Мистина молчал, будто забыл, зачем пришел, а лишь смотрел на пряди светло-русых волос, струящиеся из-под убруса до самого ее пояса. Может, к тридцати семи годам Эльга потеряла два-три зуба, возле глаз появились тонкие морщинки, будто лучики смарагдовых светил, но косы остались те же, что и двадцать лет назад. Стараясь отдышаться после скачки, он безотчетно стал расстегивать золоченые пуговки на своем полураспашном кафтане из белой шерсти с рыжевато-золотистым шелком на груди. Ему как будто было душно и жарко, хотя в избе, где печь протопили утром, сейчас уже стало прохладно.
– Что ты застыл? – окликнула его княгиня. – Примчался, будто орда угорская, напугал всех… и замолк! Воды хочешь?
– Вспомнил вдруг… Когда я в первый раз приехал к вам в… Как ваша усадьба называлась, возле брода? Вы там русалками ходили.
– Варягино. Помню, мы чуть не утопили тебя? – Эльга усмехнулась воспоминанию.
– У тебя и тогда были такие волосы… – Мистина стиснул зубы, ибо перед мысленным взором явственно встали не только волосы, но и облепленный влажной рубашкой стройный стан самой красивой девушки среди «русалок у брода».
– И в тот же день мы узнали, что мой отец погиб, – Эльга вздохнула. – Так ты чего примчался?
– Ты собралась замуж! – Опомнившись, Мистина упер руки в бедра и обвиняюще воззрился на нее. Сейчас перед ним стояла не юная русалка, а княгиня русская, от которой зависела судьба всей державы. – За ум возьмись! Этот старый пень из Царьграда тебе не годится. Он не продержится еще пятнадцать лет, пока Яр подрастет. И пяти лет не продержится. Мой отец был куда крепче, но и он умер в тех же годах.
– Что за старый пень из Царьграда? – Эльга смотрела на него, ничего не понимая. – Костинтин? Он собрался помирать, а я и не знаю?
– Какой, к йотунам, Костинтин? Я про этого седого, что все к тебе клинья бил! Про Торгейра, который там звал себя Саввой!
– При чем он здесь?
– И какой из него муж? – с негодованием продолжал Мистина. – Он там все подмигивал тебе своим подслеповатым глазом, но дойди до дела – вышел бы один срам! Если уж тебе понадобился муж… – он едва не задыхался, – так можно найти и поближе!
– Это… Горяна сказала? – обронила Эльга чуть погодя.
Понадобился муж… Она вспоминала последние дни и пыталась сообразить, чем вызвано это вторжение.
– Любой другой, кого я могла бы выбрать здесь, попытался бы оттеснить Олегов род от киевского стола, – сказала она, будто и правда взвешивая преимущества этого выбора. И, удивительное дело, эти самые преимущества вдруг выстроились перед ней, будто царские стражи-вестиариты в сияющих позолотой шлемах. С Саввой ей было легко, а вот со всеми здешними – трудно. – А Савва Торгейр здесь совсем чужой. Он прекрасный вождь, на случай если нам придется воевать. Очень опытный, разумный и смелый.
– Смелым ты его зовешь, потому что он не испугался во главе своей дружины выйти из-за стен навстречу женщине? – язвительно ответил Мистина. – Но какого он рода? Ты хоть что-нибудь знаешь об этом?
Эльга покачала головой. Она пыталась спрашивать Савву о родне, однако он только шутил, уходя от ответа, и называл своей родиной крестильную купель церкви Святого Ильи в Мега Палатионе.
– Ну, и представь, как ты опозоришь наш род, если окажется, что он какой-нибудь… вольноотпущенник с хутора!
– Греки никогда не смотрят, какого рода их новый василевс! – из чувства противоречия отбила Эльга. – Раз нет власти не от Бога, значит, Бог и дает ее тому, кто ему угоден, а Божья воля куда важнее происхождения. Старый царь Роман, тесть Костинтина, вышел из простых оратаев.
– Ну и пусть греки жарят в зад своих царей чумазых! А у нас здесь не так! Наши вожди – потомки наших богов, кровь Одина дает им силу и удачу. Русь держится на удаче Вещего, и если ты подпустишь к его престолу невесть кого, мы можем навек ее лишиться! У Торгейра небось есть свои сыновья?
– У него нет детей, то есть он всех их пережил. – Об этом и своей покойной жене-гречанке Савва как-то упоминал. – И новые уже едва ли появятся. А значит, после него не останется других наследников – соперников Ярке.
Мистина подошел к ней вплотную, сбросил с ее головы расправленный убрус и запустил пальцы в волосы по обе стороны лица. Эльга широко раскрыла глаза от удивления перед такой дерзостью – если не сказать наглостью, – но не пошевелилась. Мистина держал ее так крепко, что она и не могла двинуться. Ее вдруг охватил цепенящий трепет перед его решимостью и силой, о которой она так хорошо знала, но которую почти никогда не испытывала на себе.
Вспомнился тот вечер во время Брумалий, когда она вернулась в палатион Маманта за полночь… Он целовал ее как безумный, но и тогда, и сейчас она не могла быть твердо уверена, что его несомненное желание не замешано на честолюбии. Его влечение к ней не было тайной с самого начала – с тех пор как они вместе бежали в Киев с берегов реки Великой. Вскоре Эльга вышла за Ингвара, Мистина женился на ее сестре, и все меж ними пошло, как положено у родичей. Он уступил ее побратиму, но в душе не смирился с этим поражением. И всю жизнь колебался между преданностью Ингвару и страстью к его жене.
Эльга и сама много раз думала, что судьба сочетала их четверых, двух сестер и двоих побратимов, явно не в том порядке, который был бы приятен всем. Но вышло так, как вышло: кроме своих желаний, им приходилось считаться и с другими обстоятельствами. При жизни Ингвара она изо всех сил старалась не уронить его и своей чести. После его смерти ей стало казаться, что вот теперь-то ему сверху все видно. А еще она боялась, уступив своему влечению к Мистине, оказаться в его власти и как княгиня. Врагов у него хватает: если пойдут разговоры, что Киевом и русью на самом деле правит Свенельдич, беды не оберешься. И в семье, и в державе. Потому она и в последние годы старалась держать его на расстоянии, как ни трудно это было ей же самой.
– А что, если… – Мистина наклонился, едва не касаясь своим кривоватым носом ее носа, – если дети еще будут у тебя? Если его старый конец еще сможет разок-другой встать? Ты-то ведь молодая. Бывает, и постарше рожают. У тебя родится сын, и он будет на поколение старше Яра, но моложе годами. Представь, какая рубка между ними пойдет, едва ты умрешь? А то и раньше?
– Но то же самое будет… – Эльга посмотрела в его глаза, придвинувшиеся к ней почти вплотную, – и при любом другом муже.
– Да. Тебе не нужен никакой. То есть руси не нужен другой князь. А если тебе понадобился муж для самой себя… ты знаешь, где его найти.
– Не дури, – едва справляясь с дрожью, ответила она. – Ты помнишь, мне еще той зимой предлагали в мужья Хакона. Ты не возражал, а я отказалась, хотя он был молод и красив.
– Тогда ты совсем недавно овдовела и еще не опомнилась, – прошептал Мистина, прижавшись горячим чуть влажным лбом к ее виску. – Еще не поняла толком, что тебе предстоит. И я не опомнился, но был готов согласиться на все, что ты сочла бы для себя подходящим, лишь бы тебе полегчало. С тех пор все стало по-другому. Ты справилась и без Хакона. И я перегрызу глотку любому, кто сунется к твоей постели. – Глаз его она сейчас не видела, но по голосу понимала, что шутки здесь ни капли. – Никого другого возле тебя я не потерплю. Если тебе так уж нужен какой-нибудь греческий хрен, сначала избавься от меня. Если он теперь твой собрат во Христе, а я – языческий пес вонючий. И все эти двадцать лет для тебя ничего не значат. Начиная от того дня, когда… если бы не я, тебя первым поимел бы лесной оборотень…
Эльга зажмурилась и повернулась к нему спиной. Он обхватил ее сзади и прижал к себе.
– Только потому я и терплю тебя эти двадцать лет… – тихо сказала она.
Но все же Мистина знал: не только. Опустив голову, он припал поцелуем к ее шее под ухом, вдохнул запах ее волос, пахнущих цветом нивяницы. Двадцать лет назад, когда он только вез невесту своего побратима из Плескова в Киев, ее волосы мог видеть любой, но ничего такого она ему не позволила бы. Наследственная преданность вождю была его сильнейшим чувством, ради Ингвара он готов был на многое. Даже смирить свои желания. Но Ингвара не стало восемь лет назад, и даже на том свете бывшая жена с ним не встретится.
Эльга медленно повернула голову в другую сторону. Если Савва был удивительным заморским приключением, в которое она лишь заглянула издалека – как с галереи в темный триклиний, где царедворцы водили хоровод со свечами вокруг своего василевса, – то с Мистиной она за двадцать лет жизни одной семьей сжилась, как с частью самой себя. Пока никто не посягал на его исключительную близость к княгине, все шло довольно гладко. А когда такая угроза появилась, змей сразу поднял голову, полный решимости бороться с соперником – земным или небесным. Ни с кем, кроме Ингвара, делить ее он не собирался.
Зачем она вчера сказала эти слова – про нового мужа? И зачем Мистина сейчас заговорил о новом ребенке? Да, как женщина она еще не стара и могла бы иметь детей… Ведь крещение, уж верно, смыло с нее проклятье оскорбленных чуров и теперь сам Бог и его Пресвятая Матерь легко могут послать ей новое дитя. И если Святослава больше нет… Взять нового мужа, родить нового ребенка и ему передать наследство Вещего… Эта мысль показалась Эльге открытием, проблеском света во тьме, несущим спасение для державы и утешение для нее самой.
А может, разум ей туманили эти болезненные, мучительные и притом томительно-приятные ощущения в теле, вызванные прикосновениями и поцелуем Мистины, его таким знакомым запахом, касанием бороды к коже… Казалось, застарелый темный лед в ее жилах трескается, сквозь боль выпуская наружу первые проблески огня. Пробирала дрожь, было страшно, и все же ее неудержимо тянуло навстречу этому огню.
Но ни отнять мужа у сестры, ни переступить через Мистину ради кого-то другого Эльга не чувствовала решимости.
– Если ты пообещаешь мне, что никого другого здесь не будет… – неровно дыша, сказал Мистина ей в затылок, – я пообещаю…
– Что? – Она повернулась к нему.
Неужели он даже здесь найдет какой-то выход?
– Что Олегова девка завтра согласится идти за Улебку.
– Ах, если бы так! – Эльга обхватила его обеими руками и прижалась к груди, как в поисках спасения. – Пойми, иное дело два года назад, но я теперь не могу понуждать крещеную девку идти за некрещеного парня, хоть он мне сестрич, хоть пасынок, хоть сын родной! Даже ради Святши я бы не стала ее заставлять, Бог не велит! А если у них сладится…
Эльга замолчала, пытаясь ухватить смутно мелькающую в потемках мысль. Он что-то такое недавно сказал… что-то важное…
«Если бы не я», он сказал… Лесной оборотень…
В сказках бабы Годони убивший чудовище молодец забирает спасенную деву себе – даже если в начале ехал сватать ее для другого. Мистина же и правда вручил ее побратиму, а сам довольствовался сестрой «царевны». Тогда им всем было не до того, чтобы примерять сказки к своей непредсказуемой судьбе. Но сейчас Эльга вдруг поняла: а ведь отняв жизнь Князя-Медведя, Мистина унаследовал его древнее право.
Потрясенная этой мыслью, она подняла голову. Мистина встретил ее взгляд и слегка переменился в лице. Медленно наклонился. Она просунула руки под его расстегнутый до пояса кафтан и прижала ладони к груди под тонкой беленой сорочкой.
Когда его губы прильнули к ее губам и разомкнули их, на Эльгу накатило чувство облегчения. Нельзя идти вперед, не рассчитавшись со старым долгом.
* * *
На воскресном пиру у княгини все и решилось. Послали за Улебом, и когда Мистина сказал ему: «Крестись, иначе весь род Олегов может потерять Олегов стол», у парня не нашлось возражений. Горяна сидела среди женщин очень довольная и кидала на будущего жениха торжествующие взгляды. Сколько ни давила она в себе тщеславие, но мысль о том, чтобы стать святой женой на престоле, крушащей идольские капища и возводящей на их местах святые церкви, неодолимо ее прельщала.
И вот Мистина поднялся, держа в руках привезенную из Царьграда чашу невероятной красоты: выточенную из полупрозрачного камня цвета пламени, обрамленную в золото, с двумя изысканно изогнутыми ручками позолоченной бронзы, отлитыми в виде виноградных лоз с листиками.
– Княгиня Эльга пожелала, чтобы вслед за сыном ее Святославом, коли судьба его до срока жизни лишит, новым князем руси стал сын Ингвара и Уты – Улеб, – начал он. – Русь и люди киевские ее поддержали. Я вырастил сына моего побратима и теперь прошу у тебя, Олег Предславич, дочь твою Зою-Горяну в жены моему сыну названому и будущему князю руси, Улебу Ингоревичу. Если же будет ваше согласие, то сын мой Улеб примет крещение.
Он не мог перестать называть Улеба своим сыном – и думать о нем как о сыне.
– Более отрадной вести я и придумать не мог! – Олег тоже встал, настолько взволнованный, что даже слезы заблестели на глазах. – Прими крест честной, Улеб Ингоревич, и я с женой моей тогда дочь нашу тебе вручу с радостью!
Отцы сошлись посреди палаты, приобнялись и в знак будущего единения отпили по очереди из чаши. Эльга смотрела на это, не в силах отвязаться от воспоминаний двадцатилетней давности, когда эти двое сошлись в смертельной схватке, но знал об этом только один из них. Мистина провел свою игру тайно, как змей в высокой траве. Кто бы мог подумать, что двадцать лет спустя они договорятся о помолвке и княжьем столе для своих детей! Чего только ни подбросит человеку жизнь, если достаточно долго ждешь!
Будущие молодые сидели каждый на своем месте с видом смущенным, но довольным. Гости радостно кричали, сыпали поздравлениями и даже предсвадебными шуточками. Стали выбирать, кто будет крестным отцом; вызвался морав Яромир, из христианского рода, бежавшего в Киев от угров много лет назад. Стали совещаться с отцом Ригором насчет наставления в вере.
Лишь Эльга была молчалива и с трудом скрывала беспокойство.
– Ну, а ты, матушка, чего не радуешься? – обратился к ней Олег Предславич.
Почему она не радуется? Эльга вздохнула. Лицо Мистины стало жестким: малейшее препятствие на пути его тревожило, и на этом судьбоносном пиру он с трудом сохранял обыкновенный свой уверенный и любезный вид.
– Улебушка… – Эльга нашла взглядом будущего жениха. – Видит Бог, как я хочу тебе счастья… вам с Горя… с Зоей счастья, земле Русской мира и Божьей благодати. Но ты понимаешь… Вы все понимаете? – Она оглядела лица, цветущие улыбками. – Еще немного – и князем киевским будет провозглашен крещеный человек…
Она посмотрела на Мистину, взглядом договаривая то, что он и так знал.
– Не тревожься, княгиня, – мягко сказал он, глазами давая понять, что весь риск отлично видит. – Мы тоже не пальцем де… не в дровах найдены. Догадаемся, куда соломки подстелить.
И невольно они с Олегом взглянули друг на друга. Последний князь Моравы мог бы торжествовать: тот змей, что когда-то отнял у него киевский стол, теперь будет оберегать его дочь на этом столе – всей своей силой, хитростью, опытностью, изощренностью во всяких уловках.
– Бог поможет! – горячо заверил Олег Предславич, который все эти годы не мог и вообразить, что когда-нибудь придет к столь полному согласию с Мистиной Свенельдичем. – Мне думается, сам Бог нам путь и указует. Роду нашему, Олегову. А путь Христа – путь испытаний. Кому знать, как не мне? Но вот ведь: кто тверд будет и от Бога своего не отречется, того Он и наградит. Будет моя дочь княгиней в Киеве, внуки мои всю землю Русскую в наследство получат и будут править ею во Христе…
Эльга прижала руку к груди. Олег не хотел задеть ее, но эти слова ударили ее прямо в сердце. Бог указует Олегову роду этот путь! Ее сын Святослав не желал принять Бога – и сгинул. Вспыхнул в душе гнев, негодование на Бога, что отнял у нее единственного сына, у Прияны – мужа, у маленького Ярки – отца, у всей руси – наилучшего вождя… Неужели затем, чтобы очистить место для того, кто не так горд и упрям, кто готов преклониться перед истинным Богом? Эта мысль приводила ее в возмущение, но разум шептал: смирись. Истинный Бог грозен, гнев его неотвратим. Иных отцов Он понуждал самим нести им в жертву сыновей… Ради испытания веры отнимал всех детей, как у Иова.
– Если Бог указывает на ошибку, не стоит повторять ее, – кивнул ей отец Ригор. – Пора и всей Руси вслед за тобой отложить прежний образ ветхого человека, истлевающего в похотях обольстительных…
Эльга молчала. Из мыслей не шел Святослав. Если гнев Божий отнял у нее сына… Во что она ввязалась? Какой неумолимой силе передала во власть свою семью? Свою державу?
Но никто, возложивший руку свою на плуг, не должен озираться назад…
Все было решено. Однако Эльга с трудом досидела до времени, когда прилично закончить пир. Ей бы следовало радоваться, но она не могла. Разнообразные долги перед прошлым и будущим, обязательства перед старыми богами и новым Богом, надежды матери и обязанности княгини тяжелым грузом висли на плечах. Мучительно болела голова от напряжения всех сил мысли и духа, от изнеможения пробирала дрожь. Внутри гудела голодная пустота, угрожая поглотить.
И когда все стали расходиться, она бросила короткий взгляд Мистине. И он, как всегда в таких случаях, на миг опустил веки: дескать, понял.
Так бывало уже много, много раз – когда по завершении пира или совета она просила его зайти к ней, чтобы обсудить еще что-то с глазу на глаз. Но сейчас он понял, что этот взгляд – особенный. Ему подан тот самый знак, которого он ждал все эти годы.
* * *
Давно настала ночь, но Эльга не спала, тихонько ворочаясь на лежанке. Перед глазами мерцала наполненная золотом и красками полутьма, в ней сияли свечи под сводом церкви Богоматери Халкопратийской. Три свечи – с восточной стороны мраморной купели; две свечи – в руках Константина и Елены у нее за плечами, одна свеча – в ее руке, как искра Бога, освещающая новорожденной душе путь во тьме…
Кто во Христа крестился, во Христа облекся…
В белой сорочке, с распущенными волосами, со свечой в руках она шла вокруг купели – той священной влаги, из которой родилась в Святом Духе. По бокам ее, также со свечами, следовали Константин и Елена – василевсы ромеев, отныне – ее духовные родители. Это круговое шествие под пение невидимых ангелов создавало между дочерью и родителями новое духовное родство, нерушимый союз попечения и послушания; два сияющих самоцветами золотых царских венца, что следовали за ее непокрытой головой, олицетворяли грядущую славу во Христе.
От долгого священнодействия Эльга едва помнила себя. Новое духовное рождение показалось ей не менее трудным делом, чем родиться во плоти – или родить. От поста и волнения пошатывало, и ее то поддерживали под локоть, то направляли, подсказывая нужные действия. Душа ее – какая-то новая душа, не та, с которой она прожила тридцать шесть лет, – едва удерживалась в теле, будто хотела выскочить и воспарить назад, в те голубые выси, откуда вдруг залетела в это уже не молодое тело. Она возникла где-то внутри, когда сам патриарх трижды подул на нее, как сам Господь, вдувающий дыхание жизни в первого человека, созданного из праха. Было чувство, что нужно удержать в руках маленькую резвую птичку, но нет силы в дрожащих пальцах. Ее нельзя отпускать, эта птичка – дар Святого Духа, знак того, что она, новокрещеная Елена, отныне во Христе, а Христос – в ней. Душа жизни…
Она уже умирала однажды такой же смертью – когда выходила замуж. Тогда она тоже появилась из влажной утробы княжеской бани – в белой сорочке, с распущенными волосами, обновленная для рождения в женах. И потом, в красном платье с золотыми застежками, шла вокруг печи, вместилища родовых духов, рука об руку с земным женихом, закрепляя их жизненное единение. Теперь же она переживала совершенно новую свадьбу…
– Сочетаешься ли ты с Христом? – перед купелью спрашивал патриарх по-гречески, а Вонифатий Скифянин повторял для нее по-славянски.
– Сочетаюсь.
– Сочеталась ли ты с Христом?
– Сочеталась…
– И веруешь ли Ему?
– Верую, как Царю и Богу.
У нее нет иного пути. Иной путь был оборван в тот день, о котором всегда помнили она и Мистина. Для нее путь Христа – поистине единственный путь спасения от мрака пустоты. Но она с таким трудом нащупывала ногами эту невидимую дорожку, по которой шла первой из своего рода, что на каждом шагу захватывало дух от страха и неуверенности.
Но именно теперь, когда в ней поселилась душа-птица, ждущая лишь срока, чтобы вернуться на свою Ураниа Патрида – небесную родину, она с новой силой затосковала по тем корням, что привязывают человека к земле. Ведь без них тебя просто унесет в высоту, и следа не останется.
Темнота рядом с ней мерно дышала, источая тепло… То, которого ей так долго не хватало и которое она не могла найти более нигде.
Поначалу она ощутила боль, как будто за эти восемь лет одиночества вновь стала девой. Но знала: это боль ломающегося льда, и смело шла ей навстречу. С каждым движением боль слабела, лед в ее крови стремительно таял, едва не разрывая жилы. И вот по всему ее телу уже катились волны жара, смывая остатки тоски, тревоги, одиночества, неуверенности и всех прошлых бед.
В какой-то миг ей показалось, что сейчас один из них умрет. Но они лишь скользнули по краю бездны и вырвались на поверхность. И она больше не боялась ни высоты, ни глубины, обретя поддержку мужского начала всемирья. В крови ее теперь струилась сила вечнотекущих подземных рек; ее жилы стали корнями, что как будто вырастали из тела и уходили в непроглядную глубину. Эти корни не мешали ей свободно ходить, но делали ее устойчивой, как сама земля. И в этой устойчивости на грани двух миров, которые никак не пересекались между собой, а неизъяснимым образом делили власть над ее душой и телом, не разлучая их, заключалась главная тайна, к которой Эльга-Елена прикоснулась этой тревожной ночью после утомительного дня.
Она едва могла расслышать, как он дышит во сне, и порой прикасалась кончиками пальцев к его плечу, чтобы убедиться: все это не морок. Теперь он наконец-то успокоится. Его царствие небесное находится куда ближе. И открыв ему туда ворота, она вдруг обрела свои корни и стала сильной, как земля. Тяжесть, двадцать один год давившая на плечи, не просто осталась внизу, как у души, покидающей земные тягости, но стала выносимой. И птица-душа перестала рваться наружу, осознав: впереди еще долгий путь…
* * *
Дикое Поле. Седые волны ковыля, невысокие холмы, балки. Местами, по низинам, темнели заросли невысокого кустарника – оказалось, такие места надо высматривать, потому что в них может быть вода. И снова гряды пологих холмов, ковыльные разливы, выжженные солнцем каменистые пустоши. Изредка встретится курган с каменным идолом на верхушке. Тишина и безмолвие, лишь ветер гонит волны травы да стервятники кружат в выцветшем от жары небе.
Путь Святославовой малой дружины через степь растянулся на десять дней. Елаш Лихо ругался, что-де русы – никудышные всадники; в его глазах так оно и выглядело. Ездить верхом отроки умели, но куда им до степняков, выросших в седле! К вечеру они, особенно Девята, едва не падали от усталости, и приходилось устраивать привал задолго до темноты.
Слезая с лошадей, едва могли разогнуться, будто дряхлые деды; стонали, хватаясь за все места. А ведь поспать каждому удавалось всего две трети ночи: не доверяя Елашу даже на воробьиный нос, Святослав по ночам оставлял троих. Двое несли дозор, а один непрерывно наблюдал за хазарином. Бежать ему здесь было особенно некуда: пустая степь кругом. Но мог привести в руки к нехорошим людям, и русы не желали быть застигнутыми врасплох и попасть в рабство. Если уж судьба, так лучше умереть свободными.
Елаш вел дружину по лишь ему понятным приметам, от балки к балке, от одного источника солоноватой воды к другому. Однажды углядели вдали огромную тучу людей и скота. Ринулись в балку, молясь, чтобы кочевье прошло мимо: приятных встреч здесь ждать не приходилось. И сидели там два дня, пока не прошли последние всадники: какое-то племя, не то хазарское, не то печенежское, шло на новые пастбища.
В другой раз смотрели, лежа на вершине кургана, как сшиблись два степняцких отряда, в каждом всадников по тридцать. Маленькие фигурки конных толпой понеслись навстречу друг другу, сшиблись, закрутились, поднимая пыль. Кто кого бьет, на таком расстоянии было не разобрать. Затем стайка верховых, человек десять-двенадцать, прыснула в сторону, помчалась к пологому спуску в овраг между холмами, пролетев едва в перестреле от затаившихся русов. Ясно виднелись смуглые раскосые лица, расхлестанные бурые кафтаны, войлочные колпаки с меховой оторочкой. За ними плотной темной тучей гнались враги, на вид точно такие же. В седле после схватки их оставалось не менее двух десятков.
Вот один из беглецов начал отставать, все больше и больше. От отряда преследователей тут же отделились трое – самых нетерпеливых. Низко пригнувшись к конским шеям, они нахлестывали своих скакунов, понемногу, но неуклонно сокращая расстояние до будущей жертвы. Вот один, привстав на стременах, стал раскручивать волосяной аркан.
Внезапно беглец развернулся в седле, сев задом наперед, и вскинул лук: три стрелы сорвались с тетивы быстрее, чем кто-либо успел вздохнуть.
– Ай, что делает! – восхищенно воскликнул Елаш.
Двое преследователей вылетели из седел, словно выбитые ударом дубины, а третьего подмяла упавшая на всем скаку лошадь. Прочие, отставшие на добрую сотню шагов, яростно завопили. Кто-то тоже пустил стрелу, но она упала в траву, а ловкий всадник уже сел как следует и тут же наддал, догоняя ушедших вперед товарищей.
Вскоре и беглецы и погоня скрылись за холмами.
– Обойдем стороной, – Елаш поднялся с земли и махнул рукой вдоль гряды, – ни к чему нам встречаться ни с теми, ни с этими.
– А кто это был? – спросил Красен.
– Угры. А гнали их пацинаки.
– Как ты их различаешь?
– Видно же.
– Да не так уж их много, – вставил Хавлот, поглаживая костяные накладки на спинке своего лука, – справимся, если что.
– Их-то немного, – согласился Елаш, – да в седле один десятка ваших стоит, а вас тут и десятка нет.
Мерзко ухмыляясь, хазарин запрыгнул в седло и направил коня прочь, не глядя, едут ли за ним русы. Те, ворча и ругаясь, потянулись следом. Святослав не сказал ни слова, но заметно помрачнел. В первый раз ему захотелось со всей силы вмазать кулаком в мерзкую усатую рожу не потому, что хазарин опять «свистел», а потому, что сказал чистую правду. И эта мысль грызла Святослава.
На одиннадцатый день вдали впервые блеснула серебристая лента Днепра.
* * *
С оглашением Улеба управились за две недели, и на праздник Воздвиженья Креста Господня отец Ригор при помощи Яромира, как восприемника от купели, окрестил его. Не только княгиня, но и все видели в этом знак Божий: ближайший младший родич и наследник Эльги-Елены окрестился в день подвига ее покровительницы, святой царицы Елены. В честь сына равноапостольной жены, святого царя Константина, получил имя и Улеб. Эльга плакала, не скрывая сердечной боли: ее родной сын должен был бы последовать за ней, как тот, древний ромейский Константин за матерью своей Еленой, дабы вместе утвердить Крест Господень на земле Русской.
Но сын ее… Она не знала, где ее сын, и невольно всей силой души молила Господа о его спасении – хотя бы здесь, в земной жизни. И если Бог не захочет помочь язычнику, неужели Он откажет в помощи ей, матери, чье сердце иначе будет разбито? Но надежда мешалась с ужасом: Бог потребовал единственного сына Авраама… отнял всех детей у Иова… и от нее, которая в тысячу раз хуже и слабее в вере тех богоизбранных старцев, Господь может потребовать именно эту жертву.
Через неделю, когда с тела новокрещеного смыли освященное миро и белую крестильную сорочку он сменил на другую, устроили пир: при свидетельстве всех бояр и воевод киевских Мистина и Олег Предславич обручили своих детей. Свадьбу назначили скоро: в первую пятницу нового месяца. Киевские христиане на пиру веселились, радуясь, как пополняется их круг, еще недавно столь тесный, людьми самых знатных родов и самого высокого положения. Князь-христианин! Об этом счастье они год назад не могли мечтать, а теперь оно сияло перед глазами. Всякому становилось ясно: Господь Иисус обратился к Руси своим светлым ликом.
– Скажу я вам: отнимется у иудеев Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его! – радостно провозглашал отец Ригор.
Эльга не знала, горевать ей или радоваться предстоящему. Жизнь катилась вперед, оставив далеко позади ее материнскую тревогу и тоску.
– Перестань! – шепнул ей Мистина, видя, что она на пиру то улыбается, то украдкой отирает слезы. – Мы готовим не поминки по Святше, а всего лишь Улебкину свадьбу. Это еще не значит… это вовсе никак не связано, пойми. Если бы Горяна не упрямилась так, а ты не решила ей потакать, то Улебка мог бы жениться еще два года назад, когда Святша привез Прияну. Я понимаю, если бы мой парень брал Святшину вдову… то есть жену, тогда это означало бы, что мы его зачислили в деды[61]. А так просто Улебка женится. Святша вернется – порадуется за него.
Эльга старалась ему верить. Хотя догадывалась, что в таком красивом свете Мистине все видится по совершенно другой причине, не имеющей отношения к их детям.
И в этом предсказании он, вопреки прежним своим удачам, ошибся…
Имелась в Киеве женщина, которая решительно отказалась радоваться предстоящим переменам. Узнав, что Улеб намерен окреститься, Прияна объявила, что не останется в городе, где правят изменившие богам.
– Но мы же предлагали тебе выйти за Улеба… – пыталась умиротворить ее Эльга, но сама слышала, как неубедительно звучат ее слова.
Для всех сложилось удачно, что Прияна отвергла новое сватовство: и в рассуждении родства с Олегом Предславичем, и ради надежды все же дождаться Святослава.
– Я буду ждать моего мужа, – твердо отвечала Прияна, которая уже заметно оправилась и окрепла. – Но мы не останемся там, где его наследство отдали другим, а эти другие предали своих богов и предков. Я и мой сын возвращаемся в Свинческ. Когда Святослав вернется – пусть приезжает за нами. Я надеюсь увидеть его уже этой зимой.
– Что мне делать? – вопрошала Эльга, спешно собрав ближайшую родню. – Отпустить ее? С дитем? Жену и наследника Святши отпустить к смолянам?
– Но тебе же спокойнее, если она не будет здесь сидеть, – сказал Асмунд. – Придется ее уже скоро с княжьего двора вывести – шум будет, смущение всякое в дружине…
– Я ее к себе возьму!
– Не захочет она. Свирьковна – девка упрямая.
– Но как знать, что там будет с ней, в Свинческе… Все-таки у нее дитя – наследник киевского стола.
– Там княгиня – наша Прибыслава, – напомнил Мистина, – а воеводша – моя Соколина Свенельдовна. Худых дел они натворить ей не дадут, а если что – предупредят нас.
– И вот еще… – неуверенно заметила Ута. – Она все же… вещунья, волхва… Она обижена, это понятное дело, я бы тоже, окажись на ее месте… да любая жена обиделась бы. Но тут свадьба, потом детки пойдут… А рядом…
Она не решалась выразить свою мысль целиком, но Эльга понимала сестру. Любимый сын Уты вступал в самую важную, переломную пору жизни, где собирался утвердиться как князь руси, христианин, муж и отец. Даже невольное недоброжелательство и досада женщины, так прочно связанной с тем светом, как Прияна, могло его погубить. Конечно, он теперь защищен силой Господней… Но ни Эльга, ни тем более Ута не хотели видеть парня предметом борьбы между Христом и старыми богами.
Эльга дала согласие на отъезд Прияны, но просила ту обождать до санного пути.
– Как раз купцы из заморья приедут, потянутся на север, и ты бы с ними, – уговаривала она. – Уже ненастье, дожди, холодает, а ты весь день на воздухе будешь сидеть, да с дитем малым…
Но Прияна твердила, что уедет прямо сейчас, и требовала лодьи и отроков. И Эльга велела все это ей дать. Вспоминая себя в первое время после гибели Ингвара, она хорошо понимала желание невестки сбежать на край света от того дома и тех мест, что полнились образом сгинувшего мужа.
В самый день крещения Улеба Прияна с ребенком уехали. С Улебом она даже не попрощалась. Эльга выбрала время проводить ее, обняла, хотя Прияна без охоты принимала ее ласки. Эльга не настаивала, видя, что та с трудом сдерживает рыдания. Мучили нехорошие предчувствия: похоже, что невестка уезжает навсегда из того места, где собиралась жить долго и счастливо, править державой и растить многочисленных детей. Уезжает девятнадцатилетней вдовой, с единственным чадом, от неприметной могилки крошечного второго, кому не привелось сделать ни единого вдоха. И остаток жизни горевать над злой судьбой.
– А если… – пробормотала Эльга, глядя, как вереница лодий выходит на ширь могучей реки. – Так и вижу…
Мистина незаметно прикоснулся к ее плечу и тут же убрал руку. Но и этот знак поддержки принес ей облегчение.
– Я понимаю, о чем ты думаешь. Но подумай лучше о другом. Двадцать лет назад мы тоже все… смутились, когда выяснилось, что твоя сестра понесла от твоего жениха и непонятно, что с этим делать. Но мы придумали выход, и вот оказалось, что судьба в тот раз порадела о роде Олеговом, как самая заботливая мать. И мы ведь не знаем, что будет со всеми нами еще через двадцать лет. Давай положимся на нее и не станем придумывать несчастья. Понадобится, так она справится без нашей помощи.
Эльга повернула голову и посмотрела на него.
– Да, а вы с Утой и Горяной будете молиться, – кивнул он.
* * *
По принятому порядку, из Витичева купцы посылали гонца в Киев – предупредить о своем скором прибытии. Но когда Бёдвар, их старшина, хотел распорядиться, Святослав запретил это делать. Незачем им, в городе, заранее знать о том, что с купеческим обозом из Царьграда возвращается и пропавший князь.
– Не хочешь – гонец про тебя не скажет, – пытался убедить его Бёдвар, которому не улыбалось с людьми и товарами явиться в неподготовленные дома и склады.
– Не скажет он, ага… – хмыкнул Святослав.
Не родился еще человек, способный скрыть подобную новость, когда его именно об этом будут спрашивать. К тому же Святослав не сомневался: гонец от дружины, вернувшейся с Греческого моря, немедленно попадет в руки материного свояка. И уж Свенельдич из него выжмет все, что он хочет и не хочет говорить. Нет уж. Лучше так, как снег на голову…
Сейчас, когда на смену постылым песчаным берегам, солончакам, скалам с чахлой растительностью, а потом степям пришли знакомые берега Днепра, привольно текущего между синевой неба и зеленью земли, Святослав испытывал примерно те же чувства, что полгода назад в этих же местах – его мать. Все эти долгие, опасные дни они с гридями так стремились домой, так мечтали тайком – чтоб не сглазить, – как ступят наконец на знакомый причал в Почайне, войдут в родные дома, увидят близких… Теперь, на Днепре, уже вслух мечтали о матерях и женах – у кого были, – о привычных лежанках, чистых сорочках, княжеских угощениях. Об отдыхе, спокойном долгом сне в тепле дома, где не надо дергаться на каждый шорох ящерицы или мыши в траве.
Но чем ближе делалось это счастье, тем более смутно становилось у Святослава на душе. Гриди не сразу это поняли, но постепенно, в долгом пути от острова Хортицы, где они как раз дождались возвращающегося из греков ежегодного обоза, осознали, что князь не разделяет их восторгов по поводу скорого прибытия домой.
Расспрашивая на стоянках, они еще близ порогов выяснили главное: месяц с лишним назад воевода Асмунд провел дружину в Киев. Почти полной численности – около семи сотен. При этой новости у Святослава камень свалился с сердца: он не знал, как вернулся бы домой, если бы его дружина так и сгинула в проклятом Греческом море.
– Как, как? – хмыкнул Вемунд. – А Ингвар как вернулся – с того же моря, и тоже без дружины? Так и вернулся. А потом новую дружину набрал и вдарил как следует.
Он был прав: Святослав с детства знал повести о первом и втором греческих походах отца. Но его не радовало, что судьба заставила проделать тот же путь – через потери, неудачи, идущие за ними унижение и позор. Дружина вернулась без него. А он тащится следом, будто бродяга, с пустыми руками, в старом хазарском кафтане из серой шерсти, который купил в Адомахе, чтобы не замерзнуть ночью в степи.
– Да ладно тебе! – Иггимар даже приобнял его за плечи, что позволял себе редко. – Ты живой вернулся, это ли не победа! Да ни один хрен бы не вылез из той дыры, куда мы попали! А мы вылезли! Потому что с тобой!
– Точно! У тебя удача! – поддержали гриди.
– Без удачи сидели бы сейчас в тудуновом узилище в Карше!
– С голоду бы сдохли!
– В море бы потонули!
– В степи бы сгинули! Там человеку пропасть – раз плюнуть.
– И кто бы у нас князем тогда был?
– У меня сын есть, – несколько неуверенно ответил Святослав.
Сомневался он, конечно, не в наличии сына, а в том, что годовалое дитя способно его заменить прямо сейчас. И правда, кто стал бы править, сгинь он в хазарских морях? Мать с двумя своими воеводами? Выходило примерно так. Но теперь, когда уже никто из его гридьбы не сомневался, что они выжили и скоро будут дома, Святослав перестал считать это подвигом и с тайным страхом начал ждать того неотвратимого мгновения, когда придется взглянуть в глаза домашним. Матери, которую он попрекал неудачей из-за измены богам. Асмунду, который с детства судил его успехи и провалы. Гридям, которые остались почти без добычи. Чьим-то овдовевшим женам. Киевлянам, на плечи которых ляжет содержание всей большой дружины, не обеспечившей себя.
Думы о матери мучили сильнее всего. Попрекал ее греческим богом? Грозил выяснить, чья неудача? Выяснил… Осознав это, Святослав поднял голову к небу и с вызовом уставился в серые ночные облака. Где же вы, боги? Где ты, Перун, почему отвернулся? Не защитил нашу и свою честь?
И раньше случались у руси неудачи: еще нынешние поколения хорошо помнили и Ингваров разгром близ Царьграда, и поход на восток Хельги Красного, там и сгинувшего. Но тогда никто не тягался силами своих высших покровителей, и неудачи воспринимались как обычная подлянка судьбы, что не миновала никого из героев древности. Теперь выходило, что удачи нет ни у кого – ни у матери, которая не сумела добиться от греков поддержки против хазар, ни у него самого, который не смог отомстить грекам и сам чуть не стал хазарским рабом.
Но делать нечего. День за днем, то на веслах, то под парусом, купеческие лодьи приближались к Киеву. В конце концов, гордо глядеть в глаза славе может любой раззява. А вот не опустить взора перед неудачей и стыдом способен лишь истинный потомок богов.
* * *
Для трех десятков лодий сразу не так просто найти место на причалах. Если большой обоз ожидали, то причалы освобождали заранее. Хорошо еще, что назад всегда приходило вдвое меньше лодий, чем уходило за море: привезенный товар занимал куда меньше места, чем увезенный. Однако и теперь причальная стража сбилась с ног, внезапно получив весть, что со стены Святой горы заметили на реке караван, но, кажется, свой.
С такого расстояния удавалось разглядеть лишь вереницу лодий под парусами, идущих к Почайне. Поскакали гонцы к Асмунду и Мистине, затрубили рога, от дружинных домов Олеговой горы побежали выстроенные сотни, в шлемах и со щитами.
Может, там свои. А может – кто их знает? Для того и принято предупреждать заранее, но и тогда дружина ждет прибытия обоза, держа топоры под рукой.
Эльга, сидевшая в то время дома, услышала шум в числе первых и устремилась на стену. Собственные отроки княгини тоже исполчились, заняли места на боевом ходу, ворота двора закрыли. Эльга больше надеялась, чем тревожилась: примерно в этот срок возвращались купцы от греков, их ждали со дня на день, и у них вполне могли быть если не сведения, то хоть слухи о пропавшем русском князе. Хоть какие-нибудь! А иначе все надежды придется отложить надолго: сообщения с Греческим морем больше не будет до следующего года. Не в силах усидеть в избе, Эльга с увязавшейся следом Браней стояла на стене и смотрела, как крошечные с такого расстояния лодьи спускают паруса и на веслах входят из Днепра в устье Почайны.
На Подоле поднялась кутерьма: не зная, друзья едут или враги, стоявшие в это время у причалов торопливо уводили полуразгруженные лодьи, торговые люди запирали клети и лавки, собирали и вооружали своих людей, готовясь давать отпор. Простой народ разбегался, а спешащие вниз гриди сметали встречных в овраги, торопясь занять причал. Над нижней частью города повис топот, крик, грохот.
Когда первые лодьи приблизились, причальная стража Мистины и часть большой дружины под стягом Асмунда уже стояла вдоль воды, сомкнув «стену щитов». Выше на уступах берега засели дружины лучников. Люди на лодьях, видя эти приготовления, махали безоружными руками и кричали:
– Свои, свои! Купцы от греков! Бёдварова дружина!
– Тьфу! – Разглядев самого Бёдвара на передней лодье, Мистина отдал щит оруженосцу. – Ну, Бедовар, вошь тебя ешь! Навалился, как орда угорская! А порядок для кого?
Первый десяток лодий уже вставал у причала; «стена щитов» разомкнулась, и Мистина с Асмундом прошли вперед. Каждого окружали телохранители, которым приказа расслабляться не поступало: печальная судьба князя Аскольда, погибшего на этом самом причале, давно вошла в предания. Но сейчас оба воеводы видели достаточно знакомых лиц: вон Аудольв, Гудфаст, Семигор, Карнуй, Альвард, Сытина. С большей частью этих людей Мистина в прошлом году сам совершал такое же путешествие за море.
– Бёдвар! – окликнул он с ласковостью, которая хорошего не обещала. – Ты что творишь, голубь мой? Вперся, как медведь в репы. Прибыток большой, лишние гривны есть?
– Или сразу по шее отвесить! – сплюнул Асмунд, которого оторвали от обеда.
– Прости, воевода, вина не моя! – без смущения ответил купец, и вид у него был слишком торжествующий для провинившегося. – Что не упредил – княжий приказ я исполнял, да и княгиня-матушка на меня гневаться не будет, вот те крест!
Оба воеводы остановились перед сходнями, не зная, как понять эту речь.
– Кого я вам привез? А? Чай, жар-птице не так бы обрадовались?
В ряду телохранителей кто-то потрясенно охнул и опустил щит: вещь совершенно невозможная. Наконец два старших воеводы оторвали взгляд от Бёдвара и посмотрели, куда он показывал.
Асмунд присвистнул.
– Ёж твою мать… – обронил Мистина.
Среди гребцов Бёдвара взгляды воевод зацепились за светловолосую голову, плечистую фигуру, знакомое лицо их общего племянника. Не узнать Святослава они не могли, но от неожиданности не верили своим глазам. А верить стоило: вид у него, обожженного солнцем, в поношенной одежде явно с чужого плеча, был именно такой, какой и полагается вождю, потерявшему свое войско…
– Князь вернулся! – заорал кто-то в рядах дружины.
– Князь!
– Наш князь!
– Святослав!
Гриди в чем-то как дети. Не обремененные державными заботами, они не особо думали, как дальше жить, а просто ждали, когда их вожак вернется. И когда это случилось, они поверили легко – ведь так и должно быть.
Святослав двинулся вперед; гриди вокруг него махали руками и радостно кричали, и вот уже товарищи узнали и остальных, кого считали пропавшими заодно с ним – Иггимара, Белчу, Вемунда… Только воеводские телохранители еще стояли как положено, а остальные уже теснились у причала безо всякого строя, разроняв щиты – чьи-то даже спихнули в воду. Святослав ступил на сходни; Мистина шагнул ему навстречу, за ним – Асмунд.
Князь сошел на причал, они остановились перед ним. От потрясения оба воеводы не могли даже обрадоваться толком: вот они-то слишком много думали о том, что будет, если Святослав не вернется, уже привыкли к мыслям о жизни без него. Желать ему гибели у родичей не было причин, но в эти мгновения воеводы растерялись – все вновь встало с ног на голову.
– Святша! – Асмунд взял его за плечи. – Это ты, подлец.
– Я, дядька! – Святослав отважно взглянул ему в лицо. – Со мной еще восемь рыл. Говорят, ты семь сотен назад привел?
– Привел.
– Из воевод кто-то погиб?
– Где ты был? – не отвечая, спросил Мистина, потом обнял его.
– Я, дядьки, от Карши через Самакуш-море пробирался. Все думал: как дружина…
– А дружина думала, что там с тобой.
– А тут все думали, ты погиб! – завопил кто-то из рядов.
– У нас уже и князь новый! – захохотали рядом.
Теперь, когда Святослав объявился, замыслы о новом князе показались смешными.
– Пошли к матери! – Мистина взял его за плечо. – Она уж второй месяц по ночам не спит.
Но так просто уйти с причала им, конечно, не дали; гриди все теснее смыкались вокруг, все громче и дружнее кричали. Счастливая новость все шире разносилась по причалам, по улицам, по склонам гор. Стоило Мистине и Асмунду сойти с места, как волна кричащих отроков нахлынула и поглотила Святослава: его обнимали, хлопали по плечам, тянулись – хоть потрогать и убедиться, что живой.
– А они уже хотели Улебку князем ставить! – неслось из этого водоворота машущих рук и смеющихся лиц.
– Он ведь тоже Ингваров сын, а мы и не знали! – перебивая друг друга, кричали гриди, торопясь поделиться этими забавными новостями.
– Ты-то знал?
– Теперь сама княгиня всем объявила.
– Его и женили почти!
– На днях свадьба! Ты как раз успел!
– Да мы-то все думали: к хренам такого князя, у нас Святослав есть!
– Лодью, лодью!
И не успел Святослав опомниться от этой встречи и уложить в голове новости, как гриди втащили на причал самую маленькую из лодий поблизости, втолкнули его внутрь и подняли на плечи. И с ликующим ревом понесли на Святую гору. Будто в сказке, он вернулся с того света.
* * *
Когда за тыном двора вдруг закричали: «Князь приехал!» Эльга сама услышала это со стены и сразу поверила. Прямо в первый же миг. Именно этой вести она ждала все долгие осенние дни, и теперь прежние страхи и горе показались нелепыми. Конечно, Святослав должен был вернуться и вернулся! Иначе и быть не могло! Вывихнутый мир разом принял привычный вид. Желая скорее убедиться своими глазами, Эльга торопливо спустилась с боевого хода, велела раскрыть ворота и побежала вниз по увозу навстречу крикам.
Меж тынов показалась ревущая, бурлящая толпа – как грозовая волна на Греческом море. Над толпой между человеческих голов плыла лодка. А лодке кто-то стоял, и Эльга узнала сына. Он изменился: сильно загорел, волосы, выцветшие на солнце, стали еще светлее. На нем в обтяжку сидел хазарский серый кафтан с расставленными полами, слишком длинный для его роста, но едва сходящийся на широкой груди.
Перехватило дух, ослабели ноги; Эльга застыла посреди улицы, не в силах двинуться ни назад, ни вперед. А толпа катилась ей навстречу, лодка была уже близко; уже сам Святослав увидел мать, но несущие лодку не могли остановиться – сзади на них давила толпа.
На лице Святослава мелькнула тревога; Эльга могла лишь протягивать к нему руки, не имея голоса произнести его имя. Он сам закричал что-то, но толпа за собственным ором его не слышала; тогда он просто схватился за борт лодьи и перемахнул вниз, на землю. Толпа уже почти накрыла Эльгу, как Святослав схватил ее в объятия и прижал к себе, чтобы не сбили с ног; их закрутило, и ее охватил ужас, что сейчас их обоих просто раздавят. Вопили гриди – лодка полетела под тын – кто-то распихал вокруг них людей, очистив немного пространства, чтобы вздохнуть.
– Мать, куда ты, задавят! – кричал Святослав почти ей в лицо, но она едва слышала и не понимала.
– Святша! – Эльга цеплялась за его плечи, подавляя судорожное рыдание.
От возбуждения ей хотелось прыгать, как девочке, но не хватало сил.
– Пойдем! Во двор пойдем! – Святослав тянул ее вперед, кто-то раздвигал перед ними толпу, и постепенно они продвигались к ее воротам.
Во двор их занесло ликующей волной; Эльге хотелось остановиться, обнять его, толком рассмотреть. Но их толкали все дальше, пока не оттеснили к дверям гридницы; здесь уже ее отроки взялись за дело всерьез и щитами отжали толпу – иначе гридница бы лопнула под напором такого количества народу. Кто-то там ругался и распоряжался – кто-то такой, кого привыкли слушаться. Кто-то обещал всем пива и мяса, и это пригасило порыв судорожного ликования: каждый стал оглядывать, не разливают ли уже и не зря ли он теряет время на крик.
Эльга вместе с сыном очутилась в гриднице и наконец смогла вздохнуть свободно.
– Святша! – Она схватила его руку обеими руками и все не могла наглядеться на его новое, загорелое, исхудавшее, изменившееся лицо.
Не верилось, что после бесконечного ожидания сын наконец рядом, к нему можно прикоснуться. За эти месяцы у него отросла борода, сделав на вид куда старше. Эльга заметила, что колец на его пальцах нет, из оберегов на шее остался только медвежий клык, и с отголоском прежнего ужаса вспомнила те перстни и браслеты, что одной страшной ночью выложил перед ней на стол убитый горем Улеб.
– Где ты был? – бессвязно восклицала она. – Ты цел? С тобой все хорошо?
Подошли Асмунд, Мистина, Одульв, Войко, Острогляд, еще кто-то из ближних бояр – все на вид потрясенные и помятые после прорыва через толпу. Оба воеводы еще были в кольчугах и с мечами у пояса.
– Где ты пропадал?
– Мы с парнями, – Святослав огляделся, но никого из своей отважной малой дружины рядом не приметил, – от Карши вышли к Самакуш-морю, плыли вдоль него до Адомахи хазарской, а оттуда через степь на конях пошли к порогам. На Хортице нас купцы Бёдваровы подобрали.
– Ой, ё… – Мистина представил себе этот путь.
– Но почему вы потеряли дружину? – спросила Эльга.
– Это дружина нас потеряла! Почему они ушли от берега? Где Улеб? Он жив?
– Он жи… – начала Эльга, но Святослав перебил ее и схватил за руку:
– Стой! Я слышал, он князем тут стал… вместо меня?
– Не стал, а должен был стать, если ты все-таки не вернешься, – поправил Мистина.
И тут вбежал Улеб, тоже растрепанный и помятый: чуть не весь Киев бурлил под княгининым тыном, дожидаясь вестей.
– Святша! – Он кинулся к брату и обнял его. – Ты живой! А это хозлы казарские чьей-то головой там размахивали и кричали: «Вот ваш архонт!» – Он заметил свою оговорку, но от волнения не мог исправить и лишь засмеялся. – Слава богам! Где же ты был? Куда делся? У них был твой плащ красный! Чья же там голова была?
– Клюй ее знает, чья голова, – Святослав дал себя обнять, но смотрел на брата без улыбки. – Ты жив? А мы думали, вас всех хазары повязали и в Каршу увезли.
– С чего?
– Мертвецы наши остались. Мы их похоронили, как вышли. Я еще радовался, что тебя там нет. А ты уже домой побежал мое наследство принимать… потому что ты, оказывается, мне еще и по отцу брат!
Святослав не поверил бы бессвязным выкрикам гридьбы, если бы еще пару лет назад не заподозрил истины сам. Не то что Улеб, который в последний раз видел Ингвара десять лет назад, еще в отрочестве, и не соотносил с размытыми воспоминаниями о его лице собственное отражение в темной воде умывальной лохани.
Теперь он смотрел на Святослава в изумлении, радость медленно сходила с его лица. При виде живого и невредимого брата он разом забыл обо всем, что случилось в последние месяцы. Даже о своем недавнем крещении.
– Да… – подтвердил Улеб. – Я сам не знал… удивился… Вот оно как…
– И что? – Святослав обвел взглядом лица родичей и бояр. – Он, значит, приехал и сказал, что меня убили, и вы сделали его князем вместо меня?
– Мы верили, что ты вернешься, – Эльга уже взяла себя в руки. В душе вдруг потянуло холодком неприятного предчувствия, остужая радость. – Но пришлось объявить народу, кто станет твоим наследником, если…
– У меня есть наследник! Мой сын Ярополк! Где он? – Святослав еще раз огляделся. – Жена моя где?
Эльга лишь открыла рот, но он опять ее перебил, вонзив дикий взгляд в Улеба:
– Йотунов свет, это ты на ней, что ли, жениться собрался! На моей жене! Похоронил меня, а сам к ней полез!
– Нет! – закричала Эльга одновременно с пытавшимся ответить Улебом. – Не на ней!
– Прияна не… – начал Улеб, но сообразил: если Святослав услышит, что он и впрямь сватался к молодой княгине, его ярости это не утишит.
– Он женится на Горяне! – повысив голос, ответил Мистина.
– А где моя жена?
– Она уехала к своим, в Свинческ.
– Почему она уехала?
Никто не нашел ответа сразу; родичи переглянулись.
– Ты хотел ее взять! – Святослав шагнул к Улебу. – Я знаю! Ты еще тогда на нее все косился, когда мы только приехали за ней.
– Тогда она считалась его невестой! – напомнил Мистина. – Разве не так мы условились, когда вы за ней собрались?
– Ну и к йотуну, что мы там условились! – Святослав отмахнулся. – Ее мне сосватали, я ее и взял. А теперь как вы решили, что я сдох, ты опять на нее глаз положил? Да?
– Она уехала не поэтому! – закричала Ута. Она пробилась сюда позже всех, вместе с Алданом и своим средним сыном, и теперь устремилась на помощь старшему. – Она не верила, что ты мертв, обещала ждать тебя всю жизнь, а уехала, потому что не хотела оставаться в городе, где крещеные князья!
– Какие, клюй пернатый, крещеные князья?
– Улеб и Горяна.
– Вот как! – Святослав гневно воззрился на Улеба. – Давно ли ты крещеный?
– Недели две, – почти спокойно ответил тот.
Так или иначе, отпираться от своих поступков Улеб не собирался.
– Так значит, вы все решили, что… моя удача… наши боги… – Святослав едва не задыхался от гнева, затрудняясь его выразить, и безотчетно терзал ворот рубахи. Именно этого он боялся. – Что моя удача… Что мы все на хрен пошли с нашими богами, а вы теперь Христу вашему предались? Вроде греков стали! Не хотите больше русью быть? И ты не хочешь! – Он вдруг шагнул к Улебу, схватил его за грудь и тряхнул изо всех сил.
Мужчины разом пришли в движение. Опережая крики женщин, оба воеводы бросились вперед и схватили за руки каждый своего: Мистина – Улеба, Асмунд – Святослава, привычно растаскивая их в стороны и своим телом загораживая противника от глаз.
– А ну тихо! – рявкнул Асмунд на воспитанника, сжимая его своими железными руками.
Выращенный им Святослав по привычке затих, но едва переводил дух, из-за плеча дядьки с ненавистью глядя на Улеба. В лице того тоже появилось ожесточение. И оттого он стал настолько похож на Ингвара, что Святослав вознегодовал вновь, будто поймал за руку вора.
– Чтоб тебя тролли жрали! – бросил он, как выплюнул. – Наследничек! Не нужны мне наследники, я жив пока! И стол киевский – мой. Проваливай с глаз моих, пока я тебя не придушил, гада!
– Святша, замолчи! – Эльга наконец опомнилась и встала между ними. – Отстань от брата!
– Какой он мне на хрен брат!
– Он твой единокровный брат по отцу и троюродный брат по матери. Ты хочешь отречься от нас от всех? И Улеб ни в чем не виноват. Это не он, это мы, – Эльга глянула на Асмунда и Мистину, – решили объявить его твоим наследником. А нас об этом просили мужи киевские. Правда? – Она посмотрела на Острогляда, и тот кивнул. – Хоть кого спроси: Себенега, Ивора, Вуефаста, Честонега! Киеву нужен князь, и они от меня требовали назвать, кто будет ими править – не дитя же годовалое!
Святослав оглядел родичей. Остановился взглядом на лице Асмунда:
– И ты?
Тот кивнул:
– Я пять лет правил за отрока, дожидаясь, пока подрастет. А ты хотел, чтобы я за твоего мальца еще пятнадцать лет правил? Хватит с меня. Ингвар сыновей понаделал, пусть они и управляются.
Святослав помолчал. Потом выдавил:
– Ненавижу вас всех…
Развернулся и пошел прочь.
За дверями гридницы на него снова налетели, закружили… Мистина и правда велел выкатить три бочки пива, и в них уже сохло дно, а на дворе и перед святилищем кипела буйная толпа. Ходили слухи, что вот-вот будет жертвоприношение, потом пир для всех желающих, поэтому народ все прибывал. Но Святослав ни на кого не глядел и даже не слышал, как к нему обращались. Расталкивая людей, как слепой, он пошел к себе – на Олегову гору.
* * *
После его ухода в гриднице повисла тишина. Родичи молчали, потрясенные, оскорбленные и растерянные. Вспышка радости обернулась чувством, будто их по уши вываляли в грязи.
Эльга села на скамью: вдруг поняла, что ее не держат ноги. Хотелось зарыдать, но судорога стиснула горло и не давала вздохнуть.
Мистина тоже сел, закрыл лицо руками, помял, будто пытаясь сбросить напряжение. Потом опустил ладони и посмотрел на Эльгу.
– Слушай… – в изнеможении проговорил он, но потом с усилием перевел взгляд на Асмунда, к которому обращался, – а может, зря мы их разняли? Я сейчас подумал… Вот мы с Ингваром все время дрались. С детства и до женитьбы. А чтобы Улеб со Святшей… Ты помнишь? – Асмунд покачал головой. – И я не помню.
Улеб всегда уступал, мысленно согласилась Эльга. Может, Мистина с Ингваром и дожили в согласии до гибели последнего, потому что Ингвар всегда знал: с побратимом нужно считаться, но всерьез он не предаст. А Святослав привык, что брат всегда на ступеньку ниже. И первую же попытку того встать вровень – на что рождение давало ему право – воспринял как предательство. И не смог перенести.
В гнетущей тишине почти как гром прозвучал шепот среднего сына Уты, Велерада.
– Ма-ам! – в растерянности отрок даже по старой детской привычке потянул ее за рукав. – Так чего, у нас свадьба-то будет?
Тот же вопрос Эльге очень скоро задал Олег Предславич. Последние дни он вместе с дочерьми проводил у своей сестры Ростиславы, которая была так плоха здоровьем, что отец Ригор навещал ее ежедневно, готовясь принимать исповедь. Опасаясь выходить со двора, пока в Киеве волнения, они пришли только сейчас и Святослава не застали.
Эльга заверила, что свадьба будет, если Олег сам не разорвет обручение. Ведь возвращение Святослава опрокинуло все прежние расчеты и надежды.
– Мы своего слова назад не возьмем, – ответил тот, переглянувшись с дочерью. – Господь испытания посылает, но какая же это любовь, если нареченного жениха в унижении покинуть?
Эльга устало воззрилась на Горяну, ожидая, что сейчас на подмогу явится Фекла Иконийская, но отважная проповедница подавленно молчала. Бог и впрямь посылал ей испытания, воздвигнув препятствие на пути к обучению народа Христовой вере. Но чем злее вражда, тем светлее подвиг.
– Я пойду за него, – подтвердила Горяна, глядя на самого Улеба. – Не ради стола княжьего я обручилась… ну, не совсем… но я стола хотела, чтобы иметь власть народ учить… но святые и без власти, одной Божьей властью…
– Вот и хорошо, – вздохнула Эльга. – Свенельдич правду сказал: свадьбе вашей мешал не Святша, а то, что Улебка был не крещен. А коли крещен, то жив ли Святша… нашему делу он не помеха. Идите к Ростиславе, а потом… как уговорились, так и дело поведем.
Женщины давно обсудили весь ход предстоящей свадьбы и даже бычка выбрали, чтобы завтра зарезать и заложить в каменную яму печься. Эльга понадеялась про себя, что за ночь Святослав одумается, а там на свадьбе, поев и выпив, вовсе оттает и помирится с братом.
Однако ночью едва сомкнула глаза.
* * *
Поутру первым пришло облегчение: Святша вернулся… Какая невыносимая тяжесть давила на сердце еще только вчера – по сравнению с этим все прочее казалось неважным. Поначалу. Но к радости примешивалось беспокойство: как-то нехорошо они все встретились. Поднялась Эльга раньше обычного и сразу послала отрока на Олегову гору с приказом немедленно уведомить ее, когда князь выйдет. Само собой, после таких приключений Святославу первую ночь дома захочется поспать подольше, но после того она хотела повидаться с ним как можно скорее. А завтра уже Улебкина свадьба: надо успеть все уладить, чтобы на пиру Киев видел согласие и благополучие княжьего рода. Как жаль, Прияна уехала – еще бы на пару недель задержалась, как ее просили, и было бы ей счастье! Теперь узнает на месяц позже всех – если муж вчера догадался сразу отправить гонца ей вслед.
Надо думать, у Святослава вчерашнее тоже оставило тяжкий осадок на сердце: проснувшись, он велел передать, что скоро сам приедет к матери, и впрямь приехал около полудня. Обрадованная Эльга вышла ему навстречу и всплеснула руками:
– Владычица Небесная! Что ты все этот кафтан дрянной таскаешь, разве не во что одеться? Называется, князь киевский домой приехал!
Святослав с удивлением оглянулся на свой хазарский кафтан, пропахший дымом, пылью и полынью: за время пути через степь тот стал ему почти другом, а без жены просто не пришло в голову поискать в ларях чего-то поприличнее.
– Ты хоть в баню-то сходил? – Эльга взглянула на его сорочку, но та была новая и чистая. – Я пошлю сказать Дивуше, чтобы нашла тебе платье хорошее, ведь свадьба завтра!
– Какая еще свадьба? – Святослав взглянул на нее исподлобья.
– Улебкина свадьба. – Эльга надеялась, что сегодня он уже может смотреть на это здравым взглядом.
– Он Олеговну берет?
– Да. Мы же всегда хотели ее взять в семью, помнишь? Я тебя когда-то уговаривала. Ты мои замыслы порушил, – Эльга улыбнулась, – так я, помнишь, ни словом тебя не упрекнула. Твоя судьба – тебе решать, кого в жены брать. И все же Горяну нам нужно ввести в дом, чтобы к ней какой удалец лихой не присватался. А теперь несчастье помогло: сговорились наконец…
– Нет, – Святослав помотал головой. – Я на это согласия не даю.
– Как – не даешь?
– А так. Князь киевский по-прежнему я, – сын взглянул на Эльгу с вызовом, будто проверяя, не желает ли она это оспорить. – И я не велю, чтобы Олегова дочь выходила за У… Улебку.
Имя брата он вытолкнул из себя с трудом – будто оно царапало ему горло.
Эльга молча смотрела на него, не соображая от растерянности, как приложить руки к такой беде. И понимала: он это не со зла и не от упрямства. Он за ночь обо всем подумал.
– Жив я, матушка! – добавил Святослав, будто поясняя свое решение. – И у меня есть сын законный. Других наследников мне не надо. Припала Улебке охота жениться – пусть женится, на ком знает, но на Олеговне – нет.
– Но почему ты… – Эльга хотела сказать, «так жесток к нему», но не решилась. – Ведь он твой брат… Это правда.
– Пусть брат, – Святослав опустил глаза, будто не желал видеть это неприятное обстоятельство. – Но я старший сын у отца, и…
– Нет, – вырвалось у Эльги, и только потом она сообразила, что этим признанием лишь ухудшила дело.
– Нет? – Святослав подался к ней. – Это еще как? Кто… – у него даже голос сел, – кто из нас старший?
Жернова в голове совершили еще один мучительный оборот, продолжая перемалывать в муку его привычный мир. О возможности потерять еще и старшинство он раньше не думал. Будто мало того, что он у отца не единственный сын!
– Улеб родился первым, – призналась Эльга, под гнетом тоски опуская голову. – Ута перед моей свадьбой уже понесла, я знала… Она мне призналась. И родила на два месяца раньше. Мы только не говорили никому. Ждали, а имянаречение твое назначили первым. Вот все и думали…
В ту пору, когда разница между младенцами в два месяца была заметна, а чужим их не показывали.
– Ты что же, думал, твой отец жену своего побратима пользовал? – холодновато добавила Эльга, задетая самой возможностью такого подозрения. – Тогда никто из них не был женат, и мы обе были не замужем. Мы с Ингваром ждали свадьбы, Ута только овдовела после Дивислава. И если бы мы не решили… Ингвар ведь мог тогда жениться на ней, ты понимаешь? – Она заставила себя взглянуть в светлые и твердые, как лед, глаза сына. – И тогда Ута стала бы княгиней киевской, а Улеб – их законным наследником.
«А я?» – хотел спросить Святослав, но себя он в этом раскладе не видел совсем.
– А ты родился бы у меня от Мистины и был бы каким-то совсем другим, – ответила на его невысказанный, но угаданный вопрос Эльга.
Она совершенно не представляла, каким ее сын получился бы тогда. Разве что выше ростом.
– Ну… ладно! – Святослав ударил ладонями по коленям. – Эту пряжу не перемотать. Князь киевский – я, у меня есть сын княжьего рода, и другого князя Киеву и руси не требуется. Я Улебке жениться не запрещаю, пусть берет какую хочет девку, но не такую, чтобы ему со мной тягаться. А то я ведь не в последний поход ходил. Как мне теперь из Киева уйти с дружиной? Каждый день буду думать: а что, если брат любезный там в Киеве уже на мой стол мостится?
– Но что же с Олеговной делать? – Эльга развела руками и уронила их на колени. – Правда, что ли, к грекам ее в монастырь отослать?
Хотелось плакать: вот ведь навязалась беда!
– А это что за хрень?
– Это вроде святилища, где девы и жены ведут жизнь чистую и Богу служат.
– Нет уж. Мне отсюда не видать, чему она там служит и как. Я ее сам за себя возьму, и с плеч долой заботу.
– Сам? – изумилась Эльга, давно отбросившая такую возможность. – Да ну как же… Прияна же вернется…
– И что? Я первый буду, у кого две жены?
– Она не согласится! Горяна не пойдет за тебя! И Предславич ее не отдаст. Она и за Улебку не хотела, пока он не окрестился…
– Ну, креститься я не буду, а пойдет не пойдет… Кто ее спрашивает?
Святослав встал. Эльга тоже поднялась, потрясенно глядя на него.
– Что ты задумал?
– Ты же хотела? – Святослав выразительно поднял брови. – Ты же меня понукала: женись на Олеговне да женись! Вот – женюсь. Завтра, коли уж вы все приготовили. Чего тянуть? При такой бойкой родне ворон считать нельзя – без портков останешься.
– Но ты хоть поговори с ними…
– Чего говорить? Невеста готова, пир готов, жених тоже. – Святослав пошел к двери, но обернулся. – А ты вот Улебке передай: вздумает бузить – не помилую.
* * *
После его ухода Эльга какое-то время сидела, уронив руки на колени. Встревоженная Браня ластилась к ней, допытываясь, что происходит и почему брат Святша такой угрюмый, а на нее совсем и не смотрит. Эльга не находила слов для ответа. В полной растерянности она понимала одно: нужно сообщить Олегу Предславичу, что зять у него предполагается уже другой. Было ясно: эти новости не обрадуют ни Олега, ни его дочь. И что тогда?
Едва она достаточно собралась с мыслями, чтобы послать отрока к Олегу, как ввалились оба старших воеводы – все еще в кольчугах, во вчерашних рубахах, усталые и невыспавшиеся. Немедленно потребовали жрать и кликнули оруженосцев – снимать кольчуги. Как оказалось, для них еще не кончился вчерашний день: они немного подремали по очереди, а весь остаток вечера, ночь и утро ездили по городу со своими отроками, следя, чтобы народ не бузил, и своим видом усмиряя волнения. После возвращения князя с того света город словно умом повредился и устроил гульбу, будто Коляда пришла раньше срока.
Но главные волнения оставались еще впереди.
– Святша не велит Улебу жениться, – выговорила Эльга, когда они уселись за стол и набросились на все, что им отыскали в голбце.
Мистина поднял на нее жесткий выжидающий взгляд, не переставая жевать вчерашнее жареное мясо.
– То есть не совсем не велит, а на Горяне не велит, – пояснила Эльга, чувствуя себя совершенно бестолковой. – Сказал, пусть берет кого хочет, но не ее…
– Я так и думал, – буркнул Асмунд, налегая на кашу.
– И он хочет взять ее себе!
Тут оба воеводы перестали жевать и уставились на нее.
– Кто? – невнятно уточнил Асмунд. – Святша?
– Он сказал: ты же хотела… – беспомощно продолжала Эльга. – И с плеч долой беду… А мне, сказал, других наследников не надо…
Мистина положил нож на стол и откинулся к стене. На его замкнутом лице отражалась напряженная работа тяжелых, будто камни, мыслей. Его губы дрогнули, и он посмотрел на Асмунда:
– Что скажешь, шурин?
Асмунд скривился. Улеб приходился ему родным племянником, сыном единственной родной сестры, и он не мог не понимать, какую обиду князь собирается ему нанести. Но воевода очень не любил, когда его спрашивали о делах, не имеющих отношения к дружине.
Никто из троих не находил слов. Улеб по-своему был близок и дорог каждому: Асмунду и Эльге – как сестрич, Мистине – как сын, пусть и приемный. Эта обида каждому из них грозила встать поперек горла. Но и со Святославом всех троих связывали узы не менее сильные. Святослав – киевский князь и главный над ними, своими старшими родичами.
– Дружина вся за Святшу, – с трудом сглотнув, заметил Мистина. – Он для них с того света вернулся…
– Осрамился он, как щенок нагадивший, – буркнул Асмунд. – Вот теперь и выделывается. Хоть где, хоть над кем, а верх бы взять.
Эльга зажала ладонью рот, хотя все равно не знала, что сказать. Чем лучше она осознавала происходящее, тем более крепло ощущение, будто в сердце вонзился длинный острый клинок и медленно поворачивался.
Да, поход у Святши получился провальный. Добыча скромная: сколько-то полона, челяди, всякая рухлядь из греческих сел близ устья Днепра. Потери в дружине – чуть менее сотни человек, сам князь почти чудом вернулся живой. И это чудо пока что, на вчерашний день, заслонило от глаз мысль о разгроме. Всю осень люди ждали, вернется ли князь, это ожидание мешало им судить его успехи. Но теперь все осознают: лето вышло более чем неудачное. Скромные достижения посольства к грекам… мертвый младенец Прияны… разгромный поход Святослава… Пусть отец Ригор и старцы разбирают, чей бог на кого и за что огневался, а им, княжьему роду русскому, надо решать, как быть. Как не уронить чести, не допустить смут, не потерять все, что имеют…
И сейчас, этим утром после бессонной ночи, они стоят на пороге самого ужасного несчастья. Раздора между братьями, возможно, братоубийства… Эльга вдруг увидела это так отчетливо, как будто все уже случилось, а она лишь мысленно возвращается назад, в то утро, пока беда еще ждет впереди. И пока еще можно было что-то сделать.
– Надо… – начала она.
Оба воеводы с такой готовностью вскинули на нее глаза, что стало ясно: они тоже не знают, как быть. Все трое будто запутались в железной паутине и каждое движение грозило изрезать кожу, если не вовсе загубить.
Но Эльга замолчала. Что – надо? Первая мысль ее была, что Горяне следует как можно скорее убираться из Киева. Исчезнет предмет раздора – может, братья все же помирятся.
– Ну, скажи хоть что-нибудь! – с досадой взмолился Мистина, который привык думать сам и оттого сейчас был особенно удручен отсутствием выхода.
– Если Горяна уедет…
– Святша останется на бобах! – со злостью закончил Мистина. – Ты думаешь, ему это надо – после всего? И нам надо?
Эльга скривилась, будто пыталась задавить слезы. Святослав – ее сын, но, что даже важнее, он – князь руси. Как брат, как сын он не прав – но как князь он прав. Он делает именно то, что поможет ему обезопасить свой престол, укрепить положение и восстановить, хоть отчасти, свою честь и веру в него людей. Свадьба – веселое дело, утверждающее род в будущем, не может быть «все плохо», когда играется свадьба! Это именно то, что нужно сейчас киевлянам. И потому они трое, княгиня и два воеводы, сомневались, а надо ли Святославу мешать. Улеба жалко… но род Олега Вещего жальче.
– А с Улебом что же делать? – Сейчас у Эльги болело сердце за племянника куда сильнее, чем за сына.
– Ушлю его куда-нибудь… – Мистина встал. – В Витичев… а там видно будет.
– Думаешь, он поедет?
– Я скажу – поедет. Все-таки… я его отец.
* * *
Мистина ушел к себе, Асмунд – к Святославу, но и Эльга не могла спокойно сидеть дома. Решила наведаться к Олегу Предславичу, на Киеву гору.
Приезжая в Киев, тот останавливался у Острогляда – своего свояка. В последнее время Эльга бывала здесь часто: они с Утой поочередно раз в несколько дней навещали боярыню Ростиславу. Единственная родная внучка Вещего, старше своих теток лет на десять, та уже так растолстела, как стала тяжела на подъем и одышлива, так часто жаловалась на боль в груди, что не смогла поехать с княгиней в Царьград, справедливо опасаясь не вынести тягот пути. Недавно она совсем слегла. Олег Предславич торопился справить свадьбу дочери до смерти сестры, чтобы та порадовалась на прощание.
Въезжая во двор, Эльга увидела перед избой две телеги. Челядь грузила короба и лари. Когда отрок помог ей сойти с лошади, наружу вышел сам Олег.
– Что это? – Эльга кивнула на телеги, уже зная ответ.
– Здравствуй, матушка! – Олег Предславич поклонился. – Слава Богу, что заехала. Я хотел сам к тебе – прощаться.
– Ты куда собрался?
– Восвояси, в Овруч.
– Ты… говорил со Святославом?
– Говорил. Он сам заходил, удостоил! – Олег снова поклонился – с издевкой, ему не свойственной. – Но только мы ему не холопы, чтобы нами распоряжаться, как вздумается. Желает он запретить брату жениться – его воля. Но моя дочь – не раба. Коли нет ей Божьего повеления быть за тем, кого сама избрала, за другого не пойдет, пусть при мне останется.
– Но если ты против Святшиной воли уедешь… Что же ты будешь делать? Святша не простит. Отнимет у тебя Овруч, и хорошо, если миром…
В мыслях Эльги мигом возникло зрелище: русское войско осаждает новые стены Овруча… Опять брань на древлянской земле, которую они отдали близкому родичу, надеясь этим обеспечить мир.
– Деревлянь – его земля. Велит мне с нее уйти – уйду. Мир велик.
При всей покладистости Олег Предславич все же был человеком гордым.
– Куда же ты денешься? – всплеснула руками Эльга, знавшая, что в родовых владениях Олега, в Мораве, хозяйничают угры.
– Поедем к Земомыслу. Он дочь и внучку не обидит. И будем на Бога уповать.
Эльга прошла в избу. Для родичей Острогляд поставил на широком дворе отдельное жилье, и они не тревожили больную боярыню. Горяна сидела на лавке возле открытого ларя и разложенных платьев; вокруг сновали челядинки, она тоже пыталась что-то делать, но не могла сосредоточиться. Не зная, что сказать, Эльга обняла ее. Воеводы правы: княжеская свадьба лучше всего успокоила бы народ, но при виде лиц Олега и Горяны у Эльги не хватило духу пытаться отговорить их от отъезда. Ведь они были ближайшими ее родичами. В Олеге и Горяне текла кровь Вещего, и Эльгу двойне мучила мысль о раздоре там, где она столько лет пыталась водворить согласие.
Снова скрипнула дверь, и вошел Улеб. При виде его Горяна переменилась в лице и встала. Эльга молча отошла; глядя на девушку, княгиню парень будто и не заметил, не кивнул даже. Не желая слушать, что они скажут друг другу в этот горестный час, Эльга вышла назад во двор, где Олег Предславич разговаривал с конюхами. Прошла в Остроглядову избу, села возле лежанки Ростиславы.
– Проститься… пришла… – тяжело дыша, со свистом в груди просипела та.
– Да, да, – кивнула Эльга, думая о своем.
– И верно. Нынче… отойду… За отцом Ригором… послали…
– Ой, Кириа тон Уранон! – Эльга опомнилась. – Ты о чем говоришь? Я с Олегом и Горяной пришла проститься.
– И со мной… предам душеньку мою… в Боговы рученьки… Все-таки дожила я… дотянула… Всегда знала, еще как ты приехала и про медведя вашего богопротивного мне рассказала… Я тебе тогда говорила – Бог тебя спас. Для того спас, чтобы ты… веру Христову утвердила средь руси… Дал мне Бог увидеть… теперь пойду…
Эльга осторожно сжала ее пухлую, влажную руку. Не находила слов. Да и что сказать: у Бога Ростиславе будет уж лучше, чем здесь, где она и вдохнуть не может.
Однако тревога отвлекала даже от мыслей о грядущей смерти родственницы. Казалось, где-то рядом бродит еще худшая беда, нависает тенью над плечами. Эльга вышла, у порога встретилась с Олегом: он шел проститься с сестрой. Все было готово, лошади запряжены, его дружина – человек двадцать – собрана. На телеге лежали седла: своих коней они хотели по дороге забрать с пастбища.
Горяна со своими челядинками стояла возле телеги. Улеб держал ее за руку.
– Я ей говорю: если судьба мне злая досталась, я ее за собой в бездну тянуть не буду… – начал Улеб, будто надеясь на поддержку тетки.
– А я ему говорю: нет никакой судьбы, есть воля Божья! – горячо перебила Горяна. – Это судьба могла быть добрая или злая, но Бог – это всегда любовь. Бог не может человеку зла желать, Он любит нас. А наша вера – это и есть вера в Его любовь, доверие Его воле. Кто не доверяет Богу, тот не любит Его.
Именно в час испытаний нужна вера – взаимная любовь человека и Бога, который может желать только добра, потому что такова Его божественная природа. Но так трудно понять и принять разницу между человеческой любовью и божественной, которая выражается порой в таком, чего врагу не пожелаешь…
– Может, Святша остынет еще, – сказала им Эльга, не в силах признать поражение своих замыслов. – Я буду с ним говорить. Все же я его мать, не может он меня совсем не слушать. Прияна скоро вернется. Я узнаю, и если за ней еще не послали, то сама пошлю. А как она будет здесь, Святша оттает. Глядишь, и даст согласие. Это он сгоряча. Сколько он пережил, чуть жизни не лишился, понятно, если немного не в себе! Вы думайте, что просто отложили свадьбу.
Лица неудачливых обрученных несколько посветлели. Эльге кстати пришла мысль о Прияне: Улеб тоже не сомневался, что молодая княгиня живо выбьет из головы Святослава блажь взять еще одну жену.
– Иди с теткой попрощайся! – позвал Олег дочь.
Горяна ушла к Ростиславе. Эльга с трудом сдерживалась, стараясь стоять спокойно и не перетаптываться; прощание всегда тягостно, но такого тягостного отъезда она не помнила. Грубый раздор в семье будто туча висел над двором. Она стыдилась, что ее сын внес такую смуту, но открыто осудить его и воспротивиться тоже не могла. Вера – это любовь к Богу, а всякая любовь – это доверие. Нет власти не от Бога, как сказал Ригор… нет, это сказал апостол Павел. Выходило, что повиноваться Святославу означало повиноваться Богу, хоть князь и язычник. И только Бог знает, зачем и почему все должно быть именно так…
Почти успокоенная этой мыслью, Эльга села в седло и вместе с Олегом и прочими шагом тронулась со двора. Телеги миновали улицу, завернули к воротам – Киева гора, старое гнездо полянской знати, еще с хазарских времен имела укрепление. Ворота, как и всегда среди дня, стояли открытыми. Шествие миновало их… и едущая впереди Эльга первой и увидела то, что ждало за ними.
Там был Святослав, верхом на коне, а вокруг него – сотня гридей. Небольшой обоз остановился; Святослав тронул коня и подъехал к Олегу.
– Куда собрался, тестюшка? Приданое везешь? Давай, вези. Заворачивай, – он показал плетью в сторону Олеговой горы.
– Не отдам я тебе мою дочь, – Олег Предславич, еще пеший, глядел на него снизу вверх. – Наш род не хуже твоего, и мы тебе не рабы, чтобы ты нами распоряжался. Не велишь брату жениться – дело твое, но моей дочерью только я владею.
– Не кряхти! – Святослав наклонился с седла, глядя на Олега почти с ненавистью. – Твою дочь со мной обручали. Она моя, и ты сам мне ее отдал. Думал, я сдох! Дожидайся! Жив я, и она моя.
– Ты на другой женился! – Олег Предславич пришел в изумление, видя, что на старом обручении настаивает тот, кто сам же первым его и нарушил.
– И что с того? Захочу – еще три раза женюсь! Поехали! – Святослав взмахнул плетью. – Будем свадьбу играть. А то ребята у меня жрать хотят.
– Княгиня! – Олег Предславич обернулся к Эльге. – Хоть ты ему скажи, он твой сын!
– Святослав! – Эльга подъехала ближе, совершенно не зная, что сказать. – Да неужели ты такую деву, правнучку Вещего, силком хочешь за себя взять? А Прияна?
– Хочу – и возьму! – Святослав был недоволен ее вмешательством, но не собирался отступать. – А ты что же – дядек позовешь и велишь им со мной биться? Ну, давай, где они?
Эльга в растерянности повела глазами – и действительно увидела Асмунда. Тот сидел верхом, в окружении собственных отроков, возле дальнего тына, и наблюдал. Заметив, что обнаружен, приблизился.
– Не стану я, Олеже, драться с моим сестричем и князем ради твоей дочери, – он покачал головой.
– А забыл, что мы с тобой тоже в родстве? – горько спросил тот.
Родство с этими людьми с самой юности приносило последнему из моравских князей одни несчастья.
– Нам нужно опять наши роды объединить. Не тот жених, так этот. Все равно же князь.
– И больше я тебе не позволю самому выбирать зятьев! – добавил Святослав. – Ты одну дочь уже выдал к древлянам – и из-за этого погиб мой отец! Мне еще хватит заботы с ее древлянскими щенками, и я не дам другой твоей девке народить щенков от какого-нибудь ублюдка!
– Да заткнись ты! – Этого Улеб уже не снес и шагнул вперед. – Святша! В тебя как бес вселился! Сколько же тебе надо – солнце и луну? Мне обещали Прияну – ты согласился, а потом обманул! Отнял ее у меня! Ты о Горяне столько лет и не думал – вспомнил, когда она понадобилась мне! Может, тебе мои портки тоже нужны? Ты скажи, не бойся! Пообносился, чай, пока от хазар ползком выбирался.
– Вот я и говорю – от какого-нибудь ублюдка! – Святослав соскочил с коня и подошел к нему. – С меня хватит того, что уже есть! Вот этого ублюдка, который, понимаешь, сын моего отца, когда надо наследство делить! А когда ты меня бросил на берегу под Каршой – чей сын ты был тогда, клюй пернатый!
– Я еле отбился, иначе мы бы все там полегли! И ты ведь ушел, хотя думал, что я сижу в Карше у тудуна!
– Лучше бы тебе там сидеть! Отвали! – Святослав резко мотнул головой, призывая очистить дорогу. – Я предупреждал: будешь бузить – не помилую. Эта девка моя. А ты проваливай из Киева куда хочешь и люби козу хромую! Еще раз тебя здесь увижу – порешу!
– Князь Святослав! – Асмунд послал коня вперед и вклинился между ними; оба племянника попятились. – Хватит! – отрубил воевода. – Потешили народ!
Эльга подъехала ближе. Лицо Святослава – замкнутое и жесткое – поразило ее так, что она растерялась и не могла понять: что сказать, что сделать? Давно нет того мальчика, которого она могла остановить одним словом.
– Святославе! – вновь настойчиво позвал Асмунд. – Не тому я тебя учил, чтобы с собственным братом драку затевать у всего города на глазах.
– Я не буду! – удивительно миролюбиво отозвался Святослав, но это миролюбие в голосе не вязалось с выражением глаз. – Слушай, брат…
Он снова подошел к Улебу, и тот повернулся, загораживая собой Горяну. Олег тоже шагнул к ним, Асмунд наблюдал с коня.
Но Асмунд смотрел на племянника-князя спереди. За спиной у Святослава сидела на лошади Эльга. И только она успела увидеть, как его рука зачем-то скользнула за пояс сзади.
– Слушай, ну, давай поговорим… – начал Святослав почти обычным голосом, точно вдруг сообразил, что ссора-то пустячная.
Правую руку он положил Улебу на плечо; тот отвлекся на это и, глядя в глаза брату, не заметил движения его второй руки.
Даже Эльга не успела ничего понять. Левый кулак Святослава, утяжеленный зажатой свинцовой бабкой, вылетел из-за спины и с размаху ударил Улеба по уху. От силы удара тот откинулся назад и рухнул спиной на телегу; люди вокруг вскрикнули, взвизгнули женщины. А Святослав схватил Горяну, поднял, будто она ничего не весила, перекинул через плечо и отскочил назад, к своему коню, которого держали его отроки. Перебросил ее перед седлом, вскочил сам, схватил одной рукой поводья, второй придерживая девушку, и свистнул, посылая коня вперед.
Лошадь Эльги от испуга прянула в сторону и резко развернулась, пытаясь умчаться; Эльга закричала, изо всех сил цепляясь за переднюю луку седла, чтобы не упасть. Ее отроки кинулись и повисли на поводьях, усмиряя лошадь. Но переполох поднялся кругом, на всем пространстве перед воротами Киевой горы: гриди Святослава раздались в стороны, пропуская его коня, другие кинулись вперед и потеснили людей Олега. Оружие Олеговых отроков лежало в телегах, и гриди, понимая это, поторопились отрезать их от телег: числом превосходя раз в пять-шесть, они сумели это без труда. Последними словами бранился Асмунд, удерживаясь на пляшущем коне; хуже всего то, что Улеб остался лежать на земле у телеги, почти под копытами, но отодвинуться от тела Асмунду мешала толпа и потасовка. Запряженные лошади тоже пятились, челядь не могла их толком удержать, телеги сталкивались одна с другой. Эльга кричала не переставая; отроки уже отвели ее лошадь в сторону и крепко держали с двух боков, княгиню тянули за подол, уговаривая сойти наземь, но она не замечала, пытаясь рассмотреть сквозь толпу и бегущие ноги, где Улеб. Ей казалось, он растоптан, и она кричала от неудержимого ужаса потери: племянник погибал у нее на глазах.
Над Киевой горой повис топот, брань, женский визг. Дружно вопя, гриди затолкали Олеговых людей назад за ворота и затворили створки. Телеги со всем добром и оружием остались снаружи; гриди легко отогнали конюхов, взяли лошадей под уздцы и повели телеги с добычей вслед за князем.
Всякий свадебный обряд включает «похищение невесты» и шуточный бой ее близких с родней жениха. Эльга видела это десятки раз, но впервые столкнулась с взаправдашним насильственным увозом девушки. И кто же всему виной? Ее единственный сын, законный князь киевский!
Едва на площадке стало посвободнее, она наконец увидела лежащего Улеба. Соскочила с лошади и побежала к нему. Однако Асмунд оказался возле парня раньше. Тот лежал неподвижно. У Эльги комок льда застыл в груди, она не могла вдохнуть. Асмунд ощупал голову и шею Улеба, потом сделал знак своим отрокам: переверните. Эльга опустилась прямо наземь, не жалея белой шерсти платья и синего кафтана. Вышитый золотом край мафория упал с ее головы в пыль.
– Этот бес его свинчаткой вдарил, – Асмунд глянул на нее. – У него сзади за поясом была, я не видел. Да и кто бы догадался.
– Он ж-жив? – едва сумела выговорить Эльга.
А вокруг продолжалась замятня: люди Олега Предславича собрались на боевом ходу возле ворот, к ним присоединились иные из жителей Киевой горы, потрясенные этими событиями и желающие видеть, что будет дальше. Но выйти они не могли: Святославовы гриди закрыли ворота и подперли снаружи бревнами. Что-то кричал сам Олег, видимо, требуя выпустить его, но за общим шумом Эльга не разбирала слов.
– Жив, – Асмунд проверил жилку на шее у племянника. – Святша в ухо бил, значит, убить все же не хотел. Ударил бы прямо в висок – проломил бы череп.
Ухо парня распухло и стало похоже на петушиный гребень.
– Надо его перенести куда и раздеть, – сказал Асмунд. – Боюсь, потоптали.
Эльга и сама видела на светло-коричневом кафтане Улеба грязные отпечатки – хорошо если ног, а не копыт!
В это время рядом раздался такой могучий общий крик, что она невольно повернула голову. Но успела лишь увидеть, как что-то мелькнуло над краем стены. Потом народ закричал снова.
– Князь Олег убился! – доложил какой-то отрок Асмунда, стоя тянувший шею.
– О боже!
Эльга встала и побежала к стене; отроки раздвинули толпу, крича: «Княгиню пропустите!»
Поначалу она ничего не увидела.
– Во рву! – кричали в толпе и показывали пальцами.
Протолкавшись ближе, Эльга заглянула в ров. На дне неподвижно, лицом вниз, лежал человек. Олег Предславич.
Она зажала рот рукой, чтобы сдержать рвущийся наружу дикий хохот. Ее душили слезы, но не находили пути выхода.
– Что смотрите? – кричал рядом Зимец. – Лестницы несите, доставать надо! Веревки давайте!
Ров был не очень глубок – в человеческий рост, но с высоты стены, тоже в три роста, удар получился сильный.
– Он по веревке хотел, да сорвался, – пояснял кто-то.
– Отвори ворота, пес твою мать! – рявкнул Асмунд, оставив племянника и подойдя к гридям. – Пошли вон, сукины дети! Игрище нашли! Олег убился! Идите вон доставайте его теперь!
Воеводу гриди послушались, тем более что Олеговы люди уже в драку лезть не пытались, а хотели лишь пробраться к своему князю.
Ворота открыли, с ближних дворов принесли пару лестниц, опустили в ров. Сами же гриди охотно полезли вниз, желая поскорее выяснить, жив ли древлянский князь. Эльга отошла к своей лошади, оперлась руками о седло и положила на них голову. Улеб… Олег Предславич… Она видела, как души их скользят по грани бездны и могут рухнуть в нее… или уже рухнули… И как она теперь…
А что же с Горяной? Эльга обернулась и посмотрела в сторону Олеговой горы, куда умчался Святослав и большая часть его людей.
– И как мы это Уте скажем? – раздался позади нее голос Асмунда.
Эльга обернулась.
– А где Свенельдич? – с трудом выговорила она.
Оказывается, успела сорвать голос и не заметила как. И теперь поняла, чего ей все это время не хватало.
– Я его спать послал, – Асмунд опустил голову. – Я ночью-то поспал, а он нет. Его уже на ходу рубило. Ну, йотуна мать, кто же знал, что они так живо все спроворят! – Он в досаде тряхнул кулаком.
Эльга только сглотнула, чувствуя боль в горле. Значит, им надо будет обоим родителям Улеба рассказать, что те проспали, а они, Эльга с Асмундом, едва не дали убить племянника у себя на глазах. И от этой мысли ее снова начало колотить. Ее сестра с мужем, двое самых близких ей людей, чуть не потеряли старшего сына, а она видела это и ничего не смогла сделать… Да и выживет ли Улеб?
Олега Предславича вытащили из рва и положили на траву. Он тоже был без чувств, с разбитой головой и сломанной ногой. Эльга велела нести обоих обратно к Острогляду – Олега и Улеба. Сама следила, как их раздевают, как Асмунд вправляет Олегу кости – к счастью, наружу они не торчали, – накладывает лубки, заматывает. На теле Улеба обнаружились багрово-синие кровоподтеки – Асмунд сказал, что, похоже, сломаны ребра. Разбитую голову старшему из племянников Эльга обмыла сама, послала поискать ивовой коры, березовых почек, цветы бузины, что помогают заживлению ран и облегчают боли. Ключница Ростиславы ей все принесла, Эльга велела делать отвары, а пока села возле лежанки Улеба, глядя в его бледное лицо.
– Приведи Уту, – слабым голосом попросила она Асмунда. – Не посылай никого, съезди сам.
Асмунд тяжко вздохнул и вышел. Эльга наклонилась к лицу парня и прислушалась: он дышал, и ей стало чуть легче. Главное, жив. Только смерть непоправима. Но очень хотелось, чтобы оба пострадавших подольше не приходили в себя и чтобы Ута с Мистиной как можно дольше сюда не являлись. Как она посмотрит им в глаза?
Вспомнились «подобные ангелам» царьградские львы: друнгарий флота Иосиф Вринга, паракимомен Василий, патриарх Феофилакт, даже тот отважный смотритель царских одежд Феофан, что в отсутствие царского флота вывел в море какие нашел корабли с сифонами «живого огня». Побочных сыновей знатных отцов греки лишают мужского достоинства, чтобы исключить из борьбы за власть и сохранить им жизнь. Может, цель не так уж плоха, хотя признать верным средство Эльга не могла.
Впрочем, и это не всегда помогает.
* * *
До завтрашнего дня ворота княжьего двора на Олеговой горе оставались закрыты. Князь праздновал свою свадьбу, и иных гостей, кроме верной дружины, ему не требовалось. Эльга оставалась у Острогляда; Ута, все три ее дочери, Предслава с Малкой почти поселились здесь же, чтобы ухаживать: одни за сыном и братом, другие – за отцом и дедом. Эльге было так стыдно смотреть на них, будто это она все устроила. Нет, гораздо хуже. Будь ее вина, она бы знала, как поправить дело; но Змеем Горынычем через судьбы родичей пронесся ее сын, которого она, мать, вырастила, воспитала и не сумела удержать. Ее не упрекали, но слезы и убитый вид сестры и прочих сам по себе служил ей худшим упреком.
А ведь в Овруче еще ждет княгиня Ярослава. Которой предстоит узнать, что ее дочь силой взята в жены язычником, а муж едва не погиб.
На следующий же день к Острогляду явилась Икмошина ватага со своим вождем во главе: все помятые и похмельные, но в лучших кафтанах, с гривнами на шеях, с перстнями и обручьями, а Иггимар даже на удивление причесан. По их виду сразу становилось ясно: это посольство.
– Князь руси Святослав Ингоревич прислал нас, гридей и братьев его, сказать тебе, Олег, что взял в жены дочь твою Горяну! – объявил Икмоша, остановившись перед лежанкой древлянского князя, и грохнул на пол звенящий кожаный мешок. – А что взяли ее увозом, так вот тебе вено: тридцать гривен серебра. Приданое ее у нас. И сказал тебе князь: коли принимаешь вено и мир между нами, тогда он позволяет тебе в Овруче остаться. Все ж таки теперь тесть, – хмыкнул Икмоша, у которого имелся свой тесть, считавший Икмошу наказанием за грехи родителей-язычников. – Ну а коли выкуп не берешь и желаешь биться, так князь готов. Как оправишься и в силу войдешь, даст тебе поединщика!
И постучал себя по широкой выпуклой груди.
– Дочь моя жива? – прошептал Олег, но так слабо и невнятно, что только Предслава, наклонившись к самым его губам, разобрала сказанное.
– Жива, чего ей сделается?
Икмоша хотел еще что-то добавить, но Предслава ожгла его таким взглядом, что пробила даже воловью шкуру, в которую была одета его душа.
– Возьми выкуп! – взмолилась к Олегу Эльга. – Если не возьмешь – она ведь наложницей останется! И ты, и она, и весь род наш позором…
И замолчала: худшего позора, чем уже случился, трудно вообразить.
– А так хоть дети ее будут законными… – добавила она, но ее саму этот довод утешил мало.
У будущих детей Горяны уже есть самое меньшее один соперник: Ярополк, сын Прияславы Смолянки. Не менее законного рождения.
– О Боге подумай… – добавила она.
Могла ли Эльга вообразить два года назад, что сама будет говорить Олегу Предславичу о Боге! В тот раз, когда он молил ее разрешить Горяне креститься и признавался, что не вынес бы тягот своей незадачливой жизни, если бы не Христова вера.
Отец Ригор заговорил о примирении с врагами. Эльга не слушала. Тяжело давалось им Царствие Небесное. Бог испытывал своих новых наследников, нагромождая на их пути одну беду за другой.
Но ведь сказано: чем теснее и труднее путь, тем ближе Золотое царство…
* * *
– Воевода пришел.
Сколько раз за все годы Эльга слышала эти слова! Поскольку один из двоих показывался здесь чаще другого, Мистина был для ее челяди и отроков просто «воевода», а двоюродный брат – «воевода Асмунд».
Но сейчас она не хотела видеть никого. Просто сидела, уронив руки на колени. Как она горевала каких-то пять дней назад, пока думала, что ее сын погиб! Как молилась и мечтала, чтобы он вернулся! И вот Бог ее услышал. Святослав вернулся. Если до того она жила с чувством одной ужасной потери, то теперь к ней прибавилось множество новых. Но и боль той, первой, вовсе не утихла.
– Пусть войдет, – вздохнула Эльга.
Мистина вошел – по обыкновению, очень тихо. Эльге всегда казалось, что он занимает в ее жилище слишком много места, и он старался двигаться бесшумно, дабы как-то умерить свой рост. Прошел и сел на лавку напротив нее, свесил руки между колен. Он редко бывал растерян и удручен, и сейчас при виде его погасшего лица ей вновь вспомнились те дни после смерти Ингвара. Когда они встретились с Мистиной и его семьей возле Малин-городца, где под слоем свежей земли лежало кострище – крада Ингвара и малой дружины. И Мистина вот так же растерянно смотрел на нее, не зная, винит ли она его в чем и виноват ли он взаправду.
– Послушай… – начал он. – Ута хочет…
Эльга вскинула глаза. Вот это она от него слышала редко. Не сказать чтобы он был невнимателен к жене, но о желаниях Уты чаще Эльга сообщала ему, чем наоборот.
С усилием расцепив судорожно сжатые пальцы, княгиня попробовала расслабить, как-то смягчить свое лицо. Желания Уты будут исполнены, тут и разговору нет. Раздор сыновей больно ударил по ним обеим, но сестру Эльга жалела не меньше, чем Улеба. Даже больше. Он мужчина. А мать его и так уже достаточно перенесла.
– Она хочет, чтобы мы все уехали, – вытолкнул из себя Мистина. – Когда Улеб окрепнет. Мы не можем больше жить здесь, где…
– К-куда – уехали?
Поначалу Эльга даже обрадовалась этому решению: она сама не знала, как Улеб дальше сможет оставаться возле князя, своего брата, ставшего смертельным врагом. Возле своей бывшей невесты, силой взятой в жены другим. Сейчас Улеб еще не выходил из дома: головная боль у него почти прошла, но сломанные ребра мешали двигаться, каждый вздох давался с болью.
– В Плесков. В ваше Варягино. Ута хочет вернуться с ним туда.
Эльга помолчала. Да, это отличный выход: в Плескове Святослав уже не хозяин, зато там у Уты много родни – престарелый отец, родной брат Кетиль, родичи по матери в Любутине за рекой.
Но если ехать так далеко – это значит, надолго… Может быть, навсегда…
– Вы все? – повторила Эльга. – Ута… И… ты?
Мистина сокрушенно кивнул. Все понимали желание Уты в такое время держать всю семью вместе – и подальше от того, кто принес им зло.
И эта мысль вызвала у Эльги другую: а что, если им с Браней тоже уехать? Какое было бы счастье: оставить весь этот раздор позади, вновь увидеть родные края, белые камни реки Великой, Русалий ключ. Вместе с Утой гулять по берегам, где бродили когда-то маленькими девочками. В воспоминаниях детство и юность не казались Эльге такими уж безмятежными, но ребячьи беды, к счастью, не возвращаются к взрослым. А вот прежние радости еще можно оживить, пока живо в человеке сердце.
Но тут ее взору представились те дымящиеся, зловонные развалины, которые она в своем бегстве оставит за спиной. На кого она покинет Киев, всю русь, державу? На Святшу и Горяну, которые молятся разным богам и даже не питают друг к другу любви, которая помогла бы смягчить противоречия? Мысленный взор ее скользил по привычным лицам и не находил, на ком остановиться. Святша – воин, эту свою суть он явил во всей красе. Два-три поколения назад от вождя руси и не требовалось иного, кроме как всякий год вести за новой славой и добычей. Но времена изменились. Русь – уже не стая волков, у которой нет дома, а есть лишь место очередного ночлега. И ее домом кто-то должен править.
И пока подходящий домоправитель не объявится, она, Эльга, никуда отсюда уйти не может. Пока даст Бог веку… Не выпускать весло, упорно выправляя лодку по волне, и когда-нибудь буря стихнет, все наладится. И пусть близ белых камней реки Великой гуляет другая дева – ей, княгине русской, той прежней девой больше не стать.
Но на кого ей здесь опереться? Именно сейчас, когда она так нуждалась в поддержке и помощи, самые близкие люди собирались ее покинуть.
– А как же я? – прошептала Эльга. – Вы хотите, чтобы я осталась… одна?
– Почему одна? – Мистина двинул плечом, глядя в пол. – Здесь Аська. Дивуша, Живляна. Если хочешь, я тебе Алдана с Предславой оставлю, Свеньке другого кормильца подберу. Замужние наши девки останутся, мы только парней и Витянку заберем. Да и…
Он умолк, не решаясь указать Эльге на то счастливое обстоятельство, что ее сын-князь вернулся невредимым. Очень бодрым и решительным, настроенным любыми средствами возвратить себе удачу.
– Что ты несешь? – мягко, но более оживленно, чем раньше, произнесла Эльга, и Мистина поднял глаза. – Девки… Предслава… Что я с ними делать стану? Кто мне опорой будет?
Мистина посмотрел мимо нее в бывший чуров угол, где прятались от чужих глаз за занавесочкой две греческие иконы. Не оборачиваясь, Эльга вспомнила, что они там.
– Улеб – мой сын, – напомнил Мистина. – Раз уж так вышло, я должен быть опорой ему.
Он говорил без ожесточения, но решительно: видимо, рассудил, что в этом его родительский долг. Эльга и согласилась бы – если бы речь шла о ком-то другом. Но не о Мистине, который все эти годы – даже при жизни Ингвара, когда тот уходил в поход, – был ее правой рукой, защитой, опорой, советчиком, основой семейного круга… Воплощением ее дома – нового дома, за которым не стоят, как у людей, вереницы дедов и чуров, уходящей в бесконечную темную глубь. Без него на месте прежней семьи останутся одни разрозненные обломки. И она не снесет того груза, который Бог и судьба возложили на ее женские плечи.
Эльга смотрела в его замкнутое лицо и не знала, что сказать. Она видела: ему так же горько, как ей, но он считает своим долгом быть с теми, кого обязан защитить.
Эльга встала и подошла к нему. Он задрал голову, потом тоже встал.
И тут княгиня киевская повела себя странно. Кинувшись к ларю, на котором обычно сидела, она смела на пол подушки, с усилием подняла широкую крышку и стала отчаянно рыться среди пожитков, засунувшись в ларь по пояс. Мистина в изумлении наблюдал за ней – пока она не разогнулась, держа в руках длинный боевой нож в потемневших ножнах рыжей некрашеной кожи. Потом рывком освободила клинок, сжав в ладони костяную рукоять, и снова подошла к нему.
Свободной рукой Эльга деловито расстегнула на Мистине кафтан, подняла скрам обеими руками и приставила кончик лезвия к его груди. Даже развернула так же, как он в прошлый раз – чтобы вошел меж ребер. Держать было неудобно, потому что его сердце находилось примерно на уровне ее носа.
– Ну? – требовательно произнесла Эльга, глядя ему в глаза.
Взгляд ее горел смертельным отчаянием на грани безумия.
У него оставалось два выхода: или податься вперед и впустить собственный клинок в свое сердце, или…
Мистина поднял руку, мягко сжал ее кисти, сомкнутые на рукояти его старого оружия, и отвел острие от своей груди.
– Ты права. Я не буду расколот, как золото, пытаясь забрать назад однажды отданное.
Эльга сделала шаг назад и опустила скрам. Мистина забрал его и вернул в ножны.
– Но тогда придется отправить с ними Алдана. И Предславу. Там должен быть хоть один разумный зрелый мужчина.
– Пусть едут. – Эльга кивнула. Он была привязана к Предславе, но не готова променять на нее Мистину. – Ой! – вдруг сообразила она. – А дети?
– Какие?
– Старшие дети Предславы. Которые… Володиславичи. Этих отпустить…
– И что с того? – Мистина пришел в себя и начал думать о деле. – Кому они нужны у кривичей?
– А мало ли кому? Малка скоро невеста. Объявится потом какой… жених. Я только с одной такой разделалась, а тут вторая растет… И Добрыня… Они же законные дети… Ах, Кириа тон Уранон! – Эльга всплеснула руками. – И что я буду Предславе говорить? Что она и ее муж едут в Плесков, а двое ее старших детей остаются? Патор имон! Да что же на нас так судьба ополчилась!
Эльга едва владела собой. Хотелось заплакать, закричать, обвинить кого-то, кто заставляет ее, женщину и мать, так жестоко поступать с другими женщинами и матерями, пусть даже она истинно их любит. Но кого обвинить? Она знала так много тех, кто все создал и всем правит, и порой чувствовала себя мечом, который разнородные силы рвут друг у друга из рук, задевая и раня всех вокруг.
Мистина глубоко вздохнул, подошел и крепко сжал ее плечи. Из разноликих племен они собирали единую Русскую державу, сшивая ее не нитями, а человеческими судьбами. И бывало, невольно служили норнам ножницами, которыми те отрезают детей от родителей, человека – от родного края, рода и доли. А выход где?
Кто из вас скажет, владыки небесные?
– Послушай! – с усилием отчаяния выговорила Эльга. – Я… может, я и не должна так поступать с тобой… Я иногда думала, что никогда не смогу расплатиться за тот удар… ну, за Маломира. Я ничего не могла для тебя сделать такого, чтобы вернуть этот долг. И если… ты хочешь ехать в Плесков, пое…
Мистина поднял руку и закрыл ей рот. Не договорив, она поверх его ладони подняла глаза и встретила его взгляд: горький и в то же время светлый.
– Молчи! – только и сказал он.
Эпилог
Побывав на ипподроме, мы все так устали от впечатлений, что даже не хотели есть. У меня все стояли перед глазами каменные столпы и зелено-бурые бронзовые изваяния – людей, коней, львов. Я уже немало такого здесь нагляделась, но на царском Игрище это было настолько огромным, что вновь захватило всю голову и не отпускало мысли. Эти остроконечные столпы древнего Египетского царства, вытесанные из розоватого гранита и покрытые загадочными значками, коих даже мудрые греки не могут прочитать… От них веяло чем-то настолько чуждым, что скажи кто-нибудь: это выросло прямо из Кощного Подземья, – я сразу бы поверила. И эти три огромные змеи из зеленой бронзы, чьи тела свиты в жгут, а грозно разинутые пасти нацелены в три стороны… Мы уже так давно жили здесь, так хотели вернуться домой, ко всему родному и привычному, что эти вещи, которым наши головы никак не могли найти места в ряду знакомых понятий, угнетали особенно сильно. Казалось, на Руси прошло сто лет, пока мы сидим в этом зачарованном царстве; хотелось уже поискать ту дыру в земле, через которую можно попасть обратно в свой мир. И пусть даже этот переход совершается через смерть…
Впрочем, смерть уже осталась позади. Я, Ута, многие другие из нашего посольства – мы ведь прошли через крестильную купель, чья освещенная вода открывает дорогу в небо.
– Знаете, что я подумала? – сказала я, прервав вялый разговор за столом. – Ута, помнишь бабкину сказку о трех царствах? В ней же про все это говорилось, что мы здесь видели: колодцы, ворота, цепи, дворцы, змеи, львы – все из меди, серебра и золота. Только в сказке надо было попасть на тот свет. А на самом деле все это есть здесь. Откуда баба Годоня об этом знала? Она же не бывала в греках. И никто из дедов не бывал, иначе нам бы рассказали.
– Все эти золотые палаты, крины и медные цари на столпах стоят уже не первую сотню лет, – напомнил Мистина. – Со славянами и русами греки тоже знакомы очень давно. Говорят, лет триста назад какие-то славяне Царьград воевали, да взять не могли. Пока царь Устиян с его конем еще живой был.
– Думаешь, это могли быть наши деды?
– Наши – едва ли. Это деды тех бесов, с которыми нынче Лис дружит – всяких милингов и езеритов. Но сказки про золотые дворцы и бронзовых змей за триста лет могли и до наших лесов дойти. Я ведь тоже еще дома, в Волховце, что-то такое слышал… А за сто лет бабки забыли, где все это обретается, вот и стали рассказывать, будто на небе, за ледяными горами.
– Значит, никаких трех царств нет? О каких баба Годоня рассказывала?
– Как же нет, когда есть? – Мистина развел руки, показывая мне отделанные серо-голубым и желтым мармаросом стены триклиния и мозаичные картины на потолке. – Вот Золотое царство, мы – в нем! Хочешь яблочка молодильного?
И кинул мне через стол большую спелую сику.
Я поймала плод, но в этом ответе мне чего-то не хватало. Если то Золотое царство, о котором рассказывала баба Годоня, находится здесь, в Василии Ромеон, то что же на небе? Чудный вопрос. Разве мало мне рассказывали об этом – еще дома, в Киеве, отец Ригор, здесь – патриарх Полиевкт. Любой здешний раб знает ответ: на небе – Царствие Небесное, и путь туда открывает Христова вера. Если славяне в своих лесах слагают сказки о небе, перенося туда красоты самой богатой страны, какая им известна, то греки, обладатели земного Золотого царства, в небе ищут нечто еще более прекрасное.
И какое же сокровище можно там найти? Может быть, узнать наконец всю правду о том, как примирить в человеке земное и небесное. Ведь не тот мудр, для кого все просто. Мудр тот, кто понимает: все совсем не просто. Есть Закон Божий, заповеданный раз и навсегда, и есть поток живой жизни, столь неоднозначной во всех своих проявлениях. Но за гранью белого света все перевернуто: чем дальше заходишь по пути к Золотому царству истины, тем менее мудрым себя чувствуешь. Один только Бог точно ведает, где добро, а где зло. Человек лишь идет ощупью между ними, постоянно стремясь найти верный способ различать их и так же постоянно ошибаясь. Но если ты однажды поймешь, что даже на простые вопросы не всегда есть простые ответы, – значит, вершина ледяной горы уже недалеко.
И чем сложнее ты сам, тем более сложные ответы дает тебе Бог.
Санкт-Петербург, август-октябрь 2016.Послесловие
О визите княгини Ольги в Царьград мы, к сожалению, знаем гораздо меньше, чем заслуживает это эпохальное событие. Рассмотрение всех аспектов его заняло бы слишком много места, но вот один пример. Просто поразительно, какое количество вопросов и соображений вызывает короткая ее фраза, сохраненная летописью. Когда год спустя после ее возвращения домой в Киев приехало посольство от греков и пожелало получить дары для императора, Ольга ответила для передачи Константину: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе».
Одна эта фраза содержит не меньше разнообразных смыслов, чем в ней слов. Обычно в ней видят указание на то, что посольство, которое долго не принимали, в прямом смысле стояло в Суду, то есть в заливе Золотой Рог, на котором расположен Константинополь. Например, в повести советской писательницы Веры Пановой «Сказание об Ольге»:
«И Ольге сказали ждать, и ждала, будто гвоздем прибитая к кораблю…
Раскалялось лето. На глазах менялись в цвете сады и виноградники.
Белые, береженые лица и руки боярынь потемнели от загара. Не помогали ни притиранья, ни завесы.
На тех же местах те же белели портики и горели купола. Все крыши и извивы улиц уже были известны наперечет.
Изнывая, от восхода до заката высматривали: не плывет ли гонец с известием? Но не было гонцов…
…А лето уж проходило. Уже ели виноград и пили молодое вино. Глаза не могли больше глядеть на близкий и далекий, самовластный, чванный, вожделенный, ненавистный город. А гонца не было…»
Даже А. Ю. Карпов, посвятивший Ольге подробное исследование («Княгиня Ольга», ЖЗЛ) пишет: «Из этих слов, между прочим, явствует, что Ольга и ее спутники в течение долгого времени оставались при своих ладьях».
Но это теоретически хорошо делать выводы. А попробуйте представить, как это могло происходить в реальности. Могла ли княгиня с посольством ждать в прямом смысле стоя в Суду, на кораблях? Едва ли. Тогдашние «моноксилы», пусть даже с нашивными бортами – это не круизные яхты, на них нет ни кают, ни камбуза, ни гальюна. Это просто лодки, только большие. Ни поспать, ни приготовить поесть, ни удовлетворить еще какие неотложные потребности на них нельзя – особенно для женщины. Все это делалось на берегу – а в данном случае «берег» представлял собой каменные стены, поднимающиеся от самой воды. Невозможно представить, чтобы женщина, да к тому же княгиня, неделями спала на досках днища между скамьями, немытая, под палящим южным солнцем, питаясь чем придется и справляя нужду с борта на глазах у всей гавани. И заодно ее огромная свита-дружина: одна официальная делегация состояла из сотни человек, а еще ведь были отроки-гребцы самих ладей. Такое «стояние» если не парализовало бы работу всей гавани, то, по крайней мере, очень бы ей мешало. Поэтому под стоянием в Суду, вероятно, надо понимать долгое ожидание. Что можно сказать об этом?
Г.Г. Литаврин, специалист по средневековой истории южных славян, Византии и русско-византийских связей, академик РАН, выдвинул гипотезу, согласно которой первая из двух ежегодных экспедиций отправлялась из Киева в Константинополь в начале-середине мая и прибывала на место в начале июня. Таким образом, Ольга должна была прибыть в Константинополь в начале июня. Однако император принял ее лишь 9 сентября – три месяца спустя. Сейчас мы попытаемся ответить на вопрос: почему ей пришлось так долго ждать? В этом видят, с одной стороны, пренебрежение императора к гостье, а с другой – причину ее недовольства визитом. Так ли это?
Знаменитый исследователь Ф.И. Успенский в своем труде «История Византийской империи» отмечает факт: посещение Ольги обозначено на греческом языке выражением, имеющим смысл «нашествие с враждебной целью» или «военный поход». Если корабли Ольги в заливе были приняты за очередное нашествие русов (зрелище почти привычное), то неудивительно, что им пришлось постоять там «до выяснения». Непонятно только, почему императорский флот, который базировался в Константинополе (гавань военных кораблей – прямо у входа в Суд), в таком случае не вышел навстречу. Могла бы состояться эпическая битва…
Но подобное заблуждение греков выглядело бы очень странно, поскольку такие вещи, как международные посольства, не делались врасплох. У византийцев на этот счет был разработан порядок: церемония приема иностранного посольства начиналась сразу, как только оно достигало границ Византии. Уже там его встречали представители императора с подарками, и такие же встречи повторялись во всех городах по пути до столицы.
Если этот порядок соблюдался и в случае с Ольгой, стало быть, царская делегация должна была ее встретить в первых греческих владениях: как минимум на границах с Болгарией, а то и вовсе в устье Днепра. И если все шло установленным путем, то задерживать ее для долгого стояния в Золотом Роге не было причин. Может быть, она не предупредила? Но в дипломатических отношениях с греками русы состояли уже полвека, а то и больше. Каждый год ездили купцы: с золотыми и серебряными печатями, с грамотами и дарами. И если бы Ольга пошла на такое вопиющее нарушение протокола, как визит без предупреждения, то она была бы не «мудрейшая из всех человек», как ее обозначает летопись, а совсем наоборот… Тогда и обижаться было бы не на что: сами виноваты.
Так что, вероятно, о ее визите знали заранее и все шло по протоколу. Причина ожидания могла быть самая банальная: «записаться на прием» раньше не вышло, ибо император был человек весьма занятой. У него было много обязанностей по управлению государством, присутствию на церковных церемониях, приемах послов и так далее, а к тому же он был любителем ученых занятий и писал научные труды. Выглядит правдоподобным, что «свободное окно» для приема вновь прибывших могло найтись лишь три месяца спустя.
Но есть еще одно соображение. Согласно церковной легенде, Ольга приехала в Царьград креститься, что и осуществила. Этот факт иногда пытаются оспаривать, ссылаясь на то, что император Константин Багрянородный, при котором состоялся ее визит, оставил подробное описание этих приемов, но о крещении ее не упомянул. Здесь можно возразить следующее: Константин писал обрядник, то есть подробную инструкцию для своего сына-соправителя Романа, как нужно проводить те или иные церемонии, церковные и светские. Возможно, описание приема Ольги попало туда из-за своей уникальности: я не встречала упоминания о том, чтобы в Константинополь приезжала на переговоры лично глава какого-либо иного государства (кроме пытавшегося замириться Симеона болгарского), к тому же женщина. В этом описании нет ни слова о причинах приезда «Эльги Росены» и содержании беседы, который император вел с княгиней в частных покоях своей жены-императрицы. Сам жанр данного текста не давал оснований упоминать о крещении.
Видный исследователь А.В. Назаренко в своей большой статье «Мудрейши всех человек: крещение княгини Ольги» приводит догадку, что если княгиня приняла крещение еще до своего приема во дворце, то это могло произойти 8 сентября, в праздник Рождества Богоматери. И эта догадка позволяет нам предложить еще одно объяснение задержки. Как известно, крещению взрослых людей должно предшествовать оглашение – ознакомление с христианскими догматами и правилами. Есть современные рекомендации православной церкви о том, что оглашение должно состоять из двенадцати бесед. В «Житии великой княгини Ольги» (Степенная книга царского родословия) указано, что патриарх (там это отнесено ко времени после крещения) беседовал с ней. Перечисление предметов – о Ветхом и Новом Завете, о втором пришествии, о посте, молитве, добродетельной жизни и так далее – образует блок вопросов, которого вполне хватит на двенадцать встреч. Разумеется, это нельзя считать подлинным свидетельством общения Ольги с патриархом, но эти темы бесед с новообращенными за тысячу лет не изменились. Допустим, патриарх, тоже человек занятой, мог уделить княгине время один раз в неделю. Получается двенадцать недель. То есть примерно два с половиной месяца. Если, прибыв в Константинополь в начале-середине июня, Ольга сразу заявила патриарху о своих намерениях, то эти беседы как раз и заняли бы двенадцать недель до Рождества Богородицы – 8 сентября. А 9 сентября – ее прием у императора, и эта дата уже не гадательная, а совершенно точная, историческая.
Так может, император мог бы принять Ольгу еще до крещения? Допустим, мог бы, но это было не в ее интересах. Крестившись и получив в качестве крестного отца самого императора (как это было положено для особы ее ранга), Ольга стала считаться членом идеального «семейства государей» во главе с византийским василевсом. Что и подчеркивалось тем, что она здоровалась с императором всего лишь кивком головы, была принята в частных покоях императрицы, на встречах с ней присутствовали дети обоих императоров и Ольга сидела за одним столом с членами императорской семьи. Для язычницы такие почетные отличия были бы невозможны, поэтому в ее интересах было дождаться крещения. Смешно выглядят заявления, что-де Ольгу обидело пренебрежительное отношение к ней двора. В день ее приема 9 сентября состоялось ШЕСТЬ мероприятий с участием членов императорской семьи – всех до последнего младенца, столько их было на тот момент, – посвященных только Ольге и ее людям! Трижды в один день она тогда виделась с Константином и дважды имела возможность с ним переговорить.
Таким образом, задержка приема может быть объяснена не только необидным, но и почетным для Ольги образом. Константинопольский двор удостоил ее наивысшей чести, какой мог. Больше было бы лишь и впрямь пригласить ее «царствовать с нами».
Теперь о названии того места, где посольству пришлось «стоять». Залив Золотой Рог (или просто Залив-Рог) по-гречески называется Кератиос Колпос, Хрисокерас или просто Керас. Почему же в древнерусских текстах он неоднократно называется Судом? Источник этого названия видят в скандинавском слове «sund» – «залив». Что неудивительно, если считать, что значительную часть русской дружины Ольгиных времен составляли скандинавы.
И с этим языковым пластом связана еще одна загадка, для наилучшего рассмотрения которой надо сделать несколько шагов в сторону.
Знаменитый российский историк XVIII века, В.Н. Татищев, в своем труде «История Российская» (том 2) передает этот эпизод так:
6464 (956). Греки просят войск. Ольга отказала.
Царь Константин прислал послов к Ольге и сыну ее Святославу просить, по обещанию ее, войска, поскольку тогда он имел нужду, и чтоб ему немедля прислать. Ольга же отвечала: «Сколько я у тебя стояла в Скутарах, столько, царь, придя, пусть постоит здесь в Почайне, и я ему вдвойне воздам».
К этому отрывку Татищев дает следующее примечание:
«Скутары есть предместье, или слобода, близ Константинополя при озере Скутары».
Как мы видим, здесь имеется расхождение с информацией Повести Временных Лет, где Ольга произносит фразу: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Суду, то тогда дам тебе».
Итак, по ПВЛ, Ольга стояла «в Суду», а по Татищеву – «в Скутарах». Откуда Татищев раздобыл эти Скутары? Как известно, сведения известных летописей он дополнил информацией из так называемой Иоакимовской летописи. Откуда она взялась? В 1748 году Мелхиседек Борщов, архимандрит Бизюкова монастыря, который находился в Смоленской губернии, прислал Татищеву три старые тетради, вынутые из какой-то книги. Автором их он назвал монаха Вениамина, которого, как показали дальнейшие разыскания, в природе не было, и сочинителем тетрадей называли самого Мелхиседека. Однако Татищев счел их создателем новгородского епископа Иоакима и датировал началом XI века.
Впоследствии они, как водится, пропали, и перепроверить ничего нельзя. Для своей «Истории Российской» Татищев выписал из тех тетрадей довольно много разных сведений о первых князьях, которые не совпадают с данными ПВЛ.
В подлинности Иоакимовской летописи есть большие сомнения, но так или иначе требуется объяснить: почему ее автор, будь то Татищев, монах Вениамин, архимандрит Мелхиседек или епископ Иоаким, поместили Ольгу «в Скутары», а не «в Суду»?
Во-первых, где это все? Суд, то есть залив Золотой Рог, находится на европейской стороне пролива Босфор, разделяющего Европу и Азию, и непосредственно граничит с историческим центром города и Большим царским дворцом.
«Скутары» Татищев определяет как «предместье, или слобода, близ Константинополя». Действительно, Скутары – старое греческое название района Стамбула, который сейчас называется Уксюдар. Он находится прямо напротив Суда, через Босфор, то есть на азиатской стороне пролива. Как видим, это совершенно разные объекты, и быть одновременно здесь и там никак невозможно.
А что там было в X веке? В раннем Средневековье (и задолго до него) на месте Уксюдара находился древнегреческий город Халкедон. Он имеет свою очень интересную историю, но мы на ней останавливаться не будем. Важно то, что во времена Ольги это место называлось Халкедон. Свидетельство тому, например, житие преподобного Луки Столпника, носящего прозвание Халкедонский. Он совершал свои подвиги во второй половине X века, включая то время, когда Константинополь посещало русское посольство с Ольгой во главе. То есть если бы ей действительно пришлось ждать на другом берегу Босфора, она сказала бы: «Если ты так же постоишь у меня в Почайне, как я в Халкедоне». Название «Скутары» было известно в XVIII веке, но не в X.
Если эта ее фраза выдумана поздними «летописцами», то были ли у них причины помещать ее в Скутары-Халкедон вместо Золотого Рога? Может, во времена Татищева именно там полагалось находиться приезжим из России? Первое диппредставительство России в Турции возникло в 1701 году, а современный участок для него был приобретен в середине XVIII века – именно тогда, когда Татищев получил «тетради Мелхиседека». Мне не удалось установить, где помещались русские дипломаты до того (вероятно, там, где выделят место под постой турецкие власти), но с середины XVIII века представительство находится на европейском берегу Босфора. То есть гораздо ближе к древнерусскому «подворью Святого Мамы» (буквально в нескольких километрах), чем к Скутарам – через пролив.
То есть вроде никаких причин выдумывать фразу, согласно которой Ольга ждала «в Скутарах», у историков XVIII века и ранее нет. Но и объяснение этого слова Татищевым тоже удовлетворительным признать не выходит. Надо искать другие пути. И этот другой путь есть. Идея не моя: я ее нашла у А. Александрова, («Во времена княгини Ольги», книга «Святая княгиня Ольга», изд. Сибирская Благозвонница, Москва, 2012). Он пишет следующее:
Непонятное «в скутарех» расшифровывается просто: в скандинавских языках, в частности, в шведском, это множественное число от «skutur» – «одномачтовое судно»… «В скутарех» – это явный скандинавизм в прямой речи Ольги, ставшей, вероятно, пословицей и вошедшей в летопись… Таким образом, часть фразы в ответе Ольги греческим послам может быть реконструирована как «…I skutor pa sundet» – «…в ладьях в проливе». (Конец цитаты.)
Я проверила эту возможность по пособию М.И. Стеблина-Каменского «Древнеисландский язык»: там есть в словаре «skuta» – «лодка», множественное число – «skutur». Но вполне понятно, что Татищев, не будучи «норманистом» и не знавший древнескандинавского языка, подобрал понятное для него объяснение непонятного слова. Но вот похоже, что слобода Скутары, известная во времена самого Татищева, во времена Ольги называлась город Халкедон. Не могу сказать, когда Халкедон превратился в Скутары, но в самых подробных трудах о византийском прошлом Стамбула есть Халкедон и нет Скутаров. Лиутпранд Кремонский, дипломат и историк, именно во времена Ольги два раза посетивший Константинополь, упоминает Халкедон.
К чему же все это ведет? Если загадочными тетрадями Мелхиседека зафиксирован отрывок подлинной речи Ольги, то это можно считать подтверждением того, что язык русской дружины того времени изобиловал скандинавскими заимствованиями. Епископ Иоаким, архимандрит Мелхиседек и историк Татищев, сами того не зная, донесли до нас доказательство тому.
Второй любопытный момент – якобы сватовство императора к Ольге. Почему это было невозможно, подробно изложено в тексте романа: оба императора на тот момент были женаты, причем Роман годился Ольге в сыновья, а Константин сам написал целый трактат на тему, как отказывать варварам, претендующим на брачный союз с императорским домом. И никак не могло быть, чтобы царь-ученый Константин не знал простейших правил христианской жизни (запрет на брак между крестным отцом и дочерью). Вполне очевидно, что сюжет возник на русской почве и был рассчитан на внутреннего потребителя. И он, при всей его фантастичности, практически стал основой летописного рассказа об этой поездке. То есть летописный рассказ состоит из двух частей: крещение Ольги и хитроумный отказ на сватовство императора. Будто иной цели этот визит и не имел. Откуда взялся рассказ о сватовстве и почему прижился? В точности это едва ли можно будет установить, но мне кажется убедительным, что легенда о сватовстве была создана в окружении Ольги с целью затушевать и объяснить неуспех посольства. Выставить свою княгиню умницей, а ее противника – дураком и неудачником.
Ибо резкий ответ Ольги греческому посольству выражает ее решительное недовольство сотрудничеством. А ведь он обращен не к кому-нибудь, а к ее крестному отцу, который для крестной дочери являлся земным Христом, и невежливое обращение с ним – практически святотатство. Чтобы так ответить, нужно было иметь очень весомые причины для недовольства. Прямая попытка наладить желательные для Руси отношения с греками завершилась провалом, к чему вели, надо думать, вполне объективные причины.
Но Ольга не заслужила бы своего места в истории, если бы на этом и опустила руки и не стала искать другие, более эффективные пути к цели. И каким образом она их нашла, мы увидим в дальнейшем.
Пояснительный словарь
Август – один из титулов византийского императора.
Агиософиты – певчие Софийского собора.
Архонт – так по-гречески обозначался вождь или главарь вообще, и так называли правителей варварских стран, в том числе Руси.
Асикрит – служащий «секрета», то есть министерства, чиновник.
Асгард – небесный город божественного рода асов в скандинавской мифологии.
Атриклиний – должность рассаживающего гостей за императорским столом.
Баптистерий – пристройка к церкви, где находилась купель для крещения взрослых людей.
Бдын – столб на вершине могильного кургана.
Бердо – деталь ткацкого станка.
Берковец – мера веса, 164 кг.
Бортевая сосна – большая сосна, внутри которой дупло диких пчел (борть).
Боспор Киммерийский – Керченский пролив.
Боспор Фракийский – пролив Босфор.
Боспорий – порт в заливе Золотой Рог.
Брумалии – зимние праздники перед Рождеством, длились целый месяц и отчасти напоминали наши святки.
Брашно – еда, угощение.
Василевс – один из основных титулов византийского императора.
Василики – представители императора.
Василикии – хвалебные гимны в честь императора.
Вервь – древнеславянская община.
Вересень – сентябрь.
Вестиариты – императорская стража, охранявшая дворец и сопровождавшая иноземные делегации. Первоначально охраняла вестиарий – сокровищницу.
Волосник – головной убор замужних женщин, скрывающий волосы.
Вуй – дядя по матери.
Голбец – маленький погреб за печью для хранения припасов.
Гриди – военные слуги князя, составлявшие его дружину. Гридьба – собирательное понятие.
Далматика – верхняя одежда вроде длинного платья с широкими рукавами.
Доместик схол Востока или Запада – командующий войсками этих областей.
Друнгарий флота – адмирал.
Завеска – предмет славянского традиционного костюма замужних женщин, нечто вроде большого передника (иногда с рукавами).
Зоста патрикия – высший чин придворной дамы, главная над всем женским штатом и хозяйством императрицы, заведующая спальней.
Игемон – титул старшего владыки.
Йотунхейм – мир ледяных великанов скандинавской мифологии.
Йотун – ледяной великан скандинавской мифологии.
Ирий – райский сад славянской мифологии.
Китон – спальня, помещение для отдыха.
Крина – фонтан.
Катафракты – тяжеловооруженные всадники.
Катехумений – помещение в церкви для женщин и для оглашенных, еще не принявших крещение.
Карша – древнее название Керчи.
Логофет дрома – должность вроде министра иностранных дел.
Лорос (лор) – часть парадного облачения императоров, что-то похожее на большой шарф, сплошь расшитый золотом и самоцветами.
Магистр – один из высших титулов, не связанный с определенными обязанностями.
Мамант Кесарийский – мученик, прославился в Византийской империи при императоре Аврелиане (конец III века). Вел жизнь пастуха, питался молоком диких коз.
Маманта (Мама) – предместье Константинополя, на берегу Бофсора, севернее города. Там находился с VI века монастырь Святого Маманта, рядом императорский загородный дворец. Неоднократно бывал разрушен и отстраивался. Император Михаил Третий (840–867 гг.) жил там почти постоянно и там же был убит в результате заговора Василия Македонянина (деда Константина Багрянородного). На подворье Святого Мамы останавливались русские купцы, как считается, в казармах варяжского корпуса, который на лето отбывал воевать.
Мафорий – длинное женское покрывало, считалось верхней одеждой.
Медвежина – медвежья шкура.
Мурса – вода с медом или соком, иногда с добавлением вина.
Муспельсхейм – мир огня, страна огненных великанов в скандинавской мифологии.
Мим – актер пантомимы.
Милиарисий – серебряная монета.
Неорий – порт на Золотом Роге рядом с Боспорием.
Номисма – золотая монета (12 милиарисиев).
Норны – богини судьбы в скандинавской мифологии.
Оглашение – подготовка к крещению, изучение догматов веры.
Остиарий – низший дворцовый служитель, открывавший двери.
Оптион – помощник для поручений, адъютант.
Оратай – земледелец, пахарь.
Оружники – см. «отроки оружные».
Отрок – 1) слуга знатного человека, в том числе вооруженный; 2) подросток. Вообще выражало значение зависимости.
Отроки оружные – либо же «оружники» – военные слуги непосредственного окружения князя либо другого знатного лица, телохранители.
Павечерницы – посиделки.
Паволока – дорогие шелковые ткани.
Палатион – дворец. От этого слова происходят русское «палата» и даже «полати».
Папий – дворцовый чиновник, по кругу обязанностей вроде коменданта, хранитель ключей от дворца.
Паракимомен – должность для евнухов, спальничий, весьма важное лицо.
Патрикий – высокий чин в придворной иерархии.
Пенула – плащ вроде накидки.
Порфрирородные – эпитет членов императорской семьи, рожденных в особом покое – Порфире, то есть в то время, когда их отец был правящим императором.
Постельник – матрас, тюфяк.
Препозит – распорядитель дворцового церемониала.
Поприще – древнеславянская мера длины, около полутора км.
Повой – полотенчатый головной убор.
Проастий – предместье.
Пропонтида – Мраморное море (омывает Константинополь с другой стороны от Босфора).
Протоасикрит – начальник императорской канцелярии.
Протовестиарий – начальник императорской гардеробной, должность для евнухов.
«Пунические яблоки» – гранат (дерево).
Романия – Византия. Сами византийцы называли себя римлянами – по-гречески «ромеями», а свою державу – «Римской (Ромейской) империей» (на среднегреческом (византийском) языке – Василия Ромеон, или просто Романией.
Русь – военно-торговая корпорация смешанного этнического состава, первоначально по преимуществу скандинавского.
Свита – распашная верхняя одежда из шерсти.
Скутар – от др. – сканд. «лодка».
Суд – древнерусское название залива Золотой Рог (по-гречески Хрисокерас или просто Керас).
Сурож – совр. Судак, старинный город на юго-восточном побережье Крыма.
Стола – богатая длинная одежда с рукавами, парадное платье.
Сики – инжир.
Самит – шелковая ткань сложного саржевого переплетения, что давало возможность делать узорное полотно в три-пять цветов. Могла быть гладкой или иметь в составе металлизированную нить (золотую или серебряную).
Северные Страны – общее название всех скандинавских стран.
Северный язык – иначе древнесеверный, древнеисландский, иногда еще назывался датским, хотя на нем говорили по всей Скандинавии. В те времена отличий в языке шведов, норвежцев и датчан еще практически не было, и они понимали друг друга без труда.
Стратилат – военачальник высокого ранга.
Стратонес – казарма.
Скрам (скрамасакс) – длинный боевой нож.
Схолы – гвардейские подразделения.
Синклит — императорский совет.
Травень – май.
Таврия – Крым.
«Торсхаммер» – «молоточек Тора», украшение – подвеска в виде молоточка, широко распространенное у скандинавов во всех местах их проживания.
Триклиний – столовая, приемный зал.
Тудун – хазарское должностное лицо, подчиненный кагана, взимавший дань с окрестной территории.
Убрус – головной убор замужних женщин, длинный кусок полотна, обернутый вокруг головы и скрывающий волосы.
Укладка – сундук.
Умбон – железная выпуклая бляха в середине щита. Нужна была для удобства держать щит и для защиты кисти.
Фема – административно-территориальная единица Византии.
Фоллис – мелкая медная монета.
Херсон (фема) – византийские владения в юго-западной и восточной части Крыма.
Хирдман (hirðmenn) – именно это слово переводчики саг и переводят как «дружинники» – оно обозначало основную часть королевской дружины. Снорри Стурлусон называет их «домашней стражей» конунга. Здесь употребляется как название военных слуг вождя со скандинавскими корнями, не забывшего родной язык.
Хель – страна мертвых в скандинавской мифологии.
Хёвдинг – «главарь».
Хламида – широкий плащ.
Хеландия – парусное гребное судно византийского военного флота.
Черевьи – башмаки, сшитые из кожи, обычно с брюха (черева), отсюда и название.
Этериарх – командир этерии.
Этерия – наемная иноземная гвардия императора.
Ярила Сильный – один из трех (второй) праздников в честь Ярилы, бога весны и плодородия, начало июня.
Примечания
1
Господи Боже! (греч.)
(обратно)2
Благовещенье Пресвятой Богородицы, 25 марта.
(обратно)3
Владычица Небесная (греч.)
(обратно)4
Господи Иисусе Христе, боже мой! (греч.)
(обратно)5
Господь Вседержитель (греч.).
(обратно)6
Часть греческой молитвы Богородице: «Благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоего».
(обратно)7
Мф. 4:10, Лук. 4:8.
(обратно)8
Исх. 20:3.
(обратно)9
Корсуньская страна – древнерусское название фемы Херсонес, крымских владений Византии.
(обратно)10
Боспор Фракийский – совр. Босфор, пролив, из южной части Черного моря выводящий в Мраморное море. В южной части Босфора находится Константинополь (совр. Стамбул).
(обратно)11
Добро пожаловать (греч.).
(обратно)12
Фонтан (греч.).
(обратно)13
Инжир, гранат, лимон, груша, персик, абрикос (греч.).
(обратно)14
Иначе Спас Нерукотворный. По преданию, отпечаток лика Христа остался на убрусе, которым тот отерся. Таким образом появилась первая в истории икона.
(обратно)15
Турками византийские источники называют венгров. Указанный факт имел место.
(обратно)16
Керченский пролив.
(обратно)17
Пропонтида – Мраморное море. Омывает мыс, на котором стоит Константинополь, с другой стороны от залива Золотой Рог.
(обратно)18
Входное помещение, притвор.
(обратно)19
Скифами греки называли всех живущих севернее, в том числе славян.
(обратно)20
Один из монастырей в Константинополе.
(обратно)21
Третья Книга Царств, глава 10. Константин цитирует библейский текст дословно, что при его образованности неудивительно.
(обратно)22
Царственность наша (цесарство наше) – используемое в договорах выражение, обозначение императорской персоны.
(обратно)23
Мф. 25:34.
(обратно)24
Пачинакиты – печенеги в греческих источниках.
(обратно)25
Плач Иеремии, глава 4, 4.
(обратно)26
Ис.40:8
(обратно)27
Втор. 8:3.
(обратно)28
Славинии – так Константин Багрянородный в своих трудах называл области славян, подчиненные Киеву.
(обратно)29
Притчи, глава 10.
(обратно)30
Богородице Дево! (греч.)
(обратно)31
Средиземное море (греч.)
(обратно)32
Иоанн Златоуст.
(обратно)33
Апостол Павел, 1 Тим. 2, 9.
(обратно)34
Схолео – греческое слово, от которого произошло и русское «школа».
(обратно)35
Мф. 21:43.
(обратно)36
Псалом Давида 33.
(обратно)37
Друзья (искаженное греч.)
(обратно)38
Об этом рассказано в романе «Ольга, княгиня русской дружины».
(обратно)39
Папас – священник (греч.)
(обратно)40
Мк. 16:16
(обратно)41
Мф. 6:25.
(обратно)42
Послание к Галатам, глава 3.
(обратно)43
Евангелие от Иоанна (10:11).
(обратно)44
Царю Небесный, утешителю! И далее – из молитвы Святому Духу (греч.).
(обратно)45
Хтаподи – осьминог (греч.).
(обратно)46
Лавровый лист.
(обратно)47
Отче наш (греч.)
(обратно)48
«Отче наш, иже еси на небесех» (греч.)
(обратно)49
Мф. 28:19.
(обратно)50
Кол. 3:12.
(обратно)51
То есть девочку или мальчика.
(обратно)52
Об этом читайте в романах «Ольга, княгиня зимних волков» и «Две жены для Святослава».
(обратно)53
Слава Богу! (греч.)
(обратно)54
Луки 8:50.
(обратно)55
Изурочить – сглазить, навести порчу.
(обратно)56
События описаны в романе «Ольга, лесная княгиня».
(обратно)57
Лк. 9:62.
(обратно)58
Самакуш – одно из множества древних названий Азовского моря. Карша – Керчь, Бычий брод – Керченский пролив.
(обратно)59
Тур лаша – гнедой конь, тура лаша – вороной конь, ула лаша – пегий конь.
(обратно)60
Госпожа (готск.).
(обратно)61
В разряд «дедов» поступали все умершие члены семьи, независимо от пола и возраста на момент смерти.
(обратно)



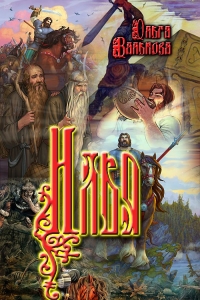
Комментарии к книге «Княгиня Ольга и дары Золотого царства», Елизавета Алексеевна Дворецкая
Всего 0 комментариев