Александр Владимирович Артищев ГИБЕЛЬ ВИЗАНТИИ
Ты думаешь, уйти из жизни — доблесть?
Нет, доблесть в том, чтоб грудью встретить муки….
Не отступить, не дрогнув, не страшась.
Гай Луций Сенека. «Финикиянки».Природа редко рождает храбрецов.
Их создают обстоятельства.
Н.Маккиавели. «О военном искусстве».ПРОЛОГ
В жарких и бесплодных, выжженных зноем пустынях, под тонким слоем песка и камней, таятся от жгучих солнечных лучей мириады крошечных зародышей жизни. Проходят месяцы и годы, ничто не меняется в них, неотличимых от бесцветных крупинок песка.
Но когда природа изменит свой лик и на пустыню с небес обрушатся потоки живительной влаги, засушливый край начнет чудесно преображаться. Холмы и равнины покроются зеленой порослью; на стеблях, устремленных ввысь, навстречу солнечным лучам, цветы распустят пёстрые лепестки и соревнуясь в яркости и красоте нарядов воспоют безмолвный гимн возрождающейся жизни. Но в то же время злой дух, дух разрушения пробудится и в тысячах тысяч белых яичек. Маленькие, неразличимые с высоты человеческого роста личинки прорвут оболочку своих убежищ и выползая на поверхность земли, жадно набросятся на побеги растений.
Пройдет всего лишь несколько дней и зеленый, исперщрённый разноцветием травяной покров исчезнет так же быстро, как и появился. На его же месте зашевелится серая живая масса, поначалу слабая и беспомощная, но ежечасно набирающая силу. Истребив вокруг себя все съедобное, подрастающая молодь двинется вперед, неуклюже перепрыгивая и переползая через камни и голые ветви кустарника. Неуклонно, подобно гребням барханов, саранча потечет, смывая собой изумрудную зелень, уничтожая на своем пути все, что в состоянии перемолоть ее ненасытные челюсти.
На много дней пути земля превратится в унылую равнину, безрадостно-тоскливую, как вытоптанное во вражеском набеге поле. Как опаленные пламенем войны останутся чернеть обглоданные ветви растений; сброшенные при линьке сухие панцыри насекомых усеют всё вокруг, подобно павшей в сражении рати.
Немного в мире найдется сил, способных остановить этот грозный поток. Пусть на пути саранчи возникают широкие быстрые реки — она переползет по воде, выстраивая на воде живые мосты и переправляя свою армию по ним. Напрасно объятые ужасом земледельцы окапывают рвами свои небольшие наделы, напрасно устраивают огненные преграды в виде длинных костров. Саранча ползет плотным строем, забивая рвы и пламя тысячами крохотных телец.
Передние шеренги гибнут несчётно в огне, жертвуя собой ради выживания остальных, в то время как идущие им вслед, не задерживаясь, пробираются вперед по шуршащему, обугленному ковру из мертвых тел сородичей.
Ими движет одна цель, великая цель жизни: есть, чтобы жить; жить — чтобы размножаться.
Зловещий поход вскоре перейдет в иное качество: подросшее и окрепшее племя обретет крылья и взмоет в воздух, затмевая собою солнце, погружая в обширную черную тень простирающуюся под ним землю. Ничто больше не остановит гудящую серую тучу, надвигающуюся на цветущие края из пустыни, в которую она превращает всё, над чем пролетает ее неисчислимая армия.
ЕСТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ; ЖИТЬ — ЧТОБЫ РАЗМНОЖАТЬСЯ.
ГЛАВА I
Человек торопливо пробирался вдоль запутанных улочек спящего города. Время от времени он останавливался и чутко вслушивался в окружающую тишину. Вопреки строжайшему указу городских властей он не только не имел при себе зажженого фонаря, но напротив, старался как мог избегать освещенных участков дороги. Широкая черная накидка, в которую он был плотно укутан, делала его почти невидимым; ноги в сапогах с мягкой кожанной подошвой ступали бесшумно, как кошачьи лапы. Ему была известна прямая дорога, но он предпочел окружной путь.
Серебристый свет луны отбрасывал на землю косые тени от стен и черепичных крыш строений; местами тускло блестела неровная кладка булыжной мостовой. Порывы ветра разносили вдоль лабиринта улиц солоноватый воздух с моря, вытягивали из черных провалов тупиков застарелую вонь городских клоак и отстойников.
Спросонок гулко залаяла собака и ее лай, подхваченный бродячими псами, раскатился в тишине оглушающим многоголосым эхом. Человек досадливо поморщился. Его глаза из-под надвинутого по самую кромку бровей капюшона заблестели еще настороженней и он прибавил шагу, по-прежнему укрываясь на неосвещенной стороне дороги. В очередной раз обернувшись, он споткнулся о какую-то преграду на земле. Еле удержав равновесие, он отпрыгнул в сторону, выхватывая руку из-под полы плаща. Прижавшись к стене, бросил быстрый взгляд на оба конца улицы. Затем присел над помехой, укрытой в тени и скользящим движением рук ощупал покрывающую ее жесткую, пропитанную липкой жидкостью ткань.
На земле лежал труп мужчины и путнику не составило труда признать короткий, своеобразного покроя плащ, который он сам передал убитому не более двух часов назад. Тело слуги еще не успело остыть. Человек в черной накидке мысленно отмерил расстояние, которое тот успел преодолеть от одной из полупустых портовых таверн, в которой они расстались еще до наступления полуночи. Он распрямился и поспешил вперед, оставляя позади себя того, кто не один год делил с ним пищу и кров и принял на себя предназначенный другому удар.
Испытания как-будто подстерегали путника: через три сотни шагов двое грабителей набросились на него из узкого проулка. Однако взмах выхваченного из-за пояса длинного клинка заставил их поспешно отступить обратно. Это нелепое происшествие даже слегка позабавило закутанного в плащ человека, хотя поводов для веселья было немного. Минутное облегчение улетучилось быстро.
— Слишком хорошо для правды, — бормотал он под нос, по-прежнему двигаясь вдоль темной стороны улицы. — Микеле не мог погибнуть от рук городских головорезов. Он был им просто не по зубам. Бедняга нарвался на хищников поопаснее тех двух полуночных шакалов.
Постепенно ветхие строения сменялись кичливыми фасадами домов зажиточных горожан. И только тогда он вдруг отчетливо, каждым вздыбившимся волосом своей кожи, ощутил на себе чьи-то пристальные взгляды. Страх холодной змейкой пополз по напрягшимся мышцам, и тело, мгновенно покрывшись испариной, завибрировало в мелкой противной дрожи. Он сам поразился своему испугу: не раз ему приходилось бывать на волосок от смерти, но этот невыразимый обессиливающий страх и чувство беспомощности впервые безраздельно овладели им.
Окружающее неуловимо изменилось: тусклый лунный свет стал беспощадно ярким, стены домов сместились, подобно створам смыкающегося капкана. И даже камни мостовой, казалось, излучали теперь волны ненависти к нему, одинокому, гонимому как зверь чужаку. Усилием воли он принудил себя продолжить путь и даже внешне его осторожная походка ничуть не изменилась. Лишь только смахнул рукавом со лба струящийся холодный пот. Те, кто выследил его, следовали за ним по пятам, выжидая удобный момент для нападения. Он чувствовал на себе их взгляды, крадущиеся шаги чуть поотдаль и возбуждение, сродни горячему дыханию гончих псов, почуявших добычу.
Спасение пришло нежданно, как чудо, ниспосланное с небес. Вдалеке послышался гулкий топот ночной стражи и, в отголосок к нему — захлебывающийся лай потревоженных дворняг. Путник, уже не скрываясь, помчался навстречу солдатам. Враги не отставали ни на шаг, стремясь исправить свою оплошность, отрезать его от приближающегося караула. Багровый свет коптящих факелов неудержимо разрастался, выхватывая из темноты все новые и новые участки пути; стали слышны отдельные голоса и взрывы грубого смеха. Путник рывком пересек улицу и рискуя быть замеченным солдатами, укрылся во мраке ближащего переулка. Это дало ему некоторую передышку — теперь между ним и его преследователями оказалось не менее двух десятков вооруженных латников. Но все равно он спешил, бежал, отбросив остатки осторожности: время, отпущенное Судьбой, летело слишком быстро. Цель была уже близка: впереди отчетливо проглядывалось приземистое здание с уродливыми каменными львами по бокам парадного крыльца. Через неплотно закрытые ставни окна на втором этаже пробивались тонкие полоски желтоватого света, которые подобно лучам маяка манили и звали к себе, обещая покой и защиту. На мгновение он остановился, чтобы перевести дух. Внезапный шорох, как шелест сухих листьев на мостовой, заставил его отпрянуть и вжаться спиной в кирпичную стену. Он сунул руку под полу плаща и затаил дыхание.
Преследователь вынырнул из темноты внезапно, бесшумно как оборотень, как сгусток окружающего мрака. Сделав несколько шагов, он замер в нерешительности, поворачивая туловище из стороны в сторону. Темный силуэт его сильной и ловкой, изготовившейся к резкому броску фигуры напоминал своим внутренним сходством совершенство форм натянутого арбалета. Шаг, еще шаг, но тут он заметил затаившегося противника и издав гортанный выкрик, прыгнул в его сторону. Незнакомец выхватил из-за пояса короткий стальной дротик и метнул его в грудь врага. Тот взмахнул руками в стороны и, повернувшись на ослабевших ногах, медленно завалился набок. По упавшего телу пробежали судороги, оно вытянулось и замерло, хотя правая рука с зажатым в ней кинжалом еще шевелилась подобно жалу скорпиона, пытаясь дотянуться до цели.
Путник вышел из укрытия и с силой наступил на стиснувшие кинжал пальцы. Послышался тихий хруст ломающихся костей.
— Кто подослал тебя? — он за волосы оторвал голову преследователя от земли и вплотную приблизил к ней лицо. — Кто? Говори!
Но нападавший был уже мертв. Незнакомец разжал пальцы и голова с глухим звуком упала на землю. Он быстро пересек улицу, взбежал по ступеням крыльца и схватив дверное медное кольцо, выбил условный стук. Отнюдь не сразу, но всё же достаточно быстро сквозь щель смотрового оконца блеснул луч света и в зарешеченное отверстие выглянул чей-то глаз.
— Кто ты? — глухо спросил за дверью голос. — Что тебе нужно в этот час?
Вместо ответа незнакомец просунул снятый с пальца перстень.
Окошко захлопнулось и через вскоре послышался лязг отпираемого засова. Человек, стоящий спиной ко входу, быстро проскользнул вовнутрь, захлопнул за собой дверь, задвинул засов и лишь после этого, глубоко выдохнув, скинул плащ на руки привратнику.
— Где хозяин? — отрывисто спросил он.
— На втором этаже, в своем кабинете, — почтительно ответил слуга. — Если синьор позволит, я покажу дорогу.
Гость посторонился. Привратник прошел вперед, освещая масляной лампой крутую деревянную лестницу. Незнакомец молча следовал за ним, его твердые, уверенные шаги разительно отличались от крадущейся поступи на улицах. Поднявшись наверх, они прошли по длинному и темному коридору. Подойдя к широкой двери, слуга осторожно стукнул в нее два раза. С обратной стороны донесся невнятный, едва различимый голос. Проскользнув вовнутрь, привратник почтительно обратился к тучному, лысеющему человеку, сидящему за большим, покрытым зеленым сукном столом. Он что-то быстро записывал в лежащую перед ним увесистую книгу.
— К вам пришел человек, синьор Ломеллино, — слуга положил перед ним перстень незнакомца. — Я опознал печатку и помню ваше распоряжение даже поздней ночью впускать ее владельца в дом.
Купец распрямился и молча уставился на пришельца, который неторопливо подошел к столу, придвинул себе кресло и уселся в него, щурясь на пламя восьми свечей.
— Иди отдыхать, Пьеро, — хозяин захлопнул деловую книгу и бросил цепкий взгляд на железный перстень, — Но перед тем тщательно проверь, нет ли посторонних возле дома.
Дверь бесшумно закрылась за слугой. В течении некоторого времени хозяин и гость молча изучали друг друга.
— Признаться, я не ожидал столь позднего визита, — произнес купец, отводя глаза в сторону. — Тебя прислал магистрат Генуи?
— Я устал и у меня пересохло в глотке, — последовал ответ.
Ломеллино встал из-за стола, отпер дверцу вделанного в стену шкафа, извлек из него стеклянный шторф с вином и два серебрянных кубка. Один из них он наполнил почти до верха, в другой же — чуть плеснул. Пришелец принял полный кубок и не раздумывая, опорожнил его.
— Да, я прибыл из Генуи. Я, Лодовико Бертруччо, послан к тебе, подеста Галаты с немаловажным известием. Необходимо помнить, синьор Ломеллино, что сообщение весьма секретно и о нем до определенного времени должен знать лишь строго ограниченный круг людей.
Лодовико умолк, глядя на подрагивающее пламя свечей.
— Корабль, на котором я плыл, был перехвачен и потоплен турецкой галерой. Лишь по счастливой случайности мне и моему слуге, с несколькими другими соотечественниками, повезло — воспользовавшись суматохой боя, мы невредимыми добрались до берега. Нет нужды описывать подробности. Скажу лишь, что весь остаток пути нам сопутствовала удача и день назад, на византийской торговой карраке, мы прибыли в Константинополь.
— Но не ответит ли синьор Бертруччо, к чему этот внезапный ночной визит? Разве не мог он, не таясь, средь бела дня, явиться ко мне, правителю Галаты и передать сообщение?
— Город наводнен всевозможными шпионами. Я догадывался об этом, но действительность превзошла мои ожидания. С подложными письмами я послал впереди себя двух двойников, одним из которых был Микеле, мой слуга, весьма проворный малый. Как видишь, синьор подеста, добраться до тебя удалось только мне.
— Кому и зачем понадобилось препятствовать тебе? Кто мог опознать тебя в простом путешественнике?
— Не знаю. Предателей хватает повсюду. Даже в Сенате, я уверен, их немалое число. А что до исполнителей….. На пристани в Константинополе, пробираясь сквозь толпу, я заметил светловолосого юношу с лилейным лицом. Он пристально смотрел на меня с высоты какого-то помоста. Клянусь Всевышним, мне не понравился его стеклянный немигающий взгляд!
— Похоже, то был Ангел, — помрачнел подеста. — И если это так, то действительно начинает происходить нечто важное. Коль уж змеиный клубок расшевелился — это не к добру. Впрочем, тебе немало повезло, синьор посланник: ты остался жив, хотя тогда тебя на примету взял сам дьявол.
— Дьявол, ангел — довольно пустой игры слов! Я сейчас весьма далек от мистики, — раздраженно махнул рукой Бертруччо. — Мы увязли в пустой болтовне. Пора пожалуй переходить к делу, синьор подеста. Известие, доставленное мною, не из числа приятных.
— Но что же все-таки произошло, из-за чего встревожен Сенат? — спросил купец, наклоняясь к собеседнику.
Послышался стук в дверь. Генуэзцы откинулись в креслах, их лица мгновенно приобрели непроницаемые выражения. Вошел слуга с увесистой дубиной в руке, но спохватившись, тут же спрятал ее за спину.
— Все спокойно, хозяин. Я осмотрел улицу и ближайшие переулки. Нигде ничего подозрительного.
— Вот как? Ничего подозрительного? — гость наполнил свой кубок и взглянул на слугу. — С каких это пор трупы людей на улицах стали привычным зрелищем для генуэзцев?
— Пусть синьор простит меня, — Пьеро растерянно переводил глаза с одного на другого, — Но о каких трупах он изволит говорить? Улица совершенно пустынна……
Купец махнул рукой и Пьеро, отвесив поклон, поспешил удалиться. Его глуповатое деревенское лицо выражало обиженное недоумение.
— У тебя хорошие слуги, — язвительно заметил генуэзец. — Я допускаю, мертвеца могло уже не быть, но кровь на камнях должна была остаться. Я пью за беззаботную слепоту — она зачастую неплохо облегчает жизнь, хотя в дальнейшем может принести немало неприятностей.
— К своему стыду я должен признаться, что перестал что-либо понимать.
— Теперь меня это не удивляет. Странно лишь, что вы, галатские прохвосты, сидя на бочке с порохом, до сих пор не утратили своей душевной благости. А ведь фитиль-то уже подожжен, синьор подеста!
— Твои слова пугают меня.
— Разве для колонии в новость, что на левобережной стороне Босфора турки спешно сооружают крепость? После завершения строительства она наглухо замкнёт пролив, поставив под контроль движение судов из Черного моря и обратно.
Подеста смотрел на Лодовико остановившимися глазами. Потрясение на время лишило его речи.
— Но ведь это означает конец прибрежной торговли, — сумел наконец выдавить он.
— Не только. Это еще означает и конец Византии, — отчеканил гость, вновь прикладываясь к кубку.
Он пил большими глотками, как бы празднуя неизбежную тризну.
— Султан согнал туда целую армию каменщиков. Строительство не прекращается даже по ночам.
— Турки не осмелятся напасть на Константинополь! — в голосе купца звучала робкая надежда.
Генуэзец рассмеялся хриплым каркающим смехом.
— Кто же им помешает? Они осмеливались нападать на целые страны, владеющие сильными войсками и многочисленным населением. И покоряли их, синьор подеста! А что осталось от Византии? Дым былого могущества и дряхлые стены опустевшего города.
Подеста вскочил с места и заходил по комнате, покачиваясь и ломая себе руки.
— Это конец…. конец всего, созданного с такими трудами! За что Всевышний карает нас?!
— За вашу жадность и самонадеянность, — охотно ответил гость, наливая себе третий кубок.
— Не нужно так убиваться, синьор Ломеллино! В конфликте императора с турками колония останется в стороне и будет преспокойно набивать карманы, выворачивая их поначалу у побежденных, а затем и у победителей.
— А если султан в первую очередь обрушится на нас!? — вскричал подеста, не обращая внимания на издевательский тон собеседника. — Ведь у Галаты нет могучих стен Константинополя. Гарнизон ее слаб, а командиры наёмников продажны, как непотребные девки!
— Золото творит чудеса. В крайнем случае отделаетесь надлежащим выкупом. И еще одно сообщение, равносильное приказу: наши соотечественники должны быстро и неприметно извлечь вклады не только из византийских, но и венецианских торговых домов. Так как по некоторым сведениям война Венеции с султанатом начнется вскоре после падения Константинополя.
— Это достаточно серьёзный шаг, чтобы я или кто-либо иной мог бы взять на себя ответственность, — возразил Ломеллино. — Мне нужны веские гарантии, что это будет оправданно в дальнейшем. А перстень…. Он всего лишь вызывает доверие к твоим словам, но не более того.
Бертруччо искоса взглянул на него, вытянул из внутреннего кармана камзола свернутый в трубку пергамент и бросил его на стол.
— Этот документ многое скажет посвященному человеку.
— Сдается мне, — добавил он в полголоса, — что именно за ним, а не за моей скромной персоной гонялись те незадачливые убийцы.
Подеста взломал печать и быстро пробежал глазами по тексту. Шумно вздохнул, внимательно перечитал заново, затем приблизив пергамент к пламени свечей, принялся дотошно изучать подписи и печати под ним.
— Надеюсь, подлинность сомнений не вызывает? — осведомился гость.
Подеста отрицательно покачал головой и поднял глаза на посланника.
— Синьор не возразит, если я оставлю документ при себе?
— Синьор возражает, поскольку этот документ обязан сопровождать его повсюду.
Ломеллино пожал плечами и с видимым сожалением вернул пергамент владельцу.
— Что предпримет магистрат в ближайшее время? — спросил он.
— Республика не заинтересована в падении Византии: с османами договориться о свободной торговле будет значительно сложнее. Сенат согласен на бесплатный провоз всех желающих сразиться под стенами Константинополя. Но я сомневаюсь, что их наберется значительное число.
В наступившей тишине слабо потрескивало пламя свечей и мерно капал на поддон расплавленный воск.
— Возможно ли, что город сдастся без борьбы? — прервал молчание генуэзец.
Ломеллино сделал отрицательный жест.
— Пока у власти император Константин, это не произойдет.
— Жаль. Некоторые проблемы отпали бы сами собой.
Подеста не сводил с гостя глаз.
— Не знает ли синьор Бертруччо что-либо о намерениях святейшего престола? Не готовится ли новый крестовый поход на неверных?
— В Европе самоубийц становится все меньше.
Ломеллино отпил глоток из кубка.
— Тогда нам остается одно — надеяться на милость Божью.
Ответа не последовало. Купец заговорил вновь, убеждая скорее себя, чем собеседника.
— Уже дважды османы подступали к стенам города и оба раза уходили ни с чем. Господь не оставит нас в беде!
— Господь не оставит нас в беде….- как эхо отозвался гость, поднимаясь на ноги.
— Я устал, почтенный. Устал так, что тебе и вообразить непросто. А утром у меня еще немало срочных дел. Прикажи застелить постель, сегодня я заночую у тебя.
— Я проведу тебя в свою опочивальню, — засуетился подеста, направляясь к выходу. — Мне до утра нужно многое закончить, а сведения, полученные от тебя, при всем моем желании, не дадут сомкнуть глаз не одну последующую ночь.
Держа подсвечник в вытянутой руке, он пошел впереди освещая гостю дорогу и часто оглядываясь назад. Пройдя вдоль узкого коридора, он остановился перед дверью и приглашающе распахнул ее настежь.
— Если мое скромное ложе устроит синьора посланника, то я прошу его отдыхать спокойно до тех пор, пока неотложные дела вновь не призовут его к себе.
Генуэзец без церемоний повалился на широкую кровать, не снимая ни запыленного камзола, ни покрытых грязью сапог.
— Если синьор Бертруччо пожелает, — купец остановился в дверях, — то утром Пьеро проведет его до того места, какое синьору угодно будет назвать.
— Нет, благодарю, — ответил тот, безуспешно пытаясь подавить раздирающую рот зевоту. — В соглядатаях я не нуждаюсь.
И прежде чем подеста успел на несколько шагов удалиться от двери, он услышал приглушенный храп генуэзца, по-видимому и впрямь смертельно уставшего, давно не имевшего нормального отдыха. Ломеллино повернулся к двери и недобро прищурил глаза.
— Не нуждаешься в соглядатаях, не так ли? Вскоре ты убедишься, что обложен достаточно плотными сетями и вряд ли легко выпутаешься из них. Люди Феофана редко упускают добычу.
Тяжело ступая, он вернулся в свой кабинет и до самого утра обдумывал эти неожиданные и безрадостные вести.
Утреннее солнце окрасило в нежно-розовый цвет пушистые облака, пробудило птиц на ветвях деревьев. Громкий щебет наполнил воздух. Рассвет, набирая силу, вытеснил остатки ночной мглы из переплетения улиц.
Царственный город медленно просыпался от дремы: стали раздаваться голоса людей, звуки отворяемых ставен и дверей. Застучали на булыжнике окованные железом колеса арб и телег; заскрипели оси груженных повозок, перебиваемые дробным стуком копыт ослов и мулов. Тяжело топоча, ночная стража удалилась на покой, уступая улицы и площади во владение толпам торговцев, мастеровых и разносчиков овощей.
У городских ворот, в скоплении селян, направляющихся в Константинополь, возникла небольшая заминка: шестеро всадников в запыленных кольчужных костюмах уверенно расталкивали лошадьми толпу простолюдья. Городская стража преградила было проезд, но дюжий десятник, взглянув в лицо головного всадника, сделал своим воинам разрешающую отмашку рукой. Маленький отряд миновал городские ворота и рысью устремился к центру столицы.
— Кто это? — один из стражников приблизился к командиру и кивнул в их сторону головой.
— Видать, какие-то важные птицы?
— Послушай, умник, — перед подчиненным десятник не счел нужным скрывать дурного настроения, — занимался бы ты своим делом. А если и впредь тебе повстречаются эти люди, постарайся не встревать у них на пути.
— Эй, хватит там копаться! — заорал он на кучку селян, пытающихся растащить сцепившиеся колесами телеги. — Долго будете загораживать проезд? Быстрее шевелитесь, я вам говорю!
Десятник зашагал вперед, щедро награждая тычками попадающих под руку людей.
Оборванный старик, удобно устроившись на пересечении двух улиц, просительно тянул руку к прохожим. Кое-как прикрытое лохмотьями тело сотрясалось в мелком ознобе, то ли от прохлады раннего утра, то ли от старческой немощи. Удлиненное иссохшее лицо с полуприкрытыми гноящимися глазами не выражало ничего, кроме терпеливого ожидания и безропотного покорства судьбе. Плаксивым монотонным голосом он тихо и невнятно бормотал себе под нос заученные слова, пытаясь высмотреть крупицу сострадания в проплывающих мимо него лицах. Сострадание, сильно смахивающее на брезгливую жалость, порой оборачивалось звенящей на камнях монеткой и тогда старик ловил ее опрокинутой горстью руки, как ловят дети полевых цикад.
Эти металлические кружочки много значили для него: они ненадолго воскрешали то единственное, что еще удерживало нищего в его никчемной жизни — его воспоминания. На эти монетки (когда их соберется с полпригоршни) в ближайшей таверне ему нальют пузатый кувшинчик вина; немного, всего лишь на пару десятков глотков. И это вино, невыдержанное и кислое, разольется по жилам подобно горячей неугомонной крови, встряхнет и напружинит дряхлые мышцы и он вновь ощутит в своем теле былую силу и молодой задор. Прошлое воскреснет и окружит его веселым хороводом призраков, давно уже канувших в небытиё. Он застучит кулаком по столу, затянет надтреснувшим голосом боевую песнь и станет окидывать окружающих вызывающим взглядом, требуя к себе внимания и уважения.
Прохожий, будь милосерден! Кинь в побитую глиняную плошку затерявшуюся на дне кошелька медную мелкую монетку!
Приближающийся цокот копыт заставил старика насторожиться. Острый слух попрошайки сделал мгновенный вывод и он быстро отполз к стене, чтобы не быть втоптанным в мостовую.
Всадники торопились. Подъехав к мрачноватому двухэтажному особняку, ворота которого растворились при первом же стуке, они поочередно исчезли в арочном проеме. И створы, обшитые листовой медью, столь же бесшумно закрылись за ними.
Спустя час стук копыт вновь потревожил нищего. Вжавшись в стену, он по-птичьи втянул голову в плечи, но успел отметить про себя, что число верховых сократилось наполовину, а старший из них уже успел сменить кольчугу и дорожный плащ на темный кожаный камзол.
Проехав полгорода, всадники осадили лошадей у въезда в парк, окружающий дворцовый комплекс. Предводитель соскочил с коня и бросил поводья одному из сопровождающих. Приблизившись к страже на воротах, он молча указал на жетон на груди с вытесненным изображением двуглавого орла. Гвардейцы расступились и он быстрым шагом направился к полускрытому кронами деревьев дворцу.
Поднявшись по лестнице и пройдя полутемными галереями дворца, гонец направился прямо к дверям императорского кабинета. Здесь, у входа дорогу ему вновь преградили скрещенные алебарды. Остановившись, он повернулся к сидящему в кресле начальнику караула.
— Его величеству императору срочное послание от Феофана Никейского.
Капитан гвардейцев узнавающе глянул на него, встал, приблизился к дверям, осторожно постучал и прошел в помещение. Вскоре дверь распахнулась перед гонцом.
— Император примет тебя.
В просторной зале, одну из стен которой полностью занимали три больших арочных окна, к нему повернулись двое. Один из них, стоящий возле высокого секретера, был долговяз и сухопарен, с острой козлиной бородкой на костистом лице. В правой руке он держал гусиное перо, ладонь другой придерживала развернутый список пергамента. По-видимому, его только что оторвали от доклада и он был недоволен помехой.
В другом человеке безошибочно угадывался правитель. Крупную, широкую в кости фигуру венчала массивная голова с высоким, благородной формы лбом; волевое лицо обрамлялось аккуратно подстриженной бородкой, зачесанные со лба каштанового цвета волосы красиво оттеняли необычную белизну кожи. В его жестах и во взгляде проступала спокойная, уверенная в себе сила. И властность, внушающая уважение окружающим.
Темные глаза из-под сдвинутых густых бровей императора испытывающе взглянули на вошедшего.
— Что привело тебя к нам?
Он хорошо знал склонившегося перед ним человека — Алексий, доверенное лицо Феофана Никейского, искусного дипломата и главы разведывательной службы, не раз служил посредником между ними.
— Досточтимый Феофан поручил мне передать вашему величеству послание, добавив при этом, что оно имеет чрезвычайную важность.
Константин кивнул секретарю. Тот принял из рук Алексия свернутую в трубку бумагу, сломал печать и развернул послание.
— Читай, Георгий.
Секретарь слегка прокашлялся и приблизил бумагу к глазам.
«Его величеству василевсу Константину ХI Опасность надвигается, государь. Сегодня мною получены достоверные сведения о начавшемся по приказу турецкого султана возведении на левобережной, западной стороне Босфора сильной крепости. Угроза, связанная со строительством, достаточно очевидна и не скрывается врагом — будущая
крепость способна в любое время перекрыть движение судов по проливу, отрезав Константинополь от привозного зерна…..»
Лицо василевса окаменело, пальцы непроизвольно сжали край туники. Он повернулся, приблизился к окну и глядя в невидимую точку, скрестил на груди руки.
— Почему ты остановился? Читай! — донесся оттуда его голос.
«….Помимо этого спешу сообщить, что перехваченные нами турецкие гонцы, а также люди из окружения султана указывают на концентрацию османских войск в Анатолии. В большинстве своем это мобильные части, способные двинуться в поход по первому приказу.»
Секретарь свернул послание и замер в выжидательной позе.
Император медленно повернулся, сделал несколько шагов в направлении стола и остановился возле него.
— Поначалу султан шлет нам послов с почтительной просьбой уступить ему эти земли, затем самовольно захватывает их, даже не потрудившись дождаться от нас ответа. Его наглость начинает переходить все границы, но мы положим этому конец!
Константин склонился над картой. Не поднимая головы, обратился к секретарю.
— Подготовь послание, Георгий. В котором мы, правитель Империи ромеев, заявляем протест против захвата исконно византийских земель, возведения на них каких-либо укреплений и требуем объяснений данного поступка султана.
Секретарь поклонился и вышел из кабинета. Император повернулся к Алексию.
— Ступай и ты. Передай нашу благодарность Феофану и пожелание и впредь незамедлительно получать все сведения о событиях, имеющих прямое или косвенное отношение к государству.
В опустевшей зале василевс долго всматривался в расстеленную на столе карту. Где-то там, у кривой бирюзовой ленты, где берега пролива смыкаются на расстояние пушечного выстрела, уже начинают закладываться первые камни форта, способному подобно тромбу в артерии блокировать подвоз провианта в столицу, поставив ее тем самым на грань катастрофы.
ГЛАВА II
Каждое утро, с наступлением рассвета, оживали прибрежные скалы. Дым разжигаемых костров начинал стелиться по земле. Груженные битым камнем подводы цепочкой тянулись вверх по укатанной дороге; возницы на них кричали и хлопали бичами, пытаясь ускорить неторопливую поступь волов. У кромки берега уже слышались людские голоса, отдельные выкрики и звуки сигнальных рожков.
Далеко в стороне, у каменоломен, на обширном открытом пространстве, громко звенело железо — работники обтёсывали извлеченные на поверхность известковые глыбы.
Длинные вереницы невольников с каменной поклажей на спинах струились между скал по направлению к воде; другая часть рабов толкала впереди себя двуручные тачки с песком и известью. У самого берега, всего лишь в полусотне шагов от воды, суетились тысячи умелых каменщиков, согнанных сюда, на берега Босфора, со всех концов подвластных султану земель. Каждому из них выделялся определенный участок застройки и двое рабов-подручных. Контуры намеченных строений, обозначенные колышками и бечевой, постепенно вырастали в стены, прибавляя в день порой по два-три фута.
Время шло. Солнце все выше поднималось над горизонтом, наполняя воздух удушливым зноем. Но стройка, как гигантский муравейник, не останавливалась ни на миг. Хотя полдень еще не наступил, люди уже начинали выбиваться из сил. По лицам работников струился пот, блестели влажные дорожки на голых, покрытых пыльной коростой телах. Немеющие от однообразной работы мышцы сводились в судорогах; легкие, подобно кузнечным мехам, с всё чаще и чаще с натугой втягивали в себя стоячий влажный воздух; подошвы ног в кровь стирались на усыпанных щебнем дорожках.
Пройдет еще немного времени и отлаженный механизм начнет давать сбои. То там, то тут покатятся под уклон тяжелые тачки, подминая под себя изнуренных людей. Все чаще каменный груз начнет вырываться из слабеющих рук. И не останется более сил, чтобы вновь взвалить на спину неподъемную ношу. И тогда голоса надсмотрщиков перейдут в крик, начнут свистеть бичи из воловьих шкур, оставляя на сожженных солнцем спинах длинные кровавые полосы. Крики истязаемых людей сольются с рыком пьянеющих от собственной жестокости надзирателей. Продвижение быстро восстановится, груз будет подобран кем-то другим, а виновный так и останется лежать на земле, пока специальные бригады могильщиков не оттащат крючьями бездыханное тело прочь. Они отволокут его к широким погребальным ямам, над которыми с монотонным жужжанием висят тучи трупных мух и сбросят вниз, на дно, где тела еще вчера убитых непосильной работой людей лишь слегка присыпаны землей.
Стены росли быстро, как трава после дождя. Все выше и выше на скалах вырисовывались башни и укрепления, незамысловатые постройки внутри самой крепости, до самых берегов пролива спускающейся вниз своими зубчатыми стенами. А там, у каменного причала, уже покачивалось на якорях с два десятка барж и феллук под косыми белоснежными парусами.
И так, изо дня в день, порой даже при свете факелов, крохотные фигурки, подобно движущемуся мху, облепляли угрюмые и прежде необитаемые скалы.
Шум многолюдного азиатского базара был слышен издалека. В нестройном гуле сотен и сотен голосов мешались крики торговцев шашлыков, лепешек и жареной рыбы, доносилось ржание лошадей, блеяние коз и овец, перепуганное кудахтанье в птичьих клетках. Потоки людей среди лавок и расставленных прямо на земле товаров пестрели разноцветными пятнами одеяний. В толпе проплывали лица всех оттенков кожи, полотняные чалмы мешались с меховыми шапками и стальными шлемами, туники и халаты — с плащами и долгополыми кафтанами.
Полуголые мальчишки юркой стайкой шныряли среди ног суетящихся, до хрипоты кричащих и спорящих друг с другом людей. Унылые фигуры рабов с веревками на шеях, в ожидании продажи пугливо жались в стороне, топчась в пыли босыми ногами. Небольшие группы стражников уверенно рассекали толпу, выискивая взглядами воришек и прочих нарушителей порядка, а так же беззастенчиво отбирая приглянувшийся им товар. Базарные менялы степенно восседали под навесами на подушках и ловко перебирая пальцами, пересчитывали, взвешивали и обменивали предлагаемые им монеты. Через их руки проходили деньги со всех концов света: монеты с выбитыми на них профилями царей и изображениями фантастических животных, покрытых мелким латинским шрифтом, греческими буквами и затейливой арабской вязью; монеты овальные, круглые, квадратные, с дырочкой для ношения на шнурке или свернутые в кружок.
На открытых площадках фокусники и жонглеры завлекали своим мастерством зрителей, орудовали бродячие целители и зубодеры, Кое-где, примостившись за ширмами, цирюльники колдовали над головами и лицами клиентов. А те, сидя на стульях или табуретах, терпеливо вверяли себя в руки уличных мастеров.
Здесь покупалось, обменивалось и продавалось всё, что в глазах людей могло иметь хоть какую-то ценность. Сюда приходили не только за покупками, многих влекло желание встряхнуться, потолкаться в гуще людей, а может и встретить знакомых и обменяться с ними новостями.
В центре базарной площади возникло оживление: любители поразвлечься стравили двух петухов и зрители, сопя и возбужденно выкрикивая ставки, ожесточенно работали локтями, чтобы не быть выжатыми из плотного гомонящего круга.
Солнце, укорачивая тени, все выше поднималось над горизонтом. На смену уходящим прибывали новые посетители. Базар бурлил, живя своей особой неповторимой жизнью.
Коренастый молодой солдат, на скуластом безволосом лице которого недобро горели темные глаза, выбрался из шумной толпы и быстро зашагал вдоль узкой грязной улицы. На некотором расстоянии от него следовала группа до зубов вооруженных людей в одежде простолюдинов, часть из которых не спускала с него глаз, в то время как остальные зорко смотрели по сторонам. Солдат шел, угрюмо глядя в землю перед собой, не замечая, что навстречу ему движется купец в парчовом, шитом золотом халате, в сопровождении двух рослых слуг с палками в руках.
Столкновение казалось неизбежным, когда купец остановился и поднял крик, воздевая руки к верху. Брызгая слюной, он призывал все небесные кары на головы дерзких и непочтительных юнцов, грозил самолично обломать с десяток палок о пятки наглеца. Толстые щеки тряслись от гнева и возмущения: как смел этот ничтожный сипах, не имеющий и ломаного гроша за душой не уступить дорогу ему, уважаемому негоцианту, чьими товарами не брезгуют даже евнухи гарема самого паши!
Слуги, занеся тяжелые палки, стали угрожающе приближаться, когда вдруг купец внезапно смолк, с ужасом уставился на бледное лицо стоящего перед ним человека и со стоном повалился на колени.
— Прости меня, о великий, прости! Заклинаю тебя милостью Аллаха! Прости меня, ничтожного, за то, что сразу не признал твой божественный лик! — громко всхлипывая, твердил он.
Слуги ошеломленно смотрели на своего господина, ползающего в пыли у ног простого солдата и нерешительно переглянувшись, тоже опустились на колени.
Презрительная усмешка скривила губы молодого человека. Он медленно высвободил саблю из ножен и размахнувшись, с оттяжкой ударил по толстой склоненной шее. Мольбы оборвались. Голова отвалилась от туловища и подпрыгнув от удара об землю, тряпичным мячиком покатилась в сторону. Капельки крови, брызнувшие из-под клинка, разбежались в пыли грязно-серыми шариками.
Возгласы ужаса раздались среди очевидцев происшедшего. Воин брезгливо перешагнул через тело, дергающееся в луже собственной крови и быстрым шагом продолжил свой путь. Подоспевшая охрана, в одно мгновение зарубив выхваченными из-под одежд клинками оцепеневших от страха слуг, бросилась вслед за своим господином, бросая свирепые взгляды на стремительно разбегающихся прочь прохожих.
Переодетый простым воином, великий султан Мехмед II, которого на свою беду признал незадачливый купец, был раздражен до предела. С самого пробуждения его терзала смутная тревога, не давало покоя ощущение некой опасности. Было ли причиной тому обрывки предутреннего сна, или же то был знак, ниспосланный свыше, он не знал. Пытаясь найти ответ, он пристально всматривался в окружающие лица, пытаясь отыскать в их выражении отголоски ночного кошмара. Но они лишь светились обычным подобострастием. Стремясь уйти от навязчивых мыслей, он приказал облачить себя в одежду сипаха, в которой любил появляться неузнанным на людях и через черный ход вышел из дворца.
Сегодня ему более чем когда-либо хотелось узнать, что говорят о нем люди. Но и тут его поджидало разочарование: за несколько часов, проведенных на рынке, на этом своеобразном восточном оракуле общественного мнения, он так ничего и не услышал о себе. Ему, необщительному и скрытному, не удавалось расположить людей к беседе, а попытки перевести разговор на деяния султана, встречали резкий отпор: люди начинали подозревать в нем доносчика. И тогда они, пожелав своему повелителю всяческих благ и здоровья, вознеся обычную хвалу его мудрости и великодушию, тут же возвращались к своим прежним спорам, увы, имеющих малое отношение к интересующей Мехмеда теме. Или же, приняв султана за заинтересованного покупателя, принимались нахваливать свой товар, убеждая в его неповторимости и смехотворно низкой цене. А некий здоровенный десятник с криком: «Что ты здесь вынюхиваешь!? Никак порчу наводишь на моего господина?», даже ухватил Мехмеда за воротник, но тут же был заколот насмерть подоспевшей охраной султана. Чем дольше ходил Мехмед, тем больше убеждался, что людям мало дела до того, что лично не затрагивает их, а возбужденные толки, вызванные усмирением юным монархом взбунтовавшегося в очередной раз корпуса янычар, давно уже пошли на убыль.
Тревога не оставляла молодого правителя. Он жаждал всевластия и славы, шел к ним нелегким путем, подкупая лестью и наградами наиболее влиятельных царедворцев, и с немыслимой жестокостью устраняя тех, у кого хватало дерзости воспрепятствовать ему.
Устремленный вперед да не оглянется на полпути!
И все же, в глубине души он знал, что его могущество держится на песке. Малейшее колебание или проявление слабости — и его многочисленные недруги не замедлят расправиться с ним. Мехмеду повсюду мерещились ловушки и заговоры, но беспощадно карая заподозренных, он понимал, что этого недостаточно. Что для укрепления своей власти он должен предпринять нечто большее, чем набившие оскомину публичные казни изменников престола и заветов Пророка. Чьи отсеченные головы, выставленные на всеобщее обозрение, медленно истлевают на кольях в людных местах. Величие и грандиозность замыслов должны поражать воображение окружающих, внушать им веру в избранность вождя, ведущего свой народ к сверкающим высотам. Иначе…..
Но даже в малом сделано еще не всё. Принц Орхан, его сводный брат и последний оставшийся в живых из возможных претендентов на престол, содержится на его же, Мехмеда, деньги (какая ирония судьбы!) в цепких руках христиан, этих главных и злейших врагах священного Учения.
Константинополь! При одном упоминании этого наименования волна ненависти захлестывала султана.
Многочисленные убийцы, засылаемые в столицу Византии с единственной целью — добраться до Орхана и умертвить его — бесследно исчезали, уничтожаемые, по-видимому, более умным и осторожным врагом. Император Константин оказался достаточно дальновиден, чтобы беречь как зеницу ока случайно доставшийся ему столь ценный приз, как наследный принц, продолжатель династии и правнук славного султана Баязида. А пока жив Орхан, нет и не будет в Османском государстве полного покорства перед волей султана.
Мехмед вскочил с дивана и отшвыривая ногами попадающиеся на пути предметы, несколько раз пресек просторную, утопающую в роскоши палату. На грохот опрокидываемых светильников из-за двери встревожено выглянул начальник охраны и тут же исчез, встретившись с мерцающим от бешенства взглядом султана.
Давно пора покончить с этим городом, последней червоточине христианства во владениях османов, наглость правителей которого доходит не только до неповиновения божественной воле наместника Аллаха на земле, но и до открытых угроз в его адрес!
От дикой, необузданной ярости потемнело в глазах. Мехмед бросился на устланный подушками диван, вцепился в них, изо всех сил стараясь подавить охватившую его, сводящую с ума ненависть. Глаза его заполнились злыми слезами, грудь спирало тяжелое дыхание, кровь толчками била в ломящие от боли виски. С трудом овладев собой, он перевернулся на спину и несколько раз глубоко вздохнул.
Так значит этот мелкий морейский князёк Константин, посаженный на византийский трон отцом Мехмеда, Мурадом II, требует объяснений поступкам султана!? Что ж, вскоре этот император без империи узнает, для чего понадобилось Мехмеду возводить неприступную крепость на самом узком месте пролива!
Резко и требовательно зазвенел серебряный гонг. Звон еще не стих, но начальник охраны уже стоял перед диваном и осторожно заглядывал в темные после недавней вспышки глаза своего повелителя.
— Отправляйся к Халиль-паше, он нужен мне сейчас, — медленно, почти по слогам произнес султан. — И поторопись, если дорожишь своей головой.
Внезапный вызов сильно встревожил великого визиря. Подгоняя одевающих его слуг, Халиль-паша засыпал начальника стражи вопросами, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Но тот лишь пожимал плечами, выразительно возводя взгляд к расписному потолку — он действительно ничего не знал. Время от времени он отвлекался от этого занятия и с яростью обрушивался на слуг: зная нетерпеливый и вспыльчивый нрав своего господина, оба царедворца хорошо представляли цену нежелательного промедления.
Полный недобрых предчувствий, визирь приказал принести золотое чеканное блюдо и доверху засыпать его золотыми монетами. Взмахом руки отогнав бросившихся было подсоблять слуг, визирь с трудом оторвал его от стола, опустил на свой пояс край импровизированного подноса, чтобы хоть как-то облегчить его немалую тяжесть, и быстрым шагом поспешил к покоем султана.
— Какое настроение ниспослал Аллах сегодня нашему повелителю? — вновь не удержался он от вопроса.
— Гневное, — кратко отвечал ему начальник охраны.
У входа в покои каменными изваяниями застыли стоящие в два ряда огромные стражи. Под их пустыми, ничего не выражающими взглядами у великого визиря непроизвольно задергалось левое веко. Стараясь сдержать нервную дрожь, Халиль-паша переступил порог и отвешивая низкие поклоны, едва не наступив в лужицу масла из поваленного светильника, приблизился к ложу султана.
Тот молча и неподвижно смотрел как бы сквозь него, оперев голову на ладонь руки. Положив тяжёлое блюдо к ногам повелителя, визирь с поклоном отступил на два шага.
— Что это? — Мехмед кивнул на золото, тускло отсвечивающее в пламени ламп.
Халиль-паша почтительно приложил руки к груди.
— Не гневайся, господин, таков обычай у сатрапов: когда повелитель зовет своих слуг в неурочный час, долг не велит им являться к султану с пустыми руками.
Мехмед пренебрежительно хмыкнул.
— Я пока не нуждаюсь в твоем, визирь. Лучше уж я подарю тебе и подарю значительно больше. Но взамен я хочу одного — отдай мне Город!
Последние слова Мехмед произнес, приподнявшись на локте и впившись немигающим взглядом в своего придворного.
Окружающее поплыло в глазах визиря. Тон голоса, которым была произнесена последняя фраза, был хорошо ему знаком и не сулил ничего доброго. Визирь от страха обомлел. От слабости и головокружения едва не подкосились ноги; воздух сгустился и затруднил дыхание; предметы, покачиваясь и расплываясь, медленно удалялись прочь от него, теряя свои формы и очертания. И вот вокруг уже не осталось ничего, кроме полукружья ламповых огней и этого пристального недоброго взгляда. Откуда-то издалека, как-будто из другого мира, донёсся до него требовательный голос:
— Что же ты молчишь, Учитель? Я жду ответа!
Язык плохо повиновался визирю, но он нашел в себе силы произнести:
— Мой повелитель! Аллах, вручивший тебе все земли византийцев, отдаст, безусловно, и Город. Я же, твой верный слуга, и все остальные сатрапы будем верно помогать тебе в этом.
Мехмед удовлётворенно откинулся на своём ложе.
— Взгляни на подушки: сон не шел ко мне. Мы будем вместе бороться с неверными и этот город, оплот язычества, падёт. Ступай, обдумай мои слова!
Когда двери закрылись за великим визирем, Мехмед вновь призвал к себе начальника охраны.
— Пойдешь к Саган-паше и передашь ему мое повеление: с сегодняшней ночи он лично будет руководить строительством Румели-хиссар. И головой ответит, если оно не будет в срок завершено.
Поклонившись, начальник охраны, поспешил к выходу, но у самых дверей султан вновь остановил его.
— Когда строительство окончится, каждый корабль, плывущий по проливу, должен быть подвергнут тщательному досмотру.
ГЛАВА III
Послы, более чем месяц назад отправленные к султану, вернулись в Константинополь. Не успели они смыть пыль со своих лиц и сменить дорожные одежды, как им был передан приказ срочно явиться к императору. Вести, привезенные ими были безрадостны, и вечером того же дня в Вуколеоне был созван синклит.
Продольный зал дворца знавал лучшие времена. Когда-то глянцевый мозаично-мраморный пол сбился и потускнел; полувыцветшие настенные фрески опутывали сети бесчисленных мелких трещинок, подобно старой паутине. Вездесущая пыль, вспугнутая движением воздуха, медленно кружилась в солнечных лучах, окрашенных в яркие цвета оконных витражей.
Тёмные скамьи из резного дуба, расставленные вдоль стен, изредка поскрипывали под тяжестью сидящих сановников, чьи взгляды были устремлены или вперед, или бесцельно скользили по росписям на стенах. Гнетущая тишина прерывалась осторожным перешептыванием созванных на совет, многие из которых уже догадывались о причине предстоящего совещания.
Мерная поступь дворцовой стражи возвестила о приближении императора, своеобразным эхом ей откликнулся скрип скамей и шорох одежд поднимающихся со своих мест людей.
Громкий голос камергера отразился от стен и дальних уголков зала:
— Его величество император Константин XI!
Василевс прошел к тронному возвышению в передней части Продольного Зала и повернулся лицом к собранию.
— Приветствую вас, благородные нобили и димархи!
Опустившись на трон, он сделал рукой знак присаживаться.
— Вас пригласили сегодня для того, чтобы ознакомить с некоторыми неблагоприятными событиями, которые создают прямую угрозу нашему государству. Долгие годы нам удавалось отводить опасность. Но теперь положение наше значительно ухудшилось.
Повинуясь взмаху руки, к возвышению приблизился рослый человек с короткой светлой бородкой на лице.
— Пусть члены благородного синклита внимательно выслушают сообщение, которое донесёт до них наш посланник ко двору турецкого султана.
В напряжённом безмолвии голос Алексия звучал резко и бесстрастно. В скупых и сжатых фразах он поведал сенату о причинах и целях отправки посольства в Анатолию.
— Более трех недель вы ожидали аудиенции у султана? — переспросил секретарь, обмакивая перо в чернильницу.
— Именно так, благородный синклит. За это время мы имели незавидную возможность наблюдать, и это происходило неоднократно, как те делегации и отдельные лица, чей ранг был неизмеримо ниже посольства Византии, по приглашению и без задержек проходили в покои султана.
— Когда же вы наконец предстали перед султаном, каков ответ был получен вами на послание императора? — вновь задал вопрос секретарь.
— Государь, благородный синклит! Султан выслушал, помедлил и скривив рот, произнес следующее: «Передайте своему императору и всем прочим, что я мало похож на своих предков, слишком слабых и нерешительных для великих дел. Моя же власть простирается так далеко, как им не приходилось даже мечтать». Когда же я попросил его прояснить смысл этих слов, он заявил, что в том нет нужды и что вскоре мы, ромеи, сами все узнаем и поймем.
В зале стояла такая тишина, что сквозь стеклянные витражи окон было слышно щебетание птиц в саду. Стратег Кантакузин скрестил на груди руки и был немало удивлен, заметив, что своим непроизвольным жестом привлек внимание большинства присутствующих.
— Что же еще сказал султан Мехмед?
— Больше ничего. Но когда нам, так и не получившим ответа, было указано уходить, он неожиданно остановил нас: «Больше не появляйтесь у меня с подобными вопросами. В следующий раз вас ждет мучительная смерть». Это были его последние слова.
Среди сенаторов пробежал возмущенный ропот. Скрипнула скамья под вставшим Кантакузином.
— Недопустимо более терпеть, государь! Утратив волю к действиям, мы потеряем всё. Прикажи и через несколько дней от крепости на берегах Босфора останутся одни руины!
С места поднялся димарх, высокий и худой вельможа с цепкими, глубоко запавшими глазами на удлинённом костистом кице. Его седые, кустистые брови недовольно вздернулись вверх.
— О чем ты говоришь, стратег? К чему ты нас призываешь? Совет этот опасен, василевс, и приводит меня в смятение. Подобными непродуманными действиями мы развяжем войну, ту самую, к которой стремятся османы.
Собрание взволнованно загудело. Кантакузин с побагровевшим от гнева лицом обрушился на сенатора.
— Не хочешь ли ты сказать, Лука Нотар, что я, столь необдуманно произносящий слова, не достоин высокого звания стратега? Так ли я понял тебя? Или ты смеешь намекать, что я действую на руку османам и с ними заодно?
— Нет, мастер, ты ошибся, — поднял голос и Нотар, стараясь перекрыть нарастающий шум.
— Ты неверно толкуешь мои слова и ищешь в них скрытый смысл, которого там нет. Я всего лишь хотел сказать, что недопустимо начинать военные действия против турецкого правителя, который только и ждёт предлога обрушиться на империю.
— Для войны султану не нужен предлог, — бросил со своего места Феофил Палеолог, протостратор[1] Византии и двоюродный брат императора.
— Зато ему нужна наша земля, — выкрикнул кто-то и собрание утонуло в разноголосом шуме.
— Османы и так отняли у нас все земли!
— Еще немного, и они поселятся в наших домах!
— Константинополь слишком крупная ставка, и им нельзя рисковать!
— Мы не допустим…!
— ….!
— Тихо! — голос императора перекрыл выкрики, и все замолкли в мгновение ока.
— Тихо, благородные номархи! Сейчас не время состязаться в умении перекричать друг друга. Необходимо быстро и трезво оценить ситуацию. Опасность велика, она близится к нашему дому и мы должны ясно осознать это. У нас пока еще есть возможность опередить ход событий и первыми нанести удар.
Он осмотрел притихших сановников и остановил взгляд на Димитрии Кантакузине.
— Стратег Кантакузин высказал дельную мысль. Поскольку незаконный захват чужих земель приравнен к открытому объявлению войны, нас не должны мучить сомнения — война уже началась. И если крепость на европейском берегу Босфора не будет уничтожена, положение столицы нашей — Константинополя — резко ухудшится. Но и в словах мегадуки[2] Нотара нельзя усомниться. Султан Мехмед давно вынашивает планы захвата Империи и мы не должны дать ему повод напасть на нашу столицу прежде, чем будем в достаточной мере подготовлены к обороне.
Сенаторы молчали, отводя взгляды в сторону.
— Говори, — кивнул василевс приподнявшемуся с места Феофилу.
— Государь, благородные члены синклита! Османский султан строит крепость для войны с Византией, это ясно каждому. У нас нет сил для открытой схватки с превосходящим по мощи врагом. Таким образом, борьба неминуемо сведётся к обороне ряда крепостей на обречённой на захват территории. Мы же, в свою очередь, можем увеличить это число и овладеть цитаделью лишь тогда, когда строительство будет близко к завершению. Этим мы выиграем время, необходимое нам для довооружения, а кроме того, в руках Империи окажется сильная крепость, способная оттянуть на себя часть войск врага.
— Что скажешь на это ты, мегадука? — обратился Константин к Луке Нотару.
— Прошу меня простить, государь, — хмуро ответил тот, — но я не верю в чудеса и не умею мечтать. Взять цитадель после её постройки немыслимо, разрушить её сейчас — смертельно опасно.
— Допустим даже, — заторопился он, заметив гневный жест Кантакузина, — наши войска, а они у нас крайне малочисленны и вы хорошо осведомлены об этом, перебьют строителей и обрушат башни в море. Изменим ли мы этим свое положение к лучшему? Нет! Султан пригонит новых рабочих и под прикрытием сильного войска они восстановят руины вдвое быстрее прежнего срока. Если же мы укрепимся в её стенах, что само по себе потребует немало времени и усилий, султан обложит крепость отборными войсками и постепенно принудит гарнизон к сдаче. Безусловно, протостратор прав, часть сил врага оттянется на осаду цитадели, но и мы не вправе распылять свои более чем немногочисленные отряды. Не говоря уж и о тех крепостях, которые находятся в нашем владении и защитить которые нам не под силу.
— Какой же выход ты предлагаешь? — спросил император.
— Выслушай меня, государь, и не гневайся, — Лука провёл ладонью по лицу и всем собравшимся стало видно, как нелегко даются ему слова. — Я знаю, мои речи не придутся по вкусу многим из сидящих здесь членов Совета, но всё-таки я произнесу это: не надо ссориться с султаном, не станем вызывать его гнев отказом от уступок….
Советники вздрогнули от нарочито громкого, оскорбительного хохота Кантакузина.
— Может, почтенный мегадука объяснит благородному сенату, — презрительно бросил он, — как он собирается замиряться с тем, кто стремится его уничтожить. По моему скромному разумению здесь возможны лишь два исхода. Но напавший первым имеет хотя бы преимущество неожиданности. И потом, что означают эти призывы к терпению и заискиванию перед недругом? Не пристало ромеям клонить свои головы!
Но всё же, несмотря на рукоплескания, синклит не поддержал стратега. Среди многих гневных выкриков в адрес султана, проскальзывало затаённое тоскливое бессилие: угроза ответного удара была слишком велика, а не прошенные мысли об огромной армии османского владыки парализовали не один незаурядный государственный ум.
Синклит принял сторону мегадуки, и в поздний час, когда восковые свечи до середины оплыли тяжёлыми жёлтыми каплями, вынес решение не препятствовать пока что постройке турецкой крепости, незамедлительно начать концентрацию продовольствия и войск в столице. И уповая на помощь Всевышнего, послать ко всем христианским государям Европы гонцов с просьбой об участии в отражении неверных.
Император тяжело поднялся с трона, встали и члены Совета.
— Скрепя сердце, мы соглашаемся с вами, благородные номархи. Империя сейчас не в состоянии вести войну с султаном. Но мы не вправе сидеть сложа руки, рассчитывая лишь на заступничество Всевышнего. Нами будут предприняты шаги, достаточно эффективные, вследствие которых никто не сможет упрекнуть нас в беспечности и нерешительности. На этом я распускаю синклит. Возвращайтесь к себе, но не забудьте услышанного здесь. Опасность близка. Мы должны помнить об этом. Нам придется собраться всеми силами, чтобы сообща и с Божьей помощью отразить её.
Когда сенаторы, возбуждённо переговариваясь, группами покидали зал, мегадука, стоящий в окружении своих сторонников чуть поодаль, ощутил на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, он встретился глазами с Алексием, и холод его стального взгляда обжёг димарха недобрым предчувствием.
Зеленоватая, насыщенная благовониями вода тихо плескалась о мраморные бортики бассейна. Отжимая намокшие после купания волосы, Ефросиния поднялась по ступеням и пройдя несколько шагов, опустилась на устланное простынями каменное ложе.
Темнокожая служанка выпорхнула из двери и принялась неторопливо обтирать госпожу тонким батистовым полотенцем, без устали вслух восхищаясь нежностью и белизной её кожи. Яркие лучи полуденного солнца, почти отвесно падающие сквозь маленькие проёмы окон, золотыми бликами играли на поверхности воды. В сладкой полудрёме гетера, прикрыв веки, отдалась во власть заботливых, хорошо знающих своё дело рук мулатки, массирующих и умащающих её тело ароматными маслами. Длинные волнистые волосы были расчесаны, надушены и заплетены в косу, венчающую голову подобно короне. Ефросиния поднялась и со слабым вздохом покорно ждала, пока служанка облачала её в полупрозрачную, мягкими складками спускающуюся до самого пола тунику. Затем, величаво ступая, Ефросиния прошла в опочивальню, оставляя на гладких мозаичных плитках влажные отпечатки босых ног.
Задёрнутые шторы создавали уютный полумрак, и потому, лишь подойдя вплотную, она увидела на своей постели лежащего человека. От неожиданности Ефросиния вздрогнула и на мгновение поколебавшись, подошла поближе, желая рассмотреть непрошенного гостя. Это был молодой мужчина, почти юноша, в одеждах из тёмной ткани. Он был красив и чист лицом, как языческий бог на древних изваяниях.
— Эй, кто ты? Что ты здесь делаешь? — начиная негодовать, окликнула гетера и подёргала краешек покрывала, на котором лежал незнакомец.
Юноша приоткрыл веки и со сладкой улыбкой, расслабленно потягиваясь, приподнялся с кровати. Его необыкновенного фиалкового цвета глаза уставились в лицо женщины, и на нее вдруг нахлынула волна ужаса. Полубезумный взгляд, взгляд полный ненависти и холодной, еле сдерживаемой злобы, на мгновение заставил ее оцепенеть; заворожил ее, как завораживают жертву немигающие глаза рептилии.
— Ты уже вернулась, прекрасная, — тонко пропел он, с хрустом вытягивая руки и томно встряхивая кистями. — Тогда сядь поближе ко мне и рассказывай.
— Как ты попал сюда? Кто пустил? — произнесла она, отступая на два шага и пытаясь подавить подступающий к горлу страх.
— Это мое ремесло, бесподобная Ефросиния, — по прежнему улыбаясь, ответил незнакомец, — приходить туда, где меня не ждут и слушать то, что мне не желают поведать.
— Ты несешь чушь! Я позову слуг и они вытолкают тебя в шею, — вспылила красавица и подойдя к столику, схватила серебряный колокольчик.
Но не успела она поднять руку, как юноша изогнулся и сделав громадный прыжок, очутился рядом с ней. Нежные холёные пальцы гетеры, сжимающие звонок, захрустели в руке незнакомца, а раскрытый для крика рот так и не смог выдавить ни звука — сильные пальцы стиснули горло, прервав дыхание, но не причиняя боли. В следующее мгновение потолок как бы опрокинулся на неё; она почувствовала, что летит по воздуху и на какое-то время потеряла сознание.
Постепенно мельтешащие в глазах зигзаги и полосы стали тускнеть и отступать, и она вновь увидела в пугающей близости от себя лицо незнакомца. Он лежал рядом и подперев голову рукой, с терпеливым равнодушием ожидал, когда жизнь вернется в её тело. Испуганно дёрнувшись, гетера отползла, цепляясь дрожащими пальцами за край бархатного покрывала. Юноша довольно усмехнулся и откинулся на спину.
— Ну вот, ты уже проснулась. А теперь слушай и запоминай: мне не страшны ни твои крики, ни твои слуги. Но всё же будет лучше, если мы обойдемся без лишнего шума и крови.
— Что ты хочешь от меня? — дрожащим голосом произнесла женщина, отползая всё дальше и дальше, пока не уткнулась в спинку кровати. — Тебе нужны мои драгоценности и украшения? Бери всё, только не убивай! Но может ты пришел за другим?
Она попыталась улыбнуться и принять соблазнительную позу. Её рука нащупала край просторной туники и поползла вверх, обнажая стройную белую ногу.
— Что же дальше? — спросил юноша, растягивая губы в неприятной усмешке.
Ефросиния торопливо принялась расстёгивать заколку на плече.
— Довольно, — остановил он её. — Мне не нужно ничего из того, что ты столь щедро предлагаешь. Ты лишь ответишь на пару-тройку моих вопросов и я оставлю тебя в покое, наедине с твоими сокровищами.
Рука остановилась, но после мимолетного облегчения красавица вновь ощутила прилив страха. Незнакомец резко приблизился и она с ужасом уставилась в чёрные провалы его зрачков.
— Ты провела прошлую ночь здесь, с мегадукой Лукой Нотаром, — чётко и раздельно выговорил юноша, дыша ей прямо в лицо. — Что тебе рассказывал этот старик?
— Что…? Не знаю. Как всегда….Говорил, что любит меня, — задыхаясь и обмирая от страха, стала перечислять Ефросиния, — что я единственная его услада. Что еще…? Восхищался моим телом, говорил, что….
Юноша презрительно сплюнул.
— Я не о том тебя спрашиваю, дура. Он обсуждал своих сподвижников? Рассказывал тебе о своих планах?
Сильные пальцы вновь сдавили её шею.
— Пусти меня…. я…. а-а-а-…,- она натужно захрипела и тогда они ослабили свою хватку.
Несколько мгновений женщина лежала на спине с закатившимися глазами и побагровевшим лицом, пока раскрытый рот заглатывал живительный воздух.
— Клянусь Богородицей, господин, — гетера зарыдала, прикрывая руками быстро темнеющее красными пятнами горло, — я ничего не знаю…. Он никогда не говорит со мной о делах. И вчера он говорил лишь о любви. Верь мне, это правда! Клянусь тебе Святым Писанием!
— Что ж, придется поверить, — ухмыльнулся юноша и поднялся с кровати. — Такие как ты, всегда очень набожны. Но запомни, потаскуха, когда ты что-либо узнаешь, ты пошлёшь своего слугу с запиской в Пизанский квартал, в мастерскую кривого бондаря. В этой записке будет указан день и час. К тебе придет человек. Не я, другой. И с ним у тебя и состоится беседа.
Он сладостно потянулся, запрокидывая голову к потолку.
— А если ты позабудешь это сделать или проговоришься мегадуке, я посещу тебя еще раз.
Его глаза неприятно сверкнули.
— Ведь мы за это время успели полюбить друг друга, не так ли?
Он встал, приблизился в выходу, насмешливо улыбнулся её отражению в зеркале на стене и тихо исчез за дверью. Ефросиния, бледная как смерть, опустилась на подушки и вновь впала в беспамятство.
Большой высокобортный парусник медленно плыл вдоль Босфорского пролива. Попутный северный ветер слегка надувал паруса, вымпел со стилизованным изображением венецианского крылатого льва лениво полоскался на верхушке мачты.
Ничто не нарушало утреннего покоя: ни плеск воды вдоль бортов, ни крики вездесущих чаек. Матросы, не занятые работой, сидели вдоль бортов или слонялись по палубе, перебрасываясь пустыми, ничего не значащими фразами. Закутанный по самое горло греческий кормчий, зябко ежась, обеими руками сжимал рукоять руля. Привычным взглядом он угадывал под водой невидимые мели и обходил завихрения встречных течений. Его не оторвал от этого занятия даже возглас одного из моряков, встревожено зовущего своего капитана.
Ритчи, потягиваясь, вышел из своей каюты. Вслед за ним в дверях показался его помощник. Их оплывшие лица и мутные глаза достаточно ярко свидетельствовали о несколько затянувшейся дегустации вин с херсонесских виноградников.
— Ну что, что там такое? — капитан приблизился к группе оживлённо переговаривающихся возле правого борта матросов. — Что вы так расшумелись?
Хмель быстро вылетел у него из головы: на берегу, уже совсем рядом, из туманной дымки вырисовывались очертания крепости, с высокими, еще недостроенными башнями. Это казалось немыслимым, невозможным — всего три месяца назад на этом месте была лишь выжженная солнцем и солью земля, усеянная к тому же громадными глыбами камня.
Как бы прогоняя наваждение, Ритчи несколько раз энергично тряхнул головой и повернулся к кормчему.
— Что за дьявол, Клитос? Когда мы плыли в прошлый раз, ничего этого не было и в помине!
— Похоже на османскую крепость, — ответил грек, всматриваясь в треугольный флаг, реющий над башней. — Ее не было, но сейчас она есть. Ох, не нравится мне это!
Ритчи задумчиво потёр себе щеку.
— Надо срочно доложить сенату Республики, — озабоченно проговорил он. — Эти приготовления турок смахивают на прямую угрозу.
С одной из башен крепости взвился белый дымок, и спустя несколько мгновений ядро с шумом подняло столб воды в сотне саженей от борта.
— Они приказывают нам остановиться, — кормчий вопросительно взглянул на капитана.
— Никто, кроме великого дожа и Сената не вправе приказывать венецианцам, — раздраженно произнес Ритчи и, махнув рукой, скомандовал матросам:
— Выкатывайте пушки к бою!
Второе ядро упало значительно ближе. Среди моряков поднялось волнение, но капитан упрямо продолжал вести корабль мимо турецкой крепости.
Тогда мощные укрепления замерцали многочисленными вспышками, расползающимися в белые облачка дыма. Ядра проносились над кораблем, рвали снасти, проделывали дыры в парусах. На палубе вспыхнула паника, когда каменный снаряд упал в скопление людей, превратив двух матросов в кровавое месиво.
Кормчий направил судно к дальнему берегу, чтобы выйти из-под обстрела и пытался маневрировать под градом ядер. С два десятка небольших бронзовых пушек, выставленных по бортам для защиты от пиратов, молчали: канониры, стоя подле них с зажженными фитилями, не решались стрелять. С треском полетели доски из проломленного борта, и вода тугой струей стала заливаться в трюм, портя и губя дорогие товары.
Капитан, уже без шляпы и с забрызганным кровью лицом, расталкивая мечущихся по палубе людей, подбежал к канонирам.
— Почему не стреляете, вы, трусливые ублюдки! — закричал он, пытаясь вырвать фитиль из рук стоящего перед ним человека.
— Синьор, пожалейте нас! У многих жены, ребятишки! — уворачивался от него моряк.
Ритчи свалил его с ног ударом кулака и торопливо нацелив орудие, сам поджёг запал. Чугунное ядро с треском снесло зубец на бастионе крепости, но эта слабая попытка сопротивления уже ничего не могла изменить. Корабль погружался в воду, и вскоре головы венецианских моряков, судорожно цепляющихся за обломки, чёрными точками замелькали в зеленой глади воды.
Двое стражников втолкнули венецианца в большую просторную залу, ещё пахнущую известью, но уже отделанную с всей восточной тягой к роскоши. Широкие ковры с затейливым персидским орнаментом покрывали стены от потолка до самого низа; выложенный гладкими плитками пол во многих местах был тоже прикрыт узорчатыми ковровыми дорожками. Курильницы по краям залы источали приторный аромат, окутывая душный стоячий воздух мутной пеленой, которая была особенно заметна в отвесных лучах солнца, ниспадающих из узких стрельчатых окон.
У входа и по углам залы выстроились рослые стражи с копьями в руках, а по краям центральной ковровой дорожки в ряд придворные и военные чины. В центре залы, в окружении своих советников восседал зять самого султана Саган-паша.
Руки венецианца были крепко спутаны за спиной; на лбу, облепленном мокрыми волосами, запеклась глубокая ссадина.
— Кто ты? — спросил через своего толмача Саган-паша, надменно оглядывая пленника.
— Капитан Ритчи! — последовал вызывающий ответ. — А ты? Кто ты таков? По какому праву ты посмел потопить мое судно?
У придворных вытянулись лица от такой неслыханной дерзости, но паша, казалось, лишь забавлялся разговором.
— Почему ты не подчинился моему приказу и не остановил корабль?
— Ты потопил мое судно, мое достояние и дорого заплатишь за это Республике!
— Я заплачу ей твоей головой, — нахмурившись, произнес паша, поднимаясь с подушек.
— Уберите его!
— Османская собака! — в ярости закричал Ритчи, бросаясь вперёд.
Но стражники, схватив его, повалили на пол и принялись ногами избивать сыплющего проклятиями венецианца.
— Обезглавьте его, — паша повернулся, чтобы уйти.
К нему приблизился начальник охраны и что-то тихо спросил.
— И всех остальных тоже!
Упирающегося капитана выволокли из зала. Саган-паша повернулся к коменданту крепости Румели-хиссар и тот тут же сделал шаг вперед.
— Начиная с этого дня, ты будешь топить всех подряд, кто будет противиться досмотру. Надо прекратить подвоз продовольствия в Константинополь. Так повелел нам владыка наш, султан!
У самого выхода Саган-паша остановился.
— Для этого дерзкого обезглавливание — слишком лёгкая смерть, — злобно усмехаясь проговорил он. — Посадите его лучше на кол, это будет хорошим уроком для остальных. А перед тем, на его глазах, казните всю его команду.
Ажурные створки дверей тихо закрылись за пашой.
ГЛАВА IV
Кресло на колёсах было придвинуто к самому окну, и через распахнутые ставни ветер доносил душистый аромат цветущего липового дерева. Тонкие старческие руки Феофана, испещрённые голубыми прожилками вен, изредка и беспричинно вздрагивали, глаза сосредоточились на некой точке небосвода. Третий час он пребывал в состоянии раздумья, и это не было пустым времяпровождением.
Когда-то давно, когда он был еще совсем молод и полон сил, в одной из бесчисленных приграничных стычек с боевыми отрядами турок-османов, он был вместе с конем опрокинут на землю. Упав спиной на каменистую почву, он поначалу не почувствовал боли и некоторое время пытался подняться самостоятельно. Пока не впал в беспамятство. Этот день изменил всю его последующую жизнь — ноги навсегда отказались служить ему. Личный врач императора Мануила II, осмотрев привезённое в Константинополь неподвижное тело, бесстрастно заявил: «Мне жаль говорить тебе это, витязь, но позвоночник твой серьёзно поврежден. Ты никогда более не сможешь ходить».
Феофан воспринял приговор с удивительным спокойствием. Осознание своей увечности вошло в него прочно, как входит лезвие меча в хорошо подогнанные ножны. Был призван искусный мастер, в течении двух дней соорудивший удобное кресло-каталку, которое и вместило в себя парализованное тело и за несколько десятилетий ставшее как бы неотъемлемой частью своего хозяина.
От природы наделённый острым умом и развитым воображением, Феофан долгие годы проводил за изучением богатой фамильной библиотеки. В которой преобладали труды античных философов, учёных и общественных деятелей. Тяжелые фолианты на богословские темы не привлекали его. Он сумел избежать отчаяния и опустошённости, сопутствующих тяжкому увечью, краха надежд и честолюбивых устремлений. И нашел в себе силы не свернуть на путь, ведущий отчаявшихся к религиозному самоотрицанию, к отказу от радостей и тягот земного существования.
Человеческая мысль, вытисненная красными и чёрными буквами на желтых пергаментных листах, открывала ему все новые и новые горизонты познания. Но, как следствие, умственное перенапряжение, усугубляемое вынужденным затворничеством вызвало у него глубокую депрессию. Дурную услугу оказала ему и отточенная логика, которая сметая с пути хитроумные софизмы, взлетала в высшие сферы, стремилась обособиться от окружающей реальности, постепенно подтачивая и разрушая сознание.
«Вся суть человеческого существования — абсолютная бессмысленность перед Вечностью и Мирозданием, непознаваемое в неведомом, безрезультатность в отсутствии цели».
«Человеческая жизнь, как и жизнь вообще — лишь ненужная случайность, неосторожно обороненная Творцом на его пути в непостижимые глубины вселенского самопознания….»
Листы с подобными записями густо устилали столы и пол в библиотеке, в месте добровольного заточения Феофана.
В одной из кризисных ситуаций, находясь на полшага от нервной горячки, Феофан вдруг осознал, что близок к утрате рассудка и вновь усилием воли сумел изменить свой образ жизни. Он стал больше появляться на людях, участвовать в общественной жизни, посещать званые вечера и философские диспуты. Хотя и не раз подмечал, как тягостно действует на окружающих вид прикованного к креслу калеки.
Способность к глубоким умозаключениям, к быстрым и нетривиальным решениям помогла ему войти в русло большой политики, которую Византия, хотя и утратившая былое могущество, но продолжавшая оставаться крупным культурным и религиозным центром, вела среди окружающих народов. Входя во всё большее доверие при императорском дворе, он не задумываясь срывал один покров за другим, обнажая для себя сложные, запутанные связи между влиятельнейшими людьми цивилизованного мира.
Довольно скоро он уяснил для себя, что ключ, ведущий к успеху и власти над людьми — количество отобранной и тщательно обработанной информации, способной возвысить или, наоборот, уничтожить человека. И он повсеместно пользовался своими знаниями: мозговая работа приносила ему почти физическое наслаждение, постепенно становясь единственным смыслом существования.
Шли годы; сменялись и уходили в небытие министры, сановники и военачальники. Вскоре Феофан встал во главе обширной разведывательной сети, держащей своих осведомителей во всех царствующих дворах европейских и азиатских государств. Эта тайная, незримая для посторонних глаз организация была более чем необходима: каждая война, любой затяжной конфликт болезненно отражался на благосостоянии Империи. Дорогие, оплаченные полновесным золотом, но крайне важные сведения стекались к Феофану значительно раньше, чем ко многим его конкурентам в крупнейших державах. Даже итальянские республики, немалую часть своих доходов с торговли перечисляющие в карманы разведывательных служб не имели таких осведомителей, какими безраздельно владела византийская дипломатия. Нередко в качестве устрашения ею пускались в ход и яд, и кинжал, порой строптивые исчезали безвести и навсегда, а искушённые становились заложниками собственных интриг.
Но для Империи наступали тяжёлые времена: на протяжении нескольких столетий Византия, находясь в центре противоречивых устремлений Запада и Востока, получала удары с обеих сторон. Её могущество и слава постепенно угасали, и отмерив срок в почти тысячелетие, империя оказалась у опасной черты.
Как преследуемая Роком, Византия неудержимо шла навстречу своей гибели. Сотрясаемая междоусобицами и волнениями, она терпела военные поражения от своих прежних союзников и вассалов. И вскоре оказалась один на один с воинственным османским султанатом, вынашивающим дальнейшие планы захвата земель. Но и здесь был найден временный выход — загодя распознав опаснейшего врага, Феофан предпринял необходимые меры, и вскоре в окружении султана и наиболее влиятельных турецких вельмож появилось немало людей, позвякивающих в кошелях византийским золотом.
Опасность прямого вторжения обошла Византию стороной, но дела шли все хуже и хуже. Государство беднело и приходило в упадок, торговля не приносила прежних доходов, а разросшийся, как гигантская язва, пригород Константинополя — Галата — пристанище генуэзских купцов, медленно пожирал экономику Империи, подводя её к неминуемому краху.
Феофан не мог не видеть этого, но его доклады василевсу Иоанну VIII отличались сдержанностью: любой агрессивный шаг по отношению к генуэзской колонии привел бы к резкому ухудшению отношений с могучей торговой республикой. Недопустимо было в те сложные времена терять важного союзника, приобретая тем самым в его лице опасного врага. И Феофан, скрепя сердце, ограничивался лишь пристальным наблюдением за усиливающимся влиянием галатских купцов, не теряющих крепкой связи со своей метрополией. По его совету, император сделал попытку ограничить влияние выходцев из Лигурии, увеличив в противовес им льготы венецианцам, давним соперникам Генуи. Таким образом, старый дипломат, играя на противоречиях между конкурентами, обращал на пользу Империи их непрекращающиеся разногласия.
Лишенный возможности самостоятельно передвигаться, Феофан приблизил к себе Алексия, сына опального тверского боярина, изгнанного за пределы страны за свое участие в мятеже против Михаила, великого князя Московского. Умный и исполнительный северянин быстро вошел в курс планов и расчетов Феофана и стал на советах держать слово своего хозяина, к тому времени уже отошедшего от официальных должностей и предпочитающего держаться в тени. Кроме Алексия, кроме разветвлённой сети осведомителей и негласных сторонников, под рукой у Феофана всегда находилось несколько десятков человек, готовых на всё по приказу своего господина, и мрачная слава о них разносилась далеко за пределами Византии.
Стремясь сдержать нарастающую угрозу и облегчить участь своей страны, старый дипломат приложил немало усилий для заключения Унии, объединяющей, хотя бы только на словах, католическую и православную Церкви. Атеист и прагматик, Феофан рассуждал холодно и здраво: эфемерное соглашение не в силах изменить сложившийся уклад веры в сознании людей, а папский престол ещё достаточно влиятелен, чтобы оказать помощь в трудный час.
«Уния — всего лишь выгодная сделка, — убеждал он василевса, — и греки приобретут от этого гораздо больше, чем потеряют».
Измученный болезнью и бесчисленными заботами, престарелый Иоанн VII дал своё согласие и даже сделал все от себя зависящее, чтобы план, задуманный его советником, осуществился. Однако хорошо просчитанный замысел едва не потерпел крах: внешне поддавшееся уговорам, но в глубине души настроенное резко против, константинопольское духовенство не преминуло вскинуться на дыбы. На Вселенском Соборе во Флоренции разразился скандал, когда почтенные прелаты в ходе переговоров сцепились между собой из-за схоластических противоречий и, перейдя с богословских тем на личности, громогласно понося друг друга, позабыв про сан свой и возраст, были весьма близки к рукопашной. Столь бурное обсуждение тут же стало мишенью для острот всякого рода шутников и насмешников, которые, в стремлении перещеголять друг друга, далеко разнесли молву о состоявшемся «благочинном» диспуте.
Упорство и строптивость вождя православного духовенства Марка Эфесского, для которого уступить — означало отречься, вызвало гнев василевса, и непокорный епископ просидел под замком все заключительные переговоры, которые вёл его его заклятый враг — предводитель латинофильской партии епископ Исидор. В соглашении, помимо прочего, оговаривалась военная помощь Византии, а так же готовность папского престола в случае необходимости подвигнуть народы Европы на новый крестовый поход.
И наконец, после долгих прений, в великолепном кафедральном соборе Флоренции состоялось торжественное заключение союза между римско-католической и греко-православной Церквями.
Но Уния осталась лишь на бумаге. Константинопольское духовенство отвергло подписанный договор, а Империя, в свою очередь, так и не дождалась обещанной помощи — папский престол не спешил выполнять взятые им на себя достаточно проблематичные обязательства. Византийцы в большинстве своём отвернулись от униатов — неприятие чуждой по обрядам церковной службы оказалось сильнее прагматических интересов, и Исидор, получивший от папы сан кардинала, был вынужден вернуться обратно в Рим.
Тем временем из Турции до Феофана доходили тревожные вести. Османский правитель Мурад II пришел в сильное раздражение, прознав о союзе Византии с римским духовенством. Отношения Константинополя с султанатом резко обострились. В этом отчасти была и вина византийских соглядатаев, втайне убеждающих султанское окружение в значимости этой по существу бесполезной сделки. Но гнев Мурада II пока не спешил обрушиться на маленькое непокорное государство — перед Османской империей возникли проблемы посерьёзнее.
Продвижение турецких войск на запад всколыхнуло европейские народы, попавшие под угрозу завоевания. Опасность заставила их сплотиться в военную коалицию. Руководство над спешно собранным ополчением венгров, сербов и чехов принял на себя воевода Трансильвании Янош Хуньяди. Опытный полководец, он нанёс несколько сокрушительных поражений турецким войскам и отбросил их далеко назад, освобождая захваченные территории от чужеземного ига.
Воодушевленные успехами коалиции, а также подстрекаемые византийскими эмиссарами, народы Центральной Европы и Балкан поднялись на борьбу с приверженцами ислама. С благословения папы был предпринят новый крестовый поход, в котором основным ядром на этот раз явились полки польского короля Янгелона Владислава III. Крестоносцы одержали ряд внушительных побед и не встречая сопротивления, вторглись в Болгарию. София вскоре пала, недолго удерживаемая турецким гарнизоном и войска союзников овладели большей частью Балкан.
Христианский мир ликовал. Казалось, ещё немного и власти мусульманских захватчиков в Европе придет конец. Но живучесть османского государства была беспредельной, и вместо уничтоженных армий турки быстро набирали новые, ещё более многочисленные.
Напуганный необычайным размахом освободительного движения, Мурад II за одно лето собрал огромную армию и двинул ее навстречу небольшому тридцатитысячному войску крестоносцев. Он не стремился к прямому сражению с ними. К чему лишний раз испытывать военное счастье? Не лучше ли заключить взаимовыгодный мир? Именно об этом говорили дипломатические миссии турок. И, чтобы, упаси Аллах, не уязвить самолюбия ни одного из предводителей, каждому из них, в самых изысканных выражениях, было предложено лично, от своего имени, скрепить подписями и печатями сделку.
Часть вождей крестоносцев купилась на эту старую как мир уловку. Феофан, несмотря на бесконечно рассылаемые предупреждения, не смог предотвратить неизбежное. Коалиция распалась: сербский князь Георгий Бранкович, в котором малодушие и соблазн перед щедрыми посулами турецких послов пересилили верность данному слову, отказался продлить договор о союзе, обещанный же венецианцами флот по неведомым причинам задержался с прибытием.
Поредевшее, ослабленное, раздираемое внутренними противоречиями крестоносное ополчение осталось один на один против армии Мурада. И вопреки всякой логике, первым начало против него военную кампанию. Воспользовавшись своим огромным численным преимуществом, в битве под Варной султан полностью уничтожил противника. В этом кровопролитнейшем сражении погибли почти все участники похода, включая самого Владислава III и находящегося при нём посланца папы — кардинала Джулиано Чезарини, вдохновителя и активнейшего организатора сопротивления.
Варненская катастрофа заставила содрогнуться мир. Антитурецкая коалиция полностью распалась; была сломлена вера народов в единство христианского мира. Во всех соборах торжественно служили молебны по душам павших храбрецов. Люди содрогались при одном упоминании об османах; казалось, кривой мусульманский меч уже завис над всей Европой. Всеобщей популярностью стали пользоваться гадалки и пророки; звездочеты упорно обшаривали ночной небосвод в поисках знамения; мистицизм и суеверия вознеслись до небывалого уровня, люди находились на грани массовой истерии. Правители европейских стран и княжеств пребывали в полном замешательстве — стремительный натиск турок опрокидывал все мечты о новом эффективном союзе. Папский двор замкнулся в угрюмом молчании.
Поражение христианского воинства не могло не пошатнуть положение Византии. Слишком долго она оставалась в стороне от непосредственных событий. Не в обычаях завоевателей всех времён и народов было пройти мимо лакомого куска, не отведав его. Император Иоанн VIII, сгорбленный годами и несчастьями, распростился с последней надеждой на помощь крестоносцев и послал гонцов к султану, стремясь задобрить его покорностью и богатыми дарами. Немало золота и драгоценностей вложил и Феофан, чтобы, воспользовавшись корыстолюбием придворных сановников, хоть на время отвести угрозу от империи.
Разгром крестоносцев под Варной не сломил лишь одного Константина, морейского князя из рода Палеологов. Человек незаурядной храбрости и силы духа, он не оставил попыток сплотить разрозненные греческие княжества в единое монолитное государство, которое могло противостоять Османской империи. Последующий по его замыслу военный союз Византии с вассальной Мореей мог задержать стремительно растущую мощь султаната и принудить его отказаться от новых завоеваний. Это не могло не стать известным турецкому владыке и месть последовала незамедлительно.
Пройдя Центральную Грецию, османская армия всей мощью обрушилась на длинную стену Истма, охраняющую перешеек Пеллопонесского полуострова. Прорвав оборонный пояс сразу в нескольких местах, турки открыли себе путь в Морею. Войска непокорного князя были разбиты, города и сёла превращены в развалины. Поставленный в безвыходное положение, Константин заключил мир с султаном и с трудом сохранил независимость своей страны, ежегодно выплачивая колоссальную дань.
Обезвредив Константина, дочиста разграбив и опустошив окружающие земли, султан двинулся в новый поход. Гонцы Феофана вовремя отбыли в Венгрию, но армия Мурада двигалась настолько быстро, что собрать внушительное войско Яношу Хунъяди просто не удалось.
Вновь, как и полвека назад, турецкая армия и венгерское ополчение сошлись на печально знаменитом Косовом поле. Венгры сражались отважно, но османские войска, значительно превосходящие их по численности, неудержимо наступали. Сражение, как и прежде, закончилось победой турок, истребивших почти всё войско противника. Не имеющая более сил для борьбы, Венгрия пала, попав под жестокий гнёт османского владычества, а напуганная поражением своей бывшей союзницы Сербия капитулировала, даже не пытаясь дать отпора. Была поглощена также и Албания, лишь в горных областях этой маленькой страны не утихала упорная борьба с завоевателями: непримиримый враг турок князь Скандербек в течении ещё многих лет отбивал попытки чужеземцев подмять под себя свободолюбивый народ.
И только Византия — единственное государство ближнего Присредиземноморья — оставалась препятствием к установлению султанатом своего единоличного владычества над этой обширной территорией.
Разгром Венгерского королевства тяжело подействовал на престарелого Иоанна VIII. Он впал в глубокую депрессию, отчаявшись спасти Византию. И в том же месяце тихо скончался, не оставив после себя наследника. На опустевший трон взошел морейский деспот Константин из императорского рода Палеологов, тот самый непокорный князь, стремящийся к объединению всех греческих земель под эгидой Византии и возрождению былого могущества Восточной империи. Как ни странно, но Мурад II не препятствовал решению синклита, выбравшего себе нового василевса. Феофану стала известна фраза, произнесённая султаном, когда тот услышал это имя в числе прочих имен претендентов:
— Деспот Константин? Пожалуй, этот морейский князёк будет достаточно безвреден — он в полной мере испытал силу моего гнева и во всем будет покорен воле Аллаха!
Султан не зря опасался другого, более опасного конкурента: король Арагона и Неаполя Альфонс V, один из самых могущественных государей Присредиземноморья, открыто лелеял мечту о воссоздании Латинской империи, в чём немало были заинтересованы западные державы. За ним стояла реальная сила: договора о союзе и родственные связи со многими королевскими домами Европы. Это могло серьёзно подорвать престиж Османского султаната, свести на нет его последние военные победы.
Но и византийская знать отвергла притязания чужака: её не устраивал сильный и жёсткий правитель, не считающийся ни с чем, кроме собственных притязаний. Который рассматривал Византию лишь как удобный форпост для новых завоеваний. Это могло означать как бы новый захват государства чужеземцами, подобный тому, какой имел место два с половиной столетия назад.
День 6 января 1439 года дал Империи нового василевса, взошедшего на престол под именем Константина XI Палеолога. На торжественной коронации присутствовала вся византийская знать, и население Константинополя радостно приветствовало своего нового правителя.
Император Константин, променявший жизнь полувассального князя на полный опасностей и тревог константинопольский трон, был человеком неистощимого мужества и энергии. Не каждый понимал, что двигало им, скорее воином, чем дальновидным политиком, когда он с первых дней своего правления сосредоточил все силы для военного отпора турецким завоевателям.
— Этого безумца соблазнил потускневший блеск имперской короны, — говорили одни.
— Он из породы мечтателей, если собирается восстановить хотя бы часть былой силы Византии, — вторили им другие, красноречиво пожимая плечами.
— Нет, он последний монарх среди сонма османских прихлебателей и пораженцев, — горячо возражали третьи. — Именно такой царь и нужен нам сейчас!
Но все сходились на том, что последнее вольное государство, маленьким островком сохранившееся среди бурлящей, свирепой борьбы за власть и выживание, недолго останется в стороне от близкой опасности. Это было достаточно очевидно, и многим в те тягостные дни вспоминались слова древнего пророчества судьбы столицы: «Константином воздвигся, с Константином и падёшь!»
Так, за три года до подступающей катастрофы, Константин XI стал последним правителем агонизирующей империи.
Негромкий стук в дверь прервал невеселые размышления Феофана. Он медленно повернул голову и вопросительно взглянул на вошедшего человека.
— В чём дело, сын мой? — мягко спросил старик.
Его глаза ласково сощурились, опутываясь сетью мелких морщин, из-за чего лицо стало похожим на печённое яблоко.
— Я вижу, ты чем-то встревожен?
— Да, мастер, и это не пустая тревога, — Алексий несколько раз прошёлся вдоль кабинета, затем опустился на краешек кресла перед дипломатом.
— Плохие вести, мастер.
— Я слушаю, сын мой, — испещрённые синими прожилками руки вновь сцепились пальцами и медленно опустились на красно-золотистую парчу халата.
— Турецкие отряды открыто пересекли границу и спровоцировали столкновение вблизи от города Эпиват. Наконец-то у султана появился повод нанести удар по Византии.
— Расскажи всё по порядку, — веки старого дипломата дрогнули, прикрывая глаза.
— Османские кочевники перегнали стада на земли ромеев и отказались их уводить, осыпая насмешками и угрозами возмущённых жителей. Селяне не потерпели на своих полях прожорливых животных и их вызывающе держащихся хозяев и прогнали палками и тех, и других со своих участков. На следующий день два конных отряда, которые, впрочем, не являлись частями армии султана, с двух сторон ворвались в село и дотла сожгли его. Обитатели соседних деревень им устроили засаду и на обратном пути грабители были основательно потрёпаны: лишь трети от их общего числа удалось вырваться живыми. Селяне, зная мстительный характер своих турецких соседей, запросили помощи у гарнизона города Эпиват. Спустя два дня полк пеших сипахов в сопровождении конного отряда, общим числом около восьмисот сабель, перейдя границу в том же месте, столкнулся с высланным навстречу отрядом солдат. В открытом бою, поддержанные местными жителями, наши воины опрокинули врага и, обратив в бегство, преследовали до самой границы. Конница ускакала раньше, а вот из полка сипахов мало кто спасся.
Алексий сделал паузу, затем продолжил:
— Далее, во избежание новых атак, жители Эпивата послали уведомление зачинщику организованного налета Исфендиар-бею, в котором объявляли всех проживающих в городе турок заложниками и при следующем нападении грозили предать их смерти.
— Едва ли это остановит Исфендиар-бея, если он вздумает вновь поквитаться с обидчиками, — заметил Феофан, — Решимость горожан заслуживает похвалы, хотя подобное и следовало ожидать — не так уж много у них осталось, чтобы боятся это утратить. И потому они готовы стоять до конца. А что касается намерений турок…. Ты был на приёме у султана. Расскажи мне еще раз, какое впечатление произвел на тебя этот юноша.
— Этот низкорослый кривоногий подросток, важно восседающий в окружении своих сановников, показался мне воплощением зла, мастер. Упрямство и недобрый ум в глазах, звенящая злоба в голосе. Лицо, и без того некрасивое, кривилось высокомерной усмешкой. Лишь слепой бы не заметил, что власть приносит ему чувственное наслаждение, а собственная свирепость и чужие страдания возвышают его в своих глазах. Это настоящее чудовище, мастер. Я был бы счастлив расправиться с ним, в куски изрубить это порождение преисподни. Но мои ножны были пусты, а стража следила за каждым движением.
— Всё верно, — задумчиво проговорил Феофан, медленно кивая головой в такт своим словам, — я именно так и представлял себе его. Жестокий и властный, не обделённый умом, упорный в своих мечтах и стремлениях, неистовый в желании подчинять себе всё и вся, этот юноша далеко пойдет, если его вовремя не остановить. А сделать это будет весьма непросто.
Он надолго погрузился в раздумье.
"Непросто? «- в душе Алексия скребли кошки.
Ведь можно было хотя бы попытаться? Спокойная, но маловразумительная речь, плавные и непонятные телодвижения — всё бы это сбило с толку стражу и помогло бы сократить расстояние. И тогда — быстрый бросок, взмах и удар в голову, в висок, удар кулаком в тяжёлой латной рукавице. Алексий украдкой взглянул на лежащие на коленях кисти своих рук. Пальцы на них судорожно, до крови, впились ногтями в ладони. Он вздохнул и медленно разжал их. Удар, всего лишь один удар! Этого было бы достаточно.
«Почему? Почему ты не позволил мне сделать это?» — молча вопрошал он, глядя на своего наставника.
Но вслух произнёс другое:
— Как следует поступить сейчас, мастер? Отправиться ли с полученным известием к императору?
— Пока в том нет нужды, — ответил Феофан. — О происшедшем василевсу доложат и без нашего участия. Опасность со стороны османского правителя пока еще далека — третьего дня он отправился во главе своего войска на усмирение мятежного бея Карамана. И до тех пор, пока он не принудит своего вассала к полному покорству, у Империи будет время для лучшей подготовки к защите.
— Я не знал об этом, — с легкой досадой ответил молодой человек.
— Когда тебе сообщили о походе, мастер?
— Вскоре после принятия решения. Хотя подготовка к нему велась уже давно.
— Мы думали, что сбор войска происходит для войны с Империей.
— Так же считали и придворные султана. Но под влиянием одного из знатных сановников Мехмед изменил первоначальный план, решив поначалу обезопасить свой тыл.
— Мне кажется, я догадываюсь, кем являлся этот советник, — нахмурясь, произнес Алексий.
— Да, сын мой, имя его нетрудно угадать. Больше ты ничего не хочешь мне рассказать?
— Нет, мастер. Но я хотел бы спросить….
— Что? Я слушаю.
— Мехмед. Ведь я бы мог…., - Алексий оборвал себя на полуслове.
Некоторое время помолчав, он отрицательно качнул головой, встал, поклонился и вышел из комнаты.
К чему вопросы, если ответ на них известен заранее?
Нет, он не был фанатиком, готовым при первом же случае возвести себя на мученический алтарь. Но видит Бог, как иногда бывает трудно преодолеть внезапно возникшее сильнейшее искушение! Тем более, он знал, что жажда убийства, овладевшая им при взгляде на Мехмеда — праведна, и теперь оставалось лишь сожалеть об этой упущенной возможности.
ГЛАВА V
Большая галера медленно разворачивалась в стоячей воде Золотого Рога, пристраивалась бортом к каменному причалу Влахерн. Лохматые пеньковые канаты, брошенные с палубы, были подхвачены служителями порта и наброшены на причальные тумбы, до блеска отполированные бесчисленным множеством подобных же канатов. На пристань были спущены сходни и по ним с корабля спустились двое мужчин.
Портовые зеваки, проводящие дни в праздности и болтовне, почтительно расступились, уступая дорогу новоприбывшим. В одном из них, могучем статном воине, чьи густые брови нависали над глазами, а тяжелую нижнюю челюсть скрывала борода, многие сразу признали Димитрия Кантакузина, одного из влиятельнейших людей государства.
Второй из них не был никому знаком — молодой человек приятной наружности, уже перешагнувший порог юности, но еще не вошедший в зрелый возраст. На нем был тёмно-зеленый кафтан, перетянутый у талии узким ремешком, с которого свисал средней длины меч; заправленные в сапоги брючины плотно обхватывали стройные ноги; из-под берета с косо всаженным за ободок пером густыми волнами спускались на плечи тёмно-русые со светлыми прядями волосы; под его тонкими как нить бровями блестели светлые, смотрящие вокруг себя с любопытством приезжего, глаза.
— Дорогу, дорогу! — послышались грубые окрики, и зеваки бросились по сторонам, спасаясь от лошадиных копыт.
Небольшой отряд конных солдат приблизился к стратегу, и сотник, соскочив с коня, по-воински приветствовал Кантакузина.
— Познакомься, Эвбул, — произнёс тот, небрежно ответив на приветствие. — Это мой племянник Роман. Он долгое время жил со своей матерью, а моей сестрой в Генуе. Но узнав о цели моего приезда, тут же пожелал прибыть в Константинополь, чтобы содействовать нам в нашей борьбе. Его отец, как, впрочем, и твой, погиб в морском сражении с неверными.
Угрюмо-спокойные глаза сотника потеплели, когда он взглянул на Романа и, сделав шаг в сторону, он жестом пригласил стратега и его племянника сесть на подведённых к ним лошадей. Вскоре, выбравшись из оживленной сутолоки порта, они быстрой рысью направились к родовому особняку Кантакузинов.
Роман с интересом смотрел по сторонам, окружающее не переставало его удивлять, приковывая внимание своей необычностью.
Рядом с величественными храмами и дворцами знати, над давно неметёными мостовыми кренились придавленные временем лачуги в окружении куч мусора. Довольно часто встречались груды развалин, некоторые здания, темнея черными провалами окон, стояли совершенно пустые, с выщербленными, крошащимися стенами; лишь мастерство строителей предохраняло их от быстрого разрушения. Необычно много было и нищих. Всадники проезжали вдоль пустырей, где в кучах отбросов копошились старики и дети, мимо засеянных просом и овсом участков, где когда-то высились громады строений, а теперь лишь мирно паслись козы. Резкий контраст между различными районами пришедшего в упадок города не переставал удивлять Романа. Вызывало недоумение также и странное, непривычное поведение людей.
Встречающиеся на пути горожане быстро и небрежно кланялись и торопились уступить дорогу, отводя в сторону равнодушный взгляд. Утренняя оживленность пошла на убыль, солнце близилось к закату, и казалось, какая-то усталость и глубокое безразличие овладевают людьми.
Уличные торговцы вели себя не столь шумно, как в других, кипящих жизнью портовых городах, не было слышно криков и смеха детей, даже в голосах собак, казалось, звучала непонятная взлаивающая тоска. В городе постепенно, вместе с сумерками, воцарялась тишина и отчуждение. Лишь птицы, все еще щебеча и перелетая с ветки на ветку, жили своей обособленной от людей жизнью.
«Будто я приехал в дом, где лежит покойник», — недоумевающе подумал Роман и прибавил ходу коню.
Тут его отвлекла неожиданная мысль: они ехали уже достаточно долго, но не только не пересекли город из конца в конец, напротив, за каждым поворотом перед его взглядом открывались все новые и новые улицы, аккуратно разделяющие скопления зданий на ровные кварталы.
«Воистину говорили знающие люди, что Константинополь по величине не имеет себе равных», — подумал Роман, вспоминая узкие и кривые улочки Генуи, затёртые в столь плотном нагромождении домов, что на многие окна даже на вторых этажах никогда не падал луч света. Здесь же дух захватывал от размаха застройки, и он с невольным почтением подумал о таланте древних зодчих, создавших подобное чудо света. Ещё несколько кварталов — и они въехали на широкий, вымощенный хорошо подогнанными каменными плитами проспект, конец которого уходил далеко вперед, теряясь в глубине вечерних сумерек. С правой стороны возвышался двухэтажный особняк с выступами по углам, обнесённый массивной оградой и более напоминающий хорошо продуманное оборонительное сооружение, чем предназначенный для жилья дом. Окованные железными полосами ворота, защищенные к тому же острыми шипами, распахнулись навстречу всадникам.
— Вот мы и дома, — произнес Кантакузин, спускаясь с седла и бросая поводья подбежавшему конюху.
Роман последовал его примеру и вслед за дядей поднялся по широким ступеням в гостиную залу.
После краткого, но обильного ужина они удобно устроились в креслах с высокими деревянными спинками.
В наступивших сумерках весело потрескивали свечи и пляшущее пламя камина отбрасывало на стены карикатурно кривые тени от окружающих предметов.
— Как тебе понравился город? — спросил Димитрий, поворачивая голову в сторону племянника.
— Он великолепен, — улыбнулся Роман, — но в то же время запущен и неухожен, как дом, в который позабыл дорогу хозяин.
— Ты прав, мой мальчик, — нахмурился стратег. — Город одряхлел, но в том не наша вина. Когда реки меняют свои русла, поселения на их прежних берегах умирают.
— Но чем же так озабочены люди, — спросил Роман. — Ведь даже на лицах нищих я замечал скрытое волнение. И это-то у бродяг — людей не слишком склонных думать даже о завтрашнем дне!
— Бродяги — это порождение нашего неустроенного мира, где печаль и горе легко уживаются с дурацким колпаком шутовства. Они лишь искажённое зеркальное отражение нас самих, чьей милостью они живы, с кем делят печали и страдания. Что же касается озабоченности горожан, то вскоре ты поймешь, что там, где тревога каждый день гложет сердца, нет и не может быть места радости и веселью. Священники твердят, что в том расплата нам за наши грехи. Что ж, как знать, может они и правы. Пусть Бог им будет судьей, но я верю, что несмотря ни на что Константинополь возродится к новой жизни и вновь, как и прежде, вернёт себе утраченное величие.
Стратег замолчал, его глаза, смотрящие на пламя свечей, непреклонно сузились.
— Надо только не дать нашим недругам схватить нас за горло.
— Но ведь они уже сделали это, — возразил Роман. — В Генуе говорят, что мир с султаном висит на волоске и что дни Империи уже сочтены.
— Пусть говорят, что вздумается, — загремел Кантакузин, приподнимаясь с кресла. — Ты не должен прислушиваться к злым наветам. Султан обломает зубы о твердыни Константинополя, а пока будет биться сердце Города — будет жить и Империя!
Повисло неловкое молчание.
— Прости меня, — смягчаясь, заговорил Димитрий, опуская тяжелую ладонь на плечо племянника. — Я был излишне резок с тобой. Ты молод и подвержен дурным влияниям. Запомни, Роман, на то ты и воин, чтобы быть готовым ко всему, идти до конца и, если понадобится — принять смерть с открытым забралом.
Он смолк, и они ещё долго сидели в тишине, прислушиваясь к мерному потрескиванию горящих свечей.
Лето протекло в вялых приготовлениях. Средств не хватало даже на самое необходимое. Удалось осуществить лишь немногое из задуманного и это удручало людей, принявших на себя бремя ответственности и не привыкших плыть по воле течения.
Тревога не оставляла василевса. Константин вновь отправил послов в Рим. Он напоминал, требовал, угрожал, но папский престол не спешил с ответом. В настойчивости византийского правительства слишком явно проглядывались попытки утопающего ухватиться за былинку. Мало сочувствуя морально сломленному сопернику, высшее римское духовенство ограничивалось издевательски звучащими призывами к стойкости и терпению, а также многословными заверениями в прочности союза. Лишь в конце октября в Константинополь отбыл кардинал Исидор, бывший епископ православной Церкви, некогда изгнанный из города своими противниками.
Константин и его ближайшее окружение предприняли еще одну героическую попытку примирить враждующие лагеря церковнослужителей. Василевс торопился: посланник Феофана уведомил его, что внушительное войско численностью до 50 тысяч сабель отделилось от армии султана, движущейся на юго-восток, в сторону мятежного Караманского эмирата. Вскоре, под предводительством опытного полководца Турхан-бея на грузовых судах началась переправка солдат в Морею, на греческий полуостров. Это означало, что помощи от братьев Константина, Фоки и Димитрия, уже не дождаться. Положение заметно ухудшалось. Но это, казалось, лишь подливало масла в огонь неутихающей религиозной межусобицы, грозящей расколоть византийцев на разные лагеря. Взаимное ожесточение, подпитанное тревогой и страхом на каждый еще не прожитый день, продолжало давать свои злокачественные всходы.
По рассохшимся, скрипящим ступеням лестницы кардинал Исидор медленно поднялся на корму галеры и, приблизившись к кромке борта, опустил ладони на брусья перил. Перед ним, как на наполненной светом картине, в мельчайших деталях разворачивалась панорама Константинополя.
В прозрачном, кристально чистом воздухе, подобно золотым половинкам яйца, сверкали раскаленным металлом купола церквей и храмов; светлые прямоугольники зданий ступенями спускались вниз почти до самого моря, а там, у берега, казалось, прямо из воды, вырастали геометрически совершенные стены и башни оборонного пояса, увенчанного бесчисленным множеством зубцов. Дорожка от солнца, искрясь и сияя на волнах, вела прямо в город; сквозь плеск воды доносился дальний колокольный перезвон.
Ноздри прелата жадно раздулись, вбирая восхитительный, пьянящий аромат морского ветра и от нахлынувших воспоминаний внезапно, в острой тоске, защемило сердце.
Все тринадцать предыдущих лет прошли в бесплодных метаниях. Не принятый на родине взбунтовавшимися после заключения Унии ортодоксами, упорно видящими в нём лишь изменника веры и вековых устоев, ренегата, сменившего ради благ земных клобук епископа на пропахшую ересью шапку кардинала, он был вынужден покинуть Константинополь.
Но и Рим встретил изгнанника прохладно. Папа Николай V и его окружение стремились убрать подальше от столицы неудобного многим священнослужителя, живое напоминание о несостоявшейся сделке. Вскоре последовало назначение Исидора наместником святейшего престола в Литве и в России. Исидор отправился в Московию, но и там его подстерегла неудача: возмущённые непомерными требованиями апологетов католицизма, русские иерархи еще во Флоренции отвергли Унию, и великий князь Московский Василий II, подстрекаемый патриаршеством, объявил Исидора самозванцем и бросил его в темницу.
С большим трудом, подкупив несговорчивых стражей, кардинал бежал из застенка и звериными тропами пройдя сквозь леса, укрылся в соседнем Литовском княжестве. Лишь позднее Исидор осознал, что побег был скорее всего подстроен — князь Василий не желал неминуемых осложнений для своего сотрясаемого мятежами престола и не собирался из-за опального прелата ухудшать и без того не слишком дружественные контакты с католическим миром.
И вновь Ватикан, полный интриг, подпольной борьбы за власть и место под солнцем на той вселенской ярмарке властолюбия, тщеславия и стяжательсва. Уединившись в отдаленном монастыре, Исидор почти все свое время проводил в чтении книг: жизнь среди сановников от церкви стала ему омерзительна. И едва прослышав о посольстве от императора Константина, воспрянул духом так, что чуть насмерть не загнал своего любимого жеребца по дороге в Рим. Долго настаивать там ему не пришлось: кроме него не оказалось ни одного желающего принять на себя миссию представителя папского престола в Византии.
И вот теперь, после десятка с лишним лет разлуки, он вновь возвращается в этот прекрасный город на семи холмах, в город, ради которого он поступился верой и честью, и который отверг его жертву. В город, по недоброй воле судьбы, оказавшийся на пороге катастрофы и оттого ставший ему в стократ дороже. В город, одно название которого неземной музыкой звучит в его ушах — Константинополь.
— Ваше Высокопреосвященство, — раздался голос за спиной.
Кардинал обернулся и высоты своего внушительного роста невидяще взглянул на приземистого римлянина, капитана галеры.
— Я слушаю тебя, сын мой, — глухо произнёс он и, не сдержавшись, вновь обратил взгляд на вырисовывающуюся на фоне лазурной воды и неба ровную полосу Морских стен города.
"Здравствуй всегда, Царица цариц», — неслышно прошептали его губы.
— Не укажет ли синьор кардинал пристань, в которой он предпочтёт поставить корабль, — допытывался капитан, настойчиво заглядывая в лицо прелату.
— Плыви к Влахернскому причалу, — ответил Исидор, и тут же забыв о собеседнике, впился глазами в проплывающие мимо, до боли знакомые кварталы города.
С палубы неслись хохот и нетерпеливые выкрики. Кардинал досадливо поморщился: папский престол не счёл нужным выполнить взятые на себя даже те ничтожные обязательства. И Исидору пришлось на свои более чем скудные средства нанимать на острове Хиос две галеры, около полутора сотен солдат, да еще столько же из числа портовых головорезов. Но точно так же он бы поступил, если бы римская курия сдержала свои обещания.
Да, он изгнанник. Ну и что с того? Разве можно обвинять любимую за то, что тяжкий недуг, поразивший ее, исказил до того прекрасные черты?
Долго, очень долго разворачивалась галера, пристраиваясь бортом к каменному молу. А там, вблизи от полощущих по ветру флагов, уже толпились празднично одетые люди, слышались приветственные возгласы и смех.
— Они встречают меня! — захолонуло сердце от радости, и у дородного, в расцвете сил мужчины едва не подкосились ноги.
Краски ярче заиграли в глазах, воздух живительной струёй вливался в грудь, наполняя тело пьянящей легкостью и силой.
Толпа взорвалась радостными криками, когда он ступил ногой на отшлифованный временем камень причала. С башен ухнули крепостные орудия, и в образовавшийся живой коридор, на белоснежном красавце-коне въехал император. Пурпурная мантия волнами спускалась с его плеч на круп скакуна, шитый золотом хитон облегал широкую грудь, а на кожаных сапожках василевса сверкали вышитые золотом двуглавые орлы — фамильный герб Палеологов, символ неукрощенного духа Империи.
Вслед за императором двигалась его свита, и во многих из них Исидор узнавал некогда близких ему людей. На мгновение ему мучительно захотелось поверить, что не было тех долгих лет изгнания, что это праздничное торжество и люди на пристани — всё это для него, Исидора, бывшего гражданина и епископа Византии. Но тут же, невесело усмехнувшись, одёрнул себя: нет, они видят в нём всего лишь посланника Ватикана, представителя католической Церкви и вассальных ей европейских государств. Им не нужен он как личность, в этом качестве он давно умер для ромеев.
Император легко, подобно юноше, спустился с коня и приблизившись к прелату, почтительно приветствовал его. Исидор ответил на приветствие, заверяя василевса в своём дружеском расположении к нему и к его стране, а также выразил желание как можно скорее разрешить спорные вопросы, мешающие установлению согласия и прочного договора.
— Кроме того, я надеюсь, василевс помнит, что я по происхождению ромей, и интересы отечества, которое я, невзирая на обстоятельства, по-прежнему считаю своим, остаются для меня превыше всего.
— Мы рассчитывали услышать это и будем рады принять в свой круг ещё одного союзника и друга. Для нас человек, поступающий согласно своим убеждениям и долгу, вне зависимости от сторонних суждений, всегда был и будет достоин уважения.
Константин отступил на полшага в сторону и сделал рукой приглашающий жест. Сдерживаемая тонкой цепочкой гвардейцев толпа вновь взорвалась приветственными криками, и на дорогу перед прелатом и василевсом полетели охапки цветов. Под звуки кимвалов и фанфар они приблизились к карете, впряжённой в шестерку лошадей, но Исидор отклонил приглашение сесть в неё, мотивируя своё нежелание тем, что сквозь маленькие оконца ему не удастся в достаточной мере насладиться обликом Константинополя. Тогда, как бы заранее предвидя отказ, к нему подвели гнедого жеребца, украшенного лентами и бантами, с пышным плюмажем на голове.
Торжественный кортеж медленно проехал по улицам и площадям; кардинал лёгкими поклонами отвечал на приветствия, поднимая руку для благословения. Истосковавшееся по праздникам население высыпало из домов; многочисленные зеваки, рискуя вывалится вниз головой, свешивались с окон и с крыш, махали шляпами, беретами и платками. Радостный гул катился волнами, подобно приливу, а поверх него как бы барашками пены всплывали громкие ликующие выкрики.
Прелат вновь ощутил угрызения совести — сам того не желая, он предстал перед этими людьми в качестве избавителя от близкой беды, вестника мира, покоя и процветания. В их глазах он вырастал в вершителя судеб, ведущего за собой объеденные войска Европы, в святого Георгия — драконоборца, избавителя от врага измученных тревогой горожан.
Но чем он мог ответить на эту надежду? Он знал слишком много, чтобы не питать пустых иллюзий, и не мог ничего дать воспрянувшим духом горожанам. Исидору вдруг на мгновение захотелось крикнуть во всю мощь своих лёгких: «Люди, вы обманулись! За мной нет никого и ничего, кроме двух галер и трёх сотен солдат!» И пусть тогда его разорвут в клочья, лишь бы только не продлять эту медленную пытку.
Но кортеж продолжал двигаться вдоль главного проспекта, и кардинал по-прежнему дарил улыбки, кивками головы отвечал на приветствия, благословляюще поднимал руку и только на мгновение, украдкой, как-бы от солнца, прикрыл ладонью мучительно щиплющие непролитыми слезами глаза.
Однако далеко не все разделяли радость горожан. Противники Унии, отчаявшись что-либо изменить в происходящем, решились нанести ответный удар. Православная партия сделала всё возможное, чтобы поднять народ на открытое сопротивление. Монастыри загудели, как встревоженные ульи; вдохновенные проповеди разжигали фанатизм; колокола на звонницах малых церквей, сотрясая ударами ветхие строения, собирали людей со всей округи. Подобно стаям чёрных воронов схизматики высыпали прочь из тесных келий и толпами шли по улицам, сзывая народ и выкрикивая хулу латинянам. Церковные хоругви в их руках, с вышитыми ликами Христа и Богородицы, раскачивались, как в шторм мачты корабля; в тёмной массе монашеских ряс белыми пятнами мелькали искаженные религиозным исступлением лица.
Шествия быстро обрастали мирянами, тянулись со всех концов города к центру. Настроение толпы изменчиво и многие из тех, кто еще недавно приветствовал торжественный въезд кардинала в Константинополь, теперь громко выражали свой протест. Из трущоб и подвалов зданий выползали отбросы общества — воры, бродяги, нищие и калеки. Людской поток рос прямо на глазах; возбуждение, подогреваемое горячим вином и страстными призывами священников грозило вылиться в открытый бунт.
Притягиваемые как магнитом толпы стекались к монастырю Пантократора, где в тиши и уединении укрылся бывший глава православной Церкви Георгий Схоларий, под именем Геннадия принявший схизму. Приблизившись к монастырю, толпа в растерянности остановилась перед запертыми воротами. Неожиданное препятствие охладило пыл; вдохновители угасли — никто не мог допустить кощунственной мысли о штурме монастырских стен, освящённых, казалось, самим духом непротивления насилию. Громкий стук оставался без ответа, лишь на мгновение в смотровом окошке мелькнул чей-то перепуганный глаз и тут же скрылся за бурым деревом заслонки.
Время шло, нетерпение жгло души, и толпа, пополняемая новыми людьми начала глухо волноваться. Уже первые камни застучали в массивные створы; истеричные выкрики: «Геннадия держат взаперти!» будоражили людей, вызывали мрачные подозрения. Камни всё чаще стучали по стенам, порой перелетали через ограду; невесть откуда взявшимся бревном стали сокрушать ворота. Наконец они поддались, и толпа с криками, сметая с пути немногочисленных перепуганных монахов-служек, пытающихся образумить людей, ворвалась на территорию монастыря.
Добежав до келий, горожане остановились: впитанное с материнским молоком почтение перед таинством богослужения удерживало их на почтительном расстоянии.
Поначалу робко, затем всё громче и громче зазвучали призывы:
— Пусть Геннадий выйдет к нам!
— Мы ждём твоего слова!
— Скажи, Схоларий, что нам делать?
Толпа бурлила и волновалась. Стиснутые множеством разгоряченных тел, монахини, пытаясь вызволиться, бились подобно выброшенной на берег рыбе и исступленно визжа, впивались ногтями в лица окружающих. Невзирая на святость места проклятия сыпались градом; рослые энергично работали локтями, приземистые старались уберечь от ударов головы. Требования нарастали, звуча угрожающе. Казалось, еще немного — и терпение толпы лопнет, взорвавшись неудержимым стремлением к разрушению. Внезапно люди ахнули и подались назад. Дверь кельи распахнулась и из темного проема выглянул человек в монашеском облачении. Его пронизывающие глаза из-под надвинутого по самые брови капюшона горели мрачным и недобрым огнём, крючковатый нос хищно нависал над тонкой щелью рта. Жгуче окинув взглядом вокруг, он презрительно передернул плечами, вышел, прикрыл за собой дверь и застучал по ней молотком. Закончив, Геннадий вновь укрылся в келье, оставив на двери прибитый листок. В тишине отчётливо лязгнул задвигаемый засов.
Оторопевшая от неожиданности толпа некоторое время мрачно созерцала распятый на двери пергаментный лист, затем вновь раздались крики:
— Читайте! Читайте!
— Он оставил нам послание!
— Волочите монахов к двери, они знают грамоту!
Вперёд протиснулся тучный игумен, уверенно рассекающий людскую массу своим внушительным животом. Протолкнувшись к двери, он требовательно вскинул руки, призывая к тишине.
Народ всколыхнулся: послание желали услышать все. Задние отчаянно стали пробиваться вперёд, передние же не уступали своих мест, и игумен, притиснутый к дубовой двери, истошно завопил, осыпая проклятиями напирающих на него людей и пытаясь отлепить придавленное к посланию лицо.
Понемногу волнение улеглось, и священнослужитель стал читать зычным, хорошо поставленным голосом: «О, жалкие ромеи! Зачем вы отступили от пути праведного, удалились от Бога, понадеявшись на силу франков и латинян! Вместе с Городом, ввергнутым вo прах, вместе с пленом, который вас постигнет, утратите вы веру свою и благочестие. Вы отступили от отеческого предания и стали проповедовать бесчестие. Горе вам, когда придёт на вас суд Божий!»
Игумен закончил чтение; недобрая тишина повисла в воздухе. Потрясённые услышанным, люди растерянно переглядывались: грозное предсказание эхом звучало в ушах у каждого. Отравленные злобой слова упали на благодатную почву, и отчаяние с новой силой забродило в душах, разрастаясь и не находя выхода.
— Анафему Флорентийскому Собору! — надрывно закричал чей-то голос.
Спрессованная масса людей дрогнула.
— Будь проклята Уния и униаты! — взлетел исступлённый женский визг.
Толпа взорвалась градом проклятий и оскорблений. Высыпав из-за монастырской ограды, люди разбегались по всему городу, выкрикивая угрозы католикам и латинофилам.
Бурлящие потоки монахов и монахинь, игуменов и церковных служек, мирян и солдат растекались по улицам, понося «бесчестных отступников» и грозя им немедленной смертью.
Начались погромы. Горожане врывались в трактиры и харчевни, вышибали двери и рамы окон в лавках виноторговцев, и выходя оттуда с полными чашами вина, до дна осушали их в честь иконы Богородицы, славя её и призывая в защитницы Города.
Вино кружило головы; многие без сил опускались на четвереньки и уже сидя на земле, продолжали распалять себя, захлёбываясь словами и руганью. Более выносливые не прекращали буйства, организуя шествия по городу и, прикрываясь святыми образами и хоругвями, кричали на все голоса:
— Не нужно нам ни помощи латинян, ни единения с ними!
— Нам не надобна Уния! Пусть удалятся они от нас со своим неправедным учением!
Глухая смута постепенно овладела Константинополем. Подняла голову и партия туркофилов, ранее избегавшая открытой политической борьбы. Её вождь, мегадука Лука Нотар, страстно ненавидящий всё, что связано с латинянами произнёс фразу, ставшую затем легендарной: "Лучше увидеть в Городе царствующей турецкую чалму, чем папскую тиару!»
Эти слова были тут же подхвачены и разнесены сторонниками мегадуки, а население столицы тем временем продолжало волноваться, разрываясь между противоборствующими лагерями.
Кое-где вспыхнули схватки вооруженных группировок; гигантская чаша Ипподрома, способная вместить в себя в то время почти всё население Константинополя, едва не оказалась, как и прежде, во времена расцвета Империи, ареной кровавого побоища. Угрожающим стало и положение на окраинах города. Жители латинских кварталов спешно баррикадировались в своих домах; отряды латников оцепили перекрестки улиц и площади Константинополя; конные патрули гвардейцев рассеивали наиболее решительно настроенные толпы горожан.
Но всё же, несмотря на яростное сопротивление части населения, Исидор провёл богослужение в храме святой Софии.
Католическим его можно было назвать лишь отчасти: у кардинала не было достаточного опыта канонической службы, да и латинский язык, непонятный большинству присутствующих, с трудом давался прелату. Красное облачение Исидора, хотя и резало глаз своей непривычностью, почти терялось на фоне подавляющего великолепия древнего храма.
Стройные, украшенные резными капителями, подпирающие собой высокие арочные своды, колонны светились в предзакатных солнечных лучах богатой палитрой красок — белый проконесский мрамор, светло-зеленый эвбейский, красный и голубовато-белый карийский, египетский розовый и жёлтый нумидийский порфир. На глянцевом полу, мощенном плитами многоцветного мрамора, как в тихих водах озера, отражались парящие в высоте светильники на бронзовых цепях.
Обширный зал был полон приглушенного, рассеянного света. Янтарные лучи сочились из многочисленных окон и растекались вширь, до самых дальних уголков храма. Переступившего порог охватывало ощущение тайны, тихой и покойной, ласковой, как звуки небесного песнопения.
Над отливающем позолотой алтарем высился полусвод, два других окружали его по бокам, как бы повествуя непосвященным о трех ипостасях Святой Троицы — Отце, Сыне и Святом Духе. Три малых полусвода объединял в себе большой, отражающий нераздельное единство трех составных Божественной Сути. Над полусводами, растворяя в себе весь храм, парил в воздухе колоссальный купол. Безмерно огромный, подобно небу, свод, казалось, удерживался на весу лишь столпами солнечного света из полукруглых окон по его краям; олицетворял собой единение Троицы с миром, Бога с человечеством, мистическую связь вечности и пространства.
Иногда, сквозь малые окна куполов, из неба в небо, пролетали голуби и нежным, как у ангелов, шорохом крыльев смущали благочестивый покой тысячелетнего храма.
Храма святой Премудрости.
Хор мальчиков-служек по-детски неокрепшими голосами выводил щемяще-чарующую мелодию литургии, и это песнопение, отражаясь от бесчисленных арочных сводов, как бы окутывало молящихся со всех сторон тончайшей паутинкой небесных звуков и тихого, чуть слышного нежного шепота.
Одни внимали радостно и истово, с глазами, полными воодушевления; лица других были сумрачны и враждебны, казалось, лишь долг верноподданных удерживает их здесь. Исидор вёл службу умно и тонко, стараясь не вызывать раздражения у немалого числа присутствующих православных епископов. Он понимал, что его сутана и латинский язык для многих из них, как красная тряпка для быка, вызывали недовольство и отторжение, но изменить что-либо не было в его силах.
Кардинал не стал затягивать богослужение. Окончив, он склонил голову перед паствой, и с облегчением перейдя на греческий язык, заговорил:
— Братья и сёстры мои! Пусть этот день будет памятен всем. Великая Уния, сплотившая две Церкви, вновь явила нам пример миролюбия и терпимости. И это пойдет, не может не пойти на благо христиан всего мира. Я верю, связь не порвётся с веками, и согласие неминуемо принесет свои добрые плоды.
Он смолк, окидывая взглядом внимающих ему людей. Затем повернулся в сторону стоящих с правого края, в первых рядах, императора и его свиты.
— Я знаю, решение это нелегко далось вам. Подобно тому, как наречия родственных племён, разделённых пространством, со временем меняются так, что народы с трудом понимают друг друга, так и в лоне Вселенской Церкви иногда возникают иные вероучения и ереси. Но трижды преступен тот, кто пользуясь этим, пытается расколоть Святое учение на чуждые друг другу части и колеблет тем самым вековые устои христианства. Бог един у нас, и я назову кощунством любую попытку использовать имя Создателя в своих неблаговидных целях.
Исидор поднял руки.
— Я же желаю, чтобы враг, готовящийся пожрать нас, аки лев рыкающий, был повержен и изгнан обратно в пустыню. И как представитель святейшего Ватикана, сделаю все от себя зависящее для посильного участия главы католической Церкви папы Николая V в деле отражения натиска неверных. Сегодня же мои гонцы отправятся в Рим, и постановления Флорентийского собора вступят в силу. Да святится воля Господня! Во имя Отца, Сына и Святого духа!
Константин согласно наклонил голову, но когда он заговорил, его голос был полон горечи.
— И мы желаем, чтобы слова, которые здесь только что звучали, сбылись. И сбылись как можно скорее. Гонцы Империи не раз поспешали в Рим, но не находили там ничего, кроме радушного приёма и уклончивых обещаний. Но мы не теряем надежды, что Господь услышит наши молитвы. Да святится во веки веков Его воля. Во имя Отца, Сына и Святого духа!
— Во имя Отца, Сына и Святого духа! — эхом пронеслось среди присутствующих.
— Амен! — заключил Исидор, воздевая над ними распятие.
ГЛАВА VI
В то время как в Константинополе постепенно угасали волнения, вызванные прибытием папского легата, войска Турхан-бея уже двигались по землям Греции.
Перед испытанным в боях полководцем ставилась одна, достаточно ясная цель: не допустить воссоединения морейских князей Фоки и Димитрия и всячески препятствовать им в посылке войск на помощь Константинополю.
Но эта задача казалась до обидного малой обласканному султаном турецкому сатрапу: он поклялся покорить своему повелителю все земли, через которые пройдет его войско. Не встречая серьёзного сопротивления, османская армия продвинулась вдоль низменных равнин залива Кипарисов. Её головные отряды легко овладевали слабо защищёнными городами, не успевшими отстроить разрушенные в предыдущей войне стены. Обогнув горную гряду, войско вышло на плодородные приморские берега и, разоряя окрестные сёла, устремилось вглубь страны.
И там впервые, у кромки скалистых гор, на засеянном овсом поле, дорогу захватчиками преградило наспех собранное греческое ополчение.
Передовые отряды турок замерли в нерешительности, ожидая подхода основных сил; гонцы тут же помчались к Турхан-бею с известием. Выжидание было благоприятным для обеих сторон: к туркам подтягивались растянувшиеся на много верст полки османского бея; ополчение же беспрерывно пополнялось стекающимися с близлежащих земель селянами. Последними пришли спустившиеся с высокогорных пастбищ пастухи, ведя на привязи своры лохматых, злобных волкодавов. Оборванные, плохо вооруженные отряды ополченцев, воинственно размахивающие топорами и самодельными пиками, быстро сливались, подобно капелькам ртути, в одну большую, громкоголосую, воодушевленную собственной решимостью толпу.
Турхан-бей медлил, ожидая подхода дружин морейских князей — ввязываться в бой с землепашцами и пастухами казалось ему оскорбительным. Но время шло и, потеряв терпение, он послал конницу на разгон неровного строя ополченцев.
Схватка была короткой и жестокой: отступив поначалу под сильным натиском, греки яростно набросились на врага. Град стрел и камней полетел в чужеземцев; в лошадей швыряли охапки пылающей соломы, и они, дико храпя, вскидывались на дыбы, сбрасывая седоков на ножи поселян. Тяжёлые цепы молотили всадников, ломали кости и черепа; распрямленными косами и серпами на длинных рукоятях подрезали сухожилия на ногах у коней; топорами и вилами добивали упавших на землю. Пастухи спустили собак, и огромные, свирепые как волки, псы, вгрызались в лошадиные бока, хватали выброшенных из седел людей за горло. Даже длинные пастушечьи кнуты превратились в тот день в оружие: утыканные острыми гвоздями, они с громкими хлопками впивались в тела, выбивали глаза, рвали плоть на куски.
Отпор был настолько силен и неожидан, что сбитая с толку, растерянная и поредевшая конница повернула и позорно отступив, стала ожидать подкрепления. Разъярённый неудачей авангарда и торжествующими криками противника, Турхан-бей двинул вперёд всё войско.
Отважные, полные решимости, но плохо организованные, не имеющие понятия о боевом построении, вооруженные к тому же не предназначенными для битв орудиями труда, отряды ополченцев не могли долго сдерживать напор отборных частей турецкой армии. После яростного сопротивления, греки стали отступать, растворяясь в близлежащих неприступных скалах. Устремившиеся было в погоню, турки не смогли долго преследовать беглецов: кони часто оступались на узких горных тропах, срывались в овраги и ущелья вместе с седоками; за каждым камнем подстерегали затаившиеся в засаде стрелки.
Удовольствовавшись тем, что поле битвы осталось за ними, турецкие войска продолжили поход. Оставляя позади себя разорённые города Пелопоннеса, Турхан-бей направился вглубь Аркадии: дорога на Коринф была открыта.
Постоянные набеги тревожили турок. Разбитые в открытом бою, ополченцы разделились на множество маленьких групп и повели партизанскую борьбу против захватчиков. Даже при дневном свете можно было ждать нападения из засады; приотставшие или просто зазевавшиеся солдаты жизнью расплачивались за свою беспечность. С отвесных склонов на проходящие отряды то и дело сталкивались обломки больших камней, которые увлекая за собой лавины камней помельче, с грохотом осыпались вниз, давя людей и повозки.
По длинной, извилистой дороге османское войско растянулось, подобно гигантскому змею, теряя тем самым в подвижности и маневренности. Запасы продовольствия, рассчитанные на быструю победу, подходили к концу; нечасто встречающиеся колодцы и родники были щедро сдобрены ядовитыми травами. Близлежащие сёла и деревеньки при приближении войск оказывались пусты — заблаговременно предупреждённые жители бежали, уводя за собой скот и уничтожая посевы. Едкий дым горящих строений, подобно сизому шлейфу, тянулся вслед за захватчиками.
Начался падёж лошадей — на бесплодных скалах для них не находилось достаточно пищи. Люди задыхались от палящего зноя, солнце вытапливало силы из изнуренной длительным и трудным переходом пехоты. Турхан-бей распорядился оставить обоз и пленных, но эта мера лишь обозлила солдат. Открытый ропот, предшественник бунта, всё шире распространялся среди войска. Облегчить положение помог бы бой с врагом, но греки, наученные горьким опытом, избегали теперь прямого столкновения, предпочитая терзать захватчиков неожиданными атаками.
Не пройдя и половины пути, Турхан-бей остановил продвижение: дальше дорога углублялась в узкое, как лезвие ножа, ущелье и пролегала по руслу высохшей реки. Опытный военачальник понял, что здесь, где даже маленький отряд способен остановить целую армию, он может потерять своё войско. Разбив в долине укреплённый лагерь, бей послал своего старшего сына Ахмеда с сильным отрядом конных воинов на разведку пути.
Конница медленно и осторожно продвигалась вдоль каменистого дна ущелья; дозорные до рези в глазах всматривались в крутизну поросших кустарником скал, пытаясь уловить в плывущем мареве приметы замаскированной засады. Прошел день, нервы у привыкших к степным просторам воинов начали сдавать. И когда перед ними открылась вдруг широкая дорога, уводящая в сторону от опасной теснины, охраняемая небольшой, тут же обратившейся в бегство заставой, они радостно устремились по ней, увлекая за собой и своего неопытного командира.
Там их и подстерегли объединенные дружины морейских князей Фоки и Димитрия.
В кровавой сече турецкий авангард был полностью истреблён, а сам Ахмед со своими приближенными попал в плен.
Разгром передового полка был настолько внушителен, что Турхан-бей, оставив свои первоначальные планы, спешно вывел войска обратно к заливу и, рассредоточив солдат по захваченным ранее областям Пелопоннеса, стал выжидать распоряжений султана, попутно ведя нелегкие переговоры с князьями о выкупе сына.
И всё же, несмотря на неудачу, османское войско сыграло именно ту роль, для которой и было предназначено. Между Фокой и Димитрием вновь вспыхнули разногласия: младший звал брата на помощь Византии, но тот возражал, справедливо указывая, что переправив воинов в Константинополь и имея у себя за спиной еще не разбитого и сильного противника, они сами, своими руками предадут Морею во власть хозяйничающих шаек османов.
Спустя два месяца после возвращения Кантакузина из Генуи в залив Золотого Рога вошли два тяжело груженных судна.
Горожане и моряки на пристани во все глаза смотрели, как массивные галеры с провалами орудийных бойниц по бортам величаво разворачивались под дружный всплеск длинных рядов весел. На мачте одного из кораблей, рядом с генуэзским флагом, развевался командирский вымпел с изображением родового герба в виде узорного щита, на фоне лазоревого поля которого рука в стальной шипастой перчатке душила жалящую её змею. Это прибыл завербованный Кантакузином, при посредничестве галатских купцов, отряд генуэзских наемников во главе со своим кондотьером Иоганном Джустиниани, прозванного за свой немалый рост Лонго — Длинный.
Об этом человеке слагались легенды — сама Удача, казалось, искала его, следовала за ним по пятам. Участник многочисленных сражений, непревзойдённый специалист по взятию и обороне крепостей, изучивший до мельчайших деталей военные уловки противника — уже одно имя его вселяло надежду. Не только он — семь сотен испытанных в сражениях солдат казались горожанам железным стержнем, вбитым в уже рушащиеся стены Империи. Ну как тут не уверовать в благосклонность Провидения? И никто в то время не мог и предположить, какую роковую роль сыграют генуэзские ландскнехты в последующих событиях.
Толпа ликовала, теснясь на причале. Наиболее нетерпеливые бросались в лодки и плыли, испуская радостные крики, навстречу галерам. Со стен в приветственном салюте грохотали пушки и реяли полотнища знамён. Корабли с шумом сбросили якоря. На пристань перекинули мостки и под скрип дощатых трапов с палуб на землю непрерывной вереницей стали спускаться воины, чьи тела как будто бы срослись с кольчугой и броней, а шлемы казались продолжением голов. Растолкав толпу налитыми силой плечами, они высвободили большую площадку и тут же принялись разгружать трюмы своих кораблей.
Перед изумленной публикой вырастали горы оружия и хитроумных приспособлений ратного ремесла. Среди связок копий и алебард, дротиков, стрел для арбалетов лежали утыканные острыми гвоздями брёвна с колёсами по краям; отдельными кучками распределялись запасные мечи, палаши и огромные двухлезвийнные топоры для уничтожения осадных сооружений. Рогатины, защитные сети, строенные зазубренные крючья с мотками верёвок на концах, плавильные котлы, слитки металла и бочонки с порохом — всё это сортировалось и складывалось прямо на земле, поражая воображение горожан, отвыкших от вида такого количества и разнообразия орудий убийства, а также средств защиты от него.
Сгибаясь под тяжестью, воины выволокли с кораблей несколько малых катапульт и похожих на большие арбалеты баллист, способных метать до сотни стрел одновременно. Наёмники были сумрачны и деловиты: не отвечая на заигрывание городских праздных девиц, отмалчиваясь на приветствия проживающих в Константинополе соотечественников, они быстро опустошали трюмы своих галер, изредка перебрасываясь короткими отрывистыми фразами.
Выгрузкой руководил рослый широкоплечий человек с густой смолистой бородой на массивной челюсти и сплюснутыми на макушке, поредевшими от частого ношения шлема волосами. Его зычный голос был слышен издалека; ткани одежды трещали под напором крепких мышц; загорелые, изрезанные шрамами и морщинами черты лица казалось навсегда застыли в маске непреклонной решимости.
— Это он! Это он! — возбуждённо неслось среди горожан, и они, вытягивая шеи и приподнимаясь на носки, старались получше рассмотреть прославленного воина.
Делегация представителей Галаты растерянно топталась на месте, лишенная возможности приблизиться с приветственным словом к Джустиниани — кондотьер беспрерывно перемещался между кораблями и выгружаемым снаряжением, отдавая распоряжения и приказы своим подчиненным. Наконец, улучив момент, глава делегации преградил ему дорогу. Лонг остановился, смерил негоцианта с ног до головы цепким взглядом, от которого генуэзцу стало слегка не по себе.
Преодолев смущение, но всё же чуть запинаясь, представитель колонии произнёс заготовленную речь. Джустиниани слушал молча, не отрывая глаз от продолжающейся разгрузки, всем своим видом выражая раздражение занятого делом человека, вынужденного ради пустых приличий терять драгоценное время.
Наконец, потеряв терпение, он жестом остановил разговорившегося соотечественника.
— Прошу великодушно извинить меня, старейшина, но солнце уже близко к закату, а дни в это время года, к сожалению, коротки. Передай моё пожелание колонии всяческих благ и процветания, а так же….
— Эй, ты! Ты что творишь?! — внезапно заорал он, отворачиваясь от собеседника.
Поток ругани, смешанный с чудовищным богохульством, обрушился на голову ландскнехта, по неосторожности выронившего бочонок с порохом на причал.
Представитель общины вздрогнул от неожиданности, невольно отступил на шаг и с досадой передернув плечами, оскорблено удалился.
Вскоре на пристани, как принимающий от лица императора, в окружении конной свиты, появился Кантакузин. Спешившись, стратег приблизился к Лонгу и обменялся с кондотьером приветствием. Горожане взволнованно зашептались и даже ландскнехты удивленно подняли головы: за исключением лишь некоторых внешних черт, сходство между военачальниками было настолько велико, что, казалось, для отливки этих мощных тел была использована одна форма.
Выгрузка подошла к концу; облегчённые галеры поднялись над водой на два фута. На доставленные подводы погрузили то, что представляло первоочередную ценность, возле прочего же снаряжения встали часовые, держа в руках длинные древки алебард.
Джустиниани проревел приказ, и городской люд радостно зашумел, глядя на выстраивающихся в колонну ландскнехтов. Раздалась новая команда, и причал задрожал под мерной поступью семи сотен тяжело вооруженных солдат.
Империя накапливала силы. Непрерывной чередой стекались в Константинополь доверху груженые подводы с зерном и продовольствием. В кузнях по ночам перестали гаснуть горны, и под звонкий стук молотов всё новые и новые бруски добела раскаленного металла вытягивались и заострялись, приобретая веками выверенные формы мечей, сабель и палашей.
Спешно восстанавливались обвалившиеся во многих местах крепостные стены; заменялись попорченные сыростью деревянные мостки, перекрытия, лестницы, ржавые решётки бойниц. На площадках башен сколачивались подвижные платформы; кое-где возводились дополнительные защитные приспособления; городские ворота укреплялись и обшивались новыми железными и бронзовыми листами. Десятки каменщиков, подобно муравьям, ползали по гигантскому акведуку Валента, очищая его от водорослей и грязи, а так же и обновляя осыпающуюся кладку этого древнего сооружения. В городских цистернах, как в открытых, так и в подземных, вновь заплескались целые озёра ключевой воды.
В заливе Золотого Рога и в бухте Феодосия бросали якоря италийские галеры. Многие из них везли небольшие отряды добровольцев, в большинстве своём укомплектованные романтически настроенной молодежью. Немало было среди них и авантюристов всех мастей, охотников до легкой добычи, непосед и прочих искателей приключений. Три венецианских парусника доставили в Константинополь сильный отряд наёмников: Республика святого Марка не желала оставаться в стороне от событий, непосредственно затрагивающих её торговые интересы. Действительно, военная удача изменчива, от поражения не застрахован никто. Даже тот, кто мнит себя непобедимым. Зачем же в таком случае лишать себя лакомых кусков при разделе хотя бы части наследства Османского султаната, если по воле судьбы его армия будет разбита под стенами города? Предлог для военной помощи был достаточно благовиден: не связывая себя обоюдным договором, Венеция брала под защиту своих колонистов в Константинополе. Кондотьер прибывших трёх сотен ландскнехтов, Иероним Милош, выходец из Моравии, вместе с делегацией жителей от Венецианского квартала, был в первый же день принят императором.
Даже далёкая Кастилия направила в Византию своего консула Франциска Толедского, происходящего по материнской линии из царской династии Комнинов. На пожертвования и на вырученные от продажи родового имения деньги он сколотил из завербованных средиземноморских пиратов небольшой, но достаточно сплоченный отряд.
Всё это сильно поднимало дух горожан, но высшие сановники при встречах отводили глаза в сторону: мизерность приходящей помощи свидетельствовала о провале миссий и посольств к королевским домам Венгрии, Чехии, Сербии и Франции. Рассчитывать на нечто большее, чем на крохотные отряды добровольцев и наёмных воинов, уже не приходилось; идея крестовых походов бесславно канула в Лету.
Судьба Константинополя, последнего осколка некогда обширного и могучего государства, стянувшегося в точку вокруг своей великой столицы, хотя и вызывала тревогу и сочувствие всего христианского мира, однако не могла подвигнуть погрязших в мелких каждодневных дрязгах больших и малых венценосцев на что-либо большее, чем громогласные заверения в своей воинственности и верности общехристианскому завету о помощи ближнему.
ГЛАВА VII
Феофил Палеолог задумчиво перелистывал лежащий у него на коленях тяжелый фолиант и изредка, вскользь, делал пометки стилосом на полях. Из открытого окна доносились голоса, скрип гравия и стук подков: слуги выводили и чистили лошадей, готовя их к выезду.
Дверь распахнулась и в кабинет летящей походкой вошла девушка лет семнадцати, преисполненная изяществом и той особой красотой, свойственной только юности. Её золотистые волосы, убранные от висков, свиваясь в локоны, мягко спускались прямо на плечи; удлиненное, с правильными чертами, лицо казалось чуть шире из-за больших тёмных глаз, оттенённых ровной полоской бровей. Линия красиво очерченных губ говорила о твердом характере и силе воли, внося чуть жёсткую нотку в гармонию прекрасного лица.
Девушка пересекла комнату и присела на краешек кресла напротив Феофила.
— Отец, — произнесла она. — Это верно, что во дворце императора сегодня будет дан приём в честь наших гостей?
— Да, Алевтина, — Палеолог слегка улыбнулся в бороду при слове «гостей».
— Император устраивает торжество для наших союзников и я, как должностное лицо, обязан при этом присутствовать.
— Там будет весело, отец? — Алевтина заглянула ему в глаза.
— Не уверен, — вновь усмехнулся Феофил. — Скорее всего там будет очень шумно.
— Я хочу поехать во дворец вместе с тобой, — твердо произнесла дочь, поднимаясь с кресла.
Затем, поколебавшись, уже менее уверенно добавила:
— Я даже и не припомню, когда в последний раз была во дворце. Кажется, во время коронации императора. Там было так красиво, празднично. И много интересных людей. С тех пор прошло….
— Четыре года, — подсказал Феофил.
— Четыре года! — воскликнула она. — Всего лишь!
Она состроила легкую гримаску.
— Ты думаешь, император не рассердится, узнав, что ты держишь взаперти единственную дочь?
Феофил рассмеялся.
— Я думаю, василевс простит мне этот маленький грех. Тем более, что у него сейчас других забот предостаточно. Не сердись на меня — владеющий сокровищем становится скупцом. Но если ты действительно хочешь сопровождать меня во дворец — поторопись, — он взглянул на шкалу песочных часов.
— На сборы тебе осталось не более трех часов.
Алевтина просияла и торопливо поцеловав отца в лоб, вышла из кабинета. Феофил упруго поднялся из кресла и подошел к окну. Перед парадным входом в особняк молодой конюх выгуливал нетерпеливо всхрапывающего жеребца, любимого коня протостратора. Палеолог некоторое время любовался игрой выпуклых мышц скакуна, затем перевел взгляд дальше, в сторону уводящей в парк тенистой аллеи.
После смерти жены он всю свою любовь, всю неизрасходованную нежность отдал единственной дочери. И по мере того, как проходили годы, он находил в ней всё новые и новые черты сходства с матерью. Грациозность формирующегося стана, очертания высокого лба, лучистый взгляд и теплое золото струящихся волос — всё вызывало в нём образ безвременно ушедшей из жизни жены. Даже походка, улыбка и смех были удивительно схожи. Иногда мистическое чувство охватывало Феофила — ему казалось, что душа матери воплотилась в Алевтине и ждёт лишь срока, чтобы пробудившись от сна, вновь войти в покинутый ею мир. И тем более тяжкой для него была мысль о том, что неизбежен тот день, когда некий человек вторгнется в его дом и отнимет, похитит то, что с каждым годом становилось для него всё дороже — его дочь. Возможность вторичной женитьбы не приходила ему в голову, ни одна из женщин не могла стать ему заменой той, чей образ никогда не покидал его.
Спустя некоторое время пара пристяжных лошадей уже везла карету по направлению к Влахернскому дворцу. Феофил со своим оруженосцем ехали верхом спереди кареты, а замыкал процессию небольшой отряд конных гвардейцев, сопровождавших своего командира повсюду, в любой час дня и ночи.
Огромные, окованные узорным железом ворота Влахернского дворца были радушно распахнуты навстречу съезжающимся гостям. По бокам от парадного входа уже толпились конюшие и слуги, держа на поводу лошадей своих хозяев; из ярко освещенных окон лились звуки музыки и слышались голоса людей.
В просторном зале уже собрался цвет византийской знати и прочие именитые гости. Мимо неподвижных стражей прогуливались, степенно беседуя, сенаторы и военачальники; чуть обособленно держались представители древних аристократических родов и служители церкви. Оживлённо и деловито переговаривались богатые негоцианты; громко звучали натренированные в шуме битв голоса кондотьеров, прорезывая многоголосье резким чужеземным говором. Многие из приглашенных явились с жёнами и дочерьми, другие привели старших сыновей как продолжателей рода и наследников фамильных владений.
Феофила Палеолога узнавали, приветствовали, уступали дорогу. Лишь в середине залы его задержал высокий, могучего телосложения человек, которого сопровождал щеголевато одетый юноша.
— Приветствую тебя, мой друг Феофил, — звучно пророкотал Кантакузин, расплываясь в улыбке и разводя руки в стороны.
— Доброго здравия тебе, благородный Димитрий, — ответил протостратор.
— Я вижу, ты оказал честь двору, разделив приглашение со своей дочерью, — стратег остановил взгляд на лице Алевтины.
Девушка вспыхнула и опустила голову, не выдержав пронизывающего взгляда тёмных глаз.
— Ты заметно похорошела со дня нашей последней встречи, — продолжал Димитрий. — Годы пошли тебе на пользу — время, старящее нас, сделало тебя красивой.
— Она упросила меня взять её с собой на торжество, — Феофил ободряюще улыбнулся дочери, — и я не смог ей отказать.
— Ты поступил правильно, друг мой, и я сожалею, что она не просила тебя об этом раньше!
Кантакузин, полуобернувшись, положил руку на плечо юноши и принудил его сделать шаг вперёд.
— Позволь представить тебе, Феофил, и тебе, прекрасная Алевтина, моего племянника Романа. Он слишком долго прожил со своей матерью, а моей сестрой среди латинян в Лигурии, и я, вняв его просьбам, взял его с собой в Константинополь, чтобы здесь сделать из него настоящего воина и ромея.
Алевтина улыбнулась словам стратега и взглянула на молодого человека. Роман слегка покривился с досады, хотя к невоздержанности на язык своего дядюшки уже успел попривыкнуть.
— Ну, что ж, Феофил, — пророкотал Кантакузин, снимая руку с плеча Романа, — оставим молодых развлекать друг друга, а сами отойдем в сторонку: мне надо тебе кое-что сообщить.
Оставшись наедине с Алевтиной, Роман неожиданно растерял свою самоуверенность. Прослывший в беззаботной Генуе покорителем девичьих сердец, молодой человек стоял перед девушкой, не в силах вымолвить ни слова. Мимо них парами или небольшими группами проходили гости; слышались приветственные возгласы, обрывки бесед и шорох жестких складок одеяний.
Молчание начинало тяготить обоих. Роман попытался завязать разговор, внутренне молясь про себя, чтобы эта попытка удалась. Хотя и не сразу, он начал получать односложные ответы. Это вдохновило его и прежнее красноречие вновь вернулось к нему. Слова, в которых правда вдохновенно смешивалась с вымыслом, потекли неудержимым потоком. Время от времени он останавливался, ловил на себе заинтересованный и слегка удивленный взгляд Алевтины, и вновь принимался блуждать по извилистому руслу своего воображения.
Вскоре их беседа, а точнее его монолог, был прерван: растворились украшенные резьбой и позолотой двери и голос камергера громко возвестил:
— Василевс Константин приглашает уважаемых гостей разделить с ним трапезу!
Легкий гул волной прокатился по залу; темы неторопливых бесед быстро оказались исчерпаны, и гости, соблюдая правила этикета, поочередно проследовали за прислугой к своим местам.
Огромный пиршественный зал был наполнен светом сотен и сотен свечей; в камине, в который могли въехать сразу пятеро конников в ряд, жаркий огонь перебегал с одного внушительного полена на другое. Причудливой формы светильники свисали на бронзовых цепях с потолка, покрытого живописными фресками на библейские сюжеты. Длинные ряды столов, расставленных в форме незамкнутого с одной стороны прямоугольника ломились от выставленной на них снеди.
Горы невиданных заморских фруктов прогибали своей тяжестью столешницы; в серебряных и позолоченных кувшинах томились вина с лучших виноградников; шипело в объёмистых кадках пиво многих сортов и перебродивший мёд. Огромные, зажаренные целиком кабаны уткнулись рылами в блюда, выставляя наружу кривые желтые клыки; большие, диковинного вида рыбы, в немом удивлении пуча глаза, держали в открытых ртах бекасиные яйца; белоснежные лебеди, капризно изгибая свои длинные шеи, казалось, плыли вдоль столов на своих серебряных подносах; начинённые дичью, размерами не уступающие мельничьим жерновам, пироги источали дразнящие ароматы, а тонкая подрумяненная корочка на них еще хранила жар пекарни; сочные, нашпигованные жиром тушки перепелов высились темными холмиками, обрамленные по краям зелеными листиками салата.
Вскоре, после того как все были рассажены и шум голосов стал постепенно стихать, камергер, трижды стукнув золочённым жезлом об пол, провозгласил:
— Великий василевс Империи ромеев Константин XI Палеолог!
Гости поднялись на ноги и замерли, повернувшись к дверям в конце залы. Створки медленно распахнулись, выпуская отряд гвардейцев, чьи чёрные вороненые кирасы и шлемы были искусно украшены золотыми насечками, а длинные кавалерийские шпоры мерно звенели в такт шагам. Разделившись на два ряда, они встали по бокам дверей, образовав широкий коридор из закованных в броню тел. Ещё несколько томительных мгновений — и перед приглашенными появился сам император.
Золотые регалии царской власти украшали пурпурный паллий; огромный, размерами с дикое яблочко рубин, играя при свете свечей кровавыми отблесками, свисал с золотой цепи на широкую грудь; почти касаясь мозаичного пола, просторная белоснежная мантия из шкур горностая мягкими складками спускалась с плеч; искорки драгоценных камней, нашитых на одежду, мелькали разноцветными огоньками; на длинных и слегка подвитых волосах удобно устроилась иссиня-чёрная соболья шапочка.
Приблизившись к трону на небольшом возвышении в центральной части сдвинутых в ряды столов, император улыбнулся и громко произнёс:
— Мы приветствуем вас, благородные подданные Империи!
Он слегка поклонился, сделал паузу, обводя взглядом лица людей.
— Приветствуем и вас, отважные иноземцы, наши верные союзники, в тяжёлый час поспешившие нам на помощь! Мы приветствуем вас всех и желаем всем долгих лет жизни и здравия!
В приглашающем жесте он слегка раздвинул и приподнял руки.
— Мы рады видеть вас всех за своим столом и надеемся, что наше скромное угощение придется вам по вкусу. Устраивайтесь поудобнее и воздайте должное искусству царских поваров.
Гостей не пришлось просить дважды. Разместившийся на хорах струнный оркестр, повинуясь взмаху палочки дирижёра, затянул мелодию, как нельзя более подходящую для трапезы: неторопливую, слегка тягучую и помпезную. Под звуки арф, флейт и клавесина слуги обносили гостей новыми блюдами, виночерпии без устали подливали вино и мёд в быстро пустеющие кубки.
Пиршество шло своим чередом; спустя некоторое время у части участников винные пары в головах уже начинали заглушать голоса соседей, а языки плели бессмысленные фразы. Заметно отяжелев, некоторые забывались в хмельном сне, и слуги осторожно, под руки выносили их из-за стола и усаживали в экипажи. Те, кто был покрепче, продолжали веселье, позабыв на время гнетущую тревогу последних месяцев.
Сидящий по правую руку от Кантакузина Роман несколько раз бросал взгляды в сторону, где, полускрытая фигурой отца, сидела Алевтина. Один раз ему посчастливилось встретиться с ней глазами и, воспользовавшись случаем, он послал ей одну из самых своих чарующих улыбок. К его удовлетворению, Алевтина ответила на нее, слегка смутившись от неожиданности. Воодушевленный удачным началом, Роман осушил полный кубок в честь прекрасной половины человечества и тут же принялся обдумывать способы еще раз привлечь внимание дочери Феофила.
Пир протекал настолько оживлённо, что мало кто обращал внимание на не сходящую с лиц высших советников тяжелую задумчивость. Вечер уже близился к концу, когда император поднялся и, сделав знак, запрещающий окружающим следовать его примеру, тихо удалился. За ним, по одному, исчезли и некоторые из димархов, что, впрочем, осталось незамеченным для большинства уже изрядно захмелевших бражников.
В кабинете василевса ярко горели свечи, в камине трещали поленья, а около огня, зябко нахохлившись в своей каталке, сидел Феофан. Император сделал знак, и слуги, пододвинув кресла рассаживающимся димархам, поспешили удалиться.
— Время позднее, — Константин был против обыкновения мрачен и многословен, — и всё же я созвал вас сегодня, в разгар приёма во дворце. Я счел нежелательным привлекать ненужное внимания к нашему совету. Хотя уже успело войти в обыкновение приглашать на совещания командиров союзных отрядов, необходимо время от времени отступать от этой практики: ни к чему увеличивать круг лиц, посвященных в государственные тайны. Молва имеет свойства преувеличивать отрицательные стороны событий и может вызвать ненужную тревожность, а то и подтолкнуть к панике.
Я желаю, чтобы тот из вас, кто по каким-либо причинам мог быть недостаточно осведомлен о происшедших в последнее время изменениях, ознакомился с ними сейчас. И по ходу обсуждения составил свое мнение. Таким образом, мы попытаемся охватить ситуацию в целом и дальнейшие наши действия будут вытекать из уже принятых решений.
В своё время каждому из вас была поставлена определённая задача и сейчас настало время суммировать результаты. Первому мы предоставим слово Феофану Никейскому, нашему советнику по внешним делам.
Император откинулся в кресле и сделал приглашающий жест.
— Пусть василевс и димархи простят меня, если я начну с главного, известного всем и давно, — голос старого дипломата был мягок и мог показаться непосвященному почти добродушным. — Турецкий султан Мехмед и его окружение на протяжении последних нескольких месяцев предпринимают меры, определенно имеющие под собой угрожающий смысл. Возведение двух крепостей на берегах Босфора уже само по себе означает многое. И если постройка первой, Анатоли-хиссар, ещё могло быть расценена как желание закрепить своё владычество на азиатской стороне пролива, то закладка Румели-хиссар на ромейских землях — открытый вызов нашей государственности. О том же свидетельствует второе название новой крепости — Богаз-кессен, рассекающая горло. Чьё рассечённое горло подразумевается при этом, пояснять нет нужды.
Необъявленная война уже начата: в короткий срок подавлена, хотя и не приведена ещё к полному покорству вассальная нам Морея. Обезврежен, разбитый в нескольких сражениях противник османских султанов и наш негласный союзник, эмир Карамана. Венгерское королевство было принуждено к заключению мирного договора, лишающего его части владений, но дающего столь желанную ему передышку. На землях Сербии, Валахии и Албании расположились сильные отряды турок и их вассалов. Болгарскому государству османы сломали хребет и оно не скоро найдет в себе силы сбросить иноземное иго. К северу от нас многочисленные татарские племена терзают непрекращающимися набегами границы сопредельных им христианских стран, подавляя наступательный порыв противников мусульман.
Феофан чуть усмехнулся и обвел взглядом лица.
— Итак, арена расчищена, посторонние добровольно или насильно изгнаны в зрительские ряды и на ристалище выходят два основных участника драмы, заклятые враги, самим ходом Истории обреченные сражаться друг с другом насмерть.
Он вздохнул и развёл руками.
— Остаётся лишь сожалеть о том, что условия, в которых мы находимся, никак нельзя назвать выгодными. Армия османского владыки, состоящая из двух больших, почти равных частей, европейской и азиатской, собирается сейчас достаточно энергично, без какой-либо оглядки на неизбежные при этом колоссальные денежные расходы.
— Что недвусмысленно означает ее скорое появление здесь, под стенами Константинополя, — подвёл черту Кантакузин.
— Насколько скорое, затруднительно ответить, — возразил Феофан. — Всё зависит от величины армии, которую султан и его окружение сочтут необходимой для успешного штурма. Могу лишь сказать, что уже имеющихся в наличии ста пятидесяти тысяч воинов, по их мнению, еще не достаточно для выполнения этой задачи.
— Сто пятьдесят тысяч воинов?! Мы не ослышались? — Кантакузин привстал со своего места.
— Мне понятно удивление стратега, но тем не менее, число это отнюдь не окончательно. Скорее всего, султан рассчитывает привести под стены города армию, вдвое превосходящую количеством сабель те войска, которыми он уже располагает на этот день.
— Цифры утешения не вызывают, — Нотар был взбешён и еле скрывал свои чувства.
— Далее, — Феофан сцепил пальцы рук, — мною был произведен анализ расклада сил на мировых подмостках. И здесь положение неутешительно, как только что выразился уважаемый мегадука. В Европы нет сейчас реальной силы, способной противостоять нашествию османов. История повторяется в своём движении по спирали: из века в век кочевые орды и дикие племена текли с востока к Великому Океану, разоряя на своем пути цивилизованный мир.
— Однако, — возразил Феофил Палеолог, — Империя на протяжении тысячелетия находила в себе силы обезвреживать захватчиков — не силой, так золотом. Не золотом, так спровоцированными междоусобицами в стане врага. Неужели всё так изменилось, что мы заранее расписываемся в своём бессилии?
— Изменился мир, изменились мы сами, — развёл руками старик. — Сейчас не исламские народы, а вся Европа расколота на враждующие лагеря. На землях Италии тлеет непрекращающаяся война: Флорентийская республика враждует с Венецией и Неаполитанским королевством, Генуя находится под угрозой разгрома герцогом Рене Анжуйским, а папский престол пытается не допустить захвата своих земель правителем Милана, герцогом Франческо Сфорца. В ненамного лучшем положении германские князья, формально объединённые императором Фридрихом в единое государство — бесконечные войны пускают по ветру богатство их земель.
Московская Русь, государство близкое нам по вере и по духу, занято сейчас подчинением своей власти многочисленных удельных княжеств, а так же отражением непреходящей угрозы со стороны Крымского и Казанского ханств; набеги боевых отрядов татар в немалой степени питают ту непрекращающуюся смуту, которая сводит на нет усилия московских князей. Схожа ситуация и на Пиренейском полуострове, несмотря на то, что там отвоёвывание христианами своих земель у арабов ведется достаточно успешно. Английское и Французское королевства измотали друг друга в длительной войне и хотя имеют ещё достаточно сил для оказания помощи, безусловно, предпочтут наводить порядок и подавлять мятежи — следствие любого затяжного конфликта — в своих владениях, чем отправлять войска в другую часть света.
Крестовые походы можно было бы оживить, хотя Европа достаточно обескровлена и дух авантюризма почти выветрился из голов безземельных феодалов, но для этого требуется золото, сотни тысяч перперов[3]. Ни для кого из нас не секрет, что государственная казна пуста, как никогда, и мне, к сожалению, всё чаще приходит на ум поговорка: «Беден — значит, виновен вдвойне».
— Однако я не исключаю прибытия новых отрядов из перечисленных мною стран, — добавил дипломат, заметив, какое удручающее впечатление произвели на окружающих его слова.
И хотя он не собирался щадить их чувств и был уверен, что из сказанного им многое известно димархам давно, ради объективности он продолжал:
— Всегда найдутся люди, неугомонные в жажде неизведанных ощущений и в поиске наживы. Готовые бросить на игральный стол единственное своё достояние — жизнь. Но чтобы их удержать, опять-таки нужно золото.
— Золото будет, — глухо произнёс Константин. — Я пойду на самые крайние, непопулярные меры, прикажу переплавить на монеты церковную утварь, но деньги для уплаты содержания наёмникам и добровольцам будут разысканы.
— Из услышанного мною здесь вытекает простой и ёмкий вывод — помощи ждать неоткуда, — лицо мегадуки плыло красными пятнами, — Разве что с Небес. Но пожелает ли Всевышний обратить к нам, к отступникам, свой лик?
Феофан развёл руками.
— Этот вопрос сложен для меня, — в его скорбном голосе звучали насмешливые нотки.
«Кощунство….. священные дароносицы — в звонкий металл….» — не слыша его, беззвучно шептал мегадука.
— Значит договор, подписанный главой католической церкви….,- Константин намеренно не закончил фразы.
— Первосвященник выполнил первую часть обязательства, — усмехнулся дипломат. — Две галеры с тремя сотнями солдат во главе с кардиналом Исидором уже в Константинополе. Не станем вдаваться в подробности, уточняя, что корабли и люди были наняты самим кардиналом и на его личные сбережения. Что касается второй части…. Что ж, бросить клич, зовущий к походу на неверных не составит труда. Но для сбора многочисленной рати необходимо время, не говоря уж о средствах. У нас же, как впрочем и у папского Рима, в запасе нет ни того, ни другого. В наш прагматичный век трудно вдохновлять на защиту слабого и обедневшего государства. И все же, несмотря ни на что, мы не оставляем усилий получить помощь от государств, мало заинтересованных в усилении османов. Вероятнее всего мы добьемся успеха, но времени осталось слишком мало.
Двери кабинета приоткрылись, пропуская лакеев с канделябрами в руках. Заменив свечи, они удалились так же тихо, как и вошли.
— Святейший Рим пустил по ветру свои обещания, — Нотар был уже не в силах сдержать яд в своём голосе. — А мы, глупцы, старались, ползали, стирая в кровь колени, в ногах тиароносного паяца в Ватикане, вымаливали прощение и мирный договор. Осквернена вера, память наших предков! Великий Храм смердит католицизмом, а взамен……
Император хлопнул ладонью по столу.
— Довольно травить свою душу. Сделанного вспять не воротишь.
— Брат наш, — повернулся он к Феофилу, — мы желаем услышать, что было предпринято для подготовки к отражению врага.
Протостратор подался вперед и слегка наклонил голову.
— Государь, мероприятия по укреплению обороны столицы были поделены между мной, стратегом Димитрием и мегадукой Лукой Нотаром на три равные доли. Мною осуществлялась обновление сухопутных стен Города, метательных орудий на них и заготовка боевых припасов.
После тщательного осмотра выявилось следующее: ветхость стен Феодосия[4] подошла к той грани, за которой следует разрушение. Оно происходит уже сейчас: многие камни под своей тяжестью выскальзывают из гнёзд. Для полного восстановления необходимо разобрать кладку и выложить стены заново. Но, поскольку в данное время подобный шаг не был бы оправдан даже для слабоумных, строители предпринимают все усилия сцепить известью и замешанном на битуме песке наиболее опасные участки. Во многих местах щели кладки забиваются свинцовыми гвоздями, заливаются костяным клеем.
Крепостной ров вокруг стен очищен от мусора, дренажная система приведена в порядок. На заполнение рва водой из реки Ликос потребуется около трех дней. Но я не считаю это целесообразным: затопленный водой ров может облегчить проникновение осаждающих к стенам. Враг непременно воспользуется плавучими мостками, плотами, плоскодонками, а так же пустыми бочонками и надутыми воздухом мехами из козьих и бараньих шкур. Более того, переправка небольших отрядов в ночное время будет практически бесшумной, что позволит им короткий срок перебить береговую охрану и попытаться овладеть участком стены. Или хотя бы заложить пороховые мины под первый ряд защитных укреплений. В отсутствии же воды эти преимущества осаждающих будут частично утеряны. Для перехода через ров они будут вынуждены заполнить его большим количеством сыпучих материалов — камнями, землей или щебнем. При глубине рва в десять саженей и вдвое большей ширине на это уйдёт немало времени. Будут ли эти работы проводиться днем или ночью, при свете факелов, значения не имеет: в любом случае враг попадёт под сильный обстрел стенных орудий. Как и всегда, перед штурмом, осаждающими начнут сбрасываться в ров бревна и фашины[5], которые нам не составит труда поджечь в любой выбранный нами момент. Огненная преграда страшнее водной: переправившиеся под стены штурмовые отряды будут полностью отрезаны от основных сил и легко истребятся защитниками — достаточно будет одной вылазки.
Следующая за протейхизмой[6] стена частично приведена в годность, осталось только распределить и расставить метательные орудия. Третий, основной уровень защитных стен находится в наиболее плачевном состоянии и восстановительные работы в последние дни ведутся именно на нем. Большая часть каменщиков переведена на ремонт башен: при штурме они непременно попадут под основной удар. Я мог бы сейчас огласить количество и виды имеющихся у нас метательных и огнестрельных орудий, но прошу согласия василевса передать слово стратегу Димитрию, поскольку я из-за недостатка времени перепоручил ему часть своих обязанностей.
Палеолог вопросительно взглянул на императора.
Константин кивнул головой. Стратег выпятил скрытую курчавой бородой челюсть, повернул голову к василевсу и заговорил. Говорил он долго. Его глухой, рокочущий голос заполнял собой всё помещение, заставлял подрагивать огоньки свечей. Он перечислял метательные механизмы, от примитивных фрондибол, напоминающих колодзенного журавля, до усовершенствованных баллист, схожих с огромными, в три человеческих роста арбалетами, стреляющих заостренными бревнами в обхват толщиной. Посетовал на ветхость кладки стен, которым отдача крепостных пушек приносила вреда не меньше, чем удары вражеского тарана.
— Интенсивный огонь ядрами и рассыпными пулями может быть открыт только в критические для защитников дни, — убеждал он.
— Рассыпные пули? — Константин удивленно поднял брови.
— Недавнее изобретение инженера Иоганна Немецкого, — пояснил протостратор.
— Более десятка свинцовых пуль упаковываются в промасленную бумагу и закладывается в жерло пушки вместо ядра. Выстреливая широким веером, они поражают большее чем обычно количество вражеских солдат. При дальней стрельбе пули зашиваются в пропитанную селитрой и набитую порохом холстину, которая ещё в полете разрывается, выстреливая своим содержимым в разные стороны.
— На башнях так же размещены сифоны для подачи сильных струй горящей нефти, — продолжал стратег, — На платформах устанавливаются котлы для разогрева вода, смолы и свинца. Железные желоба для подачи кипящих жидкостей протянуты от котлов к самым стенам.
Запасы зажигательной смеси достаточно велики, их должно хватить на поджёг не только подступов к Константинополю, но и части Золотого Рога. Мастера огненных дел заготавливают новый состав, который воспламеняется при соприкосновении с водой: его основа — маленькие зернышки какого-то сплава, образующегося после сильного прокаливания в железных ретортах смеси поташа, соды и угля. Этим составом будут снабжены все экипажи ромейских кораблей. Помимо того, нашими техниками усовершенствованы особые снаряды, полые изнутри и начинённые порохом — после выстрела они с большой силой взрываются, приземляясь на территории противника.
— Однако орудийная стрельба разрушает стены, — напомнил Нотар.
— Ничто не мешает нам метать снаряды катапультами, — возразил стратег.
— Основная часть пороха и прочих огненосных смесей сосредоточены в Арсенале. — продолжал он. — Здание надёжно охраняется смешанными звеньями ромеев, германцев и московитов. В кладовых Арсенала содержится также приведённое в полную готовность оружие: пики, алебарды, метательные копья, мечи, палаши, цепы, булавы и секиры. Очищены от ржавчины кольчуги, шлемы, кирасы и щиты. Всё это уже не раз бывало в употреблении, но ещё может надежно послужить.
— В оружии и в доспехах недостатка нет, — подтвердил протостратор, — имеющимися запасами можно вооружить целую армию.
— Армию, которой у нас, увы, нет, — развёл руками Феофан.
— Перехожу к дальнейшему, — продолжал Кантакузин, неодобрительно поглядывая в сторону дипломата. — Цистерна Бона очищена от грязи и водорослей и промывается водой. На очереди цистерны Мокия и Аспара. На это уйдет не более недели. Подземное хранилище Тысячи и одной колонн уже залито водой. При первых же признаках порчи вода сольётся и заменится новой.
С провиантом дела обстоят хуже, хотя амбары уже частично заполнены зерном. Для беспокойства пока нет места: хлеба должно хватить на восемь месяцев осады. Этот срок будет увеличен за счёт прибытия беженцев из близлежащих селений: они, безусловно, пригонят с собой своих скот. Однако дополнительная закупка зерна в Морее и прилегающих областях нам не повредит.
Константин не ответил. Казалось, он настолько погружен в свои мысли, что попросту не слышал последних слов Кантакузина. Сановники молча переглянулись. Император протянул руку, приподнял со стола серебряный колокольчик и коротко позвонил.
— Принесите свечей, — приказал он вошедшему слуге.
— Уважаемый мегадука, — обратился Константин к Нотару, с лица которого не сходило скептическое выражение, — вероятно, у тебя есть, что сказать нам. Если это так, то мы слушаем тебя.
К тому времени Нотар уже полностью овладел собой. Всем своим нутром он ощущал исходящую от окружающих недоброжелательность и не находил тому объяснения. Разве что причина в том, что он неоднократно пытался предостеречь тех, в чьих руках находятся линии судеб тысяч и тысяч людей, о тяжелых последствиях, к которым приведут потуги взвалить свои на плечи неподъёмное? Ведь война, которая надвигается на ромеев, будет более походить на схватку престарелого, дряхлого Геракла с молодым, сильным и беспощадным Антеем, питающегося соками с окружающих земель. Время Византии прошло и надо найти в себе мужество приноровиться к изменившейся реальности, не пытаться жить воспоминаниями. Но людям не по вкусу горечь правды, им предпочтительнее блуждать в лабиринтах собственных грёз. Вот почему они так беспощадны к тем, кто не страшится раскрыть глаза добровольным слепцам.
— Морские стены Константинополя выдержат осаду, — твердо заявил он. — Ни одно судно не сможет без вреда для себя высадить штурмовые отряды на берег.
— Тем более, — подтвердил протостратор, — что турки не привыкли воевать на море и едва ли рискнут приблизиться к крепостным стенам с моря.
— На войне нельзя ничего предугадать, — Лука был слегка уязвлен, — И отсутствие умения может быть перекрыто превосходящей численностью. Против множества феллук пушки бессильны.
Василевс нетерпеливо повел головой.
— Достаточно ли защищены гавани и Залив?
— Гавани Феодосия, Кондоскалия и Юлиана находятся под прикрытием крепостной артиллерии и огнемётных устройств: перекрёстная стрельба уничтожит любого смельчака, рискнувшего прорваться в бухты. Возле ворот святого Иоанна, святого Лазаря и Псамафийских ворот, на башнях смонтированы старые ремонтные краны — своими крючьями и клещами они ухватят и опрокинут любое судно, от галеры до крупного парусника. Механизм подъёма Цепи[7] вычищен и отлажен, пробным испытаниям мешает частое перемещение ромейских и союзных кораблей.
— В состоянии ли враг прорвать Цепь?
— Не думаю. Для этого необходимо иметь корабли, оснащённые специальными приспособлениями — гигантскими «ножницами» или особо прочным тараном. Кочевым народам не под силу одолеть военный гений наших предков.
Константин согласно кивнул головой.
— Теперь самое время предоставить слово нашему секретарю. Ему и некоторым другим доверенным лицам поручено было провести негласную перепись боеспособного населения столицы.
Георгий Франдзи, до того тихо сидящий у края стола, встал, поклонился и развернул лежащий перед ним свиток пергамента.
— Великий василевс, уважаемые димархи. Мною и подчиненными мне людьми третьего дня была проведена тайная перепись населения города Константинополя, основная часть которого — подданные Империи мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Из почти 32 тысяч обитателей столицы способно держать оружие в руках 4973 человека. Остальные — старики, женщины и хворые — могут быть использованы лишь на вспомогательных работах.
Глубокая могильная тишина, как свинец, давила на плечи сидящих.
— Это число, вероятно, несколько увеличится за счет прибытия беженцев из прилегающих к городу земель, — продолжал секретарь.
— Как и уменьшится за счет бегства малодушных, — пожал плечами Феофан. — И оно, это бегство, уже началось.
— Количество наёмников и добровольцев, находящихся на данный момент в Константинополе, включая недавно прибывший отряд лигурийского кондотьера Джустиниани, а также экипажи италийских галер, не превышает двух тысяч человек.
Георгий свернул свои записи, вновь коротко поклонился и опустился на стул. Первым нарушил тягостное молчание Феофан.
— Все мы знали об оскудении населения нашей столицы, но цифры, оглашенные секретарем, невольно вызывают удручение.
— Двадцать вражеских солдат на одного ополченца, — в глазах Кантакузина прыгали искорки угрюмого веселья. — И это ещё минимум от вероятного.
— И по одному человеку на три сажени укреплений, — отозвался Феофил.
— А так же обезлюдевшие палубы кораблей, пустые кузни и мастерские, никем не охраняемые дворцы, цистерны, площади, Арсенал, — мегадука на мгновение сбился, затем с ещё большей горячностью продолжил:
— Уважаемый протостратор ошибается в подсчёте: один защитник должен будет оборонять не три сажени стен и башен — на его долю выпадет значительно больше. Трехъярусные сооружения сухопутных стен поглотят без остатка все семь тысяч воинов, которыми мы можем распоряжаться. Что и говорить, нам впору вооружать даже монахов в святых обителях!
— Число монахов, способных носить оружие, я уже включил в список, — бесстрастно произнёс Георгий.
Стратег хлопнул ладонями о подлокотники кресла и громко расхохотался. Нотар на время потерял дар речи.
— Это вызовет недовольство духовенства, — наконец вымолвил он.
— Недовольные будут выражать свои чувства в темнице, — резко ответил император.
— Кому же как не священнослужителям первыми встать на защиту веры Христовой? — насмешливо ввернул Феофан.
Набожный мегадука вздрогнул и покосился в его сторону.
— Итак, подведём итоги, — произнёс Константин. — Помощи ждать более неоткуда, надежда на мир с османами весьма невелика, количество воинов в столице незначительно и, следовательно, оборона Константинополя явится для нас серьёзным испытанием.
— Меня интересует вопрос, — протостратор взглядом испросил разрешения у императора и повернулся к Феофану. — Насколько боеспособна турецкая армия при новом султане. Ведь он, как известно, весьма молод, а значит и лишен необходимого опыта….
— Новый правитель Османской державы действительно молод, — подтвердил дипломат, — но сохранился костяк старой гвардии султана Мурада II. Это испытанные, умудренные жизнью полководцы, не одно десятилетие проводящие завоевательные походы. Они, без сомнения, удержат своего повелителя от опрометчивого шага. Многих из них мы хорошо знаем, некоторые имеют большое влияние на султана.
Феофил с Кантакузином обменялись быстрыми взглядами.
— Есть ли среди их числа те, с кем ещё недавно поддерживались дружеские отношения?
Феофан улыбнулся, отчего лицо его покрылось ещё более густой сетью морщин.
— До недавнего времени часть из них испытывала если не приязнь, то, во всяком случае, уважение и зависть к традициям и культуре нашего государства. Как впрочем и подобает варварам, несмотря на своё зазнайство и похвальбу первобытной силой, преклоняться перед всем, что стоит несравненно выше их по уровню развития. Сам великий визирь, наставник молодого султана и первое лицо при турецком дворе, не раз оказывал нам знаки своего расположения.
— Так может быть…, - Димитрий всем телом подался вперёд.
— Ситуация изменилась, — отрицательно покачал головой Феофан. — Мехмед спит и грезит о захвате Константинополя, а воля владыки для азиатских сатрапов превыше их собственной жизни.
Однако сановники не сводили с него глаз.
"Старый лис опять хитрит», — стратег и протостратор были единодушны в своем мнении.
'' Феофан затеял какую-то новую интригу и, как знать, может его тайные связи с визирем усилят позиции моей партии, и значит появится возможность обойтись без драки», — лихорадочно строил планы Нотар.
«Опять тайны, закулисная игра», — недовольно думал император, — «Недосказанность только вредит делу».
И вслух произнёс:
— У нас в запасе имеется всё для развеивания грёз врагов, а чтобы им спалось не столь сладко, я послал уведомление султану о невыплаченной за последние два года дани.
— Какой дани? — лицо Феофана начало сереть и оплывать, подобно куску тающего воска.
— Дань, которая выплачивается турецким престолом за содержание в Константинополе османского принца Орхана, — жестко ответил император.
Старик вздрогнул, как от удара палкой.
— Не надо было этого делать, государь, — тихо проговорил он. — Ведь это всё равно, что дразнить костью обезумевшую от голода собаку.
— Ты удивлен причинами этого решения? — со скрытой досадой спросил василевс. — Я лишь предупредил своего недруга, что владею сильным оружием против его самовольства. Не знаю, насколько это образумит зарвавшегося юнца, но что заставит призадуматься — в этом я уверен!
Феофан мелко и скорбно качал головой.
— Причины мне ясны, но последствия…… Великий василевс прав в своих словах: получив уведомление, султан задумается, непременно задумается. Если от ярости не потеряет способность мыслить.
— Прошу василевса простить меня, — продолжал он, — что в отличие от венценосных правителей династии Палеологов, я никогда не вступаю в схватку с более сильным врагом на открытой местности и с поднятым забралом.
Лицо Константина потемнело, брови грозно двинулись к переносице.
— Дело сделано и не заслуживает дальнейшего обсуждения. Мне непонятны упрёки, скрытые в твоих словах. Я никогда не сожалею о совершённом мною.
Он поднялся на ноги, давая понять, что совещание подошло к концу.
— Близится рассвет. Ступайте по домам, соратники. С восходом солнца нас ждёт много неотложных дел.
Длинные перекладины паланкина мерно поскрипывали в такт шагам носильщиков, цокот копыт конной охраны звонко отражался от стен погруженных в сон домов. Феофан наклонился к окошечку и сделал знак Алексию приблизиться. Всадник подъехал почти вплотную и перегнулся с седла.
— Василевс Константин имел счастье родиться правителем, а ты понимаешь, что я говорю отнюдь не только о происхождении. Однако Господь, щедро оделив его достоинствами государя, позабыл снабдить мировоззрением опытного политика. Безусловно, тактика хороша и сама по себе, но она проигрывает там, где властвует стратегия. Мало действовать, надо ещё и предвидеть. Жизнь во стократ нелогичнее догм геометрии, где прямая — наикратчайшее расстояние между двумя точками. Тысячелетиями власть в Империи держалась на силе и коварстве: умение перехитрить врага считалось равнозначным бескровной победе над ним. Для достижения своих целей зачастую пускались в ход все средства, мыслимые и неожиданные. Не останавливались даже перед кровосмешением и близкородственными убийствами. Нередко изначально благородные идеи впоследствии подменялись корыстолюбием и жаждой власти, низким предательством и животными страстями. Византия утратила меру добра и зла и за это ответ должны нести потомки. Впрочем, оставим эти бесплодные рассуждения. Я хочу поделиться с тобой другим.
Феофан на мгновение смолк, затем заговорил на древнегреческом, понятным лишь им обоим.
— Тебе известно, Алексий, какая игра велась вокруг претендента на турецкий престол. Венеция и Генуя, Ватикан и Франкское королевство, а так же многие другие жаждут оказать гостеприимство Орхану. Немудрено: одним своим именем принц способен внести многолетнюю смуту в османский султанат. Ведь при турецком дворе, как, впрочем, и при любом другом, достаточно много обиженных или обделенных властью. И они не преминут сделать ставку на нового владыку. Содержание своего сводного брата под замком недешево обходится Мехмеду, но он способен дать значительно больше, лишь бы соперник его благополучно переместился в мир иной. Мы же не уступали принца, хотя в заманчивых предложениях не было недостатка. Республика Святого Марка была наиболее щедра в своих обещаниях и я уже готовился склонять василевса к подписанию договора: венецианцы согласны были предоставить половину своего военного флота, а так же три полка конных ландскнехтов. В то же время ничто не могло препятствовать появлению в Анатолии лже-Орхана, двойника принца, который при нашей поддержке и с помощью тех же венецианских солдат, повел бы борьбу за турецкий престол. Одно лишь неприятное обстоятельство удерживало меня: роль Византии в этой прямой агрессии против султаната скрыть было бы невозможно. Поэтому я, невзирая на предполагаемые выгоды от этого предприятия, решил пока что не ввязываться в рискованную авантюру и договориться с турками по-хорошему. Но теперь….
Дипломат замолчал.
— Что же произошло на совете у императора?
— Василевс объявил, что послал уведомление султану о невыплаченной дани. Конечно же, это равносильно прямому вызову и оставляет мало надежд на компромисс.
— Но разве раньше это было возможным, мастер?
Феофан повернул голову и с легким удивлением взглянул на своего собеседника.
— Я был уверен, что у тебя сложилось на этот счёт своё мнение.
— Мне известно, мастер, что велись длительные переговоры с некоторыми сановниками султана и верховный советник…..
— Воздержись от упоминания имен, — Феофан предостерегающе поднял палец.
Лицо всадника омрачилось.
— Я ручаюсь за преданность своих людей, — он кивнул в сторону рослых широкоплечих носильщиков. — Тем более, что они ни слова не понимают из нашей беседы.
Старик лишь пожал плечами на эти слова.
— Ты забыл? Неведомо пусть будет левой руке, что творит правая. А сообразительному человеку достаточно несколько выхваченных из разговора имен и названий, чтобы составить себе впечатление о его сути.
Алексий согласно наклонил голову.
— Да, ты прав. Велись продолжительные переговоры с неким сановником из окружения султана. На них обсуждалась возможность сохранения независимости Империи, с выплатой ежегодной посильной дани и с условием содержания Орхана отрезанным от всего мира вплоть до его естественной кончины. Это был второй приемлемый для нас путь. Однако прямолинейность василевса смешала все карты. Теперь Мехмед и слышать не захочет о предполагаемом перемирии. А мне ещё странным казалось его нетерпение: никогда ещё османские войска не собирались столь торопливо.
— Прошу прощения, мастер, но чем вызвана эта поспешность? Ведь всем, в том числе и султанскому окружению, хорошо известно местопребывание Орхана. Так же ни для кого не является секретом наше намерение с наибольшей для себя выгодой использовать его в своих интересах. Охраной уже пресечены десятки попыток покушения на принца: убийцы караулили его в дворцовом парке во время прогулок, пробирались по каминным трубам, проникали в покои под видом слуг и даже танцовщиц. Не раз изощренность методов врага вызывала невольное восхищение. И тем приятнее было в лишний раз удостоверится в своем превосходстве. А сколько было выявлено блюд, начиненных всевозможными ядами! Их зачастую скармливали тем же незадачливым лазутчикам, после их тщательного допроса, разумеется.
— Пусть чувство собственного превосходства не тешит тебя чрезмерно: в скором времени на выручку отдельным смельчакам явится целая армия. И ни один из договоров с европейскими странами уже не может быть заключен: у нас остались едва ли не считанные дни до выступления турецких войск.
— А если мы сейчас выпустим принца, — Алексий ещё ниже перегнулся с седла, — или напротив, передадим его в руки брата? Принесет ли это пользу Империи?
— Едва ли. Пока восточная часть султаната наводнена войсками, восстание там невозможно. Добровольная же сдача Орхана — признак беспомощности и бессилия перед Роком. Его брат, султан, уверен, что обложив Константинополь войсками, он одним ударом поразит две цели — уберет претендента на престол и заполучит великолепную столицу для своего государства.
— Те же мечты до него лелеяли многие, — всадник распрямился и похлопал по шее коня.
Некоторое время они молчали. Затем старик заговорил вновь:
— Необходимо будет усилить охрану принца: разъярённые нашествием турок горожане могут сильно облегчить задачу Мехмеду и его приспешникам.
— Охрана принца организована мною. Ни одна мышь без моего ведома не проскочит к нему. А что касается горожан…. Даже если толпа прорвётся в покои, Орхана им там не найти, — угрюмо заключил Алексий.
ГЛАВА VIII
На стыке двух континентов, где пересеклись древнейшие морские и караванные пути, более двадцати веков назад образовался Византий, небольшой поселок-укрепление.
Окруженный недружественными племенами, ведущими между собой непрекращающиеся войны, Византий с первых же дней своего существования включился в свирепую борьбу за выживание. Поначалу жители города отмежевались от врагов деревянным частоколом, который вскоре был заменен на каменные стены и они, эти стены, расширяясь из века в век, увеличивали жизненное пространство горожан, сдерживали напор агрессивных соседей.
Византий креп и наливался силой. Богатство и плодородие окрестных земель, трудолюбие и мастерство греческих поселенцев превращали колонию в цветущий сад. Целые флотилии рыбацких суден ежедневно выплывали на промысел, в лесах не переводилась мелкая и крупная дичь, из подземных копий извлекались высоко ценимые золото и медь. И все же главным преимуществом города было и оставалось его местоположение.
Византий рос и богател. Обилие товаров оживляло торговлю, которая, постепенно тесня основные ремесла становилась основой развития города. Но богатство и выгодное расположение Византия вызывало острую зависть и на протяжении нескольких столетий, город не раз оказывался яблоком раздора между государствами, чья военная мощь многократно превышала его собственную. Неудержимыми потоками текли через его земли армии персов, македонцев и греческих полисов. Два колосса античного мира, Спарта и Афины, изматывали друг друга в войнах за право обладания Византием. От бесконечных осад и сражений страдали торговля и ремесла, разорялись окрестные села. Наводняемый потоками беженцев, город хирел и приходил в упадок. И лишь когда соседи полностью истощали себя в бесплодных войнах, Византий получал желанную передышку. Судьба неизменно благоволила к нему: в короткий срок жители города успевали восстановить разрушенное в войне и даже подготовиться к новой.
Отголоски жестокой борьбы за власть, растянувшейся почти на целое столетие, между могущественной Карфагенской державой и молодым, быстро крепнущим Римом, долетали до самых дальних уголков Средиземноморья. Мало кто тогда мог предположить, что там, в кровопролитных сражениях Пунических войн, решался важный для Истории вопрос: по какому из двух путей пойдет развитие мировой цивилизации. Будут ли торжествовать культура и боги потомков финикиян или верх возьмут традиции эллинизма. Римлянам удалось одолеть своего соперника и на обломках Карфагенского государства заложились основы Римской империи. Один за другим клонились народы Средиземноморья перед поступью непобедимых легионов и правителям Византия пришлось приложить немало усилий, чтобы остаться в стороне от войн, потрясающих основы и меняющих границы старого мира. Метод византийских дипломатов был стар как сам мир: надо лишь вовремя перейти на сторону сильнейшего, угадав в водовороте событий будущего победителя. Это им удавалось не раз и слава о византийцах, как об осторожных и прозорливых политиках, осталась жить в веках, обрастая с течением времени новыми примерами хитроумного лавирования.
Новая звезда засияла над Византием, когда римский император Константин, возведший христианство в ранг государственной религии, перенес на берега Босфора столицу своей империи. Он стремился превратить этот город в центр всего цивилизованного мира и это почти удалось ему. Полоса высоких двухъярусных крепостных стен очертила пространство грандиозной застройки. Спешно возводились дворцы, храмы, термы, акведуки и вскоре новая столица, переименованная в Константинополь, затмила собой бывшую славу Рима.
Тем временем империя под натиском варварских племен постепенно приходила в упадок. Феодосий, последний правитель единого государства, перед смертью разделил свои владения между двумя своими сыновьями. Рим остался столицей западной части, в Константинополь же переехал со своим двором Аркадий, правитель Восточной империи.
Недолго просуществовала Западная Римская империя: 24 августа 410 года она пала под ударами вестготских дружин. Еще три десятилетия спустя на земли Рима хлынули полчища гуннов. Дотла разоренное государство более не в силах было защитить себя и в 476 году предводитель германских наемников сверг последнего императора Ромула, по злой иронии судьбы носящего имя основателя «вечного» города.
Константинополь был удачливее своего соперника: Восточная империя быстро вошла в ранг самого могущественного из государств и спустя короткий срок завоевала территории, сравнимые по величине с распавшейся Римской державой. Военные экспедиции приносили удачу, империя процветала, ее столица ширилась и богатела. В грекоязычное население, считающее себя наследниками римян и потому называющее свое государство Империей ромеев, вливались новые народности, порой весьма отличные друг от друга наречием, обычаями и верованиями. Постепенно сформировалась уникальная общность людей и те из них, кто жил на территории Империи, был покорен власти василевса — правителя государства, и исповедовал христианство, мог по праву называть себя ромеем.
Во времена Великого переселения народов ромеи успешно отражали натиски варварских племен, привлекая щедрыми дарами на свою сторону одних и подавляя с их помощью тех, кто отказывался внимать голосу рассудка. Бесчисленные кочевые орды разбивались о границы Империи, и укрощенные, откатывались назад. Чтобы зализав раны, десятилетиями собираться силами для нового вторжения. Так были разгромлены непобедимые прежде гунны, разбиты и отброшены далеко на восток войска грозной Персии, повержен в прах Аварский каганат. Знаменитый «греческий огонь», наводящее ужас изобретение механика Каллиникоса, полностью уничтожил огромный флот арабских завоевателей, а войско халифа, положившее к ногам своего властелина обширные пространства Азии, Африки и Европы, недосчиталось под стенами Константинополя более ста тысяч воинов. Были усмирены непокорные болгары, принуждена к перемирию Киевская Русь; отражены и выдворены вон наводящие ужас на весь цивилизованный мир норманны. Но непрерывные войны подтачивали границы и хотя почти всегда военная удача сопутствовала ромеям, Империя постепенно ослабевала.
Золотой век Империи ромеев, длящийся впрочем шесть столетий, подходил к концу и поражение при Манцикерте от огромной армии турок-сельджуков ознаменовало начало упадка Византии. Обострились внутренние противоречия, страну сотрясали голодные бунты и мятежи, императорский двор бился в паутине собственных интриг. Неблагоприятно по своим последствиям закончилось и давнее противостояние константинопольского патриаршества и папского духовенства в Риме. Вселенская Церковь разделилась на западную римско-католическую и восточную, греко-православную Церкви и этот разрыв резко ухудшил отношения Византии со странами Западной Европы, уже бурлящей в предвестии первых крестовых походов.
И когда, спустя четыре десятилетия, головные отряды паломников-христиан впервые подступили к стенам Константинополя, византийцы отчетливо ощутили угрозу, исходящую от этих воинственных, неорганизованных, но полных непобедимого упрямства толп вооруженных людей. Недобрые предчувствия сбылись через столетие: воспользовавшись царящей в городе династической междоусобицей, после двух интенсивных штурмов, 13 апреля 1204 года, крестоносцы прорвались вглубь крепостных сооружений Константинополя. Им благоприятствовало некое стечение обстоятельств, позволившее пусть безудержно храбрым, дерущимся подобно дьяволам, но все же крайне малочисленным отрядам рыцарей овладеть хорошо укрепленным городом, о который еще не так давно разбивались целые полчища аваров, персов и арабов.
С этого трагического дня и стала угасать Империя ромеев. Жители бежали из разграбленной столицы, пожары уничтожили половину города, а все остальное было разграблено завоевателями. Империя раскололась на ряд государств, правителями которых стали вожди крестоносного ополчения. Едва завладев символами власти, они развязали борьбу друг с другом за верховное правление, а растерявшие остатки морального духа отряды «освободителей гроба Господня» рыскали вокруг в поисках поживы. Население страдало от грабежей и поборов, православное духовенство без устали призывало к борьбе. И трон наспех созданной Латинской империи вновь зашатался. Надежды византийцев связывались с усилением образовавшихся в азиатских провинциях двух крепких грекоязычных государств — Никейского и Трапезундского. Вскоре помощь оттуда действительно пришла: воспользовавшись растущей слабостью латинян и их бесконечными раздорами, император Никеи Михаил Палеолог, поддержанный флотом Генуи, без труда овладел Константинополем. Ликующее население торжественно встречало освободителей, входящих в город через Золотые ворота и вскоре Михаил был коронован на трон императора. Родовой герб нового василевса стал своеобразным символом Империи — двуглавый орел, головы которого с развёрстыми зевами настороженно вглядывались в стороны, откуда всегда приходила опасность — на Запад и на Восток.
После крушения Латинской империи территория Византии сократилась в несколько раз. Под властью Палеологов осталась лишь маленькая часть прежних владений, торговля перешла в руки напористых генуэзцев, военная же мощь безвозвратно угасла.
Два последующих века Империя неудержимо шла к собственной гибели. Ее опустошали неурожаи и эпидемии, сотрясали междоусобицы, набирали силу враги. Отдельные византийские императоры, пытающиеся приостановить развал приходящего в упадок государства, вскоре убеждались в бесплодности своих стараний.
Империя умирала, мучительно и долго, со всех сторон окруженная врагами, подобно стаям стервятников, терпеливо ожидающих своего часа. И этот час, похоже, в скором времени должен был пробить.
Солнечные лучи протиснулись сквозь щели ставен и один из них, наиболее упрямый, сияя хороводом неосязаемых пылинок, прокрался к самому изголовью кровати. Роман несколько раз отмахнулся от него, как от назойливой мухи, затем повернулся на другой бок и глубже зарылся в постель. Но сон уже безвозвратно пропал.
Роман приоткрыл глаза, с усилием приподнял голову, но тут же, с тихим стоном, поспешил вернуть её обратно. Однако лежать, уставившись в потолок и смаковать не совсем приятные ощущения в распухшей, гудящей подобно пчелиному рою голове быстро надоело. Он сел на кровати, опустив ноги на прохладный кирпичный пол. Зевнул, с хрустом потянулся и откинув упавшую на глаза прядь волос, поднялся с постели.
— Здорово я перебрал вчера, — пробормотал он, направляясь к окну.
Створки ставен распахнулись с первого толчка. В комнату ворвался солнечный свет, а вслед за ним — прохладный утренний воздух. Постояв под бодрящим сквозняком, он приблизился к медному тазу в виде большой морской раковины и, щедро разбрызгивая воду по сторонам, энергично умылся. Обтирая полотенцем помятое после сна лицо, он с неодобрением взглянул на свой живот и похлопал по нему ладонью.
— Как бы ты меня сегодня не подвёл, дружок!
Изящный, венецианской работы туалетный столик со встроенным в овальную раму зеркалом внушал невольное отвращение от большого количества разложенных на его поверхности черепаховых гребней. Пересилив себя, Роман приблизился к нему, сел на табурет и принялся неспешно расчесывать спутавшиеся за ночь волосы. Окончив, он задумчиво повертел в пальцах баночку с белилами, решительно отставил ее в сторону, в ряд к таким же баночкам румян, теней и сурьмяной туши и рывком поднялся на ноги.
Несвязные воспоминания проносились в голове подобно метеорам. Отчаявшись уловить разбегающиеся мысли, он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, как бы изгоняя из себя остатки винных паров, затем по диагонали пересёк комнату. И тут, сквозь пелену вечерних событий, сквозь мешанину всевозможных лиц и звуков, медленно всплыл прекрасный облик Алевтины, дочери Феофила Палеолога.
Роман энергично потёр виски ладонями. Ему вдруг стало невыносимо стыдно при мысли, что вчера он сплоховал, не сумев представить себя в выгодном свете перед молодой аристократкой. Вспоминая ее взгляд, сдержанный и в то же время заинтересованный, он не мог понять, почему он, Роман, мямлил и выдавливал из себя слова, тогда как ранее, в схожих ситуациях, они текли у него сами, неудержимым потоком. Раздосадованный собственной застенчивостью, он почти весь вечер просидел молча, крутил в руках серебряную вилку с двумя изогнутыми дугой остриями и вливал в себя все новые и новые бокалы вина.
Время шло, удалились куда-то его дядя и отец Алевтины. Опрокинутый кем-то кубок так и остался лежать, окунув край в лужицу рубиново-красного вина. Поймав скучающий взгляд девушки, Роман подсел на освободившееся место и сумел-таки завязать разговор. Несмотря на то, что своей речью управлять оказалось уже сложнее, чем вилкой, с заплетающегося языка один за другим посыпались рассказы о морских сражениях, о поединках, вспыхивающих по поводу и без повода, о неожиданных, порой загадочных встречах на шумных, искрящихся весельем карнавалах….. И о многом, многом прочем….
Хотя, сказать по правде, Роман уже и сам не мог припомнить всего того вздора, который он нес так вдохновенно каких-то несколько часов назад.
Отрезвил его негромкий голос, почти в самое ухо прошептавший:
— Протостратор задержится сегодня у императора. Мастер Феофил просит оказать ему любезность и сопроводить его дочь до поместья.
Хмель тут же вылетел из головы Романа. Твердо глядя в глаза адъютанту, он пообещал в точности выполнить просьбу Палеолога.
На прохладном ночном воздухе Роман настолько овладел собой, что почтительно усадив девушку в карету, смог сам, без посторонней помощи, вскочить в седло. Всю дорогу он молчал, искоса поглядывая на окошко кареты и пытаясь ровно держаться в седле. Это оказалось не совсем простой задачей, но молодой ромей с честью прошел испытание. Изысканно раскланявшись с Алевтиной у ворот дома Палеологов, он поспешил к себе, пустив лошадь в галоп и перебудив должно быть половину города. Спешившись возле конюшен, он кинул поводья заспанному привратнику и поднялся по лестнице в свою комнату, стараясь не оступиться на ускользающих из-под ног ступенях.
— Ну, вот, наконец-то…., - бормотал он, стягивая с себя одежду.
Но не успев закончить фразу, он повалился навзничь, на мягкую глубокую перину.
И вот теперь поутру, страдая от похмелья, он клял себя за вчерашнее и в который раз давал себе зарок не пить невоздержанно.
Неожиданно раздался стук в дверь. Роман повернул голову, но слова замерли у него на языке: он вдруг вспомнил, что стоит совершенно голый посреди комнаты. Быстро прошлепав обратно к кровати, он нырнул под одеяло и только после этого крикнул:
— Войдите!
В комнату боком вошла крепко сбитая, румяная служанка.
— Пусть мастер простит меня, но я не ожидала в этот час застать его в постели.
— Что стряслось спозаранку? Почему такая спешка? — недовольно откликнулся Роман.
— Спозаранку? — пожала плечами служанка. — Но уже время завтрака. Мастер Димитрий всегда спускается в трапезную к этому часу.
— Мастер Димитрий — ранняя пташка. А я бы не прочь подремать еще чуток, — Роман с хрустом вытянул руки и заломил их за голову.
Служанка пристально взглянула на него, ее глаза непонятно блеснули. Громко постукивая деревянными подошвами башмаков, она пересекла комнату.
— Меня зовут Дарией, — произнесла она, водя тряпкой по поверхности стола.
— Я убираю комнаты здесь, на втором этаже.
— Это хорошо, Дария. Я думаю, ты неплохо справляешься со своей работой.
— Да, мастер, мною все довольны, — она вновь бросила на него загадочный взгляд и начала развешивать небрежно сброшенную на стул одежду Романа. — Я убираю так, что любо-дорого смотреть.
— В самом деле? — Роман не знал, что и сказать. — Наверное, это нравится тебе….
— Да, мастер, нравится, — девушка приблизилась и принялась обеими руками разглаживать складки на одеяле. — Мне очень это нравится. Я так люблю, когда везде аккуратно и гладко. Гладко и аккуратно.
Ее ладонь прошлась по одеялу в том самом месте, где предполагался низ живота молодого человека. Даже сквозь двойной слой простеленной шерстью материи Роман ощутил, как ее рука нащупала его самое чувствительное место и достаточно крепко сжала его.
— Ой, прости, мастер, — девушка торопливо отдернула руку. — Я не хотела, это вышло совершенно случайно.
— Так ли уж случайно? — Роман приподнялся на локте, чувствуя нарастающее возбуждение.
— Да, да, я так неосторожна. Ой!
Отступая на шаг, Дария зацепила каблуком своего башмака за край одеяла и оно начало сползать на пол. Девушка разволновалась и желая поскорее выпутаться, сильно дернула ногой назад. Одеяло одним махом полностью слетело с Романа. Молодой человек совершенно инстинктивно прикрыл руками причинное место, быстро наклонился и попытался ухватить ускользающий конец одеяла.
— Ой, что я наделала! — вскричала девушка, прижав ладони к щекам.
И тут же деловито осведомилась:
— Мастеру, наверное, снились сегодня хорошие сны?
— Почему ты так думаешь? — Роману наконец удалось поймать край одеяла и быстро натянуть его на себя.
— Я не думаю, я просто кое-что заметила, — улыбаясь, она расстегивала крючки на своей рубахе.
До Романа вдруг дошло, что в этой ситуации он держится комично и совсем не по-мужски. Он повернулся на бок, приподнялся на локте и рассерженно вперил взгляд в девушку. Дария уже сняла с себя рубаху и чуть слышно что-то напевая, принялась за длинную, всю в оборочках юбку.
«Почему бы и нет?» — подумал Роман. — «Мастер Димитрий ждет меня в трапезной? И что с того? Надеюсь, мое опоздание не отобьет ему аппетита».
Когда, некоторое время спустя, Роман все-таки спустился в трапезную, там, за длинным столом еще сидел в одиночестве Кантакузин.
— Я вижу, ты вчера неплохо повеселился, — произнес стратег, критически осматривая припухшее, помятое лицо племянника.
— У василевса такие крепкие и выдержанные вина, — отвел глаза Роман.
— Ну так вот, любезный племянник, — Димитрий не отрывал от него взгляда. — Ты знаешь и сам, что я не для того уступил твоим просьбам и привез тебя в Константинополь, чтобы ты услаждал свою душу крепкими винами и веселой музыкой: всем этим ты с не меньшим успехом мог заниматься и в Генуе. Пора, пожалуй, на время позабыть удовольствия праздной жизни. С сегодняшнего дня у нас не будет более досуга для развлечений: ты будешь помогать мне вооружать и обучать людей, а между делом, постепенно наберешь себе сотню.
Лицо Романа просветлело.
— Ты хочешь дать мне сотню, дядя? Ты не шутишь?
— Твое назначение уже подписано императором. Ты будешь обучать ополченцев умению владеть копьем и мечом, изгонять страх из неопытных или малодушных. И если они почувствуют в тебе командира, значит я не зря тратил на тебя свое время.
Он хлопнул руками по столу и поднялся на ноги.
— Ты поел? Оружие при тебе? Значит, мы можем отправляться в дорогу!
Стратег повернулся и направился к выходу. Роман, торопливо поправляя перевязь с мечом, последовал за ним.
ГЛАВА IX
Нотар сдернул с плеч простыню и бросил её на край мраморной скамьи. Затем приблизился к бассейну и попробовал воду ногой. Удовлетворенно хмыкнул и стал осторожно спускаться по каменным ступенькам, в которых для предотвращения скольжения ступни были вырезаны узкие желобки. Погрузившись по грудь, он сильно оттолкнулся и сделав несколько энергичных гребков, оказался у противоположной стенки. Фыркнул, смахнул с лица капельки влаги и обхватив руками медный поручень, повис в воде, чуть касаясь поверхности пальцами ног.
Пустое помещение своеобразно искажало звуки, и плеск воды, отраженный от стен, усиливал ощущение уединенности и покоя. Именно это и нужно было ему сейчас: здесь можно было расслабиться и не чувствуя ничьих докучливых взглядов, стряхнуть с себя бремя повседневных забот. Общение с людьми всё более начинало тяготить его; необходимость ежечасно принимать решения, организовывать работу, отдавать приказы и распоряжения тяжким грузом висело на нем. Накапливающаяся усталость давала о себе знать особенно по утрам; чаще прежнего стали одолевать мысли о близящейся старости. И тем желаннее казался ему отдых здесь, рядом с женщиной, которая ему была дорога и для которой он, не скупясь, содержал этот роскошный двухэтажный особняк.
В тихом блаженстве прикрыв глаза, он ритмично покачивался на поверхности, заставляя воду сильнее плескаться о бортики бассейна. Мигрень, не дававшая покоя с самого утра, постепенно отступала, но с лица по-прежнему не сходило выражение болезненного утомления. Даже здесь, в тиши купальни, ему не удалось отделаться от непрошенных мыслей. Против воли в памяти всплыл тот нелегкий разговор с Феофаном.
После совещания во дворце, на следующее утро, зная, что престарелый дипломат пробуждается с первыми лучами солнца, если вообще по ночам смыкает глаза (на протяжении многих лет никто не мог застать Феофана спящим), Нотар без стеснения, на правах старого друга, нанес ему ранний визит. Мегадука помнил всю беседу, до отдельных фраз и выражений.
— Друг мой, — полушутливо начал он тогда, — я пришел к тебе с исповедью. Надеюсь тем самым частично облегчить гнетущий мою душу груз.
— Я всегда готов тебя выслушать, — в тон ему отвечал Феофан, — и помочь, если в том возникнет необходимость. Без опасений перекладывай груз с твоей души на мою — она в силах выдержать тяжесть несравненно большую, чем ты себе можешь представить. Здесь, в этой комнате, до тебя исповедовались многие.
Мегадука невольно нахмурился. Вероятнее, всего виной тому была обостренная чувствительность, но все же в словах старика ему почудился некий скрытый смысл.
«С ним надо держать ухо востро» — напомнил себе Нотар и вслух продолжил:
— Ноша эта и впрямь тяжела для меня, даже более того, она постыдна.
Феофан в немом вопросе поднял брови.
— Я перестал понимать происходящее.
— Ну, это не повод для стыда. Мне кажется, осмеяния скорее достоин тот, кто берет на себя смелость заявлять, что всё в этом сложном и чрезмерно запутанном мире ясно для него, как солнечный день.
Нотар решился.
— Мне часто приходит в голову, что все, чем мы занимаемся — чистейшей воды самоубийство.
— Не мог бы ты прояснить свою мысль?
— Я говорю без утайки: мне непонятно воодушевление, которым преисполнились подданные нашего государя. Достаточно мельком взглянуть на город: все бегают, вооружаются, выкрикивают воинственные призывы. Даже развороченный муравейник, пожалуй, может явить по сравнению с этим образец спокойствия и безмятежности. Порой мне кажется, что мы живем в окружении одержимых, стремящихся вести счеты с жизнью и потому столь заботливо приводящими в порядок свои орудия смерти. Ведь они, горожане, их наибольшая часть, готовы смести на своем пути все, что может омрачить их надежду. И растерзать любого, кто не согласен с ними. За примером далеко ходить не надо: не так давно несколько именитых семей собирались на зафрахтованном судне покинуть пределы Константинополя. Какое же прощание им устроили наши добрые соотечественники! На основании приказа василевса беженцам разрешили взять с собой только то, что могли унести на руках их слуги. Все же остальное было конфисковано в пользу казны. На каждой улице, вплоть до самой пристани, праздношатающиеся толпы бездельников осыпали их насмешками и оскорблениями, а на причале в несчастных летела грязь и жидкие помои.
— Городская стража не препятствовала глумлению?
— Вялость стражников удивляла не менее, чем буйство толпы. Беспощадность к ближнему, неистовость, жестокость, подобно чуме, охватывают население Города. Даже в прошлом ярые приверженцы мира проникаются сейчас агрессивными умонастроениями. И это начинает вселять в меня страх.
— Тридцать тысяч одержимых, запертых за городской стеной! Пожалуй, это действительно может повергнуть в ужас.
— Ты смеешься нам моими словами, мастер. Но я откровенен перед тобой — эта боль давно гложет мне сердце.
— Что же не дает тебе покоя, Лука? Чего ты не можешь постичь своим разумом? Неужели готовность этих людей защитить своих жен, стариков и детей? А также свои очаги и землю, которой покоится прах их предков?
— Но эту землю уже не защитишь! — вскричал Нотар, вскочив на ноги.
Огромный черный кот, мирно дремавший на коленях Феофана, широко раскрыл глаза, выгнул спину, зашипел и стремглав бросился прочь.
— Империя пала еще тогда, когда в головах у османских пашей только забрезжила идея захвата Константинополя. Мы потерпели поражение, не успев произвести ни одного выстрела, не нанеся ни одного удара. Мы в плену, мы погибли, хотя османские полки еще ни на шаг не приблизились к стенам города!
— Я не узнаю тебя, мегадука, — помедлив, задумчиво произнес Феофан. — Я не предполагал, что страх, испытываемый тобой, настолько велик, что оказался в состоянии погубить государственный ум. Ты говоришь: мы уже мертвы. Допустим даже, ты прав — и что с того? Тебе ли, военачальнику, флотоводцу, воину по праву рождения, бояться смерти?
— Смерти я никогда не боялся. И в сражениях не раз доказывал это, — повысил голос Нотар. — Но против Рока человек бессилен.
Феофан подкатил свое кресло к столику и наполнил серебряные бокалы вином. Мегадука, благодарно кивнув, принял свой кубок и пригубил от него.
— Мне кажется, тебя смущают цифры, оглашенные на совете императора. И ты догадываешься, что многие из тех, кто населяет город, — Феофан указал рукой на виднеющиеся за кронами деревьев плоские крыши и белёные стенки городских построек, — не могут не разделять твоих сомнений. Однако, в отличие от тебя, большинство осознало — спасение заключено в них самих. Тело человека подобно оболочке, ножнам, в которых покоится меч — его дух, его нравственный стержень. И этот дух человеческий, его твердь и мощь, вот та самая сила, способная колебать миры. Ведь даже в сурках, загнанных в угол, просыпается отвага льва. Бегущую антилопу легко задерет леопард, но если она, пересилив страх, обернется навстречу опасности, хищник может не избежать удара рогов. Прости, что столь заурядными примерами я поясняю свою мысль. Твои рассуждения кажутся безупречными, но они ведут в тупик: ведь если человек смертен, к чему тогда борьба за жизнь? Не зря пятнадцать столетий назад наши предки, чьим блеклыми подобием являемся мы сейчас, утверждали: жизнь — это бесконечное сражение. И пока существует окружающий мир, слова эти не канут в забвение.
Тебе же мой добрый совет: отбрось терзающие тебя сомнения, заполни без остатка свой досуг делами, а будет на то желание — вином и женщинами. Ведь, по слухам, у тебя есть любовница, женщина, о которой может мечтать любой смертный. Красавица Ефросиния….
— Красавица не спасет мой дом от разорения, а семью — от позорного рабства.
— Ты считаешь, имеется приемлемый выход?
— Да, и сейчас я изложу тебе свои соображения. На помощь Запада надежды бесплодны — воинственный дух крестоносцев угас еще на Косовом поле. Объединенные войска латинян еще некоторое время способны сдерживать натиск турок, но войны уже давно не заканчиваются одним сражением. Сильное государство, в котором каждый свободный ленник спит и видит себя султанским солдатом, без труда раздавит горсть удельных княжеств. А эту горсть в кулак не может собрать даже Рим с его бесконечными, набившими оскомину призывами к войне с неверными. Но если все-таки кулак сожмется, кто может поручиться, что он обрушится туда, куда прикажет ему голова? Вспомни 1204 год, когда крестоносцы, как бешеные псы накинулись на Константинополь. Ведь осадить бунтующий город проще, чем воевать с сарацинами. Да и добычи в одном храме Святой Софии взять можно было больше, чем во всех походных кибитках полунищих кочевников. Итог? Империя ослабла настолько, что теперь даже те, кто прежде трепетал перед именем ромеев, осмеливаются строить планы владычества над нами.
— А Церковь? — продолжал Нотар, сделав изрядный глоток вина. — Тебе известно, как свирепствуют католики, изгоняющие ересь. В Кордове создан орден, именующий себя «очистителями Веры». Его приверженцы выслеживают и отлавливают инакомыслящих, чьи взгляды хоть на унцию разнятся с мнением Рима. Они швыряют несчастных в застенки, пытают водой, огнем, железом. Конец новоявленных мучеников ужасен — их ждет костер или бессрочное заточение в подземных казематах.
Вспомни войну против мятежной Альбигойи, когда папские наймиты, науськивая, стравливали брата с братом и отцов с сыновьями, а затем безжалостно уничтожали и тех и других. Вспомни и разгром города Безье, где изуверы вырезали все население, от грудных младенцев до дряхлых стариков. А ведь число жителей этого города превышало теперешнее население Константинополя! Вспомни и слова папского легата Арнольда, этого верного приспешника дьявола: «Бейте всех подряд, Господь на небе разберет их сам!». Скоро же забылись погромы в Толедо и Кордове, где многотысячные толпы озверелых фанатиков до смерти забивали заподозренных и втаптывали их тела в землю. И пытки дыбой и каленым железом, когда из невинных рвут вместе с языком признание в несовершённых ими грехах. Воистину пусть славится учение азимитов, озаряемое пламенем тысяч и тысяч костров! Костров, на которых корчатся в муках те, кто посмел усомниться в праведности учения, преподносимого бесчестным, погрязшим в распутстве и злодеяниях Римом. Пусть помнят это все униаты, ведь православие не раз объявлялось Ватиканом опаснейшей из ересей. Пусть на мгновение они представят, что сотворят те изуверы и палачи с нашей святой Церковью и ее послушным народом. Пусть замерцают в их глазах отблески сотен, тысяч костров, это подобие ада на земле!
Нотар задыхался, с хрипом выплевывая слова. Его лицо набрякло кровью, вены на лбу узловато вздулись. Феофан немигающе смотрел ему в глаза, скрестив морщинистые руки на животе.
— Пусть лучше в городе царствует турецкая чалма, чем папская тиара, — повторил Нотар свои же слова, уже успевшие войти в поговорку.
Молчание длилось долго.
— Описанная тобой картина ужасна. И что еще хуже, весьма близка к истине, — прервал Феофан затянувшуюся паузу. — Но меня пугает не столько это, как то, что глядя в твои глаза, я видел в них отражение толп людей, жадно внимающим твоим словам.
Он подкатил свое кресло поближе к Нотару.
— Выслушай меня внимательно, Лука, как выслушал тебя я. Единство христиан недостаточно крепко. Нескольких неверно понятых слов, произнесенных димархом — и гремучая смесь из гордыни, упрямства и фанатизма разнесет в клочья то непрочное согласие, на котором пока еще держится Империя. Ты можешь уподобиться чернокнижнику, вызвавшему дьявола, но не сумевшему обуздать его. В городе шесть тысяч латинян, каждый пятый. И это не считая наемных солдат, которые, вопреки твоему мнению, будут неплохим подспорьем в грядущей войне. Твои же речи прозвучат, как призыв к всеобщей резне, а еще одного мятежа Город не переживет. Не думаю я, что ты, хотя гнев и переполняет твое сердце, решишься пошатнуть хрупкое равновесие веротерпимости. Сбор партии твоих сторонников назначен на вечер этого дня и ты, как нобиль, как димарх, обязан сделать все, чтобы не растревожить притихший на время улей. Умерь свою горячность, усмири воображение — Господь не простит нам братоубийственной войны.
Нотар не отвечал, пытаясь отдышаться.
— Я понял твою мысль, но не согласен с тобой. Ты поносишь учение азимитов и их методы борьбы с инакомыслием. Ты называешь это происками дьявола. Возможно…. Но разве исламитяне предпочтительнее? Это религия достаточно цельная и жестокая, чтобы терпеть рядом с собой попутчиков. В ней нет и не может быть места смирению и кротости духа — основным столпам, на которых стоит наша Вера. Для ислама нет разницы между католиками и православными. Все, что не созвучно их учению, для мусульман — мир войны.
— Они не заставляют силой менять вероисповедание.
— Конечно, ведь это помешает им угнетать побежденных.
Нотар поднял лихорадочно блестящие глаза.
— Османское владычество не будет долгим. Оно растает, как таяли некогда могущественные державы, не способные силой оружия удержать некогда захваченные земли. Зато под прикрытием их оружия у нас возродятся торговля и ремесла, вновь расцветет наука и искусства. И так, постепенно окрепнув, мы создадим свое государство в империи Османидов. Они заимствуют наш язык и традиции, унаследуют ромейский образ правления. Их свежая кровь вольется в наши дряхлые жилы и турки растворятся в ромеях, как прежде растворялись греки, готы и фракийцы!
Даже не шорох, а легкое сотрясение воздуха проплыло по комнате. Нотар повернул голову и замер: тяжелые драпировки, прикрывающие часть стены, покачнулись и в образовавшуюся щель бесшумной кошачьей поступью вошел юноша. Отливающие золотом пряди волос мягкими волнами ложились на его плечи, прямая линия носа плавно переходила в высокий лоб, а на по-детски упругих щеках багрянцем цвел румянец.
Его приспущенные веки вдруг раскрылись и глядя в полыхающие лиловым огнем глаза, мегадука почувствовал, как сжалось в груди его сердце.
«Я не думал, что моя смерть предстанет передо мной в столь прекрасном облике», — подумал он и прикрыл рукой глаза.
Улыбка ярче заиграла на губах у юноши. Его правая рука скользнула за пазуху, на мгновение задержалась там и тут же поползла обратно.
— Ангел! — окрик Феофана был резок, как удар бича.
Юноша вздрогнул, подался назад, но рука еще продолжала движение. Лицо его стало тускнеть и обесцвечиваться, как-будто жизнь медленно покидала тело.
— Ангел! — старик на руках приподнялся в кресле. — Ты осмелился войти ко мне без разрешения? Ты помешал нашей беседе!
Нотар убрал ладонь от лица. Уже не видение карающего архангела, а обычный юноша стоял перед ним, безвольно свесив руки по бокам.
— Я принес важное сообщение, мастер, — голос его был так же тускл, как и лицо, обращенное вниз.
— Ты придешь, когда я позову тебя. Ступай!
Ангел понурил голову и вышел из кабинета. Нотар медленно приходил в себя.
— Ты выпустил передо мной своего пса, чтобы напомнить старому другу, как легко может быть сокращена человеческая жизнь?
— Нет, — Феофан уже принял свой обычный невозмутимый вид. — Я и не думал тебе угрожать. Приход этого бедного мальчика был неожиданен в первую очередь для меня самого.
— Ты назвал его б е д н ы м м а л ь ч и к о м?
— Да, он действительно таков, хотя многие считают его материализовавшимся сгустком ненависти и злобы. Понять причину нетрудно, выпавшей на его долю участи я бы не пожелал никому. Родители Ангела принадлежали к трапезундской ветви некогда императорского рода Ласкарисов. Когда он был совсем еще ребенком, корабль, на котором плыла его семья, атаковали турецкие пираты. До последнего защищавший свою семью, отец Ангела был изрублен в куски, а мать на глазах сына подверглась многократному надругательству. И в тот же день скончалась, не вынеся позора. Сам мальчик и его сестры были проданы с невольничьего рынка и следы двух девочек затерялись в бейских гаремах. Ангел же долго влачил тяжкое ярмо и лишь одному Богу известно, через какие унижения ему довелось пройти. Однажды я, направляясь с посольством в Адрианополь, к султану Мураду, увидел это несчастное создание на площади небольшого болгарского городка. Полуобнаженный, он стоял в окружении евнухов уездного османского паши, которые смеясь и прищелкивая пальцами, сладострастно щупали его неокрепшее тельце. Я хорошо знал родителей мальчика и без труда признал в застывшем личике фамильные черты Ласкарисов. Паша заломил неслыханный выкуп, но я сделал все возможное, чтобы поскорее внести требуемую сумму. И вот теперь он живет у меня, уже почти целое десятилетие. Служит верой и правдой, как пес, это ты верно приметил. Но к своему сожалению должен признать, что помутившийся от пережитого рассудок так окончательно и не вернулся к нему.
Феофан смолк, с невеселой усмешкой глядя на мегадуку.
— Какое же будущее ты готовишь себе и всем прочим, Лука? Вспомни, ведь и у тебя есть два несовершеннолетних сына. Представь, что станется с ними, когда придут османы.
Мегадука поднялся из кресла.
— Когда я увидел глаза этого юноши, мне показалось, что в них написан мой приговор. Приговор, вынесенный тобою. Я рад, что ошибся.
Он сделал несколько шагов к выходу и остановился.
— Мы многое сказали друг другу. Но и многое осталось неоговоренным. Я надеюсь, это не последняя откровенная беседа между нами.
— Мои двери всегда открыты для тебя. Но не торопись, присядь, я хочу поделиться с тобой одним воспоминанием.
Шесть десятилетий назад, когда я был семилетним мальчуганом, мой наставник, бедный, полуголодный поэт, человек в потрепанной одежде, вольнодумец с большой душой и чутким сердцем, часто выводил меня на прогулку в город. Мы быстро сдружились с ним и часами могли расхаживать по запущенным окраинам, проводя время в интереснейших беседах. И в одном из районов, на пустыре, мы наткнулись на небольшое болотце, канаву, залитую водой. На поверхности зеленой воды плавали набухшие водоросли, пузырились шапки серой гнилостной пены. Заинтересованный, я присел над этой лужей, вглядываясь в мутную, пронизанную солнечными лучами толщу воды. И знаешь, что мне там открылось? Жизнь! Там, белесой мути плавали какие-то жгутики, личинки, головастики и круглые водяные жуки. А над ними, подобно птицам, проносились стайки водомерок и комаров, кружились облачка мелких мушек. Неудержимые в своей страстной жажде жизни, эти существа охотились и пожирали друг друга, встречались, спаривались и продолжали свой род. Удивительно, сколько их там было, в этом тесном, уютном мирке.
Долго я сидел на корточках, зачарованно глядя в толщу воды. В те прекрасные мгновения я ощущал себя божеством, свысока взирающим на зрелище жизни низших существ. Утомившись, я тихо отошел в сторону и мы с наставником вернулись в город, погруженный каждый в свои думы. Спустя какое-то время я вновь, на этот раз один, поспешил к тому волшебному уголку и с содроганием увидел на месте болотца бесформенную кучу свежевскопанной земли: неподалеку возводили какую-то постройку.
Погиб необычайный микрокосм, погиб в одночасье, не успев осознать, за что карает его чужая безразличная воля. Представь на мгновение весь ужас, всю боль погибаемых существ, хотя и обделенных разумом, но все же не лишенных простейших чувств. Вся уникальность, неповторимость жизни, все хрупкие и замысловатые связи — всё оборвалось в мгновение ока, для этого потребовалось всего лишь несколько тачек земли. Попытайся ощутить в себе их беспомощность и тот безмолвный крик, когда очередная порция щебня погружала творения Божии во мрак, бесповоротно отнимая у них пространство, мир и право на существование.
Мегадука встал, не скрывая своего негодования.
— Воистину, твой цинизм не знает пределов. Сравнивать высшее творение Господа — человека — со стаями безмозглых болотных тварей и переносить на них наши чувства….. Извини, мастер, но моя душа восстает против подобных аналогий. Прости меня еще раз, но время уже близко к полудню. Я отнял у тебя много времени.
— Нотар! — у самой двери Феофан вновь остановил мегадуку.
Голос его был тих и спокоен, но в глазах отчетливо читалось предостережение.
— Ты не должен сегодня держать речь на Ипподроме.
Лука мотнул головой, как бы стряхивая неприятные воспоминания и зябко поёжился. Сколько времени он провел в купальне, было нелегко определить, но он почувствовал, что несмотря на подогретую воду, его тело начало сотрясаться в мелком ознобе. Держась за поручни, он быстро вышел из бассейна и лег на крытую простынями скамью.
— Мириам! — громко позвал он и эхо от его голоса смахнуло вниз несколько набрякших на потолке капелек влаги.
Мулатка появилась сразу, как-будто ожидая голоса за дверью. Часто кланяясь, она приблизилась, держа на вытянутых руках полотенце, и принялась тщательно обтирать худую спину хозяина — никто из прислуги не пребывал в заблуждении насчет истинного владельца этого особняка. Умелый массаж, чередующийся с втиранием благовонных масел, разогрел застоявшуюся кровь и Нотар почувствовал долгожданный прилив энергии.
— Довольно, — остановил он ее. — Остальное оставь на долю своей госпожи.
Служанка прекратила растирание и метнувшись к столику, вернулась с хитоном тончайшей отделки на вытянутых руках. Лука одевался медленно, как человек, которому некуда, да и незачем спешить. Разведя руки в стороны, он с нескрываемым удовлетворением осматривал себя: ему по душе был просторный, не стесняющий движений византийский стиль облачений. На людях же, чтобы не вызывать насмешек за спиной, мегадука появлялся в общепринятой европеизированной одежде. Мулатка возложила цветочный венок на лысеющую голову и придерживая ниспадающий складками край его хитона, проводила до входа в покои Ефросинии.
Гетера лежала среди разбросанных подушек и скучающе играла с маленьким пушистым котенком. При виде сенатора ее глаза сощурились, а зубки слегка прикусили край нижней губы.
«Сегодня он более чем когда-либо похож на выжившего из ума старого паяца», — досадливо, с холодной насмешкой подумала она. — «Этот нелепый балахон на удивление подстать венку бездарного комедианта».
Она приподнялась с ложа и с улыбкой протянула руки. Нотар присел на краешек кровати и поочередно прижал к губам хрупкие, почти прозрачные из-за белизны кожи кисти. Ефросиния небрежно смахнула котенка на пол и приглашающе подвинулась вглубь постели.
— Ты сегодня заставил меня долго ждать, — обиженно надув губки, произнесла она.
Мегадука поднялся, приблизился к большому, в рост человека зеркалу, снял с макушки венок и принялся задумчиво, в упор разглядывать свое отражение. Ефросинии вдруг припомнился юноша с нежным лицом и пустыми глазами и она чуть не закричала в голос, вновь ощутив на себе взгляд, который отразила на прощание блестящee покрытие стекла.
— Что с тобой, любовь моя? Ты побледнела и вся дрожишь!
— Нет, нет, пустяки! — гетера отворачивала лицо. — Это легкое недомогание, оно скоро пройдет.
Нотар привлек ее к себе, Гетера не сопротивлялась, напротив, приникла к нему и спрятала лицо на его груди.
С того самого дня, когда пришедший неведомо откуда, страшный, подобно предвестнику смерти, человек скрылся за дверью, одарив угрозами и обещанием вернуться, что-то незримое надломилось в ней. Холеная, избалованная с малых лет вниманием и заботой окружающих, она впервые столкнулась с недоброй, беспощадной силой, способной шутя, одним сжатием пальцев оборвать тонкую нить ее жизни.
Ужас, чувство беспомощности глубоко проникли в нее. Ожили детские страхи, боязнь темноты и теперь она пугливо вздрагивала при малейших шорохах за окнами или за дверью; с наступлением сумерек в каждом углу ей мерещились мрачные, ждущие своего часа тени. Она потеряла покой и по ночам сон долго не шел к ней; в сновидениях же не переставали мучить кошмары, которые подобно клубку змей опутывали ее, не давая сил пошевельнуться или вздохнуть. Она возненавидела своего покровителя, невольную причину этих страхов и вынуждена была прилагать немало усилий, чтобы скрыть свое состояние от окружающих.
Нотар успокаивающе гладил ее по голове, перебирая заплетенные в косы волосы. Овладев собой, Ефросиния отстранилась и вымученно улыбаясь, откинулась на подушках.
— Вот и все, я же говорила, — она отбросила со лба прядь волос. — Просто слегка закружилась голова.
Объяснение прозвучало уклончиво, но Лука не стал настаивать. Он прилег рядом с ней и принялся ласкать гладкое и нежное, источающее аромат, послушное каждому прикосновению тело.
— Мой адмирал сегодня не в духе? — проворковала она, просовывая колено между ног любовника.
— Надеюсь, ты исправишь мое настроение.
— Я сделаю все, чтобы мой повелитель остался доволен, — гетера плотнее прижалась к нему.
Но тут в ее ушах вновь зазвучал насмешливый голос незнакомца. Отстранившись, она набросила на лицо маску озабоченности.
— Что-то тревожит тебя. Я давно не видела тебя таким угрюмым и неразговорчивым. И ласкаешь меня, как-будто чужой. Наверно, все из-за султана? Я знаю, это он, противный, не дает тебе покоя.
— Нет, тут дело не в султане. Я сам себе противен. Несколько дней назад я невольно совершил предательство. На Ипподроме мои сторонники и люди, близкие к ним, ждали моего слова, но я молчал, позорно молчал. У меня было, что сказать им, они знали это, верили в меня. А я……
Мегадука вздохнул и замолк, не закончив фразы.
— А ты?
— Я помнил слово, данное мною Феофану.
— Феофан Никейский? Я что-то слышала о нем. Это, кажется, начальник тайной полиции? — Ефросиния отвернулась, чтобы скрыть блеск глаз.
— Начальник тайной полиции? — хмыкнул Нотар. — Не совсем, хотя ты почти угадала. Его трудно назвать официальным лицом, хотя влияние Феофана ненамного уступает власти василевса. Он владеет знанием, искусством игры на тайных рычагах дипломатии и власти и потому могущественнее всех дворцовых советников.
— И даже самого протостратора?
— Самого протостратора…. Все это пустая игра слов! Давно уже нет империи, подвластные василевсу территории не больше в размерах заурядного удельного княжества. И чуть ли не каждый воевода сопредельных земель имеет под своим началом больше солдат, чем наш протостратор. Мы все еще живем в прошлом, среди теней, и как марионетки, пляшем на фоне выцветших бумажных декораций. Величаем друг друга титулами, за которыми давно стоит одна пустота. А впрочем, к чему эти скучные беседы!
— Нет, нет, продолжай, — запротестовала гетера. — Мне интересно тебя слушать.
Мегадука приподнялся на локте и удивленно взглянул на нее.
— Странно. В последнее время ты стала проявлять любопытство к моим делам. Хотя не далее как несколько месяцев назад ты запрещала даже упоминать о них!
— Я просто хочу разделить с тобой твои заботы, — серебристо рассмеялась Ефросиния и закинув руки ему за голову, привлекла к себе, осыпая поцелуями.
ГЛАВА X
Хотя городские улицы не были освещены и ночная темнота почти скрадывала очертания домов, цепкая зрительная память без ошибки подсказывала Роману правильный путь. Свернув в боковой переулок, он быстро прошел вдоль высокого каменного ограждения усадьбы Палеологов и вскоре остановился возле заранее намеченного места.
В немногие из своих свободных дней он присмотрел этот участок в узком проходе между боковой стеной соседнего строения и оградой парка, край в которой был выщерблен на треть. Выпавшие камни валялись тут же, неподалеку. Установив два наиболее крупных обломка друг на друга, он встал на них, ощупывая потрескавшуюся штукатурку и края образовавшегося углубления в стене. Затем, ухватившись за край пролома, подпрыгнул, подтянулся на руках и, перекинув ногу через ограду, соскочил вниз.
Громкий треск оглушил его. Затаив дыхание, он некоторое время выжидал, уверенный, что на шум незамедлительно сбежится добрая половина дворцовой челяди. Но окружающую тишину по-прежнему смущал лишь стрекот цикад, а полутьме между деревьями беззвучно и усердно махали крылами летучие мыши. Успокоившись, он принялся отдирать себя от впившегося в одежду розового куста, в который он так неудачно приземлился. Но только он освободился от колючих объятий, как неподалеку послышались звуки шагов. Роман поспешил укрыться в обветшалой, увитой побегами плюща ротонде. Шаги приблизились, на мгновение замерли и стали удаляться. Роман осторожно развел руками переплетенные ветви — в темноте угадывался силуэт широкоплечего приземистого человека, держащего в руке арбалет со вложенной в него стрелой. Время от времени охранник останавливался и настороженно поводил головой по сторонам, прислушиваясь.
Роман откинулся на пыльной, в опавших листьях скамье и принялся размышлять. Привыкшие к темноте глаза бесцельно блуждали по толстым стеблям плюща, подобно змеям оплетавших белые колонны и поднимавшимся по ним вверх, почти до самого свода крыши. Ему удалось осуществить первую половину задуманного плана — проникнуть незамеченным на территорию парка, принадлежащего имению Феофила Палеолога. Однако вторая часть была туманна и трудноопределима. Ему просто невыносимо сильно захотелось вновь увидеть девушку, поразившую его воображение на пиру у императора. Но он не мог найти предлога без приглашения явиться в дом протостратора, а сама Алевтина нечасто показывалась в обществе, ведя чуть ли не жизнь затворницы.
Отчаявшись, он решился понаблюдать за ней хотя бы издалека, чтобы образ, запечатлевшийся в его памяти, не размыло в водовороте повседневных событий. Чем дольше он сидел на скамье заброшенной ротонды, тем больше в душу его начинали закрадываться сомнения. Ведь не исключено, что та бойкая служанка, с которой он свел знакомство и которая за несколько монет выложила интересующие его сведения о своей госпоже, солгала или не удержала язык и теперь он стал мишенью для острот прислуги Палеологов, а может и не только их. Или привычки Алевтины изменились и она предпочитает теперь вместо вечерних прогулок коротать время за вышивкой или чтением Евангелия? Нельзя так же исключить, что он опоздал и Алевтина отошла ко сну, не подозревая даже, что где-то там, в саду, притаился ее незадачливый воздыхатель. В таком случае перепачканный костюм явится единственным следствием этой ночной прогулке по чужим владениям. Роман закусил губу и беззвучно чертыхнулся.
Но тут его слух уловил дальний, приглушенный расстоянием и стволами деревьев шорох гальки под шагами на аллее. На мгновение ему показалось, что возвращается тот вооруженный арбалетом низкорослый человек, однако вскоре убедился в своей ошибке: звуки доносились с противоположной стороны дорожки. Мышцы его тела непроизвольно напружинились, он подобрался и приник к проделанной им щелке. Среди густого частокола деревьев, то и дело скрываясь в тени, мелькало светлое продолговатое пятно, в котором по мере его приближения начинали угадываться очертания стройной женской фигуры. Роман наблюдал, затаив дыхание.
Девушка прошла мимо, задумчиво глядя вдоль аллеи; ее длинное светлое платье мягко колыхалось в такт шагам, под ногами тихо хрустели обкатанные морем камешки. Роман следил за удаляющейся фигурой, не имея ни малейшего представления о том, что он собирается делать дальше. Когда силуэт девушки скрылся за ближайшим стволом дерева, он, сделав несколько крадущихся шагов, покинул ротонду и раздвинув руками кусты, решился выглянуть из-за них.
Но тут под его ногой оглушительно лопнул сучок!
Алевтина стремительно обернулась, испуганно вскрикнула, метнулась к раскидистому дубу и замерла там, прижавшись спиной к бугристому стволу.
— Кто там прячется?! Немедленно выходи! — в ее голосе звучал неподдельный страх.
Вместо того, чтобы мчаться во весь дух к спасительному пролому, Роман, как под гипнозом, сделал два шага и оказался на аллее.
— Стой, не приближайся! — девушка еще крепче прижалась к дереву, как бы ища у него защиты. — Еще шаг и я вызову стражу!
Роман застыл, будто пригвожденный к месту.
— Кто ты? Что ты делаешь здесь? — продолжала она уже более уверенно: растерянность незнакомца придала ей смелости.
В ушах у несчастного сотника насмешливым звоном перекликались серебряные колокольчики — он слишком поздно понял, как могла расценить Алевтина появление незнакомого человека в хорошо охраняемом владении. Но и признаться в своем грехе, в подглядывании исподтишка, он был не в силах. Непостижимость ситуации сбила его с толку и он стоял, недвижимый и бессловесный, как одна из украшающих парк статуй. Затем, все же нашел в себе силы сорвать с головы берет и отвесить церемонный поклон.
Алевтина удивленно воззрилась на раскланивающегося человека, которого поначалу приняла за ночного грабителя, затем осторожно приблизилась, не спуская глаз с лица незнакомца.
— Великий Боже, — выдохнула она. — Ведь ты тот самый молодой человек, который сидел рядом со мной на пиру у императора.
Роман почувствовал, как горят его щеки и лицо наливается краской.
— Да, да, сейчас я вспоминаю, твое имя — Роман. И мастер Димитрий называл тебя своим племянником, — продолжала девушка, подходя все ближе. — Но что ты делаешь здесь в столь поздний час? Наверное, ты пришел с донесением к моему отцу? А потом заблудился?
Несмотря на подсказку в ее вопросах, молодой человек ощущал себя так, что если бы в тот момент земля разверзлась под его ногами, он вздохнул бы с искренним облегчением.
— Почему же ты молчишь?
Неожиданно она рассмялась.
— Ты вышел из-за кустов так неожиданно, что у меня от страха отнялся язык.
— Прости великодушно, — Роман нашел-таки в себе силы ответить. — Я сам не знаю, как это получилось. Я возвращался к себе домой и чтобы сократить дорогу, решил пройти через этот парк. Мне не пришло в голову, что это чье-то владение. Я не думал кого-нибудь встретить и даже не мог предположить…..
Он смолк, не сумев продолжить фразу.
Алевтина весело рассмеялась.
— Так значит это не ты, а я до онемения напугала тебя?
Его пальцы судорожно смяли берет и белое перо в нем, жалобно захрустев, переломилось пополам. Улыбаясь, девушка приблизилась к нему вплотную.
— Может быть ты, как и я, любишь прогулки в прохладе и среди вечерних теней?
Роман торопливо подтвердил ее догадку.
— Тогда, если захочешь, можешь сопровождать меня, — Алевтина повернулась и пошла вдоль аллеи, чуть заметным кивком приглашая следовать за собой.
— Ты будешь мне надежной защитой, если вдруг кому-нибудь еще вздумается выскочить из-за кустов.
Сотник низко поклонился.
Уходил он из парка тем же путем. Спрыгнув вниз, он больно стукнулся пятками о неровный булыжник и не сразу распрямился. Когда же он поднялся во весь рост, его поразило поведение случайного прохожего, перед которым он так неудачно приземлился. Отскочив в сторону, тот быстро схватился за левую часть груди, как если бы с перепугу ему сделалось дурно.
Роман рассмеялся и сделал шаг вперед, желая успокоить горожанина.
— Стой там, где стоишь! — звук голоса прохожего напоминал скрежет стали о стекло.
— Кто ты? Кого выслеживаешь?
— Что? — недоуменно переспросил сотник. — О чем ты говоришь? Я здесь прогуливался….
Он замолчал, не желая вдаваться в подробности.
Незнакомец вышел из тени, по-прежнему держа руку у сердца. Это был юноша не старше двадцати лет, одетый в костюм простолюдина. Но что-то неуловимое выдавало в нем человека более высокого сословия. Прохожий бросил взгляд на ограду и вновь повернулся в сторону сотника.
— Я знаю тебя, рыцарь, — произнес он, пока его глаза цепко ощупывали лицо Романа. — Ты родич Кантакузина и принадлежишь к числу командиров его сотен.
— Да, — удивленно согласился тот. — Но я не могу припомнить твоего имени.
— В том нет нужды, — усмехнулся юноша, убирая руку из-за пазухи. — Изволь простить меня, но я спешу и вынужден удалиться. Не гневайся за совет, но помни, что ночи для влюбленных скоро станут коротки.
Быстро качнув головой, что отдаленно могло сойти за поклон, он тут же исчез, растаял в тени близлежащих домов.
— Странный человек, — недоуменно пробормотал Роман, глядя ему вслед. — Его, наверное, следовало проучить за дерзкие слова. Ну да Бог с ним, пусть идет своей дорогой. Незачем портить сейчас себе настроение. Однако, как он напугался меня! И это второй раз за сегодняшний вечер!
Он усмехнулся и пожав плечами, направился к особняку Кантакузина. Но не успев сделать и нескольких шагов, вдруг вздрогнул и похолодел.
"Ведь этот человек мог запросто оказаться шпионом! А я, как малое дитя, позволил себя заговорить и дал тем самым ему ускользнуть. Теперь-то мне понятен его испуг!»
Сотник бросился вдогонку, но юноша как сквозь землю провалился.
— Глупый щенок, — злобно шептал Ангел, по-кошачьи бесшумно пробираясь вдоль темных улиц по направлению к Заливу. — Выскочи ты на мгновение позже и твой родовитый дядюшка никогда больше не увидел бы тебя живым.
Рука его непроизвольно скользнула к левому плечу и пальцы вновь нащупали гладкую рукоять кинжала.
— Ты даже ничего не успел бы понять!
Через полверсты, на неприметной улочке, похожей на узкую тропу в беспорядочном нагромождении строений, его окликнул чей-то приглушенный голос. От стены заброшенного дома отделились две фигуры и, обменявшись несколькими фразами, все трое поочередно исчезли в темноте соседнего переулка.
В ту же ночь, неподалеку от ворот Перамы, на границе Пизанского и Венецианского кварталов, была разгромлена небольшая таверна.
Вооруженные люди, выбив двери и ставни окон, ворвались в помещение и набросились на припозднившихся посетителей. Хотя грозный окрик: «Именем закона!» отчасти и возымел свое обычное парализующее действие, часть из двух десятков человек, находящихся в зале, попыталась оказать сопротивление. Завязавшаяся было под звон клинков, под треск битой мебели и посуды потасовка вскоре завершилась. Нападавшие потеснили в кучу и обезоружили своих недавних противников, затем почтительно расступились перед пожилым, усталого вида человеком с жезлом представителя власти в руке. Один из ворвавшихся в таверну, бородач, заросший волосами почти до самых глаз, выдернул из-за пояса факел, поджег от огня масляной лампы и высоко подняв его над головой, направился к деревянной лестнице на второй этаж. Жезлоносец, в сопровождении трех человек, медленно, вслед за ним поднимался по скрипучим ступеням.
— Нет, нет и еще раз нет! Я не желаю больше слушать. То, к чему призывает нас синьор Бертруччо — ничто иное как измена. Мы никогда не пойдем на это!
Эти гневные слова были обращены к высокому, поджарому как гончий пес, человеку. Скрестив на груди руки, он сидел во главе стола и насмешливо мерил взглядом возбужденного, энергично жестикулирующего толстяка.
— Чем же так возмущен уважаемый нами синьор Адорно? Неужели моим стремлением спасти ваши шкуры от использования не по назначению?
Сидящие за столом переглянулись. Шестеро выборных представителей от общин, состоящих из выходцев городов-республик Италии и проживающих на то время на территории Константинополя, пребывали в смущении. Человек, пригласивших их на встречу, говорил туманно, намеками, умалчивая именно о том, что больше всего волновало старейшин. Забрасывая его вопросами, они пытались выяснить, чьи интересы он представляет, какие силы стоят у него за спиной и что подпитывает ту уверенность, которая звучит в каждом его произнесенном слове. Но Бертруччо ловко уходил от ответов и потому делегаты от общин чувствовали себя весьма неуверенно.
— Я все еще не понимаю, какую выгоду ищет для себя представитель Сената Генуи, как он сам нам отрекомендовался, и почему он озабочен защитой наших интересов, — произнес венецианский банкир. — Наши республики никогда не отличались взаимной приязнью и это не секрет ни для кого из присутствующих. Поэтому логичнее было бы предположить, что…..
Бертруччо оборвал его:
— Оставим логику в стороне, мы сейчас не на философском диспуте. Повторяю, после получения вашего согласия, я ознакомлю вас с документом, в котором ясно сказано о моих полномочиях, значительно превышающих права, предоставленные мне Сенатом. Этот документ был вручен мне лично одним из капитанов Лиги, организации достаточно влиятельной, чтобы в скором времени вершить судьбами народов.
— Не мешало бы уточнить цели и задачи этой Лиги. Которую вы уже не раз упоминали в разговоре. Кто создал её? И кто возглавляет ее сейчас?
Вопросы остались без ответа. Негоцианты переглянулись.
— Пытаетесь продать кота в мешке? — язвительно осведомился чей-то голос. — Напрасно, синьор загадочный посланник. Вы имеете дело с опытными банкирами. А они, как известно, не терпят неясностей в любого рода сомнительных сделок.
Собрание довольно закудахтало. Бертруччо закусил губу.
— Я устал от вашей чрезмерной подозрительности. Мы бесцельно тянем время. Все это неоднократно было обговорено с каждым поотдельности и каждый раз мне приходилось начинать сызнова. Ваши советы старейшин настолько не доверяют друг другу, что на заключительные переговоры отрядили не подест, а их доверенных помощников, чьи подписи под предполагаемым договором будут выражать лишь частное мнение данных лиц.
— Это не суть как важно, — возразил венецианец. — Если составленный договор удовлетворит совет общины, любой подеста, вне зависимости от своих пристрастий, обязан будет подписать его.
— Но это только в том случае, — поторопился добавить он, заметив, какими взглядами обменялись присутствующие, — если представитель выразит согласие с доводами синьора Бертруччо. А эти доводы пока весьма неубедительны.
— Риск недопустимо велик, — важно закивал головой флорентиец. — Да и ширма, за которой действует наш синьор…. Какая-то лига, генуэзский сенат…. Ничего не понятно!
Ободренный поддержкой, Адорно, гражданин Генуи и житель Галаты, вновь заявил о себе.
— Отказать в кредитах самому императору, да еще в столь сложное время? Нет, синьор Бертруччо, это невозможно. На следующий же день все торговые дома и принадлежащее им имущество будут конфискованы властями, а мы сами — изгнаны за пределы Византии.
— Да и где гарантии, что все общины пойдут на этот шаг? — подхватил его сосед. — Достаточно одной колонии проявить лояльность василевсу, в то время как остальные усядутся на свои сундуки — и все льготы, вся торговля и доходы перейдут в ее руки.
— Не тут ли кроется изюминка? — венецианец переводил прищуренный взгляд с Бертруччо на Адорно. — Поступив таким образом Генуя одним ударом может поразить сразу несколько целей: устраняются конкуренты, резко усиливается роль Галаты, а следовательно расширяется торговля с Крымом и Левантом. И при наличии сильного отряда лигурийских наемников во главе с Джустиниани, можно даже предположить захват Константинополя изнутри, споследующей «великодушной» передачей его в руки турок.
— А пока что синьоры Адорно и Бертруччо усердно лицедействуют перед нами, разыгрывая между собой сцену вражды и непонимания, — подхватил представитель пизанской общины.
— Брехливый пес! — возопил Адорно, выхватывая из-за пояса стилет. — Я выпущу тебе кишки!
Все шестеро вскочили на ноги, сжимая в руках кинжалы.
— Перестаньте, дурачье, — прорычал сквозь зубы Лодовико. — Не гневите Всевышнего своей глупостью.
Громко ворча, итальянцы расселись по местам, не сводя друг с друга ненавидящих взглядов.
— Османская армия со дня на день готовится выступить в поход, а вы всё забавляетесь, подобно драчливым мальчуганам. Задумайтесь на мгновение, куда идут ваши деньги. На оборону города? Верно. И чем труднее султану будет овладеть им, тем больший гнев обрушится на горожан, к которым вы, синьоры, торговцы и банкиры, имеете честь принадлежать.
— Тут кто-то упомянул про темницу, — продолжал он, — но даже в этом, крайне неблагоприятном случае, можно утешиться тем, что под замком сидеть приятнее, чем на колу. А турки, надо сказать, большие любители этой потехи. Вы много рассуждаете о карах со стороны василевса, а это значит — в главном вы со мной согласны. Вас удерживает лишь страх перед наказанием…..
Генуэзца прервали возмущенные выкрики. Он успокаивающе поднял руку.
— Я не хотел никого обидеть. Я лишь пытаюсь объяснить вам, что ни один правитель в здравом уме не станет перед лицом опасности преследовать своих союзников, на деньги которых содержится лучшая часть его войска. Более того, большинство наемников — выходцы из тех же республик, что и вы, и за хорошее вознаграждение предпочтут защищать имущество своих сограждан, а не кусочек земли нищего государя.
Он резко стукнул кулаком об стол.
— Отступничеству одной из сторон помешает договор, скрепленный печатями и подписями каждой из общин. Именно для этого он и предназначен.
— У кого же он будет храниться?
— Договор будет составлен в шести экземплярах и каждая колония получит в свои руки документ, уличающий возможную отступницу. Гарантией вашей неприкосновенности, я повторяю, являются отряды наемников. Получив согласие всех сторон, я на следующий же день начну переговоры с кондотьерами.
В комнате повисла тишина. Старейшины не отрывали глаз от поверхности стола.
— Предложение весьма необычно, — осторожно начал флорентиец.
— Его необходимо тщательно обдумать и взвесить, — подтвердил Адорно.
— Это ваше право. У вас еще есть время на раздумье. Пока еще есть…..- предостерег Бертруччо.
Вдруг он насторожился и по-птичьи склонив голову к плечу, вслушался в слабые и неразборчивые звуки, доносящиеся с улицы через закрытые ставни окон.
— Что? Что такое? — обеспокоенно зашевелились собравшиеся.
— Показалось, — отмахнулся Бертруччо, однако черты его лица напряглись более обычного.
— И все-таки я не понимаю…, - флорентиец оборвал себя на полуслове.
Внизу, на первом этаже, раздались звуки сильных ударов, треск ломающегося дерева и встревоженные крики. Итальянцы вскочили со своих мест, лица многих перекосились от страха. Один Бертруччо не двинулся с места, на его губах прыгала презрительная усмешка.
— Что это? Что там происходит? — выкрикнул один из старейшин.
— Что происходит? — переспросил он. — По-видимому, ромейская полиция жаждет встречи с вами.
Он громко расхохотался.
— Великий Боже, как я был глуп! Ведь если даже место переговоров вы не могли сохранить в тайне…..
— Это ты нас подставил! — закричал Адорно, вновь обнажая стилет. — Завлек в ловушку, чтобы выдать затем властям!
— Смерть провокатору! — вторили ему остальные, выстраиваясь полукругом и отрезая проход к двери.
Опрокинув табурет, Лодовико отскочил к слуховому окну, единственному в скате крыши. В каждой руке у него блестело по кинжалу.
В его голосе зазвучала откровенная насмешка.
— Я притомился, беседуя с глухими. Выкручивайтесь из этой переделки сами. А я на время покидаю вас….
Он сделал резкое движение ногой и тяжелый табурет полетел в сторону высунувшегося вперед пизанца. Его противники поспешно отпрянули.
— ….. и этот негостеприимный город тоже.
Не выпуская из рук оружия, он с кошачьей ловкостью протиснулся в узкий лаз и исчез в темноте. Только слышно было, как загрохотали по черепице его сапоги.
Отталкивая друг друга, старейшины бросились к окошку. Они не помышляли о погоне, каждый из них думал об одном: как можно скорее скрыться до прихода полиции. На первом этаже звуки схватки начали стихать: по-видимому телохранители, по трое от каждой общины, прекратили сопротивление.
— Назад, назад, — шипел флорентиец, отпихивая от окошка всех прочих, — Вы что, не понимаете: уйти нам не удастся.
— Вытащите его, — он указал на пизанца, чей увесистый зад с дрыгающими ногами плотно застрял в узком проеме.
— Слушайте все….
Громкий стук в дверь на мгновение парализовал их.
— Именем закона!
— Слушайте меня, — захлебываясь в словах, продолжал флорентиец. — Чтобы не выложить все на дознании, мы должны условиться…..
В дверь застучали настойчивее.
— ….. говорить правду, но только одну ее половину….. если не хотим сгнить в казематах. Об общинах упоминать нельзя! Запомните, мы преданы василевсу и вступили в сговор с генуэзцем лишь для того, чтобы выведать его замысел и лиц, стоящих за ним…..
От мощного удара дверь раскололась пополам.
— ….. и вывести затем на чистую воду….
Комната заполнилась вооруженными людьми.
Ангел бежал огромными скачками; ему казалось, оттолкнись он посильнее — и легкое тело, подобно птице, взмоет ввысь и понесется по воздуху, как на крыльях. Исперщеренная ломаными тенями, улица летела под ногами; незрячими глазницами окон мелькали проносящиеся мимо дома; позади затихал завывающий лай потревоженных дворняг. Радость бега, радость преследования кипели в крови и ему приходилось стискивать зубы, чтобы не выпустить рвущийся из груди крик восторга и полноты жизни.
Бегущий впереди человек, путающийся ногами в полах плаща, оглянулся, увидел настигающую его фигуру, заверещал от страха и припустил с новой силой. Расстояние между ними сокращалось быстро и юноша, желая растянуть удовольствие, слегка замедлил шаг. В это время бегущий вновь обернулся, оступился на камне и покатился кувырком по мостовой. Одним прыжком Ангел оказался рядом и пнул его ногой в грудь. Вскрикнув от удара, беглец свалился в грязь и больше не делал попыток подняться.
Ангел обнажил кинжал и приставил лезвие к горлу упавшего.
— Синьор Лодовико? — вежливо осведомился он.
Сквозь сипение и всхлипы слышались невнятные слова. Похолодев от внезапного предчувствия, Ангел схватил пленника за волосы и повернул лицом к свету. Серебристый лунный диск высветил испитые сморщенные черты лица и черный провал рта с редкими корешками порченых зубов. Эта физиономия преждевременно состарившегося бродяжки никак не могла принадлежать итальянскому дворянину.
Чуть не взвыв от досады, он ударил рукоятью кинжала в это потасканное, гримасничающее от ужаса лицо.
— Говори, — потребовал он, приподнимая бродягу за ворот рубахи.
— Я ничего не знаю, господин, — всхлипывая, ныл тот. — Этот человек дал мне новый плащ, пять монет и пообещал еще столько же, если я дождусь его.
— Почему же ты бежал?
— Я….. я испугался….. думал, плащ краденный….
— Скотина….
Удар по скуле повалил бродягу навзничь. Юноша распрямился и спрятал кинжал на груди.
Шпион вновь, как и несколько месяцев назад, перехитрил его. Ангел посмотрел на звезды: до рассвета оставалось не более трех-четырех часов.
Дальнейшие поиски едва ли принесли бы успех: найти беглеца в лабиринте улиц Константинополя было бы не легче, чем иглу в стоге сена. Но Ангел отступать не желал. Под самое утро удача отчасти улыбнулась ему, однако трудно было бы назвать ту улыбку иначе как саркастической — в одной из многочисленных ночлежек, расположение которых он знал назубок, ему указали на человека, недавно сбывшего с рук новехонький плащ. Это был второй двойник, нанятый Бертруччо.
Самого же генуэзца и след простыл.
ГЛАВА XI
Солнце припекало почти по-весеннему. Джустиниани снял маленькую, прикрывающую макушку шапочку и смахнул со лба капельки пота. Прищурившись, вновь осмотрел высокую земляную насыпь вала и пестрые кучки горожан на ней. Один из трех томящихся чуть поодаль адъютантов подвел к нему массивного, под стать хозяину, жеребца. Лонг принял поводья, похлопал коня по спине и одним махом вскочил в седло.
— Сегодня работы продвигаются успешно, — он кивнул головой в сторону цепочки землекопов. — Если не будет помех, через пару месяцев ни одна нечисть не прорвется за укрепления.
— Этим лежебокам следовало бы проворнее шевелиться, — снисходительно бросил адъютант. — До нашего приезда они лишь грызлись между собой и плакались на судьбу.
Лонг в упор посмотрел на него.
— Мне кажется…. Нет, я просто уверен — ты позволяешь себе слишком многое, Доменик. Тебя наняли, чтобы ты защищал этих людей, а не скоморошничал, изображая из себя полкового словоблуда.
Адъютант скривился, но промолчал. Его лицо с тонкими аристократическими чертами можно было бы назвать красивым, если бы не прочно отпечатавшееся на нем выражение наглости и раннего порока.
— Ты ведешь себя как юнец, пристроившийся голым задом на ежа, — кондотьер тронул коня с места, — И взял себе в дурную привычку изрекать высокопарные наставления. Занимайся этим в кабаках, там твоя болтовня окажется более уместной.
— О, синьор, — со смехом вступил в разговор второй адъютант, — вы затронули больную струнку: Доменику становится не по себе, когда он вспоминает сумму своих счетов в городских трактирах.
— Греческие вина действительно хороши, — с видом знатока провозгласил третий, самый молодой из них, которого за удлиненное лицо, напоминающее мордочку грызуна, прозвали Крысулей.
— Да, хороши, — кондотьер осадил коня. — Настолько хороши, что Франческо вчера, спеленутого как младенца, тащили из таверны на руках. Он все порывался вернуться и отрезать нос, уши, а также все прочее какому-то левантийскому капитану с торговой карраки. И призывал при этом Святую Деву себе в подсобницы. Не так ли, Мартино? Не потому ли, что бы вы там не болтали о недугах, его нет сейчас с вами? А чем занимались пару дней назад Доменик и Крысуля? Не они ли, задержавшись под благовидным предлогом в Галате, напились до сизых чертей, устроили потасовку с солдатами и вернулись лишь поздно утром, вывалянные в грязи, как последние бродяги.
Молодые люди понурили головы, но обличительный порыв только начинал разгораться в командире.
— Хороши же у меня помощнички, — продолжал греметь Джустиниани. — Вы думаете, ваши отцы, упросившие меня принять вас в свой отряд, возрадуются, обнаружив, что их беспутные отпрыски обучились лишь разгулу и шашням с легкодоступными девками?!
— Но, синьор, мы же не монахи, — попытался возразить Доменик. — Зачем же лишать себя малых радостей?
— Затем, неумный, что ратное дело — тяжкий труд, а не детская забава. А что умеете вы? Что есть у вас за плечами? По парочке мальчишеских дуэлей? И куча небылиц, которыми вы потчуете друг друга. Любого из вас срубит первый же турок и для этого ему, уж поверьте мне, не потребуется особого мастерства. Да-да, не ухмыляйтесь, молокососы. Мусульмане не обучены вашим галантным штучкам, всем этим прыжочкам, шажкам, поклонам. Они дерутся просто и крепко, так, как вам и не мечталось. Если бы не щедрый денежный взнос, уплаченный вашими родичами, я бы и на пушечный выстрел не подпустил бы вас к своему полку. Ну ничего, я пропишу вам средство от скуки. До одурения будете ворочать камни на стенах.
Адъютанты молчали, благоразумно пережидая бурю.
— Видать, моя палка давно не прохаживалась по вашим спинам, — успокаиваясь, буркнул кондотьер.
Почти целую милю они ехали молча. Неподалеку от цистерны Бона, на площади, окруженной лавками торговцев внимание Джустиниани привлекла негустая толпа людей.
— Что здесь происходит? — повернулся он к своим адъютантам.
— Тут вкопан позорный столб. Вероятно, уличенного вора заколачивают в колодки, — предположил Мартино и направил коня к толпе.
Вскоре он вернулся, едва сдерживая насмешливую ухмылку.
— Взгляните сами, синьор. Не пожалеете — зрелище стоит того.
Заинтригованный, кондотьер тронул поводьями. На небольшой площадке, в центре которой и впрямь высился позорный столб со свисающими по бокам ржавыми цепями, проходили обучение две сотни, набранные из числа городских жителей. Вооруженные мечами и длинными шестами вместо копий, ополченцы неуклюже топтались в пыли, стараясь точно следовать приказам командиров. Лицо одного из них, молодого темноволосого сотника, показалось кондотьеру знакомым.
Тронув коня, он проехал сквозь кольцо зрителей. При появлении итальянца учения приостановились. Лонг спрыгнул на землю, бросил поводья ближайшему адъютанту и сделал знак сотнику приблизиться. Тот повиновался.
— К кому из димархов приписан отряд?
— Стратегу Кантакузину.
— Чем сейчас занимаетесь?
— Разучиваем правила боя в строю.
Кондотьер поморщился.
— Это вам не понадобится — строем на стенах много не навоюешь. В ближайшее время надо обучить людей навыкам смешанного рукопашного боя, не повредит и умение противостоять атакующей коннице. Главное для пехотинца — мастерство во владении мечом и копьем. Дреколье, что в руках у этих мещан, немедленно выбросить и заменить легкими метательными копьями.
Он прошелся вдоль рядов. Роман следовал за ним, покусывая губы. Ему был неприятен категоричный тон кондотьера, хотя в глубине души он чувствовал правоту этого бывалого солдата.
— Почему солдаты вооружены мечами с тяжелым клинком?
— Оружие было выдано в Арсенале.
— Тоже сменить. Эти мечи хороши для поединков между латниками, когда необходимо прорубить панцирь или хотя бы переломать кости противнику. Наш враг не будет защищен железными доспехами и потому для битвы более пригодны облегченные клинки. Далее, сотня неверно разбита на десятки: правильнее было бы составить из сильных способных солдат отдельный отряд, а не смешивать всех в одну кучу.
Дав еще несколько указаний, кондотьер сел на коня и покинул площадь. Адъютанты последовали за ним, время от времени бросая насмешливые взгляды на горожан.
Неожиданно Доменик пришпорил коня и поравнявшись с кондотьером, тронул его за локоть.
— Синьор, — таинственно зашептал он, — посмотрите на ту карету.
Джустиниани повернул голову в указанном направлении.
— Ну и что, — недовольно спросил он. — Что ты там увидел?
— Шторки окошка на мгновение распахнулись, и оттуда выглянуло такое смазливое личико, какого мне, синьор, Пречистая Дева тому порукой, еще не приходилось видеть.
— И из-за этого ты смеешь отвлекать меня? — рассвирепел кондотьер.
Он было открыл рот, чтобы обрушить на подчиненного новый поток брани, но шторки вновь приоткрылись и Джустиниани невольно осадил коня. Даже с изрядного расстояния была видна впечатляющая красота той женщины. Ее глаза встретились с взглядом кондотьера, затем она откинулась вглубь сидения и быстро задернула занавеси.
— Кто она? — голос кондотьера на мгновение дрогнул.
Доменик приосанился.
— Вскоре, синьор, я доложу вам всё!
Он дернул лошадь под уздцы и поскакал за каретой.
Неподалеку от колоннады Ипподрома он нагнал своего командира.
— Синьор, я выведал всё, что было возможно за этот короткий срок. Имя этой женщины — Ефросиния. Она не принадлежит к знатному роду, но пользуется покровительством одного из именитых людей Константинополя. Ей не более двадцати шести лет, она живет одна, с прислугой, в двухэтажном особняке, неподалеку от Форума, на содержании адмирала Нотара. О ее занятии вы, наверно, уже сами догадались. Скажу только, что от портовых блудниц, которыми вы нас недавно попрекали, она разнится лишь повышенными гонорарами за свои услуги.
Кондотьер пристально взглянул на него.
— Сегодня, — раздельно выговорил он первое слово, — я доволен тобой.
Утро мартовского дня выдалось ненастным, с дальних гор тянуло холодом и сыростью. Недобрым было и пробуждение Мехмеда. Пролежав некоторое время с открытыми глазами, он для начала перевернул вверх дном постель и раскидал подушки по всей опочивальне. Пока царедворцы осторожно облачали его, Мехмед несколько раз с силой ударил по лицу прислуживающую рабыню, затем схватил ее за волосы и пнул ногой в грудь. Но это не только не успокоило душившую его злобу, напротив, лишь разогрело ее. Во время утренней трапезы придворные не отрывали глаз от пола, в душе невольно сочувствуя слугам, в которых то и дело летели предметы утвари и не пришедшаяся по вкусу султана пища. Наконец, к всеобщему облегчению, трапеза была завершена, но день еще только начинался.
Мехмед выразил желание совершить конную прогулку, но почти сразу же отменил решение и направился во внутренний дворик, старательно отделанный под зимний сад. По большей части многолюдные залы и переходы дворца были в тот день непривычно пусты.
В маленьком садике Мехмед осмотрелся и сделав несколько шагов, остановился у раскидистого куста роз. Некоторое время он мрачно созерцал повядшие листья, затем кивком подозвал садовника. Тот приблизился, трясясь как в приступе лихорадки.
— Что это? — хрипло спросил султан, указывая на поникшие бутоны.
— Мой повелитель, — садовник заикался на каждом слове. — В это время года цветам особенно недостает тепла и солнечного света.
— Ты забыл их полить, — не слыша оправданий, закричал Мехмед. — Ты специально их моришь, держишь в холоде, чтобы досадить мне!
Он резко повернулся к сопровождающей его охране.
— Перерезать собаке глотку. Пусть напоит куст своей теплой кровью!
Юзбаши обнажил кинжал и схватил садовника за волосы. Молящий о снисхождении крик сменился глухим бульканьем и сипением. Зеленые листья окрасились в алый цвет, красными стали бутоны и земля.
— Выбросить дохлятину, — Мехмед толкнул носком сапога притихшее тело.
Он прошествовал дальше, к грядкам, на которых созревали его любимицы, серо-желтые овальные дыни. Машинально пересчитав их, он чуть было не подскочил от удивления: число дынь оказалось меньшим на одну единицу. Еще не веря своим глазам, Мехмед пересчитал их вновь. Ошибки не было: одной дыни не доставало!
Кровь отхлынула от сердца.
— Что, что такое? — забормотал он, чувствуя, что еще мгновение — и он бешенства потеряет рассудок.
— Этого не может быть!
Он медленно повернулся к своей свите и придворные, завидев выражение его бескровного лица, падали ниц, скрючившись от ужаса.
— Привести сюда главного садовода, — тихо произнесли бледные, стянутые в узкую полоску губы.
Стражники сорвались с места и выдернули из толпы нужного человека. Грузный старик мешком висел у них на руках: от страха ноги отказались служить ему. Швырнув его на колени перед султаном, воины встали по бокам, не спуская с него глаз.
— Где? — спросил Мехмед, тыча пальцем в стеклянные колпаки.
Старик застонал, не отрывая лица от земли.
— Я спрашиваю тебя, грязное животное, где м о я дыня?
Стражник занес ногу и отвесил могучий пинок в зад прислужника. Толстяк оторвался от земли, пролетел целый ярд и плюхнулся у самых ног султана.
— Я не слышу, что ты там бормочешь! — заорал Мехмед, отпихивая ногой содрогающееся тело.
Садовод приподнял мокрое от слез лицо и жалобно запричитал:
— Не гневайся, о свет моих очей! Я не знаю точно, но могу предположить: не далее как вчера твоим постельничим было прислано мне пятнадцать рабов для земляных работ……
— Достаточно, — оборвал Мехмед. — Привести сюда всех, кто работал вчера в этом саду.
Не прошло и нескольких минут, как полтора десятка человек, растерянно озираясь, стояло перед ним. Рабы были босы, в лохмотьях, с непокрытыми головами, на которых были грубо сострижены волосы.
Мехмед пристально осмотрел невольников.
— Спроси их, — кивнул он юзбаши, — спроси этих свиней, кто из них сожрал мою дыню.
Сотник прошелся вдоль рядов, выкрикивая в лицо каждому вопрос. Но рабы лишь недоуменно разводили руками.
— Они не понимают вопроса?
— О нет, мой повелитель, понимают, — ответил постельничий. — Все они не первый год в услужении и уже неплохо знают наш язык.
— Хорошо, — Мехмед сделал несколько шагов и остановился. — Если они не желают признаваться, тогда я сам разыщу виновного. И сделаю это так: прикажу всем поочередно вспороть животы и проверить содержимое желудков.
Повинуясь взмаху его руки, солдаты набросились на рабов, посбивали их с ног и прижали к земле.
— Начните с этого, — Мехмед указал на рослого негра, дико вращающего белками глаз.
Раб взревел, вырвался из рук и бросился бежать. Его тут же настигли, вновь повалили на землю и перевернули на спину. Двое стражников уселись ему на ноги, еще двое — прижали коленями руки. Юзбаши извлек из-за пояса нож, попробовал пальцем кривое лезвие, удовлетворенно хмыкнул и принялся за дело. Склонившись над рабом, он одной рукой уперся ему в грудь, другой — умело рассек живот. Протяжный нескончаемый вопль заполонил все пространство маленького дворика; казалось невероятным, что так может кричать один человек.
Юзбаши погрузил обе руки в кровавое отверстие распоротого живота и покопавшись, извлек блестящий сизой слизью желудок. Разрезав его пополам, он поворошил ножом содержимое и отрицательно покачал головой.
— Следующего, — кивнул султан.
Еще одного раба подняли и поволокли за вывернутые руки. Несколько обреченных стали сильно биться, подобно выброшенным на землю рыбам. Одному даже посчастливилось стряхнуть с себя солдат и схватить валяющуюся неподалеку мотыгу. Но прочие невольники не поддержали отчаянной борьбы и буянов успокоили быстро, перерезав им глотки. Над смельчаком, схватившим мотыгу, даже слегка позабавились, и хотя ему удалось проломить головы двум солдатам, его убили не сразу: сперва отсекли руки и только потом — голову.
В уютном маленьком саду тошнотворно завис запах смерти: запах сырого мяса, крови, требухи и зловоние вспарываемых желудков. Оставшиеся в живых рабы уже не кричали, а тихо стонали в смертной тоске. Те из них, кто еще не успел помутиться в рассудке, молили, каждый своего бога, чтобы останки той злополучной дыни поскорее обнаружились в желудке соседа.
Всецело поглощенный зрелищем, Мехмед не обращал внимания на свиту. Большинство сановников хладнокровно созерцало расправу, другие отворачивали лица или старались незаметно отодвинуться подальше, некоторых мучали рвотные позывы, а кто-то без сил и сознания опустился на землю. Но никому из них и в голову не могла прийти мысль удалиться прочь от этого судилища. Бесконечный животный вой стоял над той импровизированной бойней. Земля перестала впитывать кровь и из-под ног палачей, отгребающих в сторону дымящиеся внутренности, выплескивались красные густые струйки.
Нечто, отдаленно напоминающее пережеванные корки, обнаружили в желудке лишь у предпоследнего, четырнадцатого раба.
Мехмед был удовлетворен.
— Насадить труп мерзавца на кол и выставить на площади, — распорядился он, поднимаясь с табурета. — И приставить рядом глашатая, чтобы каждый знал, какая кара ждет расхитителей имущества султана! Так же поступить и с оставшимся: он видел преступление и не донес о нем.
Он брезгливо осмотрел свои забрызганные кровью сафьяновые сапожки и быстро направился к выходу.
ГЛАВА XII
Гонцы рассеялись по всем дорогам Малой Азии. В каждом городе, селении или кочевом становье они трижды провозглашали слова султана. Не брезговали они и еле приметными тропками, уводящими вглубь топких болот или в заоблачные выси горных пастбищ. И повсюду, куда только могли донести их выносливые кони, страстно звучал призыв к а к к ы н у — набегу.
Глашатаев окружали толпы людей и все они, от мала до велика, жадно внимали рассказам о сказочных богатствах далекого города. Гонцы уносились прочь, оставляя тлеть в душах посеянные там искры алчности и жажды легкого обогащения. Люди возвращались в свои убогие жилища, чтобы поутру двинуться в путь, поодиночке, толпами или целыми племенными кочевьями. Состоятельные отправлялись в дорогу конными, в сопровождении слуг и повозок с дорожным имуществом; кто победнее — шли пешими, пристегнув к поясу саблю или лук с колчаном, с котомками за спиной, в которых болтались их скудные пожитки. Многие имели при себе лишь палки вместо посохов и пустые мешки для сбора добычи. Шли землепашцы, скотоводы, пастухи, батраки и нищие; шли бродяги, калеки, беглые рабы и даже женщины с малыми детьми за спиной. Шли все, кто мог идти, кого влекла надежда обрести на развалинах порушенного города свое неверное счастье.
Шли огузские кочевые народы, костяк ополчений турецких пашей. Шли уроженцы анатолийских, персидских, сирийских земель и южного Кавказа. Шли многие прочие племена и народности, названий которых не сохранила история. Все они именовали себя аккынджы — участники набега — и были преисполнены гордостью и нетерпением.
Греческое слово «истамполи» («к городу»), произносимое турками как «истамбул», звучало на разных языках, порой теряя смысл и искажаясь до неузнаваемости. Часто, завидев богатый город, аккынджы с радостными воплями устремлялись к нему и бестолково карабкались стены, до тех пор, пока не убеждались в своей ошибке. Но и тогда отвадить их было непросто — они требовали выкупа с горожан, держа себя с каждым днем всё агрессивнее. Население деревень бежало от них, как от чумы; скрывалось за высокими гребнями замков и крепостей. Специально разосланные османскими властями отряды конной полиции отгоняли алчущих от городов и под конвоем сопровождали их к Анкаре — месту сбора ополчения. Одновременно туда же подтягивались сведенные в полки пешие части нерегулярных турецких войск — азапы, яя, тимариоты и джебели. Отдельным станом расположилась конница — мартеллосы, мюсселемы и сипахи.
На огромном, в охват человеческого глаза пространстве выросло целое море шатров, походных кибиток и шалашей. Пригнанные кочевниками стада овец и коз, сожрав в одночасье траву на лугах, наполняли окрестности голодным блеянием; по утрам дым ногих тысяч костров стелился по земле, подобно густому туману. Султанская полиция — чауши — не знала покоя, без устали вмешиваясь в то и дело возникающие столкновения — из-за пастбищ, колодцев, водоемов — и стараясь не допустить разрастания стычек в межплеменную резню.
Жители Анкары боялись показаться за пределами крепостных стен; городской гарнизон не расставался с оружием: с каждым днем становилось все труднее держать на удалении огромную, томящуюся от безделья массу людей.
Комендант крепости слал слёзные прошения султану и визирю, умоляя убрать полуголодные орды прочь от города, на который уже не раз с вожделением устремлялись алчущие глаза аккынджи. Визирь уважил просьбу — из Бруссы в поддержку воинам гарнизона был выслан полк янычар, которые удобно расквартировавшись в самом центре города, ознаменовали свое прибытие попойками и грабежами.
Дни складывались в недели и месяцы; казалось, еще немного — и это противоестественное скопление людей выйдет из под контроля, взбунтуется, становясь опаснее стихийного бедствия.
Европейские части турецкой армии собирались неподалеку от Эдирне, бывшего Адрианополя.
Каждое утро султан, окруженный свитой пашей, военачальников и санждак-беев, отправлялся на осмотр прибывающих войск. Вернувшись во дворец, он наспех проглатывал пищу и даже не сменив одежд, направлялся в свои палаты, где выслушивал донесения гонцов из азиатских провинций. Вести приходили радостные: только возле Анкары численность войск начинала переваливать за две сотни тысяч воинов.
Однако в глазах высших сановников все чаще вспыхивал тревожный огонек: им, умудренным опытом многих войн, хорошо были знакомы все тяготы по удержанию в узде столь огромной армии. И потому, получив приглашение от своего старого друга, великого визиря, скоротать вечер за партией в шахматы, правитель Западного бейлика Караджа-бей отправился в его палаты, внутренне уже готовый к непростому разговору.
Удобно устроившись на подушках и едва прикоснувшись к угощению, бейлер-бей пристально взглянул на Халиль-пашу, приподнял нефритовую фигурку и сделал первый ход. Визирь чуть качнул головой и в свою очередь двинул пешку на середину поля. Некоторое время они играли молча. Затем Халиль-паша, как бы невзначай, упомянул донесение коменданта Анкары, сокрушенно посетовав на ограниченный кругозор этого некогда именитого полководца.
— За гребнем мелких забот ставленники нашего повелителя порой не в силах проникнуться величием замыслов султана. Да живет он вечно! — заключил визирь.
Караджа-бей был полностью согласен со словами визиря и, откровенность за откровенность, поведал первому советнику о многочисленных жалобах, приходящих от управителей бейлика.
— Наша армия велика и могуча, да приумножит Аллах число ее воинов! Моё сердце не может не ликовать, когда я узнаю о всё новых и новых отрядах, спешащих к нам с вассальных земель. Однако, надо сознаться, обеспечивать войска необходимым количеством провианта становиться все труднее.
— Я знаю, ты не одинок в своей головной боли, — заметил визирь. — Наш друг, владыка Восточного бейлика Исхак-паша, испытывает те же затруднения.
Караджа-бей вздохнул и сокрушенно покачал головой.
— А между тем, — продолжал визирь, поигрывая увесистой фигуркой шахматного слона, — число едоков в нашей армии может резко возрасти. Заметь, паша, я говорю «едоков», а не отважных, знающих свое ремесло солдат.
— Я теряюсь в догадках, но надеюсь, что моя мысль верна: под «едоками» великий визирь подразумевает аккынджы?
— Да, но не только их. В последнее время я не раз с удивлением отмечал при дворе, в окружении султана и даже среди моих собственных слуг весьма активное обсуждение возможности джихада.
Караджа-бей ненадолго задумался.
— Меня тоже поверг в смущение внезапно распространившийся слух. Ведь в объявлении священной войны всем неверным пока нет необходимости?
— Ты прав, паша. Джихад может быть объявлен лишь в годы напряженных войн, когда неверные могут посягнуть на наши реликвии и святыни. Но бросать клич к всеобщей борьбе с христианами лишь для того, чтобы завладеть городом, который и так наполовину в наших руках? Нет, мой разум не в состоянии постичь этого.
Караджа-бей медленно поглаживал свою надушенную и завитую бороду.
— Принесет ли это вред нашему делу? И если да, то как оценит великий визирь последствия этого шага?
— Будущее темно и неясно даже для предсказателей. Но я твердо знаю одно: с объявлением джихада могут всколыхнуться огромные людские массы. Весьма вероятно, что на призыв устремятся многие подданные прочих правоверных государей. Включая даже наших старинных недругов, беев Карамана и Аккоюнлу. Вслед за ними, учитывая прошлогоднюю засуху и как следствие — голод и всеобщее обнищание, могут двинутся отряды, а то и просто толпы аккынджи из удаленных земель Азии и Африки. Вот тогда-то и произойдет самое неприятное.
— …..? — сановник поднял брови в немом вопросе.
— Мы потеряем контроль над армией. Просто не сможем совладать с таким количеством людей. Турки окажутся одними из многих, рвущихся на завоевание новых областей христианского мира. Войска пройдут по центральной Анатолии, но не задержатся надолго у Константинополя — ведь цель объявления священной войны не осада одного города, а схватка со всем враждебным миром.
Рука бея уже не гладила, а нервно подергивала бородку.
— По выражению твоих глаз, бей, я вижу — ты начинаешь осознавать все, или почти все пагубные последствия этого шага. Воинственные орды окажутся, а может и надолго застрянут на землях твоего бейлика, а ведь большинство населения Румелии[8] — христиане. Много ли налогов ты соберешь на следующий год? Возможно даже, тебе придется пожертвовать частью своего имущества, чтобы не только прокормить эту ораву солдат, но и возместить казне недобор податей с вконец обнищавших и ограбленных данников.
Халиль-паша немного помолчал, наслаждаясь произведенным впечатлением, затем продолжил:
— Армия дойдет до границ сопредельных стран и устремится на запад, к ещё непокорённым землям. Что произойдет тогда? Делай свой ход, паша.
Тот машинально повиновался и переставил первую попавшуюся под руку фигурку.
— Навстречу хлынет поток христианского воинства, — хрипло выговорил он.
— Верно, — визирь двинул вперед пешку. — Тем более, что слухи о крестовом походе так же весьма настойчивы.
— Произойдет великое сражение, матерь всех битв….
— Исход которого неведом никому. Скорее всего сражение не закончится одной битвой: разгорится упорная затяжная война на долгие годы.
— Аллах дарует нам победу, — несмотря на пафос слов, голос паши не звучал уверенно.
— Нет! — высокомерно ответил визирь. — Не заставляй меня думать, паша, что я просчитался в тебе. Все мы надеемся на помощь высших сил, но безраздельно полагаться на них способен лишь глупец. В дни побед мы поём хвалу Аллаху, поражение же всегда ложится несмываемым пятном на наши имена. В случае неудачи наши недруги, эти бывшие союзники на час, поспешат обвинить во всех грехах турок и не замедлят воспользоваться предлогом для выхода из-под нашей опеки. Победу же целиком припишут себе и посягнут на основную часть добычи.
— Не слишком ли мудрейший сгущает краски? — усомнился Караджа-бей. — Наша армия достаточно сильна, чтобы даже в случае военного поражения усмирить своих противников внутри страны.
— И потому, — как бы не слыша возражений, продолжал визирь, — я, как главный советник султана по делам государства, говорю тебе, бейлер-бей: Османская империя еще не готова к многолетней войне. Неустойчивое положение на границе и недостаточно усмиренные соседи не дадут нам возможности безнаказанно принимать рискованные решения. Аккынджи нам не одмога, скорее наоборот: при первой же серьёзной неудаче они разбегутся, как стайка ошпаренных тараканов.
Караджа-бей развел ладони в стороны и поклонился, признавая правоту собеседника.
— А на землях Румелии неспокойно, — всматриваясь в доску, как бы невзначай, проронил визирь. — Бунты вспыхивают один за другим.
Это задело больную струнку бея: из-за стянутых к Эдирне войск у него не хватало солдат для подавления мятежей.
Визирь же продолжал, как бы не замечая эффекта от своих слов:
— Турецкий воин отважен, силен и умел. Он свободен от рождения, не связан грязной работой, кормится трудами своих батраков и потому всегда готов сражаться на стороне своего господина. Но мне становится не по себе, когда я представляю нашу доблестную армию, влекущую за собой огромный хвост голодных грабителей, едва способных отличить боевую саблю от ножа мясника. Выдержанному вину, в которое по недосмотру плеснули уксуса, место не на праздничном столе, а в сточной канаве!
Бейлер-бей прикоснулся кончиками пальцев ко лбу.
— Аллах до необычайных высот вознес твой разум! Сознаюсь, мудрейший, ко мне не раз приходили сомнения по поводу численности созываемой армии. Но только выслушав тебя, я понял, как пагубны заблуждения определенной части придворных из окружения султана. Безусловно, большая армия опасна сама по себе. Опасен и призыв к джихаду. Тем более, что если он не будет поддержан другими правоверными правителями, это нанесет ущерб престижу нашего государства. Даже происки врагов принесли бы меньше вреда.
Визирь кивнул ему со снисходительной усмешкой. Но вдруг улыбка задеревенела на его губах. Чтобы скрыть волнение, он приподнял молоточек и стукнул им по подвешенной серебряной пластине.
"А ведь он прав!» — неожиданно озарило его. — «Вывод настолько прост и очевиден, что лишь потому я не сообразил сразу: что не выгодно нам — на пользу византийцам. Это они, их шпионы мутят народ, распускают слухи о джихаде!»
И силясь отогнать всплывшее из глубин памяти лицо Феофана, он обратился к склонившемуся перед ним в поклоне дворецкому:
— Вели нести сюда вина и угощений. Зови музыкантов и танцовщиц. Мы желаем весело провести остаток дня.
Затем с улыбкой повернулся к паше.
— Если, конечно, наш уважаемый гость не торопится распрощаться с нами.
Караджа-бей с негодованием отверг это предположение.
Прошло не менее часа. Настроение бейлер-бея заметно улучшилось. Он откровенно блаженствовал, обхватив одной рукой гибкую талию танцовщицы, другой — ласково поглаживая коротко остриженную голову мальчика-прислужника.
Халиль-паша с ироничным удивлением, как-будто впервые, разглядывал лилейное личико своей любимой наложницы, чьи губки невинно пролепетали набивший оскомину вопрос о джихаде. Вот как, и она тоже? Неужели лазутчики Феофана прокрались даже в его сераль?
Мысли о византийцах были ему тягостны. Многолетние тайные узы связывали его с Константинополем. Ромеи всегда оказывали визирю царские почести; сенаторы, чьи рода уходили корнями в седую древность, были рады оказать ему гостеприимство в своих загородных поместьях; торговые дома Империи не раз давали щедрые беспроцентные ссуды, зачастую забывая напоминать о возврате долга. Арабский скакун, гордость конюшен Халиль-паши, был подарен византийцами в благодарность за возвращенный в Константинополь корабль, подвергнувшийся разграблению левантийскими пиратами. Подумать только, вороной жеребец, в чьих жилах вместо крови плещется огонь и чьи утонченные формы повергают в дрожь знатоков лошадиной породы, красавец-конь, за которого визирь, не торгуясь, отдал бы добрую половину своей придворной челяди, был преподнесен в обмен на дряхлое судно с полусотней развешанных на его реях морских разбойников! Подобную любезность трудно не запомнить.
Однако за все в этом мире приходится платить и час расплаты, похоже, уже недалек. Неспроста султан в тот памятный день требовал «отдать ему Город». Уже тогда подозрение читалось в его глазах. Скорее всего, ему не раз доносили о щедрых дарах ромеев визирю, о странной благосклонности верховного советника к крохотному, но заносчивому государству христиан.
Зная мнительный и злобный нрав своего господина, Халиль-паша употреблял весь свой такт, всю свою находчивость, а также свое немалое влияние при дворе, чтобы не только отвести от себя подозрения, но и ослабить враждебную ему партию «непримиримых» во главе с Саган-пашой. Этот круг молодых военачальников, сложившийся в дни усмирения бунта янычар, вспыхнувшего как всегда, в первый месяц правления нового султана, не желал видеть у истоков власти старую элиту Мурада II и потому требовал новой войны, чтобы расшатать уже сложившееся при дворе равновесие сил. Мехмед же, поддаваясь уговорам этих неоперившихся, но уже достаточно задиристых вояк, более не желал и слышать о преимуществах медленного поглощения приграничных земель. Он спал и видел себя Завоевателем.
Ситуация складывалась неблагоприятно: Халиль-паша не мог открыто поддерживать ромеев, но и повернуться к ним спиной — означало потерять голову. Византийская дипломатия крепко опутала невидимыми нитями приверженного к роскоши сановника и хотя срок платежей еще не подошел, визирь не раз ощущал себя на краю пропасти. В Османской империи на щедрые подношения влиятельным лицам всегда смотрели сквозь пальцы, но уличенных в получении подарков от воюющей стороны неминуемо обвиняли в предательстве. А война с Византией вот-вот грядет! Как же тогда оправдаться визирю, как отвести от себя наветы?
Помочь удержаться в седле ему могла лишь отмена штурма Константинополя, но визирь понимал, что частые предупреждения о ненужности этого шага только питают подозрения султана. Объявление джихада и, как следствие, разрастание единичной военной акции в глобальную войну с европейскими странами отчасти снимало ответственность с визиря, но Халиль-паша, как урецкий сановник и истовый патриот и мысли не мог допустить о разгроме своего государства. Человек с обостренным чувством самосохранения, он не собирался отстраненно наблюдать, как горстка воинственно настроенных придворных толкает его ученика на опрометчивый и гибельный для многих поступок. А пока что он, щекоча страусиным пером смуглую шейку наложницы, шутливо допытывался у неё имя особы, сообщившей ей о джихаде. Занятый этим приятным делом, он не сразу услышал у себя за спиной шаги начальника дворцовой стражи.
Склонившись к самому плечу визиря, Улуг-бей что-то быстро зашептал ему на ухо.
— Благодарю тебя, — кивнул Халиль-паша. — Ступай, выполняй приказ нашего господина.
И только тогда, когда дверь закрылась за начальником охраны, проворно вскочил на ноги.
— Вставай, бейлер-бей, — произнес он, поправляя сбившуюся на бок чалму, в то время как наложница оглаживала руками складки на его халате.
— Время не терпит. Вставай и приводи свою одежду в порядок.
— Что случилось? — удивленно поднял голову Караджа-бей.
Но взглянув в серьёзное лицо визиря, понял, что вопросы излишни. Тяжело вздохнув, опираясь на услужливо подставленные плечи слуг, он приподнялся с подушек и приблизился к Халиль-паше. Тот знаком приказал всем убираться прочь и в упор взглянул в глаза бею.
— Наш повелитель только что послал за верховным муфтием, шейх-уль-исламом.
Караджа-бей отступил на шаг.
— Значит, всё-таки джихад? — вполголоса спросил он.
— Нет. У нас есть еще время, чтобы попытаться отговорить султана.
— Но это может стоить нам головы.
— Если позволить Шахабеддину и Саган-паше хозяйничать при дворе, мы потеряем головы еще скорее. Султан был моим воспитанником и я научил его прислушиваться к голосу рассудка.
Давая на ходу последние наставления, визирь быстрым шагом направился в покои султана.
В тот день Мехмед был в хорошем настроении и сразу дал согласие на аудиенцию сановников.
— С чем вы явились ко мне? — спросил он, сидя на возвышении, устроенном таким образом, что каждый вошедший, какого бы высокого роста он ни был, вынужден был смотреть на султана снизу вверх.
— Прежде чем повелитель примет шейх-уль-ислама, мы, твои верные слуги, покорно просим выслушать нас.
— Говори!
— Повелитель, до нас доходят непонятные слухи. В верном и послушном тебе народе все чаще слышны разговоры о скором провозглашении джихада.
Скуластое лицо Мехмеда излучало довольство.
— А если бы и так, визирь? Что удивляет тебя в священной войне против неверных?
Халиль-паша скрестил на груди руки и покорно поклонился. Бейлер-бей, наоборот, невнятно замычал, стал бить себя кулаками в грудь и раскачиваться на месте. Затем поднял голову и смиренно попросил прислать ему шелковый шнурок.
— Я прогневал своего господина и нет мне прощения, — стеная, объявил он. — Пусть свет померкнет в моих глазах, если я недостоин милостей султана.
Визирь присоединился к его просьбе. Мехмед в гневе подскочил на подушках.
— Что здесь происходит?! — заорал он. — Я ничего не понимаю. Вы что, сговорились дурачить меня?
— Если повелитель пренебрегает армией, равной которой нет во Вселенной и объявляет джихад, то это означает одно — в нем исчезло доверие к армии и к опыту своих военачальников.
— А-а, так вот что вас тревожит, — отмахнулся Мехмед. — Нет, бейлер-бей, я не утратил к вам доверия, иначе тлеть бы вашим головам на кольях.
— Вы хотите знать причину? Я отвечу вам, — вновь принялся кричать он. — Если в Риме глава всех христиан во весь голос трубит о крестовом походе, я должен, просто обязан принять ответные меры. И этой мерой будет джихад. Я не желаю испытывать превратности военного счастья. Чем больше армия, тем меньше нежелательных случайностей!
— Мой повелитель, — визирь умело изобразил на лице удивление. — Означает ли это изменение первоначального плана и вместо взятия Константинополя, твои полки двинутся на покорение Европы?
— Учитель, ты хорошо осведомлен о моих намерениях. В Европу я пойду только тогда, когда византийцы, преклонив колени, поднесут мне ключи от своей столицы.
— Тогда я осмелюсь заметить, господин, что чрезмерно большая армия — палка о двух концах. К штурму хорошо укрепленного города она не пригодна — двинувшись на приступ разом, воины в толчее затрут, передавят друг друга. Ей нужен простор, как птице. Она не может остановиться в своем движении: немного найдется земель, способных прокормить такое количество солдат.
— В окрестностях Эдирне твоего приказа ждут сто тысяч храбрецов, — вставил Караджа-бей, — еще не менее двух с половиной сотен тысяч придут к тебе из Анатолии. Аккынджи приведут с собой свои стада, обозы, слуг, женщин. Ты поведёшь за собой поистине огромную армию!
— Я во всем превзойду своих предков, — мечтательно прикрыв глаза, прошептал Мехмед.
Бей сделал украдкой знак визирю и продолжал:
— А если ты бросишь призыв к джихаду, число твоих воинов может увеличиться вдвое, втрое…..
На губах молодого владыки блуждала дремотная улыбка.
— И вот здесь тебя подстережет главная опасность, — обрушил на него Халиль-паша ушат холодной воды.
Султан пошевелился и вперил взгляд в визиря.
— Я не понимаю, Учитель, — медленно произнес он.
— Пригодная для покорения обширных пространств, но вынужденная бездействовать на небольшом участке земли возле города, пока отборные отряды штурмуют стены, армия начнет чахнуть и разлагаться. И вскоре, подобно змее, пожирающей свой хвост, сгубит саму себя.
— Более того, мой повелитель, — подхватил бейлер-бей, — приведя столь большое войско, мы станем посмешищем в глазах всего мира.
— А после падения Константинополя, — продолжил визирь, — эта изголодавшаяся по грабежам толпа зальёт всю столицу, оставив на ее месте лишь камни и пепелища. Что же потом? Чем нам занять такую массу вооруженных людей? Искать новых битв, пусть даже абсолютно бессмысленных и вредных, лишь бы утолить зуд в руках новоиспеченных удальцов? Ведь зачастую даже весьма именитые полководцы были вынуждены следовать на поводу у взбунтовавшейся солдатской массы. И тогда почти всегда их ожидал разгром, поражение от врага, сумевшего воспользоваться слабостью более сильного противника.
Наступило долгое молчание. Мехмед погрузился в раздумье, поводя кончиком языка по губам. Сановники, сидя перед ним на маленьких ковриках, терпеливо ожидали решения.
Наконец Мехмед очнулся.
— Что вы предлагаете?
Бейлер-бей взглянул на визиря и потупился. Халиль-паша провел рукой по бороде.
— Мой повелитель, объявлять сейчас войну всем неверным преждевременно. И в то же время распустить уже собранную армию нельзя. Так пусть же она углубится в сопредельные земли и под предводительством Караджа-бея покорит твоей власти еще несколько христианских областей. Лучшие же части войск останутся осаждать Константинополь до тех пор, пока не принудят его к сдаче.
В это мгновение в зале показался начальник охраны и объявил о прибытии шейх-уль-ислама. Мехмед жестом отослал его прочь, затем пристально взглянул в лицо визирю и перевел взгляд на Караджа-бея.
— Ступайте и вы оба. Я сам приму решение и извещу вас о нем.
Советники поднялись на ноги, склонились перед султаном и пятясь задом, удалились из залы. Мехмед молча смотрел им вслед и когда двери закрылись за пашами, его губы скривились в недоверчивой усмешке.
— Вы оба хитры, но я вижу вас насквозь. Тебе, визирь, близки к сердцу греки и потому ты стремишься отвести от них беду. А ты, бейлер-бей, жаждешь с помощью моих войск присоединить еще два-три жирных куска к своим владениям.
Он вскочил и возбужденно забегал по зале.
— Пожалуй, эти двое правы: джихад сейчас не нужен. Но и уже собранную армию в Европу вести рано.
ГЛАВА XIII
Долговязый человек в черном, прожженном в нескольких местах кафтане плохо вписывался в пёстрое, брызжущее яркими красками убранство дворцовых палат. Все в его облике выдавало чужака — и его внешний вид, и неуклюжая, растерянно-напряженная походка. Он и сам понимал это и потому, понурив голову, старался не смотреть о сторонам, чтобы не привлекать к себе дополнительного внимания. Несмотря на щедро разбрызганные благовония, от его одежды исходил едкий запах гари и жженого металла, в медно-красную кожу лица прочно въелась серая копоть.
Он молча следовал за пожилым пашой, чей надменный вид и уверенная походка говорили о том, что в этом дворце, в этом мире богатства, роскоши и власти он, придворный, — свой человек. Пришелец то и дело сбивался с шага: его размашистая поступь почти в два раза опережала семенящие шажки царедворца.
У самых покоев султана их остановил начальник стражи. Задав короткий лающий вопрос, он встал перед ними, меряя взглядом прибывших с ног до головы. Паша отрицательно покачал головой и провел руками по полам халата. Затем повернулся к спутнику и произнес:
— Есть ли у тебя при себе оружие, венгр Урбан?
Человек растерянно мотнул головой и развел в стороны большие, грубые как у мастерового руки.
— Вход с оружием к повелителю, да продлит Аллах его годы, карается немедленной смертью, — предупредил царедворец.
— У меня нет ничего, — ответил Урбан.
Дежурный офицер приблизился к нему вплотную и ощупывая руками каждую складку на одежде, тщательно осмотрел его с ног до головы. Затем удовлетворенно кивнул и сделал шаг в сторону. Улуг-бей дал знак страже посторониться. Огромные, за два метра ростом, янычары расступились и по пояс склонившись в поклоне, паша и его спутник проникли в покои.
Не пройдя и половины пути до тронного возвышения, они пали ниц, прижавшись лбами к ворсистой поверхности ковра.
— Ты, ничтожный, разучился поторапливаться на службе у царя Константина? — донесся с трона громкий, полный недовольства голос Мехмеда.
— Прости меня, о всемогущий, — пробормотал венгр, не отрывая головы от пола, — я даже платье не успел сменить, так спешил предстать перед твоим величием.
— Слуги султана всегда должны быть наготове, чтобы по первому зову явиться к очам своего повелителя, — наставительно произнес визирь.
— Мне нет дела до твоей одежды, — продолжал кричать Мехмед. — Мы желаем знать, как долго ты собираешься кормить нас своими сказками. Который месяц ты клянешься закончить работу, а результатов нет и в помине. Где пушка, подлый раб?
— Орудие отлито, — венгр поднялся с колен. — Сегодня утром мастера закончили шлифовку и погрузили его на телегу.
— Где оно? — мгновенно успокоился Мехмед.
— В мастерских, в двух милях от твоего дворца, всемогущий. Прикажи, и к вечеру завтрашнего дня орудие будет доставленно в Эдирне.
Мехмед задумался, затем решительно соскочил с дивана.
— Нет. Мы сами поедем туда. А заодно испытаем ее на месте.
Он стукнул кулаком в серебрянный гонг.
— Прикажи седлать лошадей, — небрежно бросил он выросшему в дверях Улуг-бею. — Учитель, ты едешь со мной.
В середине дня улицы Эдирне всегда были полны народа. Заслышав звуки медных труб, возвещающих о появлении правителя, прохожие торопливо падали на колени и не отрывали голов от земли, пока султанский кортеж не скрывался из виду.
Мехмед держал Урбана при себе, хотя венгр не раз порывался поехать вперед, чтобы должным образом обустроить встречу — Мехмед любил заставать людей врасплох. При приближении сиятельного владыки в мастерских поднялось смятение, но султан не обращал внимания на суетливо снующих поодаль людей. Не поднимая надменно полуприкрытых век, он позволил подвести своего жеребца к громоздкому сооружению в два человеческих роста высотой. По знаку пушкаря слуги принялись сдергивать покрывающие его воловьи шкуры и вскоре вздох ужаса и изумления пронесся над толпой придворных. На уродливой, сколоченной из толстых брусьев повозке лежало орудие, равного которому не еще видел мир.
Пятнадцатифутовый пушечный ствол плавно расширялся к казеннику и был украшен затейливым орнаментом; толстые железные обручи обхватывали орудие по бокам, как бы стремясь сдержать распирающую его мощь; начищенный, отливающий багрово-красным цветом металл казалось еще хранил в себе жар плавильных печей.
Некоторое время Мехмед заворожено созерцал это чудовищное порождение человеческого гения, затем тронул коня плетью и медленно объехал повозку кругом. Млея от восторга, приподнялся на стременах и заглянул в огромное жерло, в котором легко мог поместиться сидя человек невысокого роста. Приблизившись, потрогал её рукой, как бы желая убедиться, что это не обман глаз, не сон и не сладостная грёза. Холод металла обжег ему пальцы и отдёрнув руку, он радостно, по-ребячьи, захлопал в ладоши. Пришпорив коня, он одним махом подлетел к Халиль-паше.
— Визирь, ты видишь это чудо? Оно моё! Моё!!
— Повелитель…, - визирь делал предостерегающие знаки.
Но Мехмеда уже невозможно было удержать. Полный восторга, он то и дело приближался к орудию, гладил его руками и радовался, как радуются дети новой игрушке.
— Это чудо! Чудо!!
Угомонившись, Мехмед повернулся к Урбану, который стоял чуть поодаль и с напускным безразличием выслушивал похвалы.
— Когда ты отлил для меня первые два не имеющих себе равных орудия, я понял, что не ошибся в тебе. Но то, что предстало передо мной сейчас….. Я знаю, это творение — лишь отчасти дело твоих рук.
Лицо Урбана начало вытягиваться.
— Но, господин…..
— Сам Аллах вдохновлял тебя в твоей работе!
Среди придворных послышался одобрительный шепот: оказывается, руками чужеземца двигали высшие силы! Ведь и впрямь, не мог же этот презренный иноверец сам сотворить нечто, способное привести в восторг великого государя.
— Начиная с этого дня, ты приступишь к работе над новым орудием, еще более мощным, чем это!
— Мой повелитель, — осмелился возразить венгр, — я безмерно счастлив оказанной мне милостью, но….
— Продолжай, — нахмурился Мехмед.
— Для отливки новой пушки понадобится не менее трех месяцев. И это самый крайний срок, который я могу сейчас назвать.
Мехмед еще более помрачнел.
— У меня в апасе нет ни одного лишнего дня, — пробормотал он. — Армия ждать не может.
Он задумчиво провел рукой по округлому боку пушки. Внезапно его пальцы нащупали вроде бы заглаженную, но еще вполне ощутимую поперечную вмятину, опоясывающую ствол.
— Что это? — он указал на извилистый шов, недостаточно хорошо запрятанный под железный обруч.
— Это…? — венгр вдруг сильно побледнел. — Это так….недостаток шлифовальщиков. Такие полосы всегда образуются при отливке в больших формах.
Смятение литейщика не укрылось от султана. Мехмеда охватило недоверие.
— Орудие стреляло? — отрывисто спросил он.
— Нет, повелитель. Без твоего приказа я не решался на испытание.
— Хорошо. Пусть пушку развернут в поле, — он указал рукой направление.
Урбан закричал, отдавая приказы. Мастеровые засуетились и облепили повозку, как муравьи: одни ухватились за огромные, в полтора человеческих роста колеса, другие дружно впряглись в канаты. Повозка с ужасным скрежетом стала разворачиваться вокруг своей оси. Урбан метался, подгоняя работников хлыстом. Страх по-прежнему сдавливал ему сердце. Мимолетный взгляд султана обнаружил то, что никоим образом не должно было открыться: этот шов был грубым дефектом, способным погубить многомесячный труд.
Во время процесса отливки сразу четыре из двенадцати печей, несмотря на тщательный предварительный осмотр, непостижимым образом засорились почти одновременно. Поток расплавленного металла на какое-то время резко сократился, а потом и вовсе прервался. Шлаковые пробки в печах были быстро пробиты железными стержнями, жидкая медь вновь заструилась по желобам, но и этих нескольких мгновений было достаточно, чтобы ухудшить литье, резко снизить прочность ствола к разрыву. Венгр даже нашел в себе силы не расправиться немедленно с виновником: малейшая огласка могла вызвать кривотолки и стоить ему головы. Но, как выяснилось впоследствии, наказывать уже было некого — мастер, ответственный за работу неисправных печей, угрюмый грек-киприот, как бы предвидя свою судьбу, бесследно исчез во время сумятицы. Специально это было подстроено или нет, оставалось лишь гадать, но в любом случае, грек мог бы стать опасным свидетелем. Устранить его так и не удалось и теперь Урбан с ужасом думал о последствиях, к которым может привести то роковое происшествие.
Одна из колесных осей внезапно подломилась и телега с громким треском завалилась набок. Раздались крики ужаса и боли: одно из колес подмяло под себя двух подмастерьев.
Мехмед подпрыгнул в седле.
— Что такое? — визгливо закричал он. — Вы, грязные людишки, не можете выполнить даже работу ишака? Подвести ко мне виновных!
Трясущихся от страха плотника и его подручного, вытёсывавших ту злополучную ось, подтащили и швырнули на колени перед султаном.
— Сорвать с них одежду и сечь, пока не испустят дух!
Не слушая мольб о пощаде, солдаты повалили несчастных на землю и принялись осыпать их ударами палок.
Мехмед, полуприкрыв глаза, слушал вопли истязаемых, и выражение гнева постепенно покидало скуластое лицо: к недавнему всплеску приятных эмоций при виде медного колосса прибавилось другое острое ощущение — наслаждение чужой болью и страданием. Чувственное довольство распространилось по телу и он хищно повел глазами вокруг. Приметив молодого подмастерья, почти своего ровесника, он соскочил с коня и, подбежав к нему, цепко ухватил его за локоть.
— Пойдешь со мной, — задыхаясь от вожделения, проговорил он и направился к наспех установленному шатру.
Когда, спустя некоторое время, султан с удовлетворенной улыбкой на лице вышел из шатра, пушка уже была установлена. Царедворцы, воспользовавшись отлучкой господина, подкрепляли силы заранее припасенной снедью, которую прислуга торопливо выставляла на расстеленные прямо на земле ковры. При виде султана сановники заученным движением меняли сидячую позу со скрещенными ногами на коленопреклоненную, падали ниц, чтобы потом, за его спиной, разогнувшись, спокойно продолжить трапезу.
Не обращая внимания на окружающих, Мехмед приблизился к Халиль-паше, наблюдающему за работниками, которые выстроившись в длинную вереницу, перебрасывали друг другу в руки плотно набитые холщовые мешочки.
— Чем они заняты, Учитель?
— Закладывают порох в пушку, мой господин.
— Много ли его нужно? — вопрос был обращен к Урбану.
— Двести фунтов, повелитель.
— А ядро вытесано из мрамора и весит тысячу триста фунтов. Сейчас его закатят в жерло, — добавил венгр и отправился отдавать указания.
Перекладина подъемного механизма, напоминающего колодзенный журавль, заскрипела, изогнулась дугой и веревочная корзина с огромным камнем сферической формы медленно взмыла вверх. Подмастерье, проворно вскарабкавшийся на ствол, стал осторожно подрезать веревки и вскоре высвобожденный снаряд с тихим рокотом покатился в глубину жерла. Это был жуткий момент — под тяжестью каменной глыбы порох мог самовоспламениться. Великий визирь, несмотря на услужливо подставленные зонтик и опахало, прикрыл рукой лицо, якобы от солнца: он не желал, чтобы его испуг видели остальные.
— Стреляйте! — рявкнул султан.
К нему поспешил Урбан, широко расставив в стороны свои руки.
— Пусть не гневается повелитель и не сочтет за дерзость мою тревогу, но я вынужден просить его отъехать подальше, на сотню шагов от этого места.
— Зачем? — высокомерно спросил султан. — Ты что же, не уверен в надежности своего изделия?
— Нет, о великий, уверен. Но первый выстрел всегда очень опасен.
Великий визирь поддержал пушкаря, в толпе царедворцев также раздались возгласы одобрения. Мехмед, подумав, милостиво кивнул и удалился на требуемое расстояние. Свита, как всегда, расположилась за его спиной.
Венгр выхватил из жаровни пылающую головню и вопросительно повернулся к султану: по неписанным цеховым законам первый выстрел из свежеотлитого орудия всегда производил сам мастер и если изделие не отличалось надёжностью — увечьем или жизнью расплачивался при взрыве ствола. Ответом ему послужил взмах руки. Урбан приблизился к казеннику, поджег запал, после чего швырнул факел на землю, быстро отошел на десяток шагов и крепко зажал уши руками. Некоторое время ничего ни происходило, лишь из запального желобка тонкой струйкой вился белый дымок.
Затем орудие ожило. Ствол подпрыгнул, из дула вылетел длинный язык огня. От страшного удара дрогнула земля, чудовищный грохот затопил всю округу. Горячая волна пригнула людей к земле, посбивала с голов тюрбаны и шапки. Дико заржав, кони понеслись вскачь, сбрасывая с себя вопящих седоков. Мехмеду удалось удержаться в седле, уцепившись обеими руками в гриву, хотя взбесившаяся лошадь, закусив удила, мчалась, не разбирая дороги.
Огромный клуб белого, пахнущего серой дыма медленно расползался вширь; вдоль направления полета ядра тлела сухая прошлогодняя трава. Сильная отдача вконец разломала телегу, и теперь пушка, дымясь боками, беспомощно лежала на земле, напоминая очищенный от сучьев ствол столетнего дуба. Люди бессмысленно ходили, ошалело поглядывая по сторонам и прикладывая ладони к ушам — многим казалось, что глухота навсегда овладела ими.
Лишь спустя некоторое время султан, а вслед за ним и его свита осмелились приблизиться к поверженному орудию.
— Что это было? — заикаясь от пережитого, спросил визирь. — Злые джинны вырвались на свободу?
— Этот нечестивый готовил на нас покушение! — завопил Саган-паша, выхватывая саблю из ножен.
— О, мудрейший, — венгр даже не повернулся в сторону зятя султана, обращаясь исключительно к Халиль-паше.
И хотя голос его звучал удрученно, с лица пушкаря не сходила торжествующая улыбка.
— Я каюсь, виновен в недосмотре: похоже, мои слуги заложили в орудие двойной заряд пороха.
— Пушка испорчена? — закричал Мехмед.
— Нет, повелитель. Я проверил: в стволе нет ни единой трещинки.
— Тогда ты прав. Больше пороха — дальше полёт.
— Улуг-бей, — султан повернулся к начальнику стражи. — Возьми с собой двух воинов и отправляйся туда, — он махнул рукой в сторону поля, где на удалении более мили висело желтое пылевое облако.
— Найдешь ядро и измеришь расстояние.
Он перевел дух и с восхищением уставился на все еще дымящееся жерло пушки.
— Уж если мои храбрые воины так перепугались при выстреле, то я предвкушаю ужас, в который она подвергнет моих недругов.
— Это творение мастера, — подтвердил визирь. — Оно разнесет в пыль любую стену.
— И стены Константинополя? — живо обернулся к нему Мехмед.
— Не желаю своей самонадеянностью гневить Аллаха, но я думаю, что так должно быть.
— Твой гений ниспослан тебе свыше, христианин, — уже не сдерживая своих чувств, закричал Мехмед. — С сегодняшнего дня ты будешь обедать за моим столом!
Венгр вздрогнул, но поклонился. Меньше всего ему хотелось быть заколотым или отравленным ревнивыми к милостям султана придворными. Помимо этого, хотя и не искушенный в дворцовых интригах, он знал, как легко переходит благоволение азиатских владык в безудержный гнев и потому предпочитал держаться вдали от превратностей судьбы.
— Мой повелитель, — он склонился в глубоком поклоне. — Не лишай меня радости трудиться на благо твоего величия. Ведь если я буду присутствовать на твоих трапезах, кто будет лить для тебя новые пушки?
Мехмед было нахмурился, но затем его лицо прояснилось.
— Ты прав, христианин. Мне нужно будет много пушек, очень много.
Он пришпорил коня, но тут же натянул поводья.
— Мне странно, что царь Константин оказался столь недальновиден, что не только пренебрег твоими услугами, но и позволил тебе беспрепятственно покинуть свои владения.
Венгр вновь поклонился.
— Он был безденежен и плохо ценил мое умение. Я же работаю хорошо только тогда, когда кошель на боку тянет мой пояс к земле.
— Казначей позаботится, чтобы тяжесть твоего кошеля не давала тебе забывать о нем, — пообещал султан.
В это время вернулись посланные в поле воины. На лице Улуг-бея читалось изумление, смешанное с изрядной долей почтительного страха.
— Ты можешь поступить со мной как с лжецом, повелитель…..
— Ну? — нетерпеливо спросил Мехмед.
— Ядро опустилось более чем в тысяче шагов отсюда и вырыло яму, в которой легко может поместиться целая сакля. Мы поначалу не поверили своим глазам….
Мехмед сделал ему знак умолкнуть и вновь повернулся к визирю.
— Я не ошибся в этом гяуре. Я молод, но вижу людей насквозь: еще тогда, когда он стоял передо мной в поношенной одежде и драной обуви и смиренно просил покровительства, мои глаза разглядели в нем великого умельца. Греки падут на колени, когда перед ними предстанет эта пушка.
Он мелко засмеялся и хлестнул коня плетью.
Когда султан и его свита скрылись вдали, венгр приблизился к своему детищу и ласково погладил его горячий бок.
— Ты не подвела меня, моя крошка. Если бы твоя утроба бы лопнула…..
Он замолчал, так как даже думать о последствиях возможной неудачи было страшно. Про себя же он поклялся незамедлительно послать верных людей на розыски беглеца — грека-киприота. И поймав, вырвать ему язык, удушить, зарыть поглубже в землю, чтобы никто, ни одна живая душа не узнала об ущербности орудия.
ГЛАВА XIV
Беда пришла с той стороны, откуда ее ждали давно.
Получив на руки письменный приказ, адъютант императора поспешил к Кантакузину. Стратег развернул врученное ему послание, бегло пробежал его глазами и приказал подвести коня.
— Не подскажет ли благородный Димитрий, где мне искать мастера Феофила? — спросил гонец.
— Не более часа назад он был у Семибашенного замка. После того, как протостратор ознакомится с распоряжением государя, от моего имени добавишь, что ему нет нужды отвлекаться от дел — в Галату отправимся мы с мегадукой.
Подозвав к себе Романа, он, в сопровождении двух гвардейцев, направился к набережной Перама.
— Что случилось, дядя? — спросил Роман, поравнявшись со стратегом.
— От василевса только что пришло сообщение: в Пере, в нескольких милях от границы Галаты, начата разбивка военного лагеря. По донесениям лазутчиков, скоро там обоснуются не менее трех полков османской конницы.
Выехав на пристань через ворота Платея, Кантакузин направил одного из гвардейцев к мегадуке, другого — к распорядителю порта за паромом. Не спускаясь с коня, он ждал, нетерпеливо покусывая усы.
Мегадука прибыл с южной стороны Залива, от ворот Неория. Известили ли его посыльные императора, или сведения пришли к нему иным путем, но он уже знал неприятную новость.
— Началось? — спросил он после традиционного приветствия.
— Да, — столь же кратко ответил стратег.
Вскоре подогнали паром — две сцепленные бортами баржи с деревянным настилом на всю ширину палуб и небольшим навесом для защиты от непогоды. Установленные на корме барабаны со скрипом принялись наворачивать на себя пеньковые канаты; паром дернулся и отчалил от пристани.
За все время переправы димархи не обмолвились ни словом. Стратег беспокойно мерил шагами рассохшийся, белесый от соли палубный настил, мегадука же внимательно, будто впервые, рассматривал удаляющиеся стены и башни Константинополя.
На противоположном берегу их уже ожидал Алексий. Поприветствовав димархов, он сообщил им, что место для переговоров подготовлено на пришвартованной у пристани ромейской галере. Что подеста и начальник гарнизона уже извещены и должны прибыть с минуты на минуту.
— Похоже, представитель досточтимого Феофана намеревается присутствовать при беседе, — неприязненно произнес Нотар.
Глаза северянина недобро блеснули.
— Адмирал считает это излишним? — он намеренно употребил латинизированную форму обращения.
Мегадука вспыхнул, но сдержался.
— Мне жаль, что мой друг Феофан не состоит более в должности квестора[9]. Иначе он бы помнил, что по закону переговоры государственной важности должны протекать лишь в строго ограниченном кругу лиц.
— Могу ли я расценить услышанное как отказ в моем присутствии на переговорах?
— Перестаньте, — досадливо поморщился Кантакузин. — У нас осталось мало времени до прибытия генуэзцев. Предлагаю сейчас же отправиться на галеру и обсудить отдельные детали предстоящей беседы.
Вскоре в просторной каюте появился Ломеллино, подеста Галаты. Несмотря на достойное выражение лица, взгляд генуэзца беспокойно бегал по сторонам, избегая встреч с глазами сидящих за столом ромеев.
Городской голова рассыпался в многословных приветствиях. Он чрезвычайно рад прибытию гостей…. О, нет! Что он говорит? Хозяев!…. Сожалеет, что из-за неотложных дел они лишь изредка находят время посещать свои владения и потому от всей души приглашает димархов отобедать и отдохнуть в его особняке.
— Благодарим, — ответил за всех Кантакузин, — но мы пригласили уважаемого подесту не для того, чтобы воспользоваться его гостеприимством. Происходящие события не оставляют времени для вызова в Константинополь представителей городской управы Галаты и потому мы сочли возможным прибыть на встречу сами, пренебрегнув требованиями этикета.
Подеста закручинился. Безусловно, он осведомлен о скором вторжении врага на земли византийского императора. Но что он, ничтожный, может поделать, если на все воля Господня?
— Вот в этом мы и желаем разобраться, — произнес мегадука, неприязнено оглядывая приземистого толстяка с лисьими манерами. — Что может, а что обязана предпринять колония. Но я не вижу здесь начальника гарнизона Галаты и весьма удивлен этим обстоятельством. Не разъяснит ли подеста причину подобной медлительности?
— К моему великому сожалению, капитан неделю назад слег с тяжелым недугом, однако посыльные должны были разыскать его заместителя, лейтананта Гвиланди. И должен сказать, я не меньше вас удивлен его задержке.
Не успел он закончить фразу, как на пороге каюты показался сам лейтенант. Он был гротескно худ, просторный кафтан мешком висел на его долговязой фигуре, а на изрытом оспинами лице застыло недовольное выражение. Он молча отдал честь и опустился в ближайшее свободное кресло.
Лейтенант был не в духе. Прошлым вечером в гавани пришвартовалась плоскодонка, владелец которой занимался выгодным промыслом: за плату переправлял с противоположного берега залива портовых гетер. Как всегда, женщины были расхватаны в одно мгновение, но лейтенант, пользуясь правом старшего, сделал свой выбор первым. На его беду, та пышнотелая черноволосая гречанка оказалась не только холодна, но вдобавок еще и скаредна: потребовала за свои услуги двойную плату. К числу ее недостатков относились также и оглушающе-пронзительный голос, и богатый набор итальянских ругательств. Гвиланди поморщился, вспомнив визгливые вопли и оскорбления, сыпавшиеся на него, как из дырявого решета, когда ее, растрепанную и полуодетую, хохочущие солдаты выпихивали за дверь. А там, на улице, несмотря на ранний час, уже толпились привлеченные шумом кучки мещан. И потому, когда утром ему, раздосадованному этой историей, измученному головной болью и остатками хмеля, вскоре после сообщения о потасовке между моряками и солдатами, не поделившими девиц и как следствие — о разгроме двух портовых таверн, принесли известие о подходе врага, и почти сразу вслед за этим — немедленный вызов к ромейским военачальникам, это никак не могло улучшить ему настроение.
«Когда же вы все наконец оставите меня в покое?» — отчетливо читалось у него на лице.
Кантакузин брезгливо осмотрел лейтенанта и повернулся к подесте.
— Поскольку вам обоим уже известно о подходе врага, мы желаем выслушать и оценить ваши намерения и планы на ближайшее будущее.
Лейтенант пожал плечами и недовольно брякнул:
— Я солдат и подчиняюсь приказам. Если синьору подесте будет угодно отдать приказ об обороне Галаты, я выполню свой долг.
— Мы не ослышались, лейтенант? — Кантакузин уже еле сдерживал себя. — Ты признаёшь над собой лишь подесту, тогда как каждому мальчишке в ваших трущобах известно, что василевс — единственный и полноправный наш государь?
— Я служу тому, кто платит, — угрюмо возразил Гвиланди.
— Мне кажется, дела требуют срочного наведения порядка, — вмешался мегадука. — Если холоп отступает от веления долга, его хозяин в той же мере несет ответственность за измену. По моему мнению, мастер Кантакузин, на мачтах этой галеры не достает двух веревок с петлями на концах.
Лицо подесты поплыло пятнами, увлажнилось и стало напоминать кусок плохо заквашенного теста.
— Но, синьор….
— Да мне достаточно двух сотен меченосцев, чтобы перевернуть вверх дном ваш паршивый пригород, — заорал стратег, с силой грохая кулаком по столу. — И вот этой руки, чтобы вдребезги разнести ваши гнилые головы. Вы что же, осмеливаетесь полагать, что мы, взрастив за пазухой ядовитую гадину, не найдем в себе решимости одним ударом прихлопнуть ее? Вы сильно ошибаетесь, господа генуэзцы!
Подеста в ужасе замахал руками.
— Что вы, что вы, синьор, зачем же так волноваться? Прошу вас, не принимайте всерьёз глупые речи лейтенанта — его еще незрелый и от природы слабый ум затуманен вчерашней попойкой. Мы отлично осознаём, что живем на этих землях из милости василевса, да продлит Господь его годы, и никогда, даже под страхом смерти не допустим и мысли о неповиновении.
— Приятно слушать разумные речи, — насмешливо произнес Алексий. — Но на вашем месте, синьор подеста, я бы призадумался над тем, может ли обделенный умом человек, не знающий своего государя и отпускающий в военное время весьма двусмысленные шутки, исполнять и впредь обязанности начальника гарнизона.
Гвиланди с проклятиями вскочил на ноги. Подеста тут же очутился возле него и скороговоркой, несколькими словами утихомирил его. Затем повернулся к Алексию.
— Я задумаюсь, синьор, непременно задумаюсь. И воспользовавшись случаем, прошу передать мастеру Феофану мои пожелания доброго здравия и долгих лет жизни.
Стратег нетерпеливо повел головой.
— Оставим любезности до лучших времен.
— Всем известна роль Перы в системе оборонительных сооружений Константинополя, — в тишине его слова падали веско, как куски свинца. — И у нас нет сомнений, что Галата — одно из самых слабых звеньев в этой цепи. Империя лишена возможности укрепить гарнизон своими отрядами и потому жителям колонии придется уповать на собственные силы. Договаривайтесь с турками как хотите, но помните, что если хоть на мгновение возникнет вероятность преждевременного падения Перы, мы бросим на поддержание порядка весь наш резерв.
— Так же, в качестве ответной меры, будут конфискованы банки и склады, имущество городских жителей и принадлежащие колонии суда, — продолжил перечень угроз мегадука. — А после отражения врага я лично буду ходатайствовать перед василевсом о расторжении договора с Генуэзской республикой на право аренды этой земли.
— Слишком высокая плата за беззащитность, — возразил Ломеллино. — Колония не готова к войне и не выдержит продолжительной осады.
— Нам известно столь же хорошо, как и вам, что Мехмед пока не собирается ссориться с Генуей, так как она своим флотом может перекрыть Босфор, разрезав тем самым владения османов на две несообщающиеся половины. Помимо того, согласно одному из основных пунктов договора, городские власти Галаты в случае вторжения врага обязаны до последнего солдата защищать стены своего города, — ответил стратег.
— Далее, — Нотар прихлопывал ладонью по столу, как бы вбивая слова в голову собеседника, — мы считаем целесообразным снабжение столицы пригородом не только оружием и провиантом, но и снаряжение отрядов добровольцев и посылку их на помощь войскам Империи.
Ломеллино вскочил, как подброшенный пружиной.
— Синьор! Но ведь это нарушает нейтралитет! Тот самый нейтралитет, к которому нас призывал только что стратег Кантакузин. Посылка солдат в Константинополь послужит поводом для штурма Галаты, а впоследствии и к войне между Турцией и Генуей.
Он с убитым видом рухнул обратно в кресло.
— Велите нести веревку, синьор Нотар. Без распоряжения сената Республики такой приказ я отдать не в силах.
Димитрий успокаивающе поднял руку.
— Подеста неверно истолковал слова уважаемого мегадуки. Никто не принуждает Галату к военному союзу. Но и добровольцам, выразившим желание сражаться по ту сторону Залива, препятствий чиниться не должно.
С этим Ломеллино был полностью согласен. Он лишь многословно сожалел, что преклонный возраст, а так же отсутствие должного воинского умения не позволяют ему лично взяться за меч — ведь выручать из беды своих единоверцев есть священный долг каждого добропорядочного христианина.
Кантакузин кивнул головой.
— Поскольку в главном мы достигли согласия, а именно так я понял витиеватые заверения синьора Ломеллино, остается скрепить эти поправки к основному договору отдельным документом.
После того, как димархи удалились на борт галеры, Роман некоторое время бесцельно ходил вдоль пристани, затем вскочил в седло и направился в город.
Широкая дорога под прямым углом уходила от моря, по обочинам высились плотные застройки одно- и двухэтажных домов. Чем глубже он удалялся в город, тем наряднее и богаче становились фасады строений. Маленькая, ухоженная, плотно застроенная Галата производила выгодное впечатление по сравнению с огромным ветшающим Константинополем. Но над ней, в отличие от ее великого соседа, витал тот самый неистребимый дух провинциальности, свойственный большинству малых городов.
Улицы были полны прохожих и торговцев, в чьих голосах Роману слышался сызмальства знакомый лигурийский диалект. Ему на мгновение почудилось, что он и впрямь находится в одном из окраинных районов Генуи, где прошло его детство и пора взросления. Невольно он стал раздаривать улыбки прохожим и те в ответ, благодаря за внимание, в приветствии поднимали руки. Коробейники, бурно жестикулируя, протягивали к нему лотки с выставленным на них товаром, приказчики зазывали его в свои лавки, а некая смазливая цветочница, выхватив из корзины полураспустившийся бутон, бросила ему розу. Роман поймал его на лету, сбил на затылок берет и пристроил цветок рядом с белым пером. Невольно приосанившись, он пришпорил коня и проезжая через людную площадь, не раз с удовлетворением ловил на себе любопытствующие взгляды горожанок.
Однако вскоре, через полмили, он попридержал коня. Радость узнавания сменилась тревожным чувством — прямо перед ним, в ста ярдах за пустырем, высилась крепостная стена с частоколом прямоугольных зубьев на краю. Он вспомнил то, о чем никак не следовало забывать: за этой невысокой рукотворной грядой кончалось хрупкое очарование оазиса и начинался враждебный мир, мир близкой войны, несчастья и страданий.
Он повернул коня и направился вдоль крепостной стены. Укрепления Галаты смотрелись достаточно надежно и хотя не шли ни в какое сравнение с мощными оборонными сооружениями Константинополя, похоже, могли выдержать не один приступ. Отступая от кромки залива на расстояние, способное вместить по длине лишь одно небольшое судно, стены на южной и северной оконечностях города отходили от воды почти под прямым углом и плавно следуя за неровностями почвы, смыкались на высоком холме, где располагалась высокая сторожевая башня — Башня Христа. Нависая над городом своими замшелыми круглыми боками, она стояла непоколебимо, подобно вглядывающемуся вдаль окаменелому часовому. На ее вершине, увенчанной остроконечным конусом крыши, вдоль круговой обзорной площадки двигались маленькие, кажущиеся игрушечными фигурки караульных.
Роман вернулся в порт. Судя по всему, переговоры еще не были завершены. Сотник соскочил с коня и привязал поводья к каменной тумбе. Адъютант Нотара и двое гвардейцев неторопливо беседовали, отмахиваясь от первых весенних мух. На мгновение на палубе показался лейтенант с налитым кровью лицом, подозвал сидящего на корме человека в бедной одежде, с ящичком писца на коленях и вместе с ним вновь укрылся в каюте.
Роман еле сдержал зевоту и скучающе осмотрелся. Неожиданно его внимание привлекла уличная сценка: стайка малолетних мальчуганов, крича и посвистывая, преследовала сгорбленного нищего, который припадая на суковатую палку, брёл, прихрамывая, вдоль пристани. В очередной раз отмахнувшись от своих мучителей, он устало опустился на камни мостовой и замер в неподвижности, скрестив руки на животе наподобие степного идола. Однако мальчишки не отставали. Самый старший из них, по-видимости — заводила, подкрался к старику и что есть мочи рванул за ветхое рубище. Ткань громко затрещала; мальчишка победно завопил, приплясывая от восторга и потрясая своим трофеем — пучком прогнивших лохмотьев. Но тут неожиданно нищий, каким-то ловким, отнюдь не старческим движением перехватил посох за основание и, не оборачиваясь, подсек ноги обидчика. Тот с размаху шлепнулся на ягодицы и в то же мгновение палка попрошайки с громким стуком отскочила от его головы. Заводила зашелся в рёве от боли и обиды, в то время как все окружающие, и в первую очередь его собственные приятели, покатывались со смеху.
Роман подошел к нищему, достал кошелек и покопался в нем.
— Молодец, старик. Умеешь постоять за себя, — одобрительно произнес он, выуживая мелкую серебряную монетку. — Возьми пару аспр — твой мастерский удар заслуживает награды.
Нищий склонился, забормотал слова благодарности, затем приподнял лицо и тут Роман чуть не подскочил от неожиданности: за грязью и умело наложенным гримом он признал незнакомца, с которым столкнулся возле ограды парка Палеологов.
— Ты? — еще не веря своим глазам, прошептал он.
Затем, опомнившись, выхватил меч.
— Сейчас-то ты не ускользнешь от меня!
— Храбрый юноша, оставь старика в покое, — противным голосом заблеял нищий, вновь прикрывая лицо тряпкой.
— Довольно прикидываться, — крикнул Роман. — Встань, я приказываю тебе!
Нищий подчинился.
— Кто ты такой? Кого здесь выслеживаешь? — сам того не замечая, сотник почти в точности повторил произнесенные некогда незнакомцем слова.
Старик, а точнее юноша, загримированный под старика, презрительно ухмыльнулся, повернулся спиной и стал удаляться.
— Стой! — Роман занес меч. — Еще шаг — и я зарублю тебя!
Нищий быстро развернулся. Его палка, со свистом описав полукруг, полетела в ноги сотнику. Мгновенная, выработанная долгими тренировками реакция не подвела Романа: он успел высоко подпрыгнуть, уворачиваясь от удара. Тяжелый посох, громко стуча, прокатился по мостовой и лишь в двадцати шагах, врезавшись в стенку, отскочил и закружился на месте — сила броска была столь велика, что при попадании палка могла сломать кость человеку. Сотник бросился вперед, намереваясь свалить противника ударом меча плашмя, но тот выхватил из-за пазухи кинжал и отшагнув в сторону, резко выбросил руку с оружием перед собой. На длинном блестящем лезвии тут же заплясали веселые солнечные зайчики.
— Так вот за что ты держался в ту ночь, — наливаясь холодным бешенством, протянул Роман. — Хотел прирезать меня, но поостерегся шума? Сейчас я заставлю тебя ответить на все мои вопросы.
Не опуская занесенного меча, он попытался приблизиться к мнимому нищему. Но тот, пятясь, отступал и они, зорко глядя друг на друга, описали на месте почти полный круг.
— Охрана! — громко позвал Роман.
Византийские воины, стоя чуть поодаль, с удивлением наблюдали за происходящим. Наконец оба гвардейца, подхватив копья, стали неохотно приближаться.
— Задержите этого человека, — Роман задыхался от волнения: он боялся, что шпиону удастся ускользнуть.
— Это вражеский лазутчик!
Воины вопросительно взглянули друг на друга.
— Эй, ты! Оборванец! Брось нож! — гаркнул один из них, беря копьё наперевес.
Нищий достал из-под лохмотьев нечто, напоминающее металлический жетон и показал его солдатам. Гвардейцы вновь переглянулись.
— Похоже, это один из людей мастера Феофана, — задумчиво протянул воин постарше. — Нам запрещено задерживать их.
— Зато другой — в звании сотника и к тому же родственник мастера Димитрия, нашего командира, — возразил его товарищ. — Да и потом, ты уверен, что бляха не поддельная?
Юноша спрятал жетон в складках лохмотьев, вслед за ним последовал и кинжал. Заложив руки за спину, он покачивался с носков на пятки и насмешливо поглядывал на окружающих.
Роману казалось, что он видит дурной сон.
— Почему вы его не арестовываете? — закричал он, схватив древко копья молодого гвардейца и дернув его так, что солдат едва не полетел с ног.
— Звание сотника дает ему право распоряжаться нами, — сделал-таки выбор старший и повернулся к нищему.
— Человек! До полного выяснения твоей личности, а также причин твоего появления здесь, ты задерживаешься по приказу войскового офицера. Сдай оружие.
— Попытка к бегству равносильна смерти, — слегка напыщенно произнес второй.
В это время из-за поворота улицы показался средних лет прохожий в одежде простолюдина. Заметив происходящее на причале, он попятился и тут же исчез с глаз. Юноша ринулся было за ним, но в грудь ему уперлись острия копий.
— Не сметь! — предостерег гвардеец.
Лицо мнимого нищего скривилось от досады. Он смачно сплюнул на камни мостовой и швырнул туда следом кинжал.
Роман подобрал оружие и внимательно осмотрел его. Конический клинок в пол-локтя длиной был отполирован почти до зеркального блеска и по остроте не уступал бритве; на рукояти из черного дерева прощупывались углубления для пальцев. Что-то невыносимо хищное и злое жило в этом орудии смерти; казалось, каждый, взявший его в руки, становился невольным соучастником убийства.
— Пошли, — хмуро бросил Роман. — Наше дело обезвредить лазутчика. Допросом пусть займутся другие.
Не успели они сделать и нескольких шагов, как на палубе галеры показались димархи. Вслед за ними, понуря голову, шел подеста.
Увидев племянника и стоящего рядом с ним нищего с двумя гвардейцами по бокам, стратег недоуменно вскинул брови.
— Что здесь происходит? Зачем вам этот бродяга? Решили поразвлечься, отлавливая завсегдатаев помоек?
— Это не бродяга, а неприятельский шпион. Недели две назад я столкнулся с ним в Константинополе, рядом с…… - Роман на мгновение запнулся. — Тогда он был переодет мастеровым. В тот день ему удалось усыпить мою бдительность, и я упустил его. Теперь он объявился здесь, уже в облике нищего. Я уверен, на дознании он может многое показать. Вот его оружие.
Роман подбросил кинжал на ладони.
— Так, так, — протянул мегадука. — Средь бела дня, случайным человеком, неподалеку от места проведения секретных переговоров, был выявлен и задержан вражеский шпион. Сколько же их здесь, в ваших владениях, синьор Ломеллино? Не трудились подсчитать? Похоже, тут они чувствуют себя достаточно вольготно, не так ли?
Не успел подеста открыть рот, чтобы отвести обвинение, как в разговор вступил Алексий, до того безмолвно наблюдавший группу из четырех человек на причале.
— Безусловно, дознание поможет установить истину. Но пока что я покорнейше прошу димархов уступить пленника мне.
— Я не понимаю…, - начал мегадука.
— Этот человек принадлежит к числу лазутчиков мастера Феофана, — объяснил Алексий, — И в данное время был занят возложенным на него поручением.
— Похоже, в скором времени мы будем обнаруживать лазутчиков мастера Феофана даже в собственных кроватях, — раздраженно бросил Нотар.
— Мало ли кого можно обнаружить в своей постели, — негромко отозвался его собеседник.
Почувствовав неладное, Нотар метнул в его сторону подозрительный взгляд, но Алексий, проигнорировав мегадуку, повернулся и сделал знак оборванцу подняться на борт галеры. Мнимый нищий приблизился к Роману и молча встал перед ним. Молодой человек нехотя протянул кинжал, затем поддавшись мстительному чувству, швырнул его наземь.
— Ты любишь заставлять других наклоняться за своим оружием — пригнись же и ты.
Юноша присел, поднял кинжал, затем распрямился. Их взгляды на мгновение скрестились и легкий озноб пробежал по телу Романа: из глаз противника исчезла насмешка — теперь там сверкала смертельная злоба.
Рука сотника вновь легла на рукоять меча, но юноша уже уходил, поднимаясь по трапу на борт галеры.
Димитрий повернулся к Ломеллино.
— Договор выправлен, подтвержден, скреплен печатями и подписями. Вам остается лишь добросовестно выполнять все его пункты.
— Можете не сомневаться, синьор, мы свято чтим волю василевса и дорожим интересами Империи, — произнося это, подеста проводил димархов до самого трапа.
Но не успел он поставить ногу на ступеньку лестницы, как Алексий чуть тронул его за локоть и жестом попросил задержаться.
Сев в седло, Кантакузин повернулся к галере.
— Мы возвращаемся обратно. Предупреждаю, паром никого ждать не будет.
— Прошу благородных димархов простить нас, но одно из поручений мастера Феофана осталось невыполненным, — ответил Алексий. — И потому мы вынуждены задержаться в Галате. Мы глубоко ценим заботу мастера Димитрия, но хочу сообщить, что для переправы в Константинополь у нас имеется вместительная лодка.
Стратег обменялся взглядами с мегадукой, пожал плечами и тронул коня.
— Приближенные Феофана не растаются с привычкой совать свои носы повсюду, заботливо скрывая при этом свои собственные интересы, — произнес он.
— Мне кажется, эта дурная привычка начинает приобретать норму закона, — угрюмо отозвался Нотар. — Когда беда стучится в дом, одни готовятся сражаться из необходимости, другие — спешат потешить свое самолюбие.
Алексий некоторое время провожал взглядом удаляющихся всадников, затем молча вернулся в каюту. Ломеллино последовал за ним без видимой охоты.
— Мастер Феофан озабочен признаками нарождающейся измены среди некоторых галатских старейшин, — начал византиец, как только они уселись за стол.
— Не понимаю. О какой измене синьор изволит говорить?
— Нам известно, что более восьми месяцев назад Галату посетил некий человек с весьма определенными предложениями в адрес генуэзских купцов и банкиров. Этот человек имел беседу с вами, синьор Ломеллино.
— Я никогда не отрицал этого.
— Как не отрицаете и то, что суть этих предложений сводилась к устранению Галаты из близящегося конфликта Империи с Османским султанатом.
— Мне нечего возразить на это, — Ломеллино лихорадочно соображал, как выкрутиться из щекотливого положения. — Действительно, некий человек, чье истинное имя мне неизвестно, пытался в моем лице предостеречь население Галаты от прямого участия в конфликте. Но я, не дослушав и до половины, приказал ему прекратить крамольные речи.
— Что произошло после этого?
— В ту ночь я позволил ему передохнуть в моем доме. Ведь все-таки, по его заявлению, он пришел ко мне от имени сената Генуи и даже представил кое-какие доказательства. Хотя утром следующего дня, когда я вместо посланника обнаружил на постели только смятые простыни, во мне заговорили сомнения…..
— Значит, подесту все же удивил столь поздний и таинственный визит якобы официального представителя?
— Я настолько был сражен известием о предстоящей войне, что поначалу утратил способность удивляться. Только впоследствии, когда сопоставились некоторые факты, я заподозрил неладное.
Дверь каюты тихо приоткрылась, пропуская вовнутрь Ангела. Он уже успел стереть с лица грязь и старящий его грим. Алексий даже не обернулся в его сторону, хотя подеста уставился на вошедшего с плохо скрытой настороженностью.
— И с тех пор этот человек никак не заявлял о своем присутствии?
— Нет, синьор.
— Однако, недалее как сегодня, в порту Галаты видели человека, отвечающего описаниям внешности провокатора.
— Не смею подвергать сомнению ваши слова. Я сегодня же отдам распоряжение о розыске и задержании этого человека.
— Мы будем признательны вам за это, синьор подеста, — ромей откинулся на спинку кресла. — Тем более, что он — двойной шпион. Преступно прикрываясь врученными ему сенатом Генуи полномочия, он пытается развалить лагерь союзников изнутри и сеет панику в банковских домах, питающих деньгами антиосманскую коалицию. Попутно готовит почву для мятежа среди наемников и иностранных подданных. Не более двух недель назад в Константинополе был разгромлен готовящийся заговор с участием представителей проживающих на территории италийских общин. В частности, там находился некий Адорно, состоятельный купец, уроженец Генуи, постоянно проживающий в Галате. Вам это имя ничего не говорит, синьор Ломеллино?
— Этот доверчивый недоумок?! Я своими руками задушу его.
— В сети попались почти все несостоявшиеся заговорщики, кроме того лже-посланника: ему вновь удалось ускользнуть. И сейчас он скрывается где-то в трущобах Галаты. Мы не имеем полномочий провести полицейский обыск на территории, арендованной дружественным государством, и потому возлагаем надежду на вас, синьор подеста.
— Синьор, клянусь вам, я сделаю всё, что в моих силах.
— Мастер Феофан полагает, что этот человек принадлежит к некой тайной организации, стремящейся направить турецкие завоевания к северу от земель итальянских государств и с этой целью подставляющих Константинополь под удар османских войск.
Алексий поднялся с кресла.
— Лодовико Бертруччо. Запомните это имя, синьор, если еще вам еще не приходилось слышать его. Младший отпрыск обедневшего дворянского рода, владеющего двумя небольшими поместьями в Лигурии. От этого человека попахивает крупными неприятностями: все, кто ранее имел с ним контакты, впоследствии не переставали сожалеть о том. Его голова оценена в пять сотен золотых — мастер Феофан не любит скупиться. Мой добрый совет всем галатским старейшинам: не теряйте дружбы Феофана — за предательство интересов Империи он карает жестоко.
Не попрощавшись, византиец вышел из каюты. Ангел, напротив, вплотную приблизился к Ломеллино.
— Не храбрись, купец, не надо. Я же вижу, как ты дрожишь и потеешь от страха. Лодовико здесь, неподалеку и вскоре я выслежу его. Не вздумай укрывать мерзавца, не то вы разделите одну судьбу.
Он медленно растянул губы в усмешке и Ломеллино поёжился от странного ощущения: ему на мгновение почудилось, что сквозь иконописное лицо юноши на него уставился провалами глазниц голый череп мертвеца.
ГЛАВА XV
Окруженный полудесятком своих солдат, Гвиланди стоял, широко расставив ноги, недвижимый, как бронзовый истукан. Ремешок его шлема был затянут слишком туго и вызывал мучительный зуд в подбородке. Прорезь металлической пластины забрала ограничивала обзор до узкой полоски, но и через нее был хорошо виден трап галеры, а чуть выше — резные столбики перил.
За короткое время, прошедшее с тех пор, как оскорбивший его ромей вместе с подестой вновь укрылись в каюте, лейтенант успел подготовиться основательно: помимо шлема он был облачен в кирасу из гибкой черненой стали, в массивные наплечники и налокотники. Выставив левую ногу вперед, он возложил обе руки в кольчужных рукавицах на рукоять меча, длинного, почти касающегося земли острием клинка.
Но несмотря на свой невозмутимый вид, на внушительное вооружение и шестерых солдат у себя за спиной, лейтенант отчаянно трусил. Он знал, что ромей скорее всего примет вызов и не был уверен в благополучном исходе поединка.
Но и отступать ему уже было некуда: слухи в небольшом городке разносились быстро и не успело бы солнце склониться к закату, как вся Галата уже чесала бы языки о нанесенном ему оскорблении. Мещане, лелеющие собственное понятие о чужой чести, никогда бы не простили бы дворянину малодушия, в то время как сами без единого слова проглотили бы куда более серьезное унижение или обиду. Разве что, в крайнем случае, подали бы на обидчика в суд или учинили бы безобидный мордобой. Несправедливо все-таки устроена жизнь: кому-то смертельный поединок, для других — бесплатное развлечение.
Чтобы распалить себя, лейтенант стал предвкушать, как несколькими сильными ударами он обезоружит ромея, собьет его с ног и, приставив острие меча к незащищенному горлу, потребует униженных извинений. А после этого стоит лишь чуть сильнее надавить на рукоять….. Никто не смеет задевать честь Якопо Гвиланди, лейтенанта генуэзского гарнизона!
Увлеченный собственными переживаниями, Гвиланди и не заметил, как на палубу вышел его обидчик. И теперь он, перегнувшись через перила, с веселым интересом разглядывал группу вооруженных людей на причале.
— Идите сюда, синьор Ломеллино, — громко позвал он. — Смотрите вниз. По-видимому ваши люди собрались здесь меня убивать.
Вслед за ним появился подеста. Волосы на его лбу слиплись от пота, на лице прыгала раздраженная гримаса.
— Что такое? — визгливо закричал он. — Синьор лейтенант, забирайте своих солдат и возвращайтесь в казарму. Вы слышите меня? Я приказываю!
— Этот грязный ромей оскорбил меня, — голос из-под шлема звучал глухо и почти неразборчиво. — Он должен кровью заплатить за свои слова!
Не успел подеста что-либо возразить, как Алексий уже начал спускаться по трапу.
— Синьор, заклинаю вас, не связывайтесь с этим мальчишкой!
Ангел поднялся на корму и оттуда энергично замахал кому-то. Алексий приблизился к Гвиланди и с расстояния нескольких шагов критически осмотрел генуэзца.
— Да-а, — задумчиво протянул он. — Лейтенант успел достойно подготовиться. Если не ошибаюсь, эта кираса флорентийской выделки?
— Готовься к бою, — загудел из-под шлема голос. — Я не позволю обидчику уйти безнаказанно.
Солдаты зашевелились и раздались в стороны, как бы отрезая пути к отступлению. Византиец удивленно взглянул на них и взялся за рукоять меча.
— Шесть солдат во главе с отважным лейтенантом! Жаль, что не был приглашен весь гарнизон.
Его обычно спокойное лицо исказилось от ярости; меч, казалось, сам вылетел из ножен.
— Я проучу вас всех!
Генуэзцы попятились, но не только от этих слов: за спиной Алексия, чуть запыхавшись от быстрого бега, выстроились четверо вооруженных моряков-византийцев. Ангел враскачку спускался по трапу, одной рукой опираясь на веревочный поручень, другой — прихватывая раздуваемые ветром лохмотья.
— Остановитесь! — оттеснив юношу, подеста проворно скатился на пристань.
— Я запрещаю обнажать оружие на территории Галаты!
Он бросил взгляд по сторонам. Крохотный пятачок постепенно заполнялся людьми. Толпа, пока еще не очень густая, быстро пополнялась любопытствующими.
— Эй, кто-нибудь! Вызывайте патруль!
— Вы не смеете запрещать поединок, — завопил Гвиланди, потрясая сжатой в кулак рукой.
Несмотря на свою распаленность, он успел с удовлетворением отметить, что меч византийца почти на две ладони короче его собственного.
— Оскорблена моя честь! Вам, как не дворянину, трудно понять это!
Подеста разразился проклятиями. Он грозил упечь за решетку всех участников ссоры, предать суду за нарушение закона. Время от времени он приподнимался на носки и призывал караул, который, по обыкновению, запаздывал именно тогда, когда возникала в нем необходимость. Ломеллино волновался не зря: хотя поединки в то время были частым явлением, но возможное столкновение между группами ромеев и генуэзцев могло привести к нежелательным последствиям. Византийцы, как бы невзначай, умело оттерли подесту в сторону. Алексий шагнул вперед.
— Так значит, лейтенант готов померяться силами? Это может оказаться для него последним испытанием.
— Я готов к смерти, — голос Гвиланди невольно осел. — Готовься к ней и ты.
— Тогда начнем.
Лейтенант бросился вперед и взмахнул мечом. Ромей уклонился и Гвиланди, вложив в удар всю силу, едва не полетел с ног. Восстановив равновесие, что было нелегко в тяжелом доспехе, он ударил наотмашь, теперь уже с другого плеча. И вновь меч лишь рассек воздух. В толпе зрителей послышались смешки.
— Может, все-таки начнем? — осведомился Алексий после пятого, по-прежнему пришедшегося в пустоту удара.
Генуэзец замычал от ярости и забыв про осторожность, прыгнул в его сторону. На этот раз византиец не успел, а может не посчитал нужным уклониться от удара: целый сноп искр посыпался из-под клинков. Мгновение, и бойцы сцепились, крепко ухватив свободной рукой запястье противника.
Гвиланди не сразу осознал, что попался в ловушку: в подобной ситуации все преимущества были на стороне его более сильного противника. Как он ни старался высвободить руку из зажавших ее железных тисков, меч все более выворачивался из слабеющих пальцев, пока наконец, не выпал, зазвенев на камнях.
Среди зрителей пронесся невольный вздох. Византиец отступил на шаг и с силой опустил перекрестие рукояти на лицевую часть шлема генуэзца. Обезоруженный и полуоглушенный, Гвиланди рухнул на землю и распластавшись на ней, не делал попыток подняться. Алексий вложил вой меч в ножны и с презрительной усмешкой взглянул на лежащего навзничь лейтенанта.
— Ты слишком горяч. Не мешало бы слегка остудиться.
Он рывком перевернул поверженного противника на грудь, приподнял за подмышки и держа на весу, как куль с мукой, быстро завертелся на месте. Зеваки шарахнулись в стороны; византиец разжал руки и беспомощное тело, мелькая в воздухе растопыренными ногами, полетело в воду.
Раздался протяжный всплеск. Радужные брызги взлетели почти до уровня мола.
— Уф-ф, — пробурчал подеста, утирая платком влажный лоб. — По милости Господа, вся эта глупая история благополучно закончилась.
— Что вы рты разинули, — закричал он, обращаясь к солдатам. — Вытаскивайте своего командира!
Оторопевшие поначалу, генуэзцы бросились вперед, без лишних церемоний расталкивая зевак. Сквозь пузыри и взмученную воду, на темном от водорослей дне едва проглядывались смазанные волнистой рябью очертания человеческой фигуры. С помощью нескольких доброхотов, прыгнувших с пирса, помогая себе криками и руганью, они извлекли тело из воды и, оттащив от кромки мола на несколько шагов, осторожно положили на камни.
Но когда шлем был снят с головы лейтенанта, окружающие поняли, что их старания были напрасны: лицо Гвиланди посинело, глаза закатились под самый лоб, а из уголка рта непрерывной струйкой сочилась вода. Идеально приспособленный для защиты тела в бою, тяжелый доспех убил своего владельца, камнем утащив его на дно.
— Вон оно, как дело-то обернулось! А еще говорили, что генуэзцы от рождения плавают не хуже водяных крыс, — довольно громко произнес кто-то в толпе.
Алексий повернулся к подесте, с лица которого не сходило растерянно-беспомощное выражение.
— Не стоит скорбеть о нем: на этом посту дурак опаснее предателя. Мой вам добрый совет, синьор Ломеллино: немедленно известите кондотьера Джустиниани, что вам необходим опытный командир на пост начальника гарнизона.
Он коротко кивнул на прощание и византийцы молча, в полной тишине, направились к своей лодке.
Оставшиеся на причале люди еще долго смотрели, не решаясь приблизиться, на истекающее водой, закованное в железный панцирь и оттого скорее похожее на некоего диковинного морского краба, тело утопленника.
Вернувшись в Константинополь, мегадука предоставил Димитрию отчитываться перед василевсом, а сам тем временем поспешил, снедаемый недобрыми предчувствиями, к особняку на площади Форума.
Слова, вскользь брошенные ему на борту галеры, задели Нотара за живое: в них явно проступал некий скрытый намек. Именно тогда он вдруг вспомнил, что уже длительное время не посещал Ефросинию и даже не получал от ее слуг никаких известий. Болезнь жены, работы в корабельных верфях, снаряжение и оснастка флота, укрепление крепостных стен и прочие бесчисленные заботы без остатка съедали почти все его время. Да и годы все чаще давали о себе знать: стареющий организм уже не справлялся с подобными нагрузками.
Осадив коня возле ворот ограды особняка, он облегченно вздохнул: как и прежде, престарелый хромой привратник, переваливаясь с ноги на ногу, спешил распахнуть перед хозяином ворота. Но присмотревшись повнимательнее (что ранее он делал нечасто), мегадука вдруг с обостренной наблюдательностью отметил, что слуга с какой-то чрезмерной угодливостью суетится вокруг него, пряча виноватые глаза.
— Все ли впорядке, Савва? — резко спросил он. — Как здоровье госпожи?
— Ох, хозяин, не знаю, что и сказать….
— Что случилось? Говори! — внутренне холодея, продолжал допрос Лука.
— Плохо с госпожой, — вздыхал старик. — Да я и не знаю, где она.
Мегадука схватил его за плечо, но привратник упорно не поднимал глаз. Тогда он бросился вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступени. Дом встретил его тишиной, одного взгляда хватало, чтобы понять — особняк пустует уже несколько дней. Разом постаревший на десяток лет, мегадука прошел в глубину зала и медленно опустился в кресло.
Мебель из красного гнутого дерева, звериные шкуры на полу, пестрые гобелены на стенах — всё находилось на своих местах, но не было главного, того, что вселяло жизнь в неодушевленные предметы, делало их нужным людям. Нотар не мог определить, сколько времени он просидел неподвижно в кресле, но когда он поднял глаза, привратник терпеливо стоял перед ним, медленно и скорбно качая головой.
— Рассказывай, что произошло, — хрипло произнес Нотар. — Где Ефросиния, где слуги?
— Ох, господин…. Недели две назад госпожу посетил один знатный человек. Синьор…. Никак не могу вымолвить его имени….
— Какой еще синьор?
— Он командует всеми вооруженными латинянами в городе.
— Джустиниани, — процедил сквозь зубы Нотар. — Продолжай!
— Он посетил ее еще два раза и после этого она покинула дом.
— Ты хочешь сказать, ее похитили?
— Нет, господин, не думаю. Мне кажется, она сама так захотела.
Мегадука вскочил, с грохотом отшвыривая от себя кресло.
— И никто из слуг не сказал мне ни полслова! Ну, мулатка еще куда ни шло, она женщина, ее легко подкупить, запугать. Но вы, вас же было трое — ты и те два здоровенных олуха. Почему никто не помешал ей? Почему не известили меня? Говори!
Он в бешенстве схватил привратника за воротник и стал трясти его, вымещая досаду и злость.
— А что мы могли сделать, — жалобно причитал тот. — Латиняне в первый же день выставили караул у дверей и не разрешали покидать особняк. Даже угрожали увечьем тому, кто осмелится ослушаться их.
Старик ойкнул и замолк, прикусив язык. Мегадука выпустил его из рук и шатаясь, как пьяный, подошел к окну.
— Ими командовал молодой человек с лицом похожим на морду хорька. Он все смеялся над нами и говорил, что у них в услужении нам будет сытнее и спокойнее жить.
Нотар стиснул виски ладонями. От обиды, бешенства и уязвленного самолюбия у него начинала кружиться голова, мутился рассудок.
— Где остальные двое слуг?
— Прячутся, господин. Они боятся всего. Боятся твоего гнева, боятся мести латинян.
— Почему же ты не боишься?
— Я уже слишком стар для страха.
Мегадука несколько раз пересек по диагонали залу, затем резким движением руки смёл расставленные на маленькой этажерке дорогие безделушки.
— Значит, твоя госпожа, как последняя девка, сбежала с генуэзцами и ничего не велела мне передать, — медленно, с расстановкой, как бы смакуя свою боль, произнес он.
Привратник понурился.
— Не гневайся, господин.
— Оставь, — поморщился Лука. — Ты-то уж точно не виновен в женском вероломстве. Принеси-ка мне вина. Самого лучшего и побольше.
Старик стремглав бросился к погребу. Нотар опустился в кресло и обхватил руками голову.
Этот вечер был худшим из худших вечеров его жизни. Отступили прочь и болезнь жены, и забота о детях, никчемными казались хлопоты на городских стенах и на кораблях. Всё вокруг напоминало ему о Ефросинии, о ее блестящих теплым золотом волосах, о гибком, пышущем здоровьем теле, о сводящих с ума неуемлемых ласках. Даже сам воздух в доме, казалось, был пропитан восхитительным ароматом ее кожи.
Лишь теперь он осознал, как он стар и кем была для него эта женщина. Она не только дарила ему любовь и счастье — она возвращала его в далекое прошлое, в годы, когда горячая кровь бурлила в его жилах и толкала молодого вельможу на безрассудные поступки. Она ушла и жизнь без нее казалась такой же пустой и ненужной, как и этот кичащийся показной роскошью особняк.
Нотар почти физически ощущал, как старческая немощь, одиночество и глубокая усталость от всего сущего овладевают им. Боль в груди, боль в сердце, сжимаемом невидимыми клещами, давила так же сильно, как и сознание безвозвратной потери. Он знал, что эта боль, признак жизни, постепенно уйдет, уступая место медленному угасанию чувств, и этого он страшился больше всего, до тошноты, до слабости в коленях.
Утро застало мегадуку в кресле, в той же неизмененной позе. Возле его ног, блестя рубиновыми капельками, валялись черепки тонкогорлых кувшинов из-под вина. Опухшими от бессонницы глазами он бездумно смотрел на розовеющие на восточной половине неба облака.
Подеста вернулся в свое жилище, подавленный и удрученный неблагоприятно складывающимся днем. Но неприятности на этом еще не окончились. Дверь ему отворил Пьеро, однако, несмотря на все потуги придать своему глуповатому лицу значительное выражение, ему не удалось привлечь внимание хозяина. Все же слуга не отставал и у самой лестницы потянул Ломеллино за рукав.
— Синьор…, - заговорщески прошептал он.
— Что такое? — раздраженно повернулся подеста.
— Там наверху…..
— Ну что, что ты мямлишь?
— Там этот…… тот человек, в черном.
По спине Ломеллино пробежал озноб.
— Ты впустил его? — он тоже невольно опустил голос до шепота.
— Но этот господин сказал, что вы сами назначили ему встречу…..
Подеста покачнулся и схватил его за ворот.
— Ты, негодяй, — яростно зашипел он. — Я же предупреждал, чтобы ты ни под каким предлогом не пускал его ко мне!
— Я не хотел, хозяин. Но он сказал….
— Запомни, дубина, если еще хоть раз ты осмелишься ослушаться меня, я тебя убью! Скормлю твою тушу бродячим псам. Ты понял?
— Да, синьор, — покорно потупился привратник.
Но если бы подеста обладал способностью читать в чужих душах, он без труда бы понял, что любая его самая страшная угроза показалась бы Пьеро невинной шуткой по сравнению с тем взглядом, который бросил на слугу Бертруччо, когда тот попытался было преградить ему дорогу.
— Возьми в руки что-нибудь тяжелое и прикажи всей челяди быть наготове, — тихо распорядился купец.
Дверь в кабинет была полуоткрыта; сквозь щель виднелись вытянутые длинные ноги генуэзца. Он не повернул головы на звук отворяемой двери, продолжая мелкими глотками тянуть вино из кубка.
— Вы уже вернулись, синьор Ломеллино? — небрежно осведомился он, опуская кубок на стол. — Мне пришлось вас ждать. Какими же новостями из жизни колонии вы порадуете меня?
— Какими новостями? — повторил купец, пытаясь выиграть время. — Что именно интересует синьора Бертруччо? Вот так с порога, после неожиданной встречи, мне трудно оценить степень осведомленности своего гостя.
— В ваших словах мне слышится упрек в недостаточном соблюдении церемониала приветствий. Но я думаю, такие старые друзья, как мы, могут позволить себе обойтись и без них. Так вот, меня интересует содержание переговоров, ради которых два высокопоставленных сановника Византии не поленились прибыть в Галату.
Подеста сел, придвинув под себя кресло.
— Ну, что сказать…. Ромеи вполне ожидаемо встревожены появлением османских полков неподалеку от Перы. В основном нами обсуждались совместные действия в случае единовременного штурма двух городов.
— Значит ли это, что в Галату будет переброшена часть константинопольского гарнизона?
Вопрос остался без ответа. Генуэзец удивленно вскинул бровь, повернулся всем телом к Ломеллино и вперил в него взгляд. Городской голова старательно отводил глаза в сторону.
— Кажется, я задал вопрос, — резко бросил Лодовико.
— Я не отвечу на него, — смело возразил подеста. — Если метрополия не считает обязательным направить флот на выручку соотечественникам, то мы готовы сами, без помощи извне, защищать свои жизни и имущество.
Гость был явно заинтригован.
— Похоже, за этот короткий срок вы успели пропитаться воинственным духом своих соседей. Каким же образом, позвольте узнать, вы собираетесь защищаться, синьор главнокомандующий?
Ломеллино побагровел, собрался было ответить колкостью, но сдержался.
— В меру своих скромных возможностей.
— Вот-вот, — закивал головой гость. — Скромных…. Вы выбрали вполне точное слово.
— И ещё, чуть не позабыл упомянуть…. После окончания переговоров меня ознакомили с неким небезынтересным фактом.
— Я весь во внимании…..
— Как выяснилось, константинопольская полиция, а также определенные люди, близкие к ней по роду своей деятельности, усердно разыскивают некоего Лодовико Бертруччо, по их словам — шпиона и провокатора, за голову которого назначена немалая сумма в золотых.
— Я всегда говорил: нерешительность не приведет к обогащению. Как должно быть обидно синьору негоцианту при виде кулька с золотом, расположившегося в его кресле, пьющего его вино и почему-то совсем не рвущегося оказаться в одном из его бездонных сундуков.
— Я не думал об этом.
— Похвально. И впредь не советую думать. Большие суммы назначаются неспроста. На протяжении многих месяцев люди Феофана охотятся за мной и, как видите, без особого успеха. Такого лиса, как я, непросто выкурить из норы. Я хорошо умею уходить из ловушек, иначе тлеть бы моим грешным костям на дне моря или в каком-нибудь каменном мешке. Есть порода людей, которых невозможно уничтожить: они несут на себе печать Провидения. И с одним из них вы как раз и имеете честь беседовать, синьор Ломеллино.
Со стороны могло показаться, что Лодовико пьян. Мрачно блестя черными, глубоко посаженными глазами, он упивался самолюбованием и не скрывал удовлетворения от благосклонности к нему высших сил.
— И сегодня Небеса предотвратили нежелательную встречу: неподалеку от пристани я наткнулся на выслеживающую меня ищейку. К счастью для нашего общего дела, этого ряженного нищего задержал ромейский патруль. Почему же вдруг так побледнел наш отважный градоначальник?
Подеста был и в самом деле сильно напуган. Он вскочил, возбужденно заходил по комнате, затем принялся кричать:
— Люди Феофана знают, что вы в городе! А может даже уже следят за моим домом. Я не желаю быть впутанным в ваши заговоры и прочие темные дела. Я пользуюсь заслуженным почетом, имею надежный банковский дом, веду дела с уважаемыми людьми и корпорациями. И наконец, представляю самоуправление Галаты, города, приносящего немалый доход Республике. Я не могу, просто не имею права принимать у себя человека, который объявлен вне закона, которого ищет полиция дружественного государства и про которого я лично не знаю ничего, кроме того, что связь с ним может оказаться губительной для многих моих сограждан!
Генуэзец подскочил, как подброшенный пружиной.
— Или вы проясните свои слова, или я заставлю вас ответить за оскорбление!
— Приближенный Феофана сообщил мне о некоем разгромленном заговоре, который был организован вами и в котором, на свою беду, принимал участие мой близкий знакомый и компаньон, купец Адорно.
— «….о некоем разгромленном заговоре», — с сарказмом повторил Лодовико. — Вы были отлично осведомлены о нем, синьор подеста, хотя сейчас и пытаетесь прикинуться невинной овцой. В том, что он все-таки был разгромлен, вина лежит не на мне, а на тех недотепах, которые соизволили явиться на встречу. Лишенные простейшей сообразительности они ухитрились притащить за собой целый хвост соглядатаев. И вот вам результат — они в темнице, а я, подобно затравленному зверю, вынужден скрываться по углам, теряя драгоценное время.
Он приблизился к окну и через щелку полуприкрытой ставни внимательно осмотрел улицу.
— Сколько усилий утекло в песок из-за глупости этих старейшин!
— Мне кажется, синьор Бертруччо, вы превышаете полномочия, врученные вам Сенатом.
Лодовико повернулся к собеседнику всем телом.
— Не тебе судить об этом, купец, — медленно и раздельно произнес он. — Как вы не хотите понять своим убогим умишком, что всё, за что я борюсь, за что ежедневно рискую жизнью, подчинено одной цели — спасти Галату и черноморские владения, отвести от них удар османских войск. Вы же, глупцы, еще не научившись плавать, пытаетесь спастись в штормовом море, цепляясь за чугунное ядро.
При этих словах, подеста вновь, как наяву, увидел распростертое на камнях тело Гвиланди, струйки воды, сочащиеся из-под его панциря и невольно поежился.
— Сегодня, с наступлением темноты, я покину Галату. А чтобы не вводить вас в искус быстрого обогащения, оставшееся время мы проведем вместе. У вас нет возражений, синьор Ломеллино?
Подеста покорно пожал плечами.
— Оставайтесь, синьор Бертруччо. Хотя это мне может стоить головы, отказать вам в гостеприимстве я не в праве. Отвечать же на вопросы о переговорах с византийцами мне запрещает долг.
Лодовико лишь пренебрежительно усмехнулся.
Четверо гребцов дружно налегали на весла. Под мерные всплески, носовой брус лодки рассекал поверхность воды, оставляя за собой две легкие волны, быстро гаснущие в гладком зеркале залива. Когда до набережной оставалось не более двухсот ярдов, Алексий повернулся к сидящему рядом с ним на корме Ангелу.
— Как получилось, что ты дал себя арестовать?
Юноша поморщился.
— Не мог же я при толпе свидетелей вступать в борьбу с сотником и двумя дураками гвардейцами. Тем более, дело успело зайти так далеко, что без крови и переполоха я не мог уже отделаться от них.
Он помолчал, затем с неприкрытой злобой добавил:
— Этот мальчик был так горд собой, когда прыгал вокруг меня со своей железкой в руке.
— Ты зовешь его мальчиком? Он на несколько лет старше тебя.
— Возможно. Но у него глаза ребенка.
— Ты говорил, что видел Лодовико на пристани?
— Да. Мне вновь не повезло: он заподозрил неладное и скрылся, в то время, как солдаты уперли в меня свои пики.
— Почему же ты не остался в Галате?
— Генуэзец понял, что раскрыт и затаился. Чтобы сейчас разыскать шпиона, нужно проследить за сотней рыбацких лодок, выходящих этой ночью в море, а также взять под контроль все городские ворота и потайные калитки — он может проникнуть в любую щелку. Я уверен, с закатом солнца он обязательно попытается покинуть Галату.
— Искать его сейчас бесполезно, — вновь, после недолгого молчания, как бы убеждая самого себя, произнес он.
— Тем более, что он, как и прежде, уже успел окружить себя двойниками, — добавил Алексий.
Ангел согласно кивнул, затем его лицо перекосилось от ярости.
«Похоже, он вновь припомнил того злосчастного сотника», — усмехнулся про себя Алексий и отвернулся в сторону.
Лодка развернулась, причаливая к пристани. Алексий встал и опираясь на плечо гребца, поднялся на ступени набережной. Ожидая, пока к нему подведут лошадь, он безразлично, в пол-уха, слушал разгоревшуюся неподалеку от себя перебранку двух подвыпивших моряков, каким-то чудом еще держащихся на ногах.
— Ты думаешь, нам впервой сражаться с неверными и побеждать их? — орал один из них, потрясая сжатыми в кулаки волосатыми ручищами. — Да одна наша галера потопит с десяток вражеских посудин!
— Десять? А сотню не хочешь? — возражал другой. — Не сегодня-завтра нехристи объявят джихад, вот тогда и попляшешь!
— Какой еще «джихад»? Что за чушь ты мелешь? Ты, верно, перепил лишку.
— Дурак ты! Джихад — это война всех язычников против всех христиан. Понял теперь, баранья твоя башка?
— Что!? Это у меня-то она баранья? Ах ты, кишка вонючая!
Моряки сцепились, осыпая друг друга тумаками и отборной руганью. Алексий брезгливо посторонился, принял подведенную ему лошадь под уздцы и только занес ногу, как неожиданная мысль заставила его остановиться.
«Джихад! О, Боже…. Ну конечно, джихад!»
Он понял то, что уже третью неделю не давало ему покоя. Мелкие, разрозненные, так мало на первый взгляд значащие факты вдруг сплелись воедино, образуя между собой стройную логическую связь. И обрывок случайно услышанной фразы из беседы Феофана с императором: «…. если они готовы пожертвовать нами, тогда мы отдадим их Азии»; и большое количество денег, по частям переправленное неизвестным людям в Эдирне; и гонцы, рассылаемые в страны Запада и Востока; и папский легат, тайно гостивший несколько дней назад в Константинополе — всё это сразу получало объяснение.
Джихад и крестовый поход. Крест против полумесяца.
Коль скоро прямые призывы не приносят пользы, в ход идут скрытные методы управления людьми. И в то неспокойное время, когда государи на престолах не задерживаются надолго, верховные посты заняты временщиками, а ужасы недавних войн еще свежи в людской памяти, вызывая жгучее желание отомстить, поквитаться с обидчиками, загнанное вовнутрь напряжение, как кипяток в свинцовом шаре, неизбежно найдет себе выход. Порой достаточно искры, чтобы разжечь грандиозный пожар войны двух религий.
Вести о крестовом походе легко провоцируют слухи о начале джихада, умело подброшенные доказательства и факты довершают начатое. Священнослужители обеих сторон разразятся зажигательными речами; толпы голодных, забитых, невежественных людей увидят наконец желанный образ врага. Вспыхнут праведным гневом и давая волю накопившимся страстям, начнут распаляться яростью и в открытую вооружаться. Правители, уступая требованиям вассалов, алчущих военной добычи и наград, вынуждены будут набирать добровольцев в армии, подтягивать войска к границам сопредельных недружественных стран. Дойдя до определенного этапа, государи, эти зачастую подневольные пастыри народов начнут терять контроль над ходом событий и чтобы хоть как-то удержать ситуацию в узде, предпримут шаги, после которых возврат к прежнему равновесию уже будет невозможен. Обуздать бурный поток возможно лишь перенаправив его в нужное русло. И когда эти силы, растормошенные и питаемые внутренним брожением, сойдутся насмерть в борьбе до победного исхода, первоначальные цели утратят ценность.
Константинополь, достаточно хорошо укрепленный и подготовленный к осаде, в подобном случае надолго останется в стороне. При благоприятных обстоятельствах можно даже попытаться вернуть себе утраченные земли, восстановив хотя бы часть распавшейся грекоязычной империи.
Алексий глубоко вздохнул и прижался лицом к гриве коня. На пристани суетился народ; рыбаки снаряжали лодки, тащили на плечах связки сетей и длинные, потемневшие до бурого цвета весла; прогуливались в обнимку вдоль набережной моряки и женщины, чьи волосы были выкрашены хной в ярко-рыжий цвет, а голоса и смех визгливостью напоминали крики чаек; спешили по своим делам ремесленники и уличные торговцы с коробами за спиной; заунывными блеющими голосами тянули нищие свои нескончаемые жалобы. Никто не обращал внимания на статного воина, который стоял, спрятав лицо в конской гриве. Чуть позже он медленно запрокинул голову к небу и замер, глядя вверх, за облака. Его губы чуть шевелились — он молился. Он благодарил Всевышнего за выпавшую ему великую честь, за честь служить Феофану Никейскому.
Он еще не успел узнать, что день назад к Феофану прибыл гонец с донесением о том, что султан, сразу после визита к нему великого визиря, отсрочил свое почти уже принятое решение о джихаде, а потом и вовсе отменил его. Спустя определенное время том же узнали папский двор и королевские дома Европы.
Призрачная надежда умерла, не успев родиться.
Константинополь вновь остался один против готовящейся к новым завоеваниям Азии.
ГЛАВА XVI
На первый взгляд приземистый двухэтажный особняк немногим выделялся среди прочих строений. Однако стены, массивнее обычных, ряд зарешеченных окошек-бойниц, до которых едва ли мог дотянуться рукой высокого роста человек и каменный бруствер с зубцами по краям плоской крыши вызывали сходство с крепостным бастионом. Выстроенное столетие назад, во времена мятежа плебса, здание смотрелось достаточно надежно и сейчас, но даже это не остановило византийского нобиля, вместе с семьей покинувшего свое родовое гнездо еще в начале прошлого года.
Пустое и вместительное строение приглянулось вожаку наемников. Изгнав из его стен десятка два бродяг и нищих, Джустиниани разместил в нем свой штаб, отдав левое крыло под казарму, а правое — под конюшни и оружейный склад. На крыше дома и у ворот были выставлены часовые; деревья и кусты вокруг дома для лучшего обзора вырубили под корень; ставни окон первого этажа наглухо заколотили досками.
Некоторое время спустя часть комнат, облюбованных Джустиниани и его офицерами, пришлось освобождать — сведшая близкое знакомство с генуэзцами, Ефросиния не желала более оставаться в своем прежнем жилище возле Форума Тавра.
Ошибся бы тот, кто счел бы ее поступок прихотью избалованной женщины или тягой к новым ощущениям. И не был бы прав, предполагая лишь корыстный расчет. Родовитый номарх Лука Нотар, владелец обширных поместий на материке и на островах, мог дать несравненно больше бродячего кондотьера, за плечами которого была лишь доблесть, перемноженная на славу. На этот шаг гетеру толкнуло нечто иное и основной тому причиной был страх, чувство беззащитности и постоянное, сводящее с ума ожидание расправы. Подосланный к ней юноша, едва не задушивший ее насмерть, обещал вернуться и она была более чем уверена — он сдержит свое слово. А если так, и мегадука не в силах ей помочь, не лучше ли ускользнуть от судьбы, спрятавшись за могучей, как бы вытесанной из грубого камня спиной кондотьера, шутя перерубающего бревно одним ударом своей секиры?
Только Лонг с его зарядом самоуверенности и бьющей через край энергией, как лев бесстрашный и неукротимый, мог заглушить в ней ноющую смертную тоску. Она поверила в него, пошла за ним безропотно, как невольница, с каждым днем все более проникаясь силой духа этого человека, к слову которого прислушивался даже сам император.
Ефросиния приблизилась к окну и сдвинула в сторону плотные шторки. Замкнутое пространство внутреннего двора не радовало глаз, скорее наоборот, способно было ввергнуть в уныние. Прямо в центре, в кругу запущенных кустов роз, темнело углубление небольшого бассейна с круглой каменной чашей посередине; на его дне, на слое рассохшейся грязи, горбилась наметанная ветром куча желтых прошлогодних листьев и мелкого мусора. Две статуи, все в паутине мелких трещин, с въевшейся в поры мрамора серой пылью, в безмолвном желании тянули друг к другу обломки давно перебитых рук. И от той нерастраченной страсти, еще теплящейся во встречном движении двух искалеченных каменных тел, от пересохшего бассейна и чахлых кустов вокруг, возникало щемящее душу ощущение заброшенности и запустения.
Неподалеку от статуй, на деревянной скамье, сидел один из адъютантов Лонга и по-собачьи преданно не сводил глаз с окон второго этажа. Ефросиния досадливо передернула плечами и опустила шторку: это молчаливое обожание начинало прискучивать ей. Почему бы этому юнцу с заостренным, смешно вытянутым вперед лицом не понять тщетности своих мечтаний? Он не нужен ей, как не нужны и все прочие, неспособные дать то, что ей действительно необходимо — покоя и легкости бытия.
— Джустиниани, Джустиниани, — несколько раз задумчиво произнесла она.
В силах ли он не только пообещать, но и сдержать слово хотя бы на обозримый срок?
— Однако, где же он?
Лонг запаздывал. Она взглянула в окно: судя по тускнеющим облакам, солнце клонилось к закату. Ефросиния взяла из вазы лепесток пастилы и надкусила его. Рот тут же наполнился вязкой сладостью. Непрошенные мысли теснились в голове, вызывая тревогу и беспокойство.
Уж не кроется ли за медлительностью генуэзца близкая пресыщенность? Едва ли. Ефросиния была уверена в силе своих чар на мужчин, умело использовала накопленный опыт и знания, чтобы приблизить, привлечь на свою сторону тех, на кого можно было бы положиться в трудный час.
Она прошлась по комнате, остановилась перед зеркалом и внимательно рассмотрела себя. Поправила прядку волос, выбившуюся из прически, разгладила несколько несуществующих складок на платье, вздохнула и отошла прочь. Выхватила из кресла пригревшегося там котенка и стала машинально гладить и тормошить его. Недовольно пища, котенок отбивался. Затем выпустил когти и довольно сильно царапнул в ладонь.
— Ах, негодный!
Коротко взмяукнув, котенок полетел вверх тормашками. Ефросиния легла на софу и оперла подбородок на скрещенных руках.
От ворот послышались голоса и цокот копыт. Она приподняла голову и прислушалась.
— Эй, где ты там! Заснул?
— Отворяй, бездельник! Не заставляй нас долго ждать.
— Синьор, на виселицу часового! Этот негодяй осмелился не сразу признать вас!
Звон копыт проник в дворик, слегка поутих и звуча уже в замедленном ритме, стал удаляться в сторону: лошадей уводили в крытые стойла. Возбужденный гомон разбился на отдельные голоса, и по мере того, как ландскнехты расходились на ночлег, звучал все глуше и неразборчивее. Еще недавно малолюдный двор быстро оживал: запахло разогреваемой стряпней, в окнах заплясали огоньки свечей и масляных ламп, вдоль крытых галерей замелькали тени, где-то с грохотом повалилось составленное в пирамиду оружие.
Зычный бас Джустиниани, подобно дальним раскатам грома уже слышался в конце коридора. Ефросиния ждала, не поднимаясь с дивана. Шаги приблизились, смолкли за дверью, которая тут же стремительно распахнулась перед кондотьером.
— Ефросиния, ты спишь? Почему в комнате такая темень? — услышала она.
— Свечей! — рявкнул Лонг, поворачиваясь к двери.
— Не надо, оставь, — женщина поднялась и приблизилась к окну.
— У меня разболелись глаза.
Лонг обогнул кресло и с размаху уселся в него. В глубине сидения что-то коротко треснуло.
— Бедняжка, — от души посочувствовал он. — И у меня в глазах какая-то резь. Весь день в пыли и под солнцем, а тут еще греки вздумали опробовать свои бомбарды. Пришлось наглотаться дыма, растолковывая им правила точной наводки.
Он оглушительно захохотал.
— Византийцы отважны духом, но уже успели слегка отвыкнуть от оружия. Вот потому-то им и приходится сейчас многое наверстывать.
Кондотьер энергично потер ладонью онемевшие мышцы шеи.
— Святая Дева тому порукой: сегодня я устал больше обычного.
Вошел слуга с двумя канделябрами в руках. За ним, толкая столик на колесах, мелко семенила мулатка Ефросинии. Лонг подхватил с золоченого блюда большой кусок холодного мяса и жадно вгрызся в него. Мулатка подняла кувшин с вином и наклонила его над кубком кондотьера.
— Прочь, женщина, — проворчал тот с набитым ртом. — Не прикасайся к кувшину. Вино должно разливаться руками мужчин!
Ефросиния подошла и села в кресло напротив.
— Ты предпочитаешь наливать себе вино сам? Зачем? Ты можешь позвать слугу и приказать ему сделать это.
Лонг только отмахнулся.
— Любовь моя, мы не в царской трапезной среди напыщенных вельмож. За этот день такое количество людей промельтешило у меня перед глазами, что теперь назойливость прислуги лишь начинает докучать. Да и потом, привычки старого солдата…..
Женщина покачала головой.
— Не забывай, Джованни, ты не просто солдат, а второе лицо в государстве после василевса.
Кондотьер вновь расхохотался.
— Что верно, то верно! Но только до поры до времени. Вскоре после того, как мы пинками под зад погоним турок от стен города, твои соплеменники найдут способ отделаться от меня и моего отряда.
— И ты так спокойно относишься к этому?
— Как же иначе к этому относиться? Уповая на силу и прошлые заслуги, требовать себе высших постов при дворе? А затем, сменив доспехи на мантию с пурпурной каймой по краям, до конца своих дней вариться в похлебке из чужих интриг? Нет, эта участь не по мне!
Ефросиния не сводила с него глаз и под ее пристальным, выразительным взглядом Лонгу стало слегка не себе. Он что-то буркнул себе под нос, налил еще вина, но не спешил подносить его ко рту.
— Это похвально, — медленно, с расстановкой произнесла она.
В ее голосе прорезались нотки снисходительного сочувствия.
— Скромность в желаниях красит больше скромности в поступках. Но все же плохо, если и остальные не станут заблуждаться на твой счет.
В Лонге начал закипать гнев.
— О чем ты толкуешь? — загремел он, стукнув кулаком по столу.
— Я никому не позволю заблуждаться на мой счет!
— Вот к этому-то я и веду, — пожала плечами женщина. — Когда они поймут, что смогут обойтись без твоего отряда, тебе не видать даже того немногого, что было обещано вам, генуэзцам, за участие в войне.
— Ну, это будет не так-то просто сделать, — проворчал Лонг.
Он перегнулся через стол и дотронулся до ее колена.
— Послушай, Ефросиния, мы уже не раз говорили с тобой о дальнейшем. К чему же повторяться? Ты знаешь, я заключил договор с самим императором, что за определенную плату я обязуюсь в течении года помогать византийцам в отражении турок. И если это увенчается успехом, в чем я ничуть не сомневаюсь, мне обещано пожизненное губернаторство на острове Лемнос.
— Не много же за спасение Империи!
— А что посоветуешь, просить Константина поделиться престолом? Послушай, дорогая, я солдат, а не мечтатель. И синица в руке для меня в стократ дороже журавлиных стай в небе.
Он отпил из кубка и утер рукой усы.
— Еще не так давно ты была в восторге от одного упоминания о Лемносе. И вдруг какие-то непонятные речи…..
Внезапно недобрая мысль пришла на ум кондотьеру. Лицо его побагровело, глаза налились кровью. Он резко подался вперед и схватил ее за запястье.
— Уж не вздумала ли ты подыскать мне замену?
Ефросиния в упор взглянула на него и пальцы Лонга невольно разжались.
— Нет, Джованни, я не думала об этом, — мягко произнесла она. — Прости, что разгневала тебя своими словами. Но если бы ты только знал, как невыносимо целыми днями сидеть взаперти и постепенно дичать, отвыкая от человеческих лиц и голосов!
Лонг недоуменно пожал плечами.
— Но кто же виноват в этом? Ты сама, опасаясь мести Нотара, заточила себя в этих стенах. Карета, лошади, сопровождение — все к твоим услугам, скажи только слово. И если кто-нибудь осмелится бросить вслед хотя бы один обидный выкрик, я сотру его в порошок, невзирая на всякие там сословия!
Гетере не требовалось многих усилий вызвать слезы на глазах. Она притворно всхлипнула и умоляюще взглянула на Джустиниани.
— Ты допоздна пропадаешь на городских стенах….. Я здесь одна, я так боюсь….
— Кого, Нотара? — Лонг приподнялся, опираясь на подлокотники кресла.
— Нет, нет. Не его, — как бы в отчаянии она крутила головой. — Я боюсь всего. Эта близкая война…. Как подумаю, сжимается сердце. Я знаю, я чувствую — Константинополь не устоит!
Она вскочила на ноги. Смятение стало уже непритворным.
— Что будет со мной, когда придут турки? Я не желаю оказаться в гареме какого-нибудь жирного паши! Не хочу видеть тебя израненным и умирающим!
Она схватила его за руки.
— Бежим, Джованни! Бежим, пока еще есть время. Ромеи не посмеют остановить тебя. А твои солдаты? Ты же относишься к ним, как к своим детям. Так подумай и об их жизнях!
Она рывком отстранилась и зашагала по комнате.
— У меня есть деньги, драгоценности. И у тебя небольшое состояние. Купим поместье высоко в горах, подальше от сырости моря и смрада людских страстей!
Бульканье переливаемой жидкости заставило ее смолкнуть и повернуть голову. Джустиниани поднял кубок и вновь омочил губы в нем.
— Хорошее вино, — одобрительно произнес он.
И подняв глаза, добавил:
— Дорогая, сколько же в тебе огня!
Возбуждение, охватившее Ефросинию, схлынуло. Она обмякла, подошла к софе и без сил опустилась на нее.
— Мои слова лишь сотрясают воздух, — с горечью произнесла она.
— Да, — тон сказанного Лонгом был сух и категоричен. — И впредь пусть сотрясают воздух в мое отсутствие. Пойми наконец, я дал слово и я сдержу его. Ты же уговариваешь меня поступиться честью солдата и дворянина. Для меня мое имя, не в пример многим, не пустой звук.
Он взглянул на съежившуюся женщину и несколько смягчился.
— Если ты не в силах выносить ожидание, я дам надежных людей в попутчики и с первой же проходящей галерой отправлю тебя в Геную, в дом моего близкого друга. Там ты будешь в полной безопасности до самого конца войны. Подумай над моими словами.
— Подумаю, — покорно согласилась она и поднялась на ноги.
— Море…. штормы…. пираты… Это и есть обещанная тобой безопасность?
Она повернулась к двери.
— Куда ты идешь?
— В свою опочивальню. Я устала, этот день был полон для меня переживаний.
Лонг вскочил с кресла.
— Ну нет! Так просто ты не уйдешь!
Он обхватил ее за плечи и вплотную приблизил к ней лицо. На губах заиграла плотоядная улыбка.
— Ты впорхнешь туда только в моих объятиях.
Легко, как ребенка, он подхватил ее на руки, толчком ноги распахнул дверь и понес к широкому ложу под шелковым балдахином. Отливающие золотом складки ткани, тяжело шурша поплыли вниз, превращая кровать в подобие шатра. Шитые узорной бязью, полотняные стены заколыхались и стали ритмично покачиваться в такт движениям находящихся внутри людей.
— Позови мою служанку, — послышался оттуда приглушенный голос.
— Не место ей здесь. Я — твоя самая преданная и расторопная служанка.
— Осторожно, неуклюжий! Ты порвешь мое платье.
— Я куплю тебе десять, сотню новых платьев!
Раздался треск рвущейся материи.
— Ты, зверь… отпусти меня….Нет, сожми меня крепче. Крепче!
— Как много тряпок на тебе….
— Сейчас, подожди…. Вот так…. Ну же…. Еще, еще!
Вертикальные столбы под пологом ходили ходуном, раскачиваясь как мачты в шторм, до тех пор, пока любовная схватка за шелковым пологом, достигнув своего апогея, не стала затихать.
Обессилев, любовники еще долго не могли отдышаться. Первой заговорила женщина.
— Ты никуда не уйдешь отсюда! Ты слышишь? Я никуда тебя не отпущу. Посмей еще раз при мне заговорить о турках!
— М-м-м…? — послышалось в ответ невнятное бормотание.
— Ты уже спишь?
Ефросиния приподнялась на скрученных и измятых простынях и перев локоть в подушку, положила лицо на ладонь. Долго и внимательно она рассматривала еле видные в темноте черты лица лежащего рядом с ней человека. Мощные надбровные дуги, мясистый нос с горбинкой и утолщенным основанием, две глубокие морщины, отходящие от ноздрей и утопающие в курчавой бороде на крепкой, выпяченной вперед челюсти — всё говорило о взрывчатой силе, распирающей изнутри телесную оболочку Джустиниани.
«Все же я не ошиблась в выборе», — думала она, сравнивая генуэзца со многими другими, делившими с ней постель, любовные утехи и свое состояние.
«Он будет заботиться обо мне до тех пор, пока я не вырвусь из этого гнусного болота. А уж там, в его родной Италии, не составит большого труда отделаться от него!»
ГЛАВА XVII
Сатрап султана, владыка Западного бейлика, Караджа-бей первым начал войну с Византией. Двинув в поход треть войска, собранного на землях Румелии, он осадил те немногие крепости, еще находящиеся под властью Византии.
Города Месемврия, Анхиал и Визон, окруженные головными отрядами османских войск, не надеясь более на помощь из Константинополя, открыли ворота неприятелю. Вслед за ними, после долгого торга, сложил оружие и гарнизон города-крепости Эпиват. Только Силимврия наотрез отказалась подчиниться. Ее древние стены оказались достаточно крепким орешком — несколько приступов были успешно отражены и Караджа-бей предпочел отказаться от дальнейшего штурма. Перекрыв выходы из города сильными отрядами, он предоставил защитникам на досуге размышлять о своей незавидной участи, а сам тем временем поспешил к берегам Босфора: надо было овладеть дорогами, ведущими в столицу Византии и должным образом подготовить их для прохождения войск.
Немногочисленный византийский флот, подкрепленный судами с греческих островов, начал ответные действия. Прибрежные районы Восточного бейлика запылали в огне. Из разоренных селений угоняли пленных и скот, жгли леса, губили посевы и виноградники. Время от времени экипажи ромейских галер устраивали охоту на рыбацкие челны иноверцев: окружив, сгоняли лодки в плотную кучу, затем топили, подминая тяжелыми корпусами хрупкие скорлупки рыбаков.
Но эти набеги являлись лишь актом мести за утерянные города — остановить нашествие турок было невозможно. До выступления в поход обеих частей османской армии оставались считанные дни.
Птичий щебет наполнял парк вокруг усадьбы Палеолога. В кристально-чистом, прозрачном воздухе зависло ощущение свежести и покоя; влажно и терпко пахло весной, неторопливо-медленным пробуждением природы от зимней спячки.
Сырая земля проклюнулась зелеными лучиками молодой травы, пока еще не совсем уверенно протискивающей свои гибкие побеги сквозь тонкий слой опавшей листвы. Ветви деревьев набухли шишковатыми наростами почек, через полопавшуюся оболочку которых боязливо выглядывали наружу нежные бело-розовые лепестки цветов. Воробьи и скворцы возбужденно прыгали по ветвям, отряхивая вниз уныло повисшие прошлогодние листья и хрупкие завитушки отмерших сучков.
Небольшая лужайка с единственной отходящей от нее аллеей оживлялась голосами и смехом, слегка приглушенными частоколом массивных древесных стволов. Плетенные ивовыми прутьями, садовые кресла были сдвинуты в круг и прогибались под тяжестью сидящих в них людей. У края лужайки, под кроной столетнего дуба, мерно поднимались и опускались качели; мелодичное позвякивание цепей напоминало далекий перезвон колокольчиков.
Полуобернувшись к Алевтине, Роман время от времени подправлял сидение качелей, стремящееся уйти в своем движении от прямой, а то и вовсе закрутиться вокруг своей оси. Часто переглядываясь, они с улыбками прислушивались к шутливой перепалке, разгоревшейся среди молодежи, устроившейся в креслах под навесами из легкой белой парусины.
— Стоит мужчинам собраться вместе, как они тут же заводят разговор о войне, — надув пухлые губки, произнесла Ирина, дочь нобиля Георгия Калинисса.
— Да, да, — подхватила ее сестра-двойняшка Анна. — Как-будто другой темы для разговора и сыскать трудно.
— И хвалятся при этом так, что даже замшелые камни, заслышав их, краснеют от стыда, — насмешливо произнесла Елена, дальняя родственница Алевтины.
Конюший императора, Анастасий Малин, укоризненно покачал головой.
— Сударыни, как можно? Неужели мы и впрямь так похожи на занудных солдафонов-пьянчуг?
— Как бы там ни было, мы наводим тоску на прекрасных дам — вмешался Франческо.
— За это нам нет и не может быть прощения!
Он повинно закачал головой.
Двое адъютантов кондотьера Джустиниани, Франческо и Мартино, были весьма польщены приглашением дочери Палеолога, и оказавшись в кругу молодой византийской знати, старались произвести выгодное впечатление на окружающих.
— Не надо казнить себя так, любезный Франческо, — несмотря на прохладную погоду, Елена томно обмахивалась веером. — Ведь может быть и наоборот — это мы наводим на вас скуку.
— Помилуйте! Как только такое могло прийти вам на ум? Если вас приводит в недоумение меланхоличный вид моего друга Мартино, то не стоит обращать на это внимания: он частенько напускает его на себя для пущей важности. Но поскольку сегодня он перешел все допустимые границы, то я, похоже, брошу ему вызов на дуэль и прямо на ваших глазах безжалостно заколю его.
— О, как вы жестоки!
— Да, да, именно так! Я буду колоть его вновь и вновь, до тех пор, пока он не образумится и не утратит своей отрешенности.
— Ну, что вы! У мастера Мартино вид совсем не отрешенный. Чего нельзя сказать о вашем другом друге.
— Вы говорите о Романе? — Франческо недоуменно посмотрел в сторону качелей. — Я как-то не замечал…. Хотя, вполне возможно, и у него могут найтись для этого свои причины.
— Ах, нет. Вы отлично знаете, о ком я говорю. Я имею в виду Лоренцо, которого вы так смешно называете. Мышонком, кажется? Не далее как на прошлой неделе он промчался на коне мимо моих носилок и даже не повернул головы в мою сторону.
— Вот оно что! Вы правы, очаровательная Елена. Бедный Крысуля не только выглядит со стороны как очумелый, но, похоже, в ближайшее же время действительно станет таким.
— С ним произошло большое несчастье, — кусая губы от сдерживаемого смеха, заявил Мартино.
— Несчастье? Какое же? — озадачено сдвинул брови Феодор, младший сын эпарха.
— Он влюбился! — Франческо, подобно драматическому актеру в театре, воздел руки к небу.
Мартино глянул на него и зашелся в хохоте.
— Но в чем же тогда заключено несчастье?
— Они, наверное, просто завидуют, — предположила Анна.
— Упаси нас Боже! Несчастье же в том, несравненная Анна, что этот бедолага избрал не совсем удачный объект для своей страсти.
— Какая-то знатная дама?
Мартино громко хмыкнул. Франческо, наоборот, стал очень серьезен.
— Знатная дама? Пожалуй. Хуже всего, что эта дама пользуется расположением самого Джустиниани Лонга, под началом которого и служит Лоренцо.
Анастасий многозначительно присвистнул. Франческо продолжал:
— Мой же кузен, как известно, весьма недолюбливает любого рода соперников. И если эта самая дама соизволит бросить хотя бы один благосклонный взгляд в сторону несчастного воздыхателя, с ним случится непоправимое.
— О, ужас! Неужели ваш брат убьет его?
— Хуже, любезная, гораздо хуже.
— Хуже? Я не понимаю.
— Мой беспощадный кузен сотворит с беднягой такое, что перед Крысулей без опаски смогут распахнуться двери султанского гарема.
Мартино взвыл от хохота и без сил откинулся на спинку кресла. Сестры переглянулись и слегка покраснев, с возмущением уставились на бесстрастное лицо Франческо.
— Какая пошлость! — произнесла одна.
— Мы и подумать не могли, что вы в состоянии сказать т а к о е, — вторила ей другая.
— Сударыни, я каюсь. Вырвите мне язык и бросьте его на съедение псам!
— Участь, столь же незавидная, как и у Крысули, — подкинул со своего места Роман.
Сестры вновь переглянулись, нахмурили было изящно очерченные брови, но не сдержавшись, дружно прыснули.
— Наш Крысуля, то бишь Лоренцо, исхудал и спал с лица, — отдышавшись, заявил Мартино. — Щеки ввалились, глаза горят, как два огонька. Не ест, не пьет. Ходит, уставившись в облака. Наверное, стишки сочиняет.
Он вновь развеселился.
— Она старше его? — осведомилась Елена.
— О да, моя госпожа. Что-то около пяти-шести лет.
Ирина скорчила очаровательную гримаску.
— Мне жаль мужчин. На них так часто находит непонятная блажь.
— И всегда они готовы мечтать о недоступном, — подхватила ее сестра.
— Вы правы, сударыни. Тем более что мой кузен не нашел ничего лучшего, чем приставить Крысулю, то бишь Лоренцо телохранителем к этой даме. Смею вас заверить, ни одна святыня в мире не оберегается с тем же усердием.
— Представляю! Бедняга, должно быть, совсем потерял голову, — смеясь, воскликнула Елена.
— Я не могу понять, как можно потерять голову при виде красивого личика, — хмуро пробасил Феодор, демонстративно пожимая широченными плечами.
— Молчите, несносный, вам-то это и впрямь не дано!
— Это уж точно. Моя голова всегда при себе.
— Вот и носите ее себе на здоровье, — Елена досадливо передернула плечами.
Разговор на мгновение прервался. Двое чернокожих слуг внесли на поляну и установили между сидящими столик с расставленными на нем серебряными приборами, напитками и вазами со свежими фруктами.
Над лужайкой вновь зазвучали смех и веселые выкрики. Расшалившись подобно девочке, Елена бросала в Анастасия черенками ягод, а он с забавной гримасой на лице, перехватывал их на лету и тут же посылал обратно. Сестры-близнецы полушутливо перебранивались с Феодором, в то время как Франческо и Мартино, приняв сторону нескорого на язык византийца, с притворной запальчивостью защищали его.
Роман попридержал качели и подал руку Алевтине. Воспользовавшись тем, что внимание окружающих замкнулось на них самих, он увлек девушку в глубину парка. Когда лужайка скрылась за стволами деревьев, Алевтина взяла его под руку и прильнула головой к его плечу.
— Мы стали редко видеться, — в ее голосе прозвучал мягкий упрек.
— Кляну себя за каждый день, проведенный вдали от тебя, — отвечал Роман.
— Неужели так много хлопот на стенах города?
— Больше, чем ты можешь себе представить, прекрасная Алевтина. Дела съедают почти все мое время. Лишь под вечер я возвращаюсь к себе, сам не свой от усталости. Смешно сказать, но слова «галерный каторжник» перестали быть для меня пустым звуком.
Он невесело усмехнулся.
— Увы, я не двужильный. Теперь-то я осознал это хорошо. Но все же приятно сознавать, что и мои старания вносят вклад в общее дело.
Алевтина кивнула, полуотвернув голову в сторону.
— Я почти перестала видеть отца, — произнесла она. — Только в поздний час, когда уже готовлюсь отойти ко сну, я слышу звуки шагов у порога и его усталый голос.
Помолчав, она продолжила:
— Временами мне страшно думать, через какие испытания придется нам всем пройти.
— Всевышний на нашей стороне, — Роман привлек девушку к себе и прильнул губами к ее шее. — Он не оставит нас в беде.
— Да, да, — она крепко обхватила его руками.
Их губы слились в долгом и страстном поцелуе.
— Мой друг, ты даже представить себе не можешь, как мы признательны тебе!
Миновав ворота усадьбы, Франческо по-дружески положил руку на плечо Романа и высоко запрокинул голову.
— Не делай удивленного лица, ты знаешь, о чем я говорю. Ведь это ты подсказал дочери Палеолога, прекрасной Алевтине, пригласить нас на это приятное времяпровождение.
Роман согласно кивнул головой.
— Не скрою, я. Приятно прийти к даме своего сердца в сопровождении друзей.
— Вот за эти слова я готов отлить тебе памятник из бронзы. Нет, Мартино, не из золота — оно давно позабыло путь в наши карманы. Что же касается серебра, то лучше мы потратим его на хорошее вино. Кстати, вот уютная корчма и знакомый трактирщик делает нам весьма выразительные жесты. Ну как не откликнуться на такое приглашение?! Лично у меня не хватает сил ответить холодным отказом. Вы только посмотрите, как призывно распахнуты двери, как игриво мигают слюдяные глазки ее окон! Не упрямься, Роман, не то Мартино не достанется ни капли. А это очень скоро убьет его. И поделом! Ты удивлен моими словами, Мартино? Разве ты забыл, что Константинополь — город честных людей и не сдержавшим своего слова уготованы здесь трезвые ночи и вечносухая глотка? Какое твоё слово не сдержалось, ты спрашиваешь у меня, Мартино? Кто обещал мне волочиться только за одной из двух сестер, Анной или Ириной, без разницы — они с лица как две капли воды — а моргал обоим сразу? Так натрудил себе глаза, что теперь они у тебя красны, как у кролика.
— Ты несправедлив, Франческо, — оправдывался Мартино. — И жесток, как десять янычар. Разве я виноват, что от такой красоты глаза у меня разбегались, по одному на каждую сестру.
— Молчи, плут! Жадность — всего лишь один, но отнюдь не единственный твой порок. А вот и наше вино! Трактирщик, ты клянешься, что оно из самых лучших?
— Другого такого не сыщешь во всей округе, господин.
— Врешь! Стоит мне по следу пустить Доменика и он хоть из под земли, но достанет бочонок тончайшего амотильядо. Ты, верно, о таком и слыхом не слыхал.
— Вокруг только и разговоров, — произнес Роман, пригубив из кубка, — что турки зашевелились. На окраинах, в приграничных областях уже идут бои.
— Ну да, — отозвался Мартино. — Потеплело, вот и зашевелились. Очухались от спячки, повыползали из своих нор, как жуки там всякие и сколопендры. Успевай только давить их подошвами.
— Молодец, — Франческо одобрительно потрепал друга по плечу. — И это после первой-то чаши вина! Послушаем, что ты скажешь нам после третьей, пятой.
— Мне говорили, что ты мог сделать неплохую карьеру при дворе миланского герцога, — как бы между прочим спросил Роман. — И даже в скором времени стать офицером его личной гвардии. Ты не жалеешь, что приехал сюда, в Константинополь, на войну, которая непосредственно не затрагивает тебя?
— Не жалею ли я? — помолчав, ответил генуэзец. — Ты задал хороший вопрос, мой друг и я с удовольствием на него тебе отвечу.
Видишь ли, сожалеют обычно о том, что оставили вдали от себя, с чем вынужденно расстались. А с чем расстался я? С карьерой при дворе миланского герцога? Да пропади она пропадом! Никогда не был паркетным шаркуном и никогда им уже не стану. Что я потерял в Генуе, а? Скажи! Ты ведь сам прожил там много лет. Сытый купеческий городишко, полный спеси и предрассудков. Кем мы были там, ты, я, Мартино? Мальчишками-переростками, гоняющимися за каждой юбкой и затем похваляющимися друг перед другом победами над этакими неприступными сердцами всех этих горничных и белошвеек. Да, да, не хохочи, Мартино, мы действительно воображали тогда себя настоящими мужчинами и чтобы утвердиться в собственных глазах, устраивали между собой потешные дуэли, в которых школярского озорства было больше, чем искреннего желания возмужать. А уж если получали в поединке хотя бы пустяковую царапину, ходили героями и гордились ею, как ранами, добытыми в тяжелом и праведном бою. Шкодство заурядное, да и только! Здесь же, мой друг, мы свободны и счастливы. Здесь мы — воплощенная идея рыцарства, мужи и герои, грудью вставшие на защиту праведности и веры, на стороне слабейших против угнетателей. Это я читаю во взгляде каждого встречного, пусть даже того, кто еще не далее как вчера считал меня всего лишь любопытствующим иностранцем, авантюристом, жадным до денег наймитом. И от этого всего, от этой теплоты и доверия во взглядах, я чувствую себя полным сил и готов на все, чтобы оправдать надежды тех, кто еще не утратил способность верить.
Он помолчал и неохотно добавил:
— Хотя, конечно, не все разделяют мои чувства. Взять к примеру Мартино. Прекрасный друг, с отважным сердцем и крепкой рукой. Но в душе у него пустота и желание поудачнее сорвать день. Я не прав, дружище?
— Что? Что ты сказал? — повернул к нему голову Мартино. — Я не расслышал.
Роман рассмеялся.
— Вот видишь, — пожал плечами Франческо. — Он и не слышал ничего из нашего разговора. И знаешь, почему? Да только лишь потому, что вовсю строил глазки той самой смазливой служанке с кувшином в руках.
— Мартино! Путаны! — рявкнул он вдруг, вытягивая руку в сторону двери.
— А? Где? — встрепенулся его напарник.
— Что еще добавить? — развел руками Франческо. — Это всё, что сейчас его интересует.
Роман смеялся до слез.
— Постой, Франческо, ты сказал, что видел путан, — теребил товарища за рукав Мартино. — Куда эти девки подевались?
— Станут они тебя дожидаться, — отмахнулся тот. — Проверь там, за порогом.
Но не успел молодой итальянец пуститься вдогонку, как в дверях послышались громкие голоса, топот и звон шпор. Трактирщик поспешил навстречу новым посетителям.
— Туркам следовало бы поучиться у генуэзцев брать штурмом ромейские трактиры, — крикнул Франческо, поворачивая голову на шум.
Вошедшие на мгновение остановились.
— Ба! Да это никак Франческо и Мартино!
— Ты удивлен? Ха! Было бы странно встретить их в каком-нибудь другом месте. Разве что в приюте для кающихся блудниц!
— Присоединяйтесь к нам, — проговорил Мартино слегка заплетающимся языком. — У нас хорошо…. лучшее вино в округе….
Он рухнул обратно на табурет.
Под веселый шум и гомон, под звон сталкиваемых чаш и громкие здравицы, воскресный вечер медленно угасал.
Почесывая внушительный живот, начальник гарнизона Анкары покинул свою опочивальню. Откуда-то сбоку, как из-за засады, вынырнул дежурный офицер и мелко кланяясь, приблизился к бею.
Недовольно хмурясь (спешка никогда не была в чести у восточных вельмож), бей выслушал донесение.
— Как ты сказал? — раздирающая рот зевота разом исчезла. — Войска нашего повелителя пришли в движение?
Юзбаши подтверждающе закивал головой.
— Суета вокруг палат санджак-беев была отмечена сразу после первых петухов.
Бей взволнованно заходил по комнате.
— Похоже, Исхак-паше доставлен приказ султана о немедленном выступлении в поход. Слава Аллаху, настает время действий! Наконец-то наш город будет избавлен от соседства войск. Стыдно признаться, но я давненько ощущаю себя как в осажденной крепости.
— А что в полку янычар, — он обернулся к сотнику, с надеждой ожидая ответа.
— Может и они…?
Тот отрицательно покачал головой.
— Ничего нового, господин. Под вечер была разгромлена еще одна лавка виноторговца и все это время….
— Можешь не продолжать. Хоть караул на ночь они выставили?
Юзбаши ухмыльнулся.
— Выставили, господин, выставили. Выбираясь в полночь из казарм, наш соглядатай споткнулся об одного из караульных, упал и расшиб себе колено.
— А часовой так и не проснулся? — высказал догадку бей.
— Нет, господин, проснулся. Но очень долго искал свою саблю.
Комендант повернулся к окну и с плохо скрытой неприязнью взглянул в сторону казарм султанской гвардии.
— Любому из своих солдат, уснувшему на посту я самолично отрубил бы голову.
— Да, господин.
— Вели седлать лошадей и поскорее. Я прямо сейчас отправляюсь ко двору Исхак-паши. Надо разведать планы нашего достойнейшего господина. И слуг зови, пусть несут мой новый шелковый халат, пожалованный мне самим султаном!
Неисчислимые, подобно косякам мигрирующих рыб, медленно и целеустремленно потянулись вдоль дорог Анатолии потоки людей и животных.
Время для похода было выбрано крайне неудачно — весна еще только начинала вступать в свои права. Кочевники недоуменно качали головами: выступать в набег, когда земля еще не способна прокормить даже лошадей, казалось им по меньшей мере неблагоразумным. Но увлекаемые общим течением, они шли подобно прочим, предвкушая в воображении щедрую награду за участие в походе.
Погода за сутки менялась по несколько раз. То и дело налетали холодные северные ветра и небо застилалось серой пеленой облаков, превращающей день в подобие сумерек. Когда же тучи рассеивались, слепяще-яркое солнце начинало поднимать с земли белесые дымки испарений, возвращающихся под вечер в виде дождя или всепроникающего тумана. Пропитанная влагой земля, еще покрытая местами клочьями подтаявших сугробов, превращалась под бесчисленным множеством ног в полужидкое месиво и эта серо-черная жижа, чавкающая и плюющаяся во все стороны брызгами, липкой коростой покрывала лица и одежду бредущих людей. Войска растянулись на десятки миль и порой отставшим направление указывала лишь широкая вытоптанная тропа, устланная слоем грязи, испражнений и брошенных пожитков.
На третий день пути густо повалил мокрый снег, и армия невольно приостановила движение: дороги размыло окончательно, недавние мелкие ручейки разбухли и превратились в мутные бурые потоки. От холода страдали все: на много миль вокруг невозможно было отыскать сухой валежник для растопки костров.
Промозглый воздух леденил дыхание, вытягивал остатки тепла из тел. Крепко пахло нечистотами, мокрой кожей и ржавым железом. Едкий дым от тлеющих сучьев полз по земле, вызывая кашель и слезы и не принося никакого облегчения. Под тяжестью тающих снежных хлопьев порой с громким треском лопались полотняные навесы кибиток, до земли проседали стены шатров из звериных шкур. Снегопад утих только к ночи, а уже утром следующего дня войска вновь зашевелились, окружая себя гвалтом людских голосов, ревом тягловой скотины и ржанием измученных лошадей.
Армия медленно ползла вперед, неудержимо, как лава на склонах вулкана, с трудом преодолевая непролазные топи глинистых низин.
Позади оставались разоренные села, имевшие несчастье оказаться на пути продвижения войск; чернели выжженные пятна кострищ с разбросанным вокруг них всевозможным мусором; валялись на обочинах дорог остова вконец увязших и разломанных телег.
Тяжкое зловоние висело в воздухе: от сырости трупы павших в пути животных и людей быстро разлагались. Но хоронить их ни у кого не было ни времени, ни желания: нужно было спешить, чтобы не опоздать к разделу богатой добычи.
Стаи воронов неотступно следовали за живым потоком. Для этих птиц, по древним поверьям — предвестникам войны, находилось немало поживы; и среди прочего — глаза падали, лучшее лакомство. К вечеру, притомившись, они спускались на ночлег и чернея мазками сажи сквозь голые ветви деревьев, хрипло перебранивались перед сном. С рассветом, возбуждаемые запахом тлена, вороны неторопливо принимались за трапезу, без всякой нужды шумно ссорясь и отталкивая друг друга от мертвечины.
Насытившись, стаи летели на запад, обгоняя головные отряды и оглашая окрестности тяжелым и звучным хлопаньем крыльев. Мрачные крики, несущиеся с поднебесья, невольно привлекали внимание.
— Доброе предзнаменование, — кивали головами бывалые воины. — Торопятся в Румелию. Птицы знают, где для них найдется угощение.
— Летите, летите! Ждите нас там. Мы придем и поделимся с вами! — заливисто хохотала молодежь и махала вслед зловещим стаям.
ГЛАВА XVIII
В день, когда вдали, на горизонте, у границы слитых воедино неба и моря, показались белые пятна парусов османской эскадры, у многих горожан захолонуло в сердце. Несмотря на долгие месяцы подготовки к войне, в жителях столицы ещё теплилась надежда на благополучный исход. Они все еще верили в то, что зовётся Высшей справедливостью, верили вопреки рассудку, что опасность обойдет их стороной, не затронув привычного жизненного уклада. Теперь же стало очевидно — неизбежное сбывается.
Флот медленно приближался и его численность поражала даже видавших виды итальянских мореходов. Выходцев из городов-республик, построивших своё достояние на морской торговле, трудно было удивить грандиозностью военно-морских экспедиций, но и они, под рассуждения о скороходности вражеских кораблей, о их огневой мощи и количестве принятых на борт людей, пытались скрыть растерянность, охватившую их, как и всех прочих.
В османском флоте были представлены все типы судов, существовавших в то время: от мелких феллук под косыми треугольными парусами и тихоходных неповоротливых барж для грузовых перевозок, до длинных и узких, как туловища акул, галер с парными ярусами вёсел по бокам и высокобортных трёхмачтовых парусных кораблей, сделанных по особому заказу заморскими мастерами.
Орудия на Морских стенах города молчали; хотя неприятельский флот не спешил открывать враждебных действий, корабли предусмотрительно бросили якоря вне досягаемости пушечных ядер. Суда швартовались вдоль береговой излучины Босфора, неподалёку от причала Двойных колонн, выстраиваясь в порядок, подобно отряду воинов.
Феллуки и баржи сбились в середину строя, образованного более крупными судами, а на внешнюю стороны выдвинулись галеры, как корабли, мало зависящие от прихоти ветров и морских течений.
Чёткие, продуманные действия неприятеля только раззадорили пыл итальянских моряков. Горячие головы, снедаемые желанием померяться силой с врагом, начали требовать от мегадуки решительных действий: с наступлением ночи опустить заградительную цепь и произвести вылазку, расстрелять из корабельных орудий тесно стоящие суда. Они настаивали на своем, вновь и вновь с пеной у рта доказывая эффективность внезапной атаки, неизбежность больших потерь для неготовой к бою османской эскадры и открыто выражали недоумение сдержанностью властей.
Но Лука Нотар на все доводы отвечал отказом. Наконец, выведенный из себя бесчисленными упрёками, он категорически заявил:
— Империя вступит в сражение не иначе как по приказу своего государя. Вы вправе начинать военные действия с кем и когда угодно, но только как подданные своих государств и вдали от границ Византии. Мы не собираемся никого удерживать силой, но помните, что любой корабль, выпущенный из Залива, обратно вернётся лишь по личному разрешению василевса.
Оскорбленные в лучших чувствах капитаны отправили делегацию к императору, но и Константин отверг предложение атаки: он ещё не до конца разуверился в мирном исходе и не желал первым начинать бой у стен своей столицы, давая тем самым туркам лишний повод к войне.
— Утопающий цепляется за соломинку, — досадливо пожимали плечами моряки, покидая кабинет императора.
Утром следующего дня пришло известие о пересечении передовыми отрядами Караджа-бея границ Византии и о выступлении в поход со стороны Эдирне всех частей османской армии.
В отличие от армии восточных земель, западные части турецкой армии двигались в полном боевом порядке.
Впереди войск шли дербенджи — отряды, предназначенные для разведки и патрулирования местности. Помимо этого им вменялось в обязанность охранять пути следования от партизанских групп противника, а также расчистка от завалов и расширение старых дорог, прокладка новых, устройство площадок для лагерей и стоянок.
Вдоль основных дорог прочесывали окрестности мартелоссы — воины, занятые сбором и заготовкой провианта и фуража. Часть из них прорывала канавки для водопоя лошадей и тяглового скота, выкапывала новые колодцы взамен старых: прежние опустошались вмиг.
За ними, растянувшись на несколько миль, двигались сводные полки сипахов и тимариотов — легковооружённых всадников, военной службой отрабатывающих пожалованные им земельные участки, а также безземельных солдат, ожидающих получение надела.
За конницей следовали яя — добровольческая пехота, служащая за подённую денежную плату; среди всех прочих их выделяли белые головные уборы с венчиком перьев на макушке.
Далее шли регулярные части: полки джебелей — воинов, каждый из которых был до зубов вооружён. Колчан с луком и стрелами, короткое копье, сабля у пояса, кривой нож и деревянный щит с железным острием посередине делали их опасными противниками.
Вслед за ними шли азапы — пехота из рекрутируемых холостяков, набираемая по принципу: один человек от пяти-шести крестьянских дворов. Жалование азапы не получали, служили за дневной харч и добычу.
После азапов двигались отряды войнуков, воинов-христиан из покорённых турками областей Восточной Европы. Они не получали за службу ни денег, ни довольствия, но их наследственные владения за участие в походе освобождались от налогов.
За войнуками следовало ополчение, силой и угрозами набранное из подвластных или попавших в вассальную зависимость к османам земель. Оно состояло из греков, венгров, сербов, болгар, боснийцев, албанцев, валахов и молдаван. Среди них, разбитых на полки по принципу землячества, находились немногочисленные отряды наёмных солдат, завербованных на службу к санджак-беям. По большей части выходцы из земель итальянских и германских княжеств, они за щедрую плату готовы были вступить в бой даже с Воинством Небесным.
Замыкали шествие также иноземные солдаты, в большинстве своем за грабежи и убийства объявленные в собственных странах вне закона. Они добровольно перешли в ислам и служили в особых карательных отрядах — огланлары. После четырех-пяти лет добросовестной службы они имели право быть зачисленными в корпус янычар и потому с рвением выполняли все обязанности. Эти воины, отбросы, накипь рода человеческого, любой ценой жаждущие добиться привилегий султанской гвардии, пользовались доверием санджак-беев и своей неукротимой свирепостью почти всегда оправдывали его.
В арьергарде турецкой армии, окружённый пятнадцатитысячным корпусом янычар и имеющий в тылу на непредвиденный случай два полка тяжеловооруженной конницы, двигался к юго-востоку кортеж султана, состоящий из самого молодого монарха и его многочисленной свиты.
Далее тянулся нескончаемый обоз. Огромное множество арб, телег, повозок и вьючных животных перевозило поклажу и грузы, среди которых не было забыто ничего, что могло бы пригодиться для взятия укрепленного города — артиллерия с запасом пороха и ядер, хитроумные камнемёты и самострелы, детали сборных осадных машин, шатры и палатки для временных жилищ, древесные стволы для изготовления приспособлений для штурма, железо в брусках для выковки нового оружия взамен попорченного, переносные кузни с необходимым инструментом и запасом угля, а так же мотыги, кирки и лопаты для земляных работ.
При обозе находились, помимо возниц и охраны, вольные работники и мастеровые, а также рабы для выполнения тяжелых и изнурительных работ.
Навстречу этому разноплеменному и многоязычному воинству к противоположному берегу Босфора спешила еще большая по численности армия, составленная из всех народностей Малой Азии.
Военночиновничья машина османских турок, способная в короткий срок поставить под копьё огромное количество людей, не имела на протяжении веков себе равных во всем мире. Трудно поверить, что весь этот гигантский механизм был приведен в действие для покорения всего лишь одного, к тому же слабо защищённого, обезлюдевшего города.
И все же это было так.
Спасаясь от надвигающихся войск, население деревень и предместий Константинополя потянулось к городским воротам. Людьми двигал скорее инстинкт, чем веление рассудка; древняя, выпестованная тысячелетиями войн привычка вассала спасаться от врага за крепостными стенами города-сюзерена.
Беженцы шли молча, угрюмо, без жалоб и без скорби на лицах. Забирали с собой всё, что можно было унести на руках. В опустевших домах оставалось нехитрое имущество, нажитое долгими годами упорного труда, и печальный вид брошенных подворий лишь ускорял шаг проходящих мимо.
Мимо селян, выбрызгивая из-под копыт лошадей комья влажной земли, проносились конники Кантакузина. Сорванными от частого крика голосами, они торопили беженцев, предупреждающе вытягивая руки в сторону запада. Однако в понуканиях не было нужды: очевидцы в один голос говорили о непрекращающихся стычках ромейских отрядов, прикрывающих отход мирных жителей, с головными отрядами войск Караджа-бея. И эти тревожные, путанные и то же время так мало похожие на вымысел рассказы подстегивали людей не хуже хлыста.
Конница византийцев отступала. Каждый из латников Кантакузина мог в одиночку совладать с тремя вражескими всадниками, но численность застав на дорогах была так невелика, что преградить путь они могли только отдельным сторожевым дозорам турок, да и то лишь на короткое время.
В нескольких десятках миль от Константинополя стратегу удалось собрать воедино свои разрозненные до того сотни и, обогнув лесную чащу, ударить в тыл пеших колонн врага. Манёвр оказался удачен: не ожидавшие нападения полки не успели перегруппироваться для отпора и были рассеяны в лесу. Пока к месту боя подтягивались свежие силы турок, Кантакузан отвел своих воинов, выиграв в результате для беженцев ещё полдня.
Первые отряды турок показались вблизи стен Константинополя в самом начале месяца апреля, к сходу второй половины дня.
Военный совет по распределению участков укреплений Константинополя затянулся далеко за полночь. Императору и военачальникам пришлось немало поломать головы, чтобы наилучшим образом распределить свои более чем скудные силы вдоль ста одиннадцати стадий — почти шестнадцати километров — оборонительных стен. Наконец, после долгих ожесточенных споров, согласие было достигнуто.
Наиболее опасный район Месотихиона, где река Ликос по подземным трубам пересекала крепостные стены, а долина вдоль ее русла являла собой удобный плацдарм для атаки, взял на себя кондотьер Джустиниани, чей отряд в семь сотен воинов заслуженно считался одним из лучших в городе. На левом фланге от него, по обе стороны Маландийских ворот, располагались смешанные византийско-итальянские сотни генуэзца Каттанео. Далее, от ворот Пиги до Семибашенного замка и Золотых ворот укрепления должны были защищаться пятьюстами ополченцев под командованием Феофила Палеолога, а венецианцу Якопо Контарини было поручено разместить свой почти полутысячный отряд на участке стен вдоль района Тритон и прилегающей к нему части района Девтер.
По правую руку от отряда Джустиниани, Полиандровы ворота охранялись византийскими сотнями братьев Антония, Павла и Троила. На участке стен между Калигарийскими воротами и стеной Феодосия размещались две сотни Феодора Харистийского. Адрианопольские ворота и следующий за ними небольшой участок укреплений до Влахернского дворца прикрывали полтораста воинов инженера Иоганна Немецкого. Часть ополченцев венецианской колонии Константинополя, во главе со своим выборным представителем бальи Минотто должны были оборонять Влахернскую стену, а братья Лангаско — участок стен вдоль Деревянных ворот, вплоть до самого берега Золотого Рога.
Каталонскому консулу Педро Джулиано и генуэзцу Мануэло необходимо было распределить своих воинов вдоль побережья Мраморного моря, а кардиналу Исидору (прелат всерьёз пригрозил увести из города нанятых им солдат, если при дележе боевых постов его обойдут вниманием) — на прибрежном районе Акрополя и Вуколеонского дворца, от гавани Юлиана до ворот святой Варвары. Мегадуке Луке Нотару было поручено во главе сводного отряда из моряков, ополченцев и монахов оборонять береговую излучину Золотого Рога, от ворот Друнгария до северной оконечности города. Между ним и кардиналом Исидором должны были располагаться небольшие группы венецианских моряков под началом капитана военного судна Габриэля Тревизано, а его соотечественнику Альвизо Диедо было поручено сохранять безопасное сообщение с противоположным берегом залива. Генуэзец Антоний Солинго должен был отвечать за сохранность заградительной цепи, протянутой поперек входа в Золотой Рог, для чего ему было передано в распоряжение пять быстроходных галер с пушками на бортах. Три сотни бойцов, предоставленных иудейской общиной, были направлены на участок между Золотыми воротами и церковью святого Иоанна. Димитрий Кантакузин, по общему согласию, возглавил оставленный в резерве конный полк в количестве семи сотен человек, состоящий из отборных воинов и гвардии императора. По замыслу военачальников, стратег со своим отрядом должен был находиться в центре Константинополя, чтобы в любой момент подоспеть туда, где может возникнуть необходимость в подмоге.
Не был обойден вниманием и отряд принца Орхана. В последнее время к нему примкнуло большинство мусульман, проживающих в городе, которые прекрасно понимали, что в случае падения Константинополя, их ожидает та же участь, что и всё остальное население столицы. Хотя некоторыми командирами ставилась под сомнение верность иноверцев императору, отказать им в праве участия в обороне византийские димархи не могли. Да и потом, каждый меч был на счету. Мусульманский отряд был размещен между каталонцами и воинами Мануэло и должен был защищать участок Морских стен от ворот святого Емельяна и до гавани Феодосия.
Весь последующий день, до наступления темноты, горожане занимали отведенные им позиции, разбивали у подножия стен палатки для временного жилья, устанавливали на башнях пушки, камнемёты и сифоны для выброса горящей нефти.
Окончив спешные приготовления, защитники города замерли, подобно своим дозорным на башнях, в тревожном и напряженном ожидании.
Турки пока не спешили начинать осаду.
Перед османскими пашами в свою очередь встала нелегкая задача: как правильно, на небольшом, в пять вёрст отрезке суши между водами залива и побережьем Мраморного моря, разместить прибывающее с обоих континентов великое множество людей и обоза.
Перегруппировка войск, после немыслимой суматохи и беспорядка, была закончена только к концу третьего дня. Армия Караджа-бея, первой прибывшая под Константинополь, была оставлена на месте своей прежней стоянки — напротив от прилегающих к Золотому Рогу стен Влахернского дворца и далее, до Полиандровых ворот.
Ставка султана разместилась на правом берегу реки Ликос. Там же расположились отборные полки пеших и конных воинов, командование над которыми принял на себя сам Мехмед. С тыла, на случай неожиданного подхода неприятеля, лагерь прикрывался пятнадцатитысячным корпусом янычар, который в свою очередь оберегался конницей тимариотов.
От Маландрийских ворот до самого побережья моря стояли регулярные части анатолийских войск — джебелей и сипахов Исхак-паши. Между войсками и крепостным рвом расположились становища аккынджы, разделённых по племенным признакам на некое подобие полков во главе со своими родовыми вождями-командирами.
Западную сторону залива заняло пятидесятитысячное войско Саган-паши. Тем самым было изолировано побережье Перы, не примыкающее непосредственно к стенам города, а запертым в Галате генуэзским колонистам недвусмысленно дали понять о последствиях, к которым приведет их вмешательство в последующие события.
Обоз расположился за чертой лагеря, под охраной шести полков сипахов. Телеги и арбы были вытянуты в длинную цепь, полукругом охватившую стоянку войск; скотину пустили пастись в наспех огороженных загонах. Сам лагерь, чтобы предупредить вылазку осажденных, по настоянию советников, был обнесён неглубоким рвом и земляным валом в три сажени высотой. На вершине насыпи был установлен хлипкий частокол, лишь на вид издалека способный сойти за надёжную преграду; около каждого прохода, в ста шагах друг от друга были выставлены часовые, обязанные наблюдать за перемещениями противника и не допускать в лагерь посторонних людей. Флот под командованием Палда-паши был оставлен на месте своей прежней стоянки, неподалёку от причала Двойных колонн. Не менее трех десятков галер патрулировало вдоль европейских берегов Мраморного моря, чтобы преградить путь в гавани Константинополя неприятельским суднам.
Мехмед не доверял ни одному из своих высших военачальников и потому, к их великому неудовольствию, назначил к каждому из них под видом помощников по одному соглядатаю. Так, к Караджа-бею был приставлен Саруджа-паша, известный своей ненавистью к великому визирю, к Исхак-паше — второй визирь Махмуд-бей, грек-ренегат из знатного рода, лишь два года назад принявший ислам. К Палда-паше был послан «помощником» Хамза-бей, человек недалёкого ума и потому способный скорее на доносительство, чем на измену. Самого же великого визиря Мехмед оставил при себе, чтобы, по его собственным словам, всегда иметь под рукой надёжного советчика и друга.
Когда все приготовления были завершены, Мехмед направил в Константинополь парламентеров. В ультимативной форме он требовал от императора и его окружения немедленно сложить оружие и сдать город турецким войскам. В обмен на это султан обещал горожанам сохранить жизнь их семьям, не покушаться на имущество людей и храмов. В противном случае, говорилось в послании, закон мусульман суров: если враг не сдаётся — убей его.
Предложение капитуляции было отвергнуто всеми: сама мысль пожертвовать своим городом была смехотворна для византийцев.
На следующее утро ударили турецкие пушки.
ГЛАВА XIX
После двух дней орудийного обстрела османские полководцы предприняли первую попытку штурма Константинополя.
Огромные массы людей от верховий залива Золотого Рога и до Семибашенного замка заволновались и двинулись вперед, оглашая воздух криками, пением, гудением сурр, лязгающим звоном медных цимбал. Не совладав с порядком построения, полки вскоре раздались в ширь и заполнив промежутки между собой, образовали одну сплошную движущуюся цепь. Напоминая реку, вышедшую из берегов, живой поток медленно и волнообразно, повторяя неровности ландшафта, затапливал собой подступы к Константинополю.
Несмотря на жажду подвига, войска не ускоряли шага: пусть вожделение томит грудь каждого, но недостойно воинам Аллаха толкаясь локтями спешить вперед, пока спрятавшийся за высокими стенами враг дрожит и обмирает от страха, от ужаса при одном только виде победоносной рати. И даже полудикие аккынджи, для которых война — лишь увеличенный в масштабах набег на соседнее село, весело крича и гомоня, пытались подстроиться под общий шаг.
Атакующие не несли с собой ни осадных лестниц, ни гибких шестов для преодоления земляных насыпей и завалов. Не было у них даже широких бревенчатых щитов, способных укрыть за собой от стрел и метательных снарядов целые отряды солдат. К чему волочить на себе тяжелое и громоздкое снаряжение, если враг, устрашенный одним видом несметного войска, сам покорно распахнёт перед ним ворота? Однако ров, широкий и глубокий, на некотором протяжении частично заполненный водой — досадная помеха, и потому передние ряды турок несли в руках охапки сучьев и соломы, чтобы, не замедлив общего движения, быстро и доверху засыпать эту преграду.
На валу и выше, на крепостных стенах, не было заметно ни замешательства, предшествующего панике, ни лихорадочных приготовлений к отражению натиска. Укрепления как были, так и оставались будто погруженными в спячку. Лишь кое-где на валу перемещались небольшие отряды всадников и группы горожан копошились возле странных на вид и непонятных механизмов.
Турки приблизились к валу и стали методично засыпать его. Первые ряды сбрасывали фашины и тут же отходили в сторону, уступая место вслед идущим, с тем же грузом в руках. Углубление рва в отдельных местах было засыпано почти наполовину, когда со стороны стен послышался громкий звук сигнального рожка. Горожане расступились вокруг метательных машин и воздух наполнился мелодичным пением спускаемых тетив. Град камней с куриное яйцо величиной обрушился на атакующих; вода во рву вспенилась и поднялась столбами. Турки прянули назад, прикрываясь щитами. Отпор был настолько неожиданен, что воины некоторое время пребывали в растерянности. Но тут с новой силой загрохотали зовущие в наступление большие барабаны. Войска всколыхнулись и бросились вперед. Вновь загудели струны механизмов; заглушая крики осаждающих вразнобой зарявкали пушки на башнях города.
Левый фланг напротив Адрианопольских ворот дрогнул и приостановил движение: пучок цельножелезных стрел одной из гигантских баллист разом сбил с шага передовой отряд, смешав останки людей с комьями взрыхленной земли. Возникло смятение; толпы любопытствующих, несмотря на плети командиров, устремились на крики раненых. Правый фланг также недолго продолжал атаку: перебравшись на другую сторону рва, воины увидели несущиеся прямо на них утыканные острыми гвоздями бревна с колесами по бокам. Испуская вопли ужаса, атакующие поспешили обратно, сшибаясь в беге телами, сбивая друг друга с ног. Тяжелые бревна, подминая под себя людей и разрывая их в клочья железными остриями, докатились до края рва и с треском обрушились вниз, теряясь там в облаках пыли. Весь склон этого участка крепостного вала оказался вычищенным от неприятеля, как языком коровы. Обезумев от страха, уцелевшие помышляли лишь о спасении. Отталкивая друг друга, они прыгали в ров и в кровь обдирая пальцы, карабкались на противоположную сторону.
Только центральная группа войск, составленная из опытных, умелых в своём ремесле солдат, продолжала штурм. Несмотря на град камней из катапульт, прикрываясь щитами от стрел вражеских арбалетчиков, они упорно шли вперед, оглушая себя яростными криками. Хотя потери были велики, туркам всё же удалось преодолеть трехметровую стену первой линии укреплений. Карабкаясь на плечи друг другу, устраивая небольшие завалы из камней и кусков дерева, джебели захватили участок стены и даже попытались укрепиться на нём. Некоторое время спустя они были выбиты оттуда бросившимися в контратаку генуэзцами Джустиниани. Потеряв убитыми более трех сотен солдат, джебели отступили. Крутизна рва и несущиеся вслед стрелы христиан только ускоряли их беспорядочный отход.
С высоты холма, окружённый придворными и советниками, Мехмед пристально следил за атакой и последующим отступлением своих войск. От первого приступа он и не ждал слишком многого, но полная беспомощность своих солдат перед врагом подействовала на султана удручающе. На протяжении всего штурма он не обмолвился ни словом, лишь криво усмехался и трепал за холку коня.
Сдерживая досаду, он произнёс, достаточно громко, так, чтобы его слова не только были услышаны, но и разнесены как можно дальше:
— Мы не настолько самонадеянны, чтобы предположить, будто кучка воинов без особой подготовки овладеет хорошо укреплёнными стенами. Зато нам удалось выяснить то, что непременно нужно было знать: греки неплохо подготовились к осаде, а среди моих солдат робость — не такое уж редкое явление.
Он обвел взглядом лица приближённых.
— Аллах не дал мне достаточной зоркости глаз, чтобы увидеть всю картину боя. Однако в донесениях гонцов ошибки не было: почти на каждом участке войска, получив отпор от неприятеля, торопились вернуться на свои места. Это вызывает подозрение в злонамеренной трусости.
Его голос поднялся до крика.
— Предупреждаю: голова оробевшего будет смотреть на мир с высоты шеста, а его нечистое тело оспорят между собой птицы и бродячие псы! Накрепко запомните мои слова! И пусть гонцы разнесут их до ушей всех воинов султана.
Он дернул коня под уздцы и развернул его на месте.
— Визирь! — Мехмед сделал знак Халиль-паше приблизиться. — Пусть рабы плетут фашины и засыпают ими ров, а пушки тем временем сокрушают стены крепости. Через три дня я объявляю большой штурм. Основной удар будет нанесён в той стороне.
Он указал рукоятью плети в направлении ворот святого Романа.
— И ещё….- он на мгновение замялся.
— Осадные башни, — подсказал визирь.
— Да, — кивнул Мехмед, но тут же задумался. — Меня предупреждали, что их сооружение займет много времени. Менее чем за неделю строители не поспеют.
— Не будем спешить, мой господин, — негромко произнёс визирь. — Осада крепости — дело долгое. К тому же время играет нам на руку. Нужно ли торопить события?
Мехмед пристально взглянул на него.
— Ты прав, Учитель. Прав, как всегда.
Султан тронул коня с места. Визирь в знак признательности приложил руку к груди и пробормотал слова благодарности. Померещилось ли ему или на самом деле, в последней фразе, а точнее, в интонации, с которой она была произнесена, прозвучала скрытая враждебность? Ведь неспроста же ко всем верховным военачальникам были приставлены соглядатаи. Ловя на себе завистливые взгляды придворных Халиль-паша в который раз напомнил себе о необходимости быть как можно более осмотрительным в выборе слов, пусть даже весьма безобидных и не несущих в себе потаенного смысла.
Не прошло и двух часов, как вновь загрохотали молчавшие с утра турецкие пушки. Воздух задрожал от громовых раскатов, над землей поплыли облака порохового дыма. Хотя из-за плохой наводки и малой меткости самих орудий ядра ложились в значительном недолете от стен крепости, турецкий лагерь радостным гулом приветствовал начало обстрела.
Стихнув с наступлением темноты, орудийный обстрел возобновился на следующее утро. Жар огненных языков из жерл и тепло разогретых пушечных стволов быстро разогнали зловонный, пропитанный пороховыми газами туман с близлежащих болот.
Ядра рыхлили землю перед рвом, некоторые перелетали через ров и вдребезги разбивались об стены. Каждое удачное попадание встречалось радостными криками осаждающих. Азиаты вскакивали на ноги, били в ладоши, указывали друг другу место падения снаряда и заливисто хохоча, обсуждали между собой нанесённый врагу урон, потери и смятение в его рядах.
Утомляюще-однообразно ухали большие калибры, вразнобой поспешали за ними орудия помельче. В промежутках между выстрелами окрестности наполнялись звоном зубил камнетесов, тут же, неподалёку, вырубающих из заранее припасённых мраморных глыб новые пушечные ядра.
Ущерб от обстрела не был велик. Горожане потешались по поводу столь бездумной траты дорогостоящего пороха; лишь немногие были осведомлены о том, какой неприятный сюрприз готовится для них османскими пашами.
Несмотря на раннее утро, на прохладу, от которой озноб пробирал по коже, Урбан чувствовал себя превосходно. Короткоствольные пушки, его детища, две из которых были просто огромны, а третье устрашало уже только своими размерами, благополучно были доставлены под стены осаждённого города.
Одно их перемещение стоило немалых усилий, особенно много хлопот доставила самая большая из пушек. Специальная команда дербенджи на всем протяжении пути от Эдирне до Константинополя выравнивала дороги, укрепляла мосты, а кое-где и наводила новые. Две недели бронзовый колосс, с огромным трудом взгромождённый на особо прочную, подстать ему размерами повозку, волокли, ежедневно сменяясь, шестьдесят пар выносливых быков. Не менее двух сотен рабочих шло рядом, удерживая воз в равновесии, не давая ему перевернуться на неровностях почвы и сбросить на землю свой драгоценный груз.
После прибытия, орудия были установлены на заранее подготовленных площадках, откуда стены просматривались, как на ладони. Огромная бомбарда, любовно прозванная турками «Пращой Аллаха», была наведена на укрепления возле ворот Святого Романа, две её спутницы — на верхушки башен, чтобы погрести под обломками защитников второго яруса стен. Подготовка к стрельбе велась пять дней и вот сегодня, на восходе, должен был быть получен приказ задействовать орудия наибольшего калибра.
Венгр придирчиво обвел взглядом выстроенные в ряд корзины с мешочками пороха в локоть толщиной, с десяток почти идеально круглых, вытесанных из белого камня ядер, штабеля волокнистой пакли, предназначенной для заполнения зазоров между снарядом и стволом, мехи с уксусом и маслом для охлаждения орудия, свинцовые бруски для залечивания трещин и пустот, образующихся в металле от страшного жара при выстреле, банники с щетиной из медной проволоки для прочистки ствола. Проверил порох в запальных желобках, глубину залегания ядер, чистоту дульных каналов (даже небольшой, с бекасиное яйцо величиной камень, оказавшийся на пути движения ядра, мог стать причиной порчи ствола). Наконец, в очередной раз взглянув в прорезь прицела, венгр, довольно потирая руки, соскочил на землю. Всё необходимое для начала обстрела находилось на своих местах, оставалось только ждать распоряжения султана.
Урбан не питал ненависти к византийцам. Даже император Константин, некогда пренебрегший его услугами, не вызывал у венгра чувства досады или недоброжелательства. Что ж, если нет в казне денег, достаточных для оплаты услуг наёмных умельцев, винить некого, кроме самих себя. Товар должен сбываться с максимальной выгодой, так уж с незапамятных времен устроен этот мир.
Урбан ещё раз прошелся вдоль орудий. Прикрикнул на двух стражей, прикорнувших в сторонке и безуспешно борющихся с дремотой. Заставил подмастерьев вновь осмотреть подвижные оси механизмов и обтереть тряпками влажные от утренней росы бока орудий.
— Не хныкать, лодыри! — рявкнул он в ответ на их недовольные реплики. — С порохом шутки плохи. Понадобится — в десятый, в сотый раз будете вылизывать пушки сверху и донизу!
Затем повернулся в сторону султанского шатра и прищурился. Показалось ли ему или действительно по дороге ив сторону батареи движется облачко пыли?
Первый выстрел раздался спустя три часа после утренней молитвы. Описав широкую дугу, ядро врезалось в землю в двухстах шагах от кромки рва. Взметнулось огромное облако пыли и, исторгнув из себя град земляных комьев и каменной крошки, медленно поползло в сторону города.
Пока прислуга хлопотала вокруг раскаленного чудища, венгр собственноручно, с помощью рычагов, придал новый уклон стволу, на пять делений выше прежнего по прицельной шкале. Он не сразу заметил, как возле него появился посыльный султана.
— Почему больше не стреляешь? — заорал тот, гарцуя на коне и помахивая плетью. — Наш господин желает знать, как долго ты еще собираешься тут копошиться.
Урбан из-за плеча презрительно взглянул на него.
— Передай нашему повелителю, — произнёс он голосом вышестоящего по рангу, — что пока ствол в достаточной мере не охладится, новый выстрел произвести невозможно. После этого потребно еще не менее часа на прочистку и зарядку орудия. Запомни мои слова и не вздумай исказить их смысл. Не то я палку обломаю об твои плечи.
Гонец удивился и заметно присмирел.
— Я в точности передам твои слова, христианин, — сквозь зубы выдавил он, пряча в глазах недоброжелательство.
И вытянув плетью коня, поспешил обратно. Спустя положенное время орудие выстрелило вновь. На этот раз прицел оказался точен и хотя ядро не смогло пробить внушительную толщу стены, земля задрожала под ногами защитников. Среди горожан поднялось легкое смятение: два человека были убиты и ещё несколько ранено обломками разлетевшегося на куски снаряда. Серьёзных повреждений стенам ядро не причинило. Лишь две большие, в руку толщиной, трещины разошлись в кладке от удара.
В турецком лагере царило разочарование. Потрясённые видом огромной пушки, солдаты в простоте душевной полагали, что после первого же выстрела неприступные стены рухнут, открывая широкий проход вглубь богатого города. Теперь же, видя, что надежды не торопятся сбываться, они огорчённо прищелкивали языками, обсуждая между собой громоподобный эффект стрельбы и её не столь значительный результат.
Однако наблюдатели от европейских государств были иного мнения.
— Раньше я, грешным делом, потешался над варварской тягой турок ко сему большому и поражающему воображение, — задумчиво крутил усы воевода Трансильвании. — Но сейчас понимаю — напрасно. Не пройдёт и нескольких дней, как эта махина проломит в стенах брешь. Перед её мощью не устоит и гранитная скала.
Янке, посол венгерского короля при престоле султана, согласно кивнул головой.
— И это может произойти скорее, чем мы думаем.
Он тронул плетью коня и направился к орудию. Остальные наблюдатели и представители посольств проводили его недоумёнными взглядами.
Хотя Венгерское королевство находилось в состоянии затяжной войны с султанатом, определенный круг сановников, в который входил и воевода Янке, склонялся к миру, пусть даже и ценой значительных уступок. Многие из них небезосновательно полагали, что Византия, находясь под угрозой завоевания, чтобы уцелеть самой, беспрестанно разжигает рознь между неприятелями, стравливая их между собой путём умело спровоцированных конфликтов в пограничных областях. И потому, когда доподлинно стало известно о цели сбора турецких войск, у многих отлегло от сердца. Осада хорошо укреплённого города, как надеялись они, займёт много времени и даст желанную передышку венграм.
Если Константинополь падет, добыча будет столь велика и обременительна, что турецкая армия потеряет боеспособность до тех пор, пока солдатские мошны вконец не опустеют. Султан же, воцарившись на тысячелетнем троне византийских императоров, будет настолько поглощен укреплением собственной власти и возведением новой столицы, что на время позабудет о новых завоеваниях. В случае же поражения турок, армию удержать не удастся: воины разбегутся по домам, а регулярные части опасности не представляют — численность их невелика. И вот тогда уже можно будет подумать об отвоевании собственных земель, попавших под власть султаната. Сам же Янке склонялся к мнению, что первый исход предпочтительнее: меньше риска быть втянутым в войну, ослабнет влияние на молодого короля властного и чрезмерно популярного в народе Хуньяди и к тому же исчезнет навсегда страна — источник раздоров, сеющий смуту не только в мирских делах, но и в Святой Церкви. Не о том ли толковал ему пожилой седовласый епископ, в доме которого он заночевал по дороге в Эдирне?
— Знай, сын мой, — наставительно говорил сей духовный муж, поднимая указующий перст к потолку, — не будет счастья истинно верующим, пока живо гнездо еретизма. Все беды в мире происходят от упорствующих в своих заблуждениях. Как можем мы бороться с магометанами, если не в силах преодолеть раскол в собственных рядах? Когда ради счастья многих нужно пожертвовать малым, а тем паче, вредоносным, нет и не может быть места сомнениям. Загнивающий орган нужно отсечь, чтобы зараза не распространилась и не погубила весь организм.
— Но правильно ли будет, ваше преосвященство, — возражал посол, — отказать в поддержке нашим братьям по вере?
— Еретикам, — сурово поправил прелат.
— Пусть так, еретикам. Но всё же они последователи Святого учения, в то время как мусульмане….
— Скрытый враг опаснее явного.
— Кому может пойдет на пользу, если магометане усилятся на море после того, как завоюют проливы?
— Морями владеет тот, к кому благоволит Всевышний. Корабли итальянских республик господствуют в Леванте. Мореходы Испании и Португалии всё глубже проникают в неизведанные воды Великого океана и западного побережья Африки. Не буду утомлять тебя дальнейшими примерами, лишь приведу в подкрепление своих слов нелегкую участь народов, в бездумном своём ослеплении последовавших за схизматиками — греков, сербов, болгар. Все они томятся под игом неверных, искупая своими страданиями грехи отклонившихся от пути истинного константинопольских патриархов.
Он прочистил горло глотком вина и добавил:
— Господь отвратил свой лик от Византии и свидетельством тому являются многочисленные предзнаменования.
Воевода молчал, оценивая и впитывая в себя каждое слово. Всё это он знал или слышал ранее, но почему-то именно здесь и сейчас услышанное казалось ему откровением, отзвуком его собственных подспудных мыслей.
Прелат продолжал, как бы ведя беседу с самим собой.
— Ещё со времен язычества Константинополь повёл неправедную борьбу с Римом за главенство в Святой Церкви, пытаясь оспорить естественное первоапостольское право святейшего папы быть наставником всех христиан. Борьбу тем более преступную, потому как у человека не может быть двух голов, так и вера наша не должна быть раздвоена. Но именно этого и добились своим упрямством православные патриархи.
Он покатал по столу снятый с пальца золотой перстень.
— Все неудачи крестовых походов происходили от византийских монархов, вступавших в сговор с нечестивцами. Мудрено ли, что Святая земля была выпущена нами из рук, и похоже, уже навсегда. Под потакательством ромеев окрепли полудикие племена сарацин и тюрок. И теперь их орды захлестывают Европу. Христианский мир расколот, порок и скверна воцарились в душах людей. Всевышний гневится на нас за нашу терпимость к безбожникам. До тех пор, пока стены нового Вавилона не падут, не будет счастья на земле последователям учения Спасителя!
Венгр оторвал мрачный взгляд от окна.
— Почему же тогда его святейшество, папа Николай V, даёт своё благословение всем, кто отправляется на помощь Константинополю?
Епископ развёл руками, как бы дивясь вместе с собеседником непостижимости человеческой натуры.
— Его святейшество, да продлит Господь его годы, слишком мягок душой, а следовательно, сентиментален. Он готов даровать прощение даже злейшему врагу, что, впрочем, уже не раз совершал в ущерб самому себе и своей пастве.
Янке согласно кивал головой. Не требовалось большой проницательности, чтобы понять, как люто ненавидит прелат всё, что связано с греко-православной церковью. У самого же посла были несколько другие соображения.
Перемирие c Османским султанатом, к заключению которого он сам приложил немало усилий, находилось в то время на грани срыва. Вознесшийся на плечах народного воодушевления, неугомонный Хуньяди почти в открытую собирал войска и в высокомерии своём даже не скрывал намерений взять реванш за прошлое поражение. Срок перемирия не успел истечь и наполовину, но на границах Венгрии уже зреет новая война. Отдельные группы ландскнехтов и безземельных рыцарей-бродяг, воодушевленных призывами Ватикана к крестовому походу, увеличивали свои ряды за счёт жителей из разорённых турками селений и всё чаще совершали дерзкие набеги на отошедшие к султану области. Янке, как никто другой, представлял себе сокрушительную мощь ответного удара турок.
Зло, таящееся за стенами Константинополя, должно быть уничтожено!
Погружённый в размышления, воевода и не заметил, как оказался у земляной насыпи возле орудийной батареи.
— Кто здесь Урбан, оружейных дел мастер? — громко спросил он по-венгерски.
Долговязый человек в потёртом кожаном камзоле, сидящий на табурете рядом с бронзовой громадой, насторожился и повернул голову.
— Я, — коротко ответил он.
И тут же подозрительно осведомился.
— Кто говорит со мной?
Ещё недавно Янке вспылил бы от одной мысли, что соотечественник может не признать его, а признав, не выразить почтения поклоном, но сейчас, пожив при дворе султана, где порой безвестные люди в короткий срок становились вторыми людьми государства, лишь усмехнулся и назвал себя.
— Последний выстрел был удачен, — похвалил он. — Куда ты собираешься метнуть ядро на этот раз?
— В то же место, что и раньше.
Воевода пожал плечами.
— И сожжешь уйму пороха впустую. Лесоруб не рубит топором по дереву в одну и ту же точку. Он делает насечки сверху и снизу, затем углубляет их, пока не доберётся до сердцевины. Лишь затем сильным толчком валит подрубленный ствол в нужную сторону.
— Каменные стены мало похожи на лес.
— Зато твоя голова сильно смахивает на пень! Если хочешь легко обрушить стены, направь прицел на пять-шесть сажен в сторону от первого попадания. Затем постарайся поразить третьим ядром основание стены. Если и после этого она не осядет на землю, бей в центр образованного треугольника до тех пор, пока кладка не осыплется, как песок.
Урбан призадумался. К Янке приблизился сотник-янычар, ответственный за охрану орудий и, встав прямо перед послом, требовательно спросил:
— Кто ты такой? По какому праву ты смеешь отвлекать от работы слуг султана?
Воевода не удостоил его ответом. Бросив напоследок снисходительно-высокомерный взгляд на долговязую фигуру пушкаря, он повернул коня и поскакал обратно. Сотник не решился преследовать его. Вместо этого он повернулся к Урбану.
— О чем ты говорил с этим гяуром?
Тот хотел было ответить резкостью, но вспомнив, какой подозрительностью окружены все, не исключая даже высших чиновников, и как может быть истолкован разговор на непонятном для шпионов языке, счел нужным сказать правду.
— Этот человек — посол венгерского короля к великому султану. Он дал мне дельный совет и я собираюсь им воспользоваться.
ГЛАВА XX
Карета медленно пересекала площадь. С любопытством отвыкшего от новых впечатлений человека, Ефросиния рассматривала через открытое окно скопление людей неподалёку от стен монастыря Святых Апостолов.
— Что происходит, Эпифаний? — окликнула она возницу. — Никогда прежде здесь не бывало ярмарок.
— Ну нет, это не ярмарка, — усмехнулся тот и подстегнул лошадей.
— Тогда что? Для чего собрались все эти люди?
— Это резервные отряды, госпожа. Когда турки вновь пойдут на приступ, димархи решат, где именно возникнет наибольшая необходимость и перебросят туда этих воинов.
— А те всадники чуть поодаль?
— Они из конного полка Кантакузина, — словоохотливо пояснял Эпифаний, перегибаясь с облучка и указывая кнутовищем.
— Многие командиры недовольны, что стратег собрал под своим началом лучших воинов из числа ромеев. «Сейчас каждый меч на счету», говорят они. Как будто им невдомёк, что мастер Димитрий не из тех, кто дает своим людям сидеть без работы.
— Значит, здесь собраны все воины императора?
— Да нет же, только их малая часть. Другие несут дозор на стенах, многие отдыхают по домам.
Ефросиния перевела взгляд на площадь. В центре обширного пространства возвышалось несколько шатров, предназначенных, по-видимому для военачальников. Вокруг и чуть поодаль стояли многочисленные группы вооруженных людей. Среди живописных, почти праздничных нарядов серым цветом отливали на солнце стальные шлемы с изображением креста, а также панцири и кольчуги; от многоцветия плащей и накидок, от ярко раскрашенных деревянных щитов рябило в глазах. В руках или у пояса каждого ополченца имелось какое-либо оружие — мечи, топоры, устрашающе-шипастые булавы и дубины, деревянные молоты на длинных рукоятях, луки, пращи, арбалеты. Над головами возвышался лес копий и алебард, полоскались на ветру узкие длинные вымпелы и широкие полотнища знамён.
Другая часть горожан сидела или дремала в тени на соломенных тюфяках; большинство же, среди которых не менее трети составляли женщины, бурно жестикулируя, вело между собой ожесточённые споры.
Гетера чуть поморщилась: этот многоголосый гомон, топот, крики, бряцание оружия раздражали её привычный к тишине слух.
— И сколько же их здесь собралось? — спросила она.
— Да где-то с десяток сотен будет, — откликнулся Эпифаний.
— А шуму как от целой армии.
Только она собралась отдать распоряжение вознице уехать поскорее от этого неспокойного места, как тут её внимание привлекло странное зрелище: из ворот монастыря вышла длинная колонна монахов и под дробный перестук деревянных подошв сандалий направилась в сторону Золотого Рога. Необычным же в этой процессии было то, что почти каждый инок держал в руках копье или нес у пояса булаву или меч. Впереди колонны и чуть сбоку от неё, прихрамывая на левую ногу, шел немолодой сотник с усталым, помятым лицом. Время от времени он поворачивал голову к монахам и что-то негромко говорил, то ли спрашивал о чём-то, то ли отдавал указания. Возница приостановил карету, уступая дорогу служителям церкви. Ефросиния во все глаза смотрела на вооружённых монахов.
— Кто эти люди, Эпифаний? — заикаясь от изумления, спросила она.
— Кто? — в свою очередь удивился тот. — Ясное дело, монахи. Идут к Морским стенам сменить своих братьев в дозоре. Вот только сегодня что-то припозднились. Видать, дослуживали утренний молебен.
— Но ведь они же вооружены?
— Как же иначе? С турком голыми руками много не навоюешь.
Но Ефросиния всё равно не могла понять и засыпала возницу новыми вопросами. Тому уже начала прискучивать бестолковость знатной девицы, к которой он был нанят на этот день кучером. И чтобы положить конец этой, по его мнению, пустой болтовне, грубо бросил:
— Возможно это тебе в новость, женщина, но у нас, ромеев, каждый, от седого деда до безусого отрока, днём и ночью не расстаётся с оружием. Ты всё интересуешься, зачем и почему? Да для того, чтобы дать достойный отпор врагу. А как иначе? Даже слуги Божии отошли на время от своих молитв и храбро сражаются наравне с мирянами.
— А ты? Ты тоже поднимаешься на стены?
На этот раз Эпифаний оскорбился по-настоящему. Вскочив на ноги, он всем телом повернулся к Ефросинии и заорал, потрясая кулаками:
— Да как твой язык, женщина, повернулся сказать такое? Ты что же думаешь, мой удел возиться с лошадьми, пока мои братья гибнут на Стенах? То, что я ради заработка нанялся к латинянам, к этим еретикам безбожным, ещё никому не даёт права называть меня трусом!
Откинувшись на спинку сидения, Ефросиния терпеливо пережидала эту вспышку гнева. Она уже жалела, что начала разговор. Но кто бы мог подумать, что ещё не так давно дружелюбные и общительные соотечественники в столь короткий срок станут злыми и подозрительными к каждому слову?
Со стороны послышался цокот копыт и гневный оклик:
— Эй, мужлан! Прекрати орать и берись за вожжи. Не то я мигом укорочу твой неотесанный язык!
Крысуля, один из двух сопровождающих Ефросинию, приблизился к карете настолько, что в окошке был виден лишь конский круп и нога в сапоге с щегольски изогнутой шпорой. Возница поначалу смолк, затем заговорил вновь. Теперь в его голосе вместо возмущения звучала неприкрытая угроза.
— Не хватайся за меч, латинянин. Я своей рукой раскроил с десяток мусульманских черепов. Не заставляй же меня теперь брать грех на душу — убивать христианина. Пусть даже такого еретика, как ты!
— Что-о? — Крысуля растерялся от неожиданного отпора.
— Что ты сказал, холоп?
— Довольно! — Ефросиния распахнула дверцу кареты. — Прекратите спор! Синьор Лоренцо, дайте мне руку и проводите к торговым рядам. Я хочу присмотреть себе пару безделиц.
Кипя от ярости, Крысуля повиновался. Соскочив с коня, он помог красавице выйти из кареты и последовал за ней, бросая время от времени уничтожающие взгляды на возницу. Но тот был занят тем, что перебирал в пальцах вожжи и даже не смотрел в сторону молодого генуэзца.
— Если бы не ваша воля, госпожа, я бы проучил этого грубияна. Надолго бы заставил его заткнуться!
— Конечно, конечно, — успокоила его гетера. — Впрочем, вы уже сделали это.
Придерживая левой рукой край накидки, чтобы не запачкать дорогую ткань, она медленно прошла вдоль рядов и так ничего и не выбрав, повернула обратно. Перед тем, как поставить ногу на ступеньку кареты, Ефросиния неожиданно для себя обернулась. В десятке шагов от неё бодро ковылял полусгорбленный, одетый в лохмотья старик. Почувствовав на себе взгляд, он поднял голову, встретился глазами с гетерой, насмешливо ухмыльнулся и подмигнул. Ефросиния вздрогнула и похолодела. Она не могла не узнать лица, из ночи в ночь являющегося к ней в кошмарах, этих глаз, пустых и страшных, этой недоброй усмешки. Женщина забилась вглубь кареты, сжалась в комок и мелко задрожала.
Увидев ее бледное, искаженное от страха, без единой кровинки лицо, Лоренцо сам не на шутку перепугался.
— Что с вами, госпожа?
Гетера медленно приходила в себя.
— Ничего. Нет-нет, ничего.
Она подалась вперёд и взяла юношу за руку.
— Крысуля….,- насмешливо-снисходительное прозвище, которым окрестили Лоренцо его товарищи, звучало на ее губах ласково и нежно.
— Могу ли я просить вас об одной небольшой услуге?
— Услуге? — сердце молодого итальянца радостно забилось.
— Вы — моя повелительница! Я весь мир готов положить к вашим ногам!
— Ах, зачем мне весь мир? Вы лучше….
Её глаза сузились и зло блеснули.
— Догоните и убейте этого негодяя!
— Кого убить? — Лоренцо удивленно закрутил головой.
— Побирушку, который только что прошел мимо нас.
— Побирушку? Я не ослышался?
— Да, да. Вот он, ещё не успел скрыться в толпе.
— Нищего? Но за что?
— Он только рядится в лохмотья нищего. На самом деле это очень опасный человек, он преследует меня долгое время….
— Ни слова больше! Куда побежал этот мерзавец?
Крысуля спешно отвязывал коня. Когда он сел в седло, Ефросиния рукой указала ему направление.
— Вон за тем домом из красного кирпича. Он свернул на маленькую улицу за ним.
Лоренцо кивнул и пришпорил коня.
Ефросиния откинулась на спинку сидения. Огромная тяжесть свалилась с её души. Всё! С кошмарами покончено! Не будет впредь пугающих сновидений, забудутся страхи и переживания.
Повеселевшим голосом она окликнула возницу.
— Поворачивай обратно, Эпифаний. На сегодня прогулка окончена.
Вскоре к ним присоединился второй провожатый. Он оправдывался, что-то невнятно бормотал о встреченном им старом приятеле, но нетвердая посадка в седле и красная кожа лица свидетельствовали о несколько иной причине его отлучки.
Старый попрошайка, рукавом утирая слезящиеся глаза, опрокинул себе на колени глиняную чашку. Две-три медных монетки, глухо звякнувших при падении, да ещё с десяток, надёжно припрятанных в складках лохмотьев — вот и вся его добыча. Но до конца дня еще далеко, на улицах немало народу и, как знать, может к вечеру наберётся достаточная сумма, чтобы уплатить хозяину за ночлег, а лавочнику — за кувшин вина.
Звуки шагов заставили старика очнуться. Он приподнял голову и машинально вытянул руку вперед. Открыл было рот, чтобы затянуть привычные просьбы, но задохнувшись от возмущения, так и не вымолвил ни слова. Какой-то оборванец, в котором намётанный взгляд попрошайки сразу же распознал юнца, с помощью несложных ухищрений пытающегося придать себе вид немощного старца, быстрым шагом прошел мимо и присел на корточки на противоположной стороне улицы, в десятке метров от него.
При виде конкурента кровь вскипела в жилах старого солдата. Он с трудом поднялся на ноги и хромая на каждом шаге, двинулся к противнику. Он кричал, сыпал проклятиями, размахивал палкой, стремясь во что бы то ни стало изгнать пришельца с улицы, которую по праву постоянного обитателя считал своей. И не колеблясь был готов вступить в бой, если чужак не уберется восвояси.
Всадник, в это мгновение вынырнувший из-за угла, внимательно наблюдал за этой сценой. Он то и дело переводил взгляд с одного оборванца на другого, как бы не решаясь сделать одному ему ведомый выбор.
Старик вплотную приблизился к пришельцу и видя, что тот не собирается уходить, занёс палку. Чужак, осознав наконец, что отсидеться не удастся, ловко уклонился и вскочил на ноги. Ответный удар кулаком в горло швырнул нищего в канаву. Хрипя и задыхаясь, не в силах сделать ни одного вздоха, бывший солдат медленно умирал в нечистотах, ловя угасающим взглядом детали разворачивающейся перед ним драмы.
Всадник, как бы желая заступиться за старика, пришпорил коня и помчался с обнажённым мечом на обидчика. Но тот и не думал бежать. Широко расставив ноги и сунув руку за пазуху, он не двигался с места, спокойно ожидая приближения врага. Всадник подскакал к нему, приставил острие меча к его груди и что-то коротко произнёс. Оборванец издевательски поклонился, внезапно левой рукой ухватил сжимающую меч кисть противника, резко отвёл в сторону, рванул ее на себя и, взмахнув правой рукой, прыгнул навстречу падающему телу.
Лоренцо, по прозвищу Крысуля, с легкостью пушинки выдернутый из седла, полетел на землю вниз головой. Последнее, что он успел почувствовать — это обжигающий холод металла у себя в груди.
Дознание по убийству одного из адъютантов Лонга проводилось впопыхах и быстро зашло в тупик: ни один из опрошенных не смог дать вразумительного ответа на вопрос, кому и зачем понадобилась смерть юноши. Сама Ефросиния наотрез отказалась давать показания. Более того, сразу после известия о гибели Лоренцо, она заперлась в своих покоях и несмотря на все уговоры, не покидала их, истерично требуя выставить караул подле ее дверей. Невзирая на недовольство и ропот своих и без того перегруженных службой солдат, Джустиниани выполнил ее просьбу, хотя не мог взять в толк, какие счеты могут быть у неведомых убийц к женщине, живущей на его содержании. После того, как с ней дважды случился нервный припадок, Лонг всерьез начал подумывать о переправке Ефросинии в Галату, но благоприятный для этого случай пока не представлялся. Довольно быстро, обремененный заботами, кондотьер выкинул из головы этот прискорбный случай, предоставив константинопольским властям самим распутывать нити, ведущие к убийству. Но и у полицейских приставов дел было невпроворот. И вскоре о смерти Лоренцо забыли все. Почти все.
Однако другой адъютант Джустиниани, Доменик, тот, с кем за последние дни наиболее близко сдружился Лоренцо, еще долго не мог успокоиться. По общему мнению, молодой и вспыльчивый итальянец поплатился ударом кинжала за некогда брошенные им обидные или заносчивые слова. Но кто мог за этим стоять?
Доменик не находил себе места. Это был не поединок, нет! Хладнокровное убийство, иного слова и не подберешь! Иначе зачем потребовалось лишать жизни жалкого бродяжку, невольного свидетеля этого подлого преступления? Нет, все не так просто, отнюдь. Ромейская полиция покрывает виновных, вот главная и основная причина ее медлительности! Поощряя тем самым убийство тех, кто наперекор всем тяжестям и невзгодам пересекал моря, чтобы грудью своей прикрывать отщепенцев, умеющих лишь прятаться от беды за чужими спинами. А может то были не греки, а венецианцы? Ведь всем и каждому известна душевная низость этих подонков, взращенных на гнилой почве своих топких лагун. Но утомленные службой ландскнехты неохотно слушали страстные речи оратора. Устало позевывая, потягивая крепкое пиво из кружек, они советовали Доменику успокоится или изливать свой гнев где-нибудь в другом, более подходящем для этого месте. Не желая перегибать палку, адъютант удалялся из казарм, проклиная своих соотечественников за их безмозглость и равнодушие, за нежелание мстить, отплатить кровью за кровь.
На протяжении нескольких дней, используя любой удобный случай увильнуть от службы, Доменик обходил все известные ему питейные и увеселительные заведения и донимал расспросами хозяев и посетителей. При первой же возможности, он, полагаясь на свои навыки и опыт неплохого фехтовальщика, затевал ссору и обнажал клинок. Злость кипела в нем. Лоренцо, при жизни бывший ему всего лишь товарищем по приятному времяпровождению, после своей смерти вдруг вырос в его глазах до уровня младшего брата, родича, чья пролитая кровь вопиет о возмездии.
Угомонился он лишь тогда, когда потерявший терпение Лонг, после очередной стычки извлекший его из каталажки, не поклялся самолично приковать задиру к сидению гребца на одной из галер, если он, Доменик, не прекратит своего буйства. Адъютант смирился, потому что знал — кондотьер свою угрозу выполнит. Но ненависть, переполнявшая его, продолжала находить выход в словах и поступках.
Едва ли кому в голову могла бы прийти столь невероятная мысль, что этот малозначительный и ничем не особо выделяющийся среди прочей солдатской массы человек, впоследствии оказался способен своими поступками дважды пошатнуть боевое содружество осажденных, а затем и косвенно способствовать гибели одной из величайших цивилизаций человечества.
ГЛАВА XXI
— Вон там, — Алексий указал рукой. — Под той башней.
Он усмехнулся и добавил:
— Те две осадные башни, что напротив ворот Романа, полностью завершены и скоро будут придвинуты к стенам. Сооружение же этого уродства затянулось настолько, что вызывает подозрения в истинных намерениях турок. Лазутчики в один голос утверждают — постройка затеяна для отвода глаз. На самом деле под той башней замаскирован вход в подкоп.
Стоящий рядом с ним человек согласно кивнул головой. Он был невысок ростом и сухопарен; светлые волосы, редкие у макушки, на солнце выгорели почти до соломенного цвета и длинными прядями спускались на плечи. Правая часть его костистого лица была обезображена давним, плохо зарубцевавшимся шрамом и время от времени подергивалась в нервном тике. Он перевёл взгляд с недостроенной осадной башни на две другие, находящиеся в полутора милях от первой, затем повернулся к приближенному Феофана.
— Похоже, так и есть, — задумчиво проговорил он. — Турки даже не потрудились убрать подальше вырытую ими землю.
Он помедлил и задал вопрос:
— Правильно ли я понял, что работы ведутся третью неделю?
— По меньшей мере, они начались две недели назад.
Человек с изуродованным лицом хмыкнул и пожал плечами.
— Судя по количеству выброшенной земли, мусульмане не могли продвинуться далеко. В лучшем для них случае, они преодолели лишь треть необходимого пути.
Алексий чуть качнул бровями.
— Пусть так. Но мы должны заблаговременно подготовиться и принять меры. Поэтому совет димархов счел нужным воспользоваться услугами опытного человека. Таким, каким по общему мнению, являешься ты, мастер Иоанн.
Его собеседник признательно наклонил голову.
Иоганн Немецкий, которого одни считали выходцем из саксонских земель, а другие — уроженцем ещё более отдаленной Шотландии, долгое время работал инженером на медных рудниках и по праву слыл знатоком устройств земляных сооружений. Ещё до подхода османских войск он принимал участие в реставрации полуразрушенных стен Константинополя и разработал эффективный метод очистки крепостного рва с помощью подъёмных платформ. То, что византийцы, обнаружив подкоп, обратились именно к нему, мало удивило инженера. Напротив, он был бы глубоко уязвлен, если бы ликвидацию подкопа поручили кому-нибудь другому.
Не сводя прищуренных глаз с одинокой осадной башни, он беззвучно шевелил губами, как бы складывая или вычитая в уме невидимые столбцы цифр.
Молчание затягивалось. Алексий начал терять терпение.
— Что надо предпринять, чтобы предупредить врага? — резко спросил он.
Инженер взглянул на него с плохо скрытым удивлением.
— Что предпринять? — переспросил он. — Конечно же, рыть встречный подкоп.
— С какой целью?
— Обнаружив приближение врага, мы заложим в подкоп пороховую мину и взорвём её.
Настал черёд Алексия недоумённо смотреть на инженера.
— Каким же образом можно обнаружить врага под землей?
— Это не сложно. С помощью слуховых трубок, — Иоганн изобразил руками некое подобие большой воронки.
— Приложив слуховую трубку широким концом к земле, мы будем прослушивать шумы в почве и по постепенному нарастанию звуков, определим близость неприятеля.
— Подобным же образом, прижав ухо к земле, дозорные следят за перемещением вражеской конницы, — согласно кивнул византиец.
— Мастер понял мою мысль. Правда, поначалу нелегко будет определить точное направление подкопа. Из-за неопытности турок линия подземного хода может сильно отклониться от прямой.
— И тогда тоннели далеко разойдутся в толще земли?
— Чтобы этого не произошло, под прямым углом к подкопу роется длинный коридор, обойти который осаждающие едва ли сумеют.
— Но разница в глубине подкопов может быть весьма велика.
— Я уверен в обратном, — отвечал Иоганн. — Вражеские инженеры наверняка измерили глубину рва, ведь именно на этом участке она меньше, чем в других местах, и рассчитали приблизительные размеры фундамента стен и башен.
— Следовательно….
— Поэтому они будут двигаться на минимально допустимой глубине. Так, чтобы только не задеть дна рва.
— Это мы можем лишь предполагать, — возразил ромей.
Инженер отрицательно покачал головой.
— Мастер забывает, что неподалёку протекает река Ликос, а меньше чем в миле находится заболоченная часть залива Золотой Рог.
— И о чем это говорит?
— Это означает, что земля под городом насыщена грунтовыми водами. Попытки вырыть более глубокую шахту обречены на провал — её очень скоро затопит водой, откачать которую невозможно будет даже корабельными помпами.
— Но если тоннели все же разойдутся, — продолжал настаивать Алексий, — Какую пользу принесёт взрыв пороха?
— Сотрясение будет настолько велико, что крепёжные балки и перекрытия…..
— Балки? — перебил приближенный Феофана.
— Да, балки, — терпеливо пояснял Иоганн. — Когда роется тоннель, потолок его укрепляется специальными стояками, которые поддерживают свод наподобие колонн и предотвращают осыпание земли.
— Значит, если взрывом те балки будут выбиты с мест…..
— Потолок обрушится на головы вражеским землекопам, — докончил инженер.
— И заживо погребёт их, — удовлетворение Алексия выразилось в слабой как тень улыбке.
Инженер кивнул и повернулся к недостроенной башне. Достав из напоясной сумы измерительный инструмент, он нацелил его на вход в подкоп и по шкале принялся определять расстояние от стен.
— Но ведь может быть и так, что тоннели сойдутся точка в точку? — вслух продолжал рассуждать Алексий.
Иоганн подтвердил это.
— В таком случае, не будет ли наша часть подкопа служить продолжением вражеской?
— Может быть. Если враг, к несчастью, сумеет овладеть нашим подкопом. Очень редко, но такое случается при нерасторопности осажденных.
— Риск велик, — нахмурился Алексий. — Мне трудно вообразить схватку между землекопами в глубине земли. Но еще более чудовищна для меня мысль своими руками прорыть врагу проход в город.
Инженер оторвался от шкалы дальномера и сделал пометку на навощенной табличке.
— Этого не произойдет, — уверенно заявил он. — Вырыв лаз на определенную глубину, мы проделаем вдоль него уже упомянутый мною коридор и забьём его бочками с порохом. Днём и ночью в камере будут дежурить подготовленные люди со слуховыми трубками. Заметив приближение неприятеля, они подожгут фитиль и покинут подкоп. После того, как последний «слухач», как мы зовём этих людей, выйдет из лаза, в нашем распоряжении останется не менее нескольких часов, чтобы завалить выход из тоннеля камнями и землей и уложить поверху массивную плиту. Этим мы увеличим мощь взрыва.
— Не пострадают ли от пороха стены и башни?
— Могут пострадать, если подкоп вести от внутренней черты города. И совершенно безопасно, если начало будет взято на крепостном валу.
Он усмехнулся.
— Чтобы замаскироваться, мы должны будем, подобно неверным, соорудить нечто похожее на это непотребство.
Иоганн кивнул в сторону деревянной башни.
— Это твоя забота, мастер, — в тон ему отвечал византиец. — Но можно постараться и придумать нечто более целесообразное.
Дальний грохот сотряс воздух. Они одновременно повернули головы: со стороны ворот святого Романа, возле самой черты укреплений вырастал столб земли и щебня.
— Орудие венгра? — спросил инженер.
— Да, — глухо отозвался Алексий.
Иоганн сокрушенно покачал головой.
— Где только раздобыл султан этого христопродавца? Его пушка одним выстрелом вреда приносит больше, чем вся остальная батарея мусульман.
Как бы желая опровергнуть его слова, тут же зарявкали другие орудия.
— Пороху им не занимать, — продолжал говорить инженер, — Вся Анатолия роет для них селитряные ямы.
— Не беда, — непонятно отозвался Алексий. — «День гнева» близок. Он разом лишит нехристей и пороха, и пушки, и самого иуды.
Он сделал несколько шагов к выходу из башни. У самых ступеней приближённый Феофана повернулся к инженеру.
— Наши люди во вражеском лагере могут сообщaть достоверные сведения о глубине и направлении подкопа.
— Это сильно облегчит мне задачу. Равно как и знание длины уже пройденного турками пути.
Алексий кивнул и стал спускаться по ступеням.
Двое горожан, мужчина и женщина, шли вдоль темных улиц города. В руках женщина несла масляный фонарь и время от времени приподнимала его, освещая своему спутнику неровные участки дороги.
— Я все-таки не понимаю, — недовольно произнес Роман, в очередной раз споткнувшись о выпирающий из кладки булыжник, — Зачем надо было оставлять лошадь так далеко, за несколько кварталов от этого места. Калечить ноги об эти камни — удовольствие небольшое.
— Ах, — вздохнула его провожатая, Дария, служанка из дома Димитрия Кантакузина, — Это все из-за того, что мастер так мало проводит времени пешим. Все лошади да лошади, так недолго вскоре и вообще разучиться ходить на своих ногах.
— Отмахала бы ты за день столько, сколько я, по-другому бы заговорила, — отозвался молодой человек.
— Ой, да куда уж нам! Мы же все больше с тряпками, да с щелоком дружим, — согласилась служанка. — Где уж там на лошадях-то разъезжать!
— Так значит, ты говоришь, госпожа Алевтина ожидает меня этой ночью, — спросил Роман, меняя тему.
— Да уж доверься мне, господин, — хмыкнула Дария, искоса взглянув на него. — Не ты ли сам своими глазами читал ту записку, которую я давеча передала тебе из рук в руки? Что было в ней, что не было — мне не ведомо, грамоте-то я не обучена. А уговор на словах я передала точно. В каком часу, у какого места и где оставить лошадь, чтобы не привлекать лишнего внимания — все, как велел доложить Фома.
— Фома? Это еще кто?
— А это конюх нашей госпожи. Очень большой проныра.
— Надеюсь, не такой болтливый, как ты.
— Это уж не изволь беспокоиться, мастер. Молчун, каких и не сыщешь.
— Что ж, уже неплохо. А то с тобой не соскучишься — трещишь как сорока. Даже уши начало закладывать. Хорошо еще, что всех обывателей по пути не перебудила.
— А чего бояться-то? Мастер весь из себя такой видный рыцарь. И меч у него на поясе длинный-предлинный! Сам любого напугать может. Только кто высунется из окошка полюбопытствовать, он его — ба-ацц! — железякой своей по макушке — и запихнет обратно!
— Поменьше мели языком, — с досадой проговорил Роман. — Если я чего и опасаюсь, то только за честь Алевтины. И меч за поясом лишь потому, что враг под стенами города и меня в любой момент могут вызвать на мой участок.
— Ах, да! Я и позабыла! Мастер-то у нас начальник не из мелких! — служанка невинно захлопала глазами. — А мастер Димитрий, начальник нашего мастера, знает, где этой ночью будет один из его командиров?
— Ну, для того, чтобы вовремя призвать его на службу, — быстро добавила она, почувствовав, что гнев начинает закипать в Романе.
— На этот случай я известил своего оруженосца. Того самого, которому передал коня. И довольно болтать глупости, прикидываясь дурочкой. Если у меня лопнет терпение, я прикажу завтра утром высечь тебя на конюшне.
— Но для этого мастеру поначалу придется раздеть меня, — хихикнула девушка. — Или уж по-меньшей мере задрать на мне юбку. Интересно-то как! А на чьей конюшне он будет сечь меня? Если у мастера Феофила, так у меня там есть знакомый конюх. Вот кому в радость-то будет эта порка!
— Не сомневаюсь, найдется достаточно мужчин, для которых высечь тебя — большое удовольствие, — холодно произнес Роман. — Мало того, что у тебя язык без костей, ты еще и развращена сверх всякой меры. Но довольно болтовни, мы уже почти пришли.
— Сейчас, сейчас, мастер, — она быстро прошла вперед и подойдя к воротам, тихо постучала по ним.
Из-за боковой колонны ограды отделилась темная приземистая фигура и обменявшись с Дарией несколькими словами, слуга принялся возиться с запором.
— Добро пожаловать, мастер, — привратник чуть отступил в сторону и согнулся в полупоклоне. — Моя госпожа ждет тебя.
— Как твое имя? — спросил Роман, пока они шли по направлению к входным дверям в особняк Палеологов.
— Зови меня Фомой. Я главный конюх при дворе мастера Феофила, — отвечал тот. — Только сегодня, по уговору со сторожем, я заменил его на воротах.
— А еще он молочный брат своей госпожи, — лукаво ввернула Дария, семеня чуть сбоку от них. — Но надо сказать, что молоко кормилицы, сделав из госпожи красавицу, совсем не пошло на пользу ее сотрапезнику. Разница между ними видна даже слепому: если госпожа благоухает заморскими эссенциями, то тот, кто взрастился с ней вместе на одном молоке, весь до костей пропах лошадиным навозом.
Мужчины остановились так резко, что болтушка едва не наскочила на них.
— Попридержи язык, женщина, — грозно произнес Роман.
— Ты и впрямь испытываешь мое терпение.
Конюх тоже открыл было рот, но передумал, хотя суставы его сжатых в кулаки пальцев захрустели весьма отчетливо.
— Прости меня, мастер, — подобрав юбки, Дария присела в полупоклоне, сообразив, что на этот раз она действительно едва не переступила опасную черту. — Я не хотела злословить. Прости меня и ты, любезный Фома. Я никого не хотела обидеть. Я разболталась, это правда, но причиной тому — мое волнение: ведь не каждый же день случается сопровождать влюбленного на первое свидание.
— Фома, — после короткой паузы произнес Роман. — Похоже, ты с этой женщиной в близких отношениях. Почему бы тебе не приказать своей подружке заткнуться?
— Заткнись! — рявкнул ей Фома.
— Уже! — покорно согласилась служанка.
Проведя гостя по широкой, устланной коврами лестнице на второй этаж, конюх указал ему на чуть приоткрытую дверь в конце освещенного коридора.
— Там покои моей госпожи.
— Хорошо, ступай, — Роман сунул ему в руку несколько серебряных монет.
— Когда господин захочет покинуть нас, пусть он дернет пару раз за розовый шелковый шнурок, что протянут в покоях госпожи. Я приду и выведу его за ворота.
— А за воротами господина буду поджидать я, — подхватила Дария. — Я доведу мастера до самого его дома.
— Благодарю, — сдержанно произнес Роман. — Обратную дорогу я как-нибудь и сам найду.
Слегка кивнув им головой, он поправил меч на поясе, а точнее задвинул его поглубже за спину и решительно вздохнув, направился вдоль коридора к двери, откуда еле слышно доносился мелодичное пение струн.
Алевтина сидела на небольшом стульчике перед золоченной рамой арфы и, чтобы скрыть волнение, перебирала пальцами туго натянутые струны. Услышав шорох открывающейся двери, она вскочила и непроизвольно отступила на шаг.
— Добрый вечер, прекрасная Алевтина, — Роман согнулся в глубоком поклоне.
Девушка почувствовала, как краска заливает ей лицо и шею.
— Приветствую тебя, мастер, — еле произнесла она в ответ.
— Я не могу выразить свое счастье, видя тебя вновь…., - начал Роман.
— Я уступила твоим просьбам…., - перебила Алевтина и не решаясь взглянуть на него, отвела взгляд к окну. — Я не знаю, правильно ли поступила я, позволив тебе прийти сюда в этот час….
— Я настаивал на встрече потому, что давно и сильно люблю тебя, — энергично тряхнул головой Роман. — Дня не проходило, чтобы я не думал о тебе, не вспоминал твои глаза, твои губы, твою улыбку…. Твой голос в моих ушах, все сны мои полны тобой!
Она сжала руки и полуобернувшись, сделала два шага в сторону окна.
— Твои слова переходят грань приличия.
— Пусть так! Я молю о снисхождении за то, что не в силах сдержать себя в рамках условностей.
Он быстро пересек разделяющее их пространство и опустившись на одно колено, взял ее руки в свои.
— Мне трудно говорить — чувства переполняют меня. Много раз в своем воображении я представлял себе нашу встречу. Но вот этот час настал, а я не могу найти даже простых слов….
— Встань, — прошептала она, полуприкрыв веки.
Роман поднялся с колена, не выпуская ее рук.
— Ангел мой! — он наклонил к ней лицо. — Не прогоняй меня сегодня!
Она обхватила его голову руками и несмело прижалась губами к его лбу.
Не в силах более сдерживаться, он подхватил ее на руки и задыхаясь от пьянящего аромата ее волос, быстро понес ее к широкому, покрытому розовым шелковым покрывалом ложу. Там, осыпая поцелуями прильнувшее к его плечу лицо, торопливо, путаясь в крючках и застежках, принялся быстро и неумело высвобождать девушку из ее одежд.
— Благородная кровь — это всё-таки что-то да значит! — мечтательно протянула Дария, не отрывая глаз от щелки в стене, через которую легко можно было наблюдать за происходящим в соседней комнате.
— Какая любовь, какая страсть! Куда уж нам, с суконным-то рылом….
— Последнее время ты говоришь загадками, — обиженно произнес Фома, поглаживая рукой ее крутое бедро и придвигаясь поближе.
— Чем это простая кровь, наша кровь, — он специально выделил предпоследнее слово, — не по душе тебе?
— Только лишь тем, глупый, что простая она, — ответила девушка, оторвавшись от смотровой щели в стене и в упор насмешливо глядя на него. — Простая и жидкая. Вот посмотри….. Нет, лучше послушай! У твоей госпожи с ее кавалером любовь пошла уже по пятому кругу. Пять раз за один вечер! И по всему видать — до конца еще далеко. А у тебя? Ну? Сколько там получилось у тебя? Молчишь? Ну молчи, молчи….
Она вроде бы в шутку, но в то же время довольно сильно толкнула его в лоб. Фома едва не опрокинулся с кровати и удержался, лишь крепко ухватившись за край простыни.
— Я? А что я? — проворчал он с досадой, хотя и несколько смущенно. — Говорят тебе, я устал. Весь день возился с лошадьми. Чистил их, поил, давал овса. Думаешь, это так просто? Это тебе не тряпкой махать.
— С лошадьми? — едва не зашлась в хохоте Дария. — Ах да, чуть не забыла — ты же в них души не чаешь! Вот только зачем тебе я? Отправляйся в стойла к своим красоткам и люби их там, всех по очереди. Может тогда, среди них, ты почувствуешь себя мужчиной!
— Ну хватит, разболталась…., - оскорблено начал Фома.
— Ты говорил, твой отец — рыбак? — перебила она.
— Ну, говорил. Так оно и есть.
— Теперь мне понятно, откуда в тебе рыбья кровь и глупые осьминожьи глаза!
— Послушай, перестань сквернословить. Ты говори, да знай меру!
— Вот мужчина, так мужчина! — зашептала она, вновь припадая взглядом к щелке в соседнюю комнату. — Быстрый, сильный, жадный до любви и щедрый до ласки. Даже одеяла все с себя скинул, так должно быть разогрелся от страсти!
— Дай посмотреть! — Фома потянулся было к отверстию, но подруга вновь оттолкнула его.
— Уйди, постылый! Не порть мне удовольствие.
Она легонько вздохнула.
— А красиво-то как! Хотела бы я быть сейчас на месте твоей госпожи.
— Вот еще, размечталась! — неприятно усмехнулся Фома, порадовавшись возможности отыграться. — Да он на тебя и не взглянет! У него другая на примете. Станет он развлекаться со служанками, когда по нему такая красавица-госпожа сохнет.
— Тебе-то почем знать, глупый, взглянет он или нет, — загадочно улыбнулась Дария и обхватив за шею своего любовника, прижала его лицо к своей обнаженной груди.
— Какой мужчина откажется от такого тела?
Но даже если бы Фома и захотел ответить, едва ли его речь была бы членораздельной: его рот и язык были заняты в это время другим.
Некоторое время Дария лежала без движения, молча наслаждаясь ласками любовника, затем ее рука скользнула вниз, к паху мужчины, на несколько мгновений задержалась там, затем поползла обратно и вынырнув из-под тела, расслабленно легла на простыни. Женщина удовлетворенно вздохнула, откинулась на спину в полный рост и слегка раздвинула ноги, принимая более удобную позу.
ГЛАВА XXII
На рассвете одного из дней осадные башни начали медленно придвигаться к крепостным стенам. Гигантские сооружения катились вперед, неуклюже переваливаясь на неровностях плохо утрамбованной почвы; на широких платформах возвышались трехэтажные перекрытия из массивных древесных стволов, под днищем оглушительно и протяжно скрипели колеса из цельнорубленных стволов дерева. Передняя часть и бока башен были обтянуты толстыми воловьими шкурами и обильно смочены водой для защиты от зажигательных стрел врага. Верх осадных сооружений представлял собой широкую площадку с наклонными бортами для прикрытия засевших там лучников и пехотинцев; навес над их головами при необходимости легко превращался в перекидной мостик.
Воловьи упряжки вращали огромные барабаны, которые круг за кругом наматывали на себя толстые пеньковые канаты. Канаты крепились к передней части башен и пропущенные через подвижные оси на вкопанных в землю столбах у самой кромки рва, подтягивали платформы вперед, к крепостным стенам. Впереди гелеполей двигалось несколько десятков бревенчатых щитов с укрывшимися за ними пращниками и джебелями: они должны были защищать башни от возможной вылазки врага. В свою очередь, джебели находились под охраной конницы, патрулирующей проходы между щитами.
Намерения турок были легко разгадываемы и мало отличались от шаблона: под прикрытием пехоты подтянуть осадные башни к кромке крепостного рва и пользуясь преимуществом в высоте, осыпать защитников ливнем стрел и дротиков. Затем, когда стойкость горожан ослабнет, заполнить участок рва охапками хвороста, без помех перебраться на другой край и разом наброситься на не осмеливающегося поднять голову от укрытия врага. После чего уже не составило бы труда переправить по перекидным мосткам сами башни и подтянуть их вплотную к крепостным стенам.
Византийцы загодя подготовились к штурму. Из камнеметов навстречу бревенчатым щитам полетели горшки с пламенной смесью; над атакующими шеренгами повисла завеса черного густого дыма. Но даже объятые огнем, щиты продолжали служить защитой от ядер и стрел. Осаждающие упорно пробирались вперед, надсадно кашляя и задыхаясь в едкой гари. Всадники отступили: кони обезумели при виде пламени, дико храпели, вскидывались на дыбы, топтались на месте, отказываясь подчиняться седокам. Зажигательные снаряды не щадили никого — неуберегшиеся от брызг огненной смеси, окутанные языками огня с ног до головы, визжа как тысячи бесов, неслись прочь, вместе с кожей срывая с себя пылающую одежду. И вскоре затихали, валяясь на земле уродливыми, смрадными головёшками.
Атака продолжалась вопреки усилиям горожан. Щиты удалось подтянуть почти к самой кромке рва. Вслед за ними, величаво раскачиваясь, придвинулись и башни. Горючая смесь была бессильна против мокрых воловьих шкур — от страшного жара кожа коробилась, открывая второй слой натянутых шкур. На эту следующую преграду силы огня уже не хватало. Турки готовились праздновать успех, но в это время противник нанёс неожиданный и весьма чувствительный удар.
Мало кто из осаждающих заметил дымовую змейку, пробежавшую от рва к подножию одной из башен. Земля дрогнула под ногами осаждающих и выплеснула вверх фонтан огня, дыма и камней. Когда ветром разволокло облако пыли, на месте сооружения в двадцать с лишним ярдов высотой зияла огромная воронка, усеянная по краям обломками дерева и кусками разорванных человеческих тел. Уцелевшие после взрыва воины в панике разбегались по сторонам; второй гелеполь прекратил продвижение.
Потрясение было настолько велико, что турки не сразу уяснили себе суть происшедшего: византийцы, заранее вычислив маршрут продвижения башни, за одну ночь заложили пороховую мину и замаскировали её так, что сумели не вызвать подозрений ни у одного из вражеских инженеров.
Ликование на стенах Константинополя сравнимо было лишь с растерянностью и упадком духа в турецком лагере. Многие, от пашей до простых солдат, оправившись от первого потрясения, поспешили обвинить во всем злых духов, к помощи которых колдуны неверных так любят прибегать в критический для себя момент. Однако Исхак-паша не дал разрастись мистическим страхам. С помощью конных чаушей он вернул бежавших солдат на прежние места и подкрепив боевой задор своих воинов тремя полками тимариотов, приказал немедленно начинать атаку.
В тот день впервые осаждающие увидели ворота Константинополя открытыми. Широкий строй закованных в броню всадников выехал из них и быстро устремился к перекидному мосту через ров.
Три сотни воинов, принимавших участие в кавалерийской вылазке Кантакузина, с почётом возвращались в Константинополь.
Одним строем они удалялись от Адрианопольских ворот вглубь города, пугая и восхищая жителей своими забрызганными кровью доспехами. В хвосте колонны, где преобладала молодёжь, слышны были смех и хвастливые выкрики. Бегущие вслед подростки жадно ловили каждое слово.
— А когда мастер Димитрий скомандовал: «Вперёд, христиане!», то-то задали стрекача эти хвалёные турки!
— Поначалу-то они ещё забрасывали нас стрелами и копьями, но когда увидали, что против нас их оружие, что птичьи клювы против вепря, мигом показали свои спины.
— Вот умора была! Бегут и вопят: «Бессмертные! Бессмертные!»
— Много голов посекли, да жаль клинок притупился. Не каждый точильщик возьмётся исправить.
— А помните, когда их конница попыталась преградить нам дорогу?
— Я! Я видел это! — подал голос юнец, бегущий рядом с всадником и, чтобы не отстать, держащийся за его стремя.
— …с площадки башни. Разлетелись в стороны, как волна об утес!
— Да уж, было дело. Заляпались в их кровище — вовек не отмоешься!
— Возница-то наш, Эпифаний! Вот герой, так герой! Сам поджёг фитиль и на полном ходу вогнал повозку с порохом в уцелевшую башню.
— Жаль беднягу: какой-то янычар сумел-таки достать его копьём.
— Зато теперь он на небесах. Тебе, греховоднику, такое и не снилось.
— Так-то оно так, да вот по-христиански его уже не похоронишь: ни клочка от него не осталось.
— Да только ли от него одного? Турки, что на башне сидели, сперва вопили истошно и копьями швырялись, а когда поняли, что дело худо, один за другим стали прыгать вниз.
— Ха-ха! Как вспомню эту потеху, живот со смеха болеть начинает!
— Конец всем один пришел: ошмётки сыпались с неба — успевай только уворачиваться.
— То-то будет поживы псам и воронью!
Пожилой сотник с белыми как снег волосами, повернулся в седле и укоризненно покачал головой.
— Попридержите языки, неугомонные! Не дело это, глумиться над смертью.
Латники на мгновение притихли, затем чей-то голос задорно выкрикнул:
— Ты что же, Поликрат, нечестивых жалеть вздумал?
— Нет, безусый, не жаль мне вражеской крови. Да только не по-людски это — погибать от дьявольского зелья. Такое остаётся от человека — смотреть и то грех!
Он в сердцах сплюнул на дорогу.
— А ты не смотри — и греха не будет, — с хохотом возразил юноша и пришпорил коня.
— Верно говорит! Турки — они же как волки, жадные и голодные. Так пусть им и смерть волчья будет!
Следуя в замыкающем отряде, Роман с трудом улавливал смысл слов окружающих. Удар, полученный в бою, оглушил его настолько сильно, что даже воспоминания об удачной вылазке были смутны и расплывчаты.
Как сквозь туманную пелену в голове он припоминал, как разогнав отряды пехотинцев, ромейские всадники устремились от Маландрийских ворот к северной оконечности города; как преграждая им путь, ринулись навстречу полки тимариотов. Завязался непродолжительный, но жестокий бой, один из тех, о которых очевидцы говорят с ужасом и восторгом, а участники не могут забыть и до глубокой старости.
На полном скаку перестроившись в клин — испытанный метод борьбы с сарацинской конницей — византийцы напролом врубились в середину вражеского строя. Над равниной грянул и завис беспощадный звон железа. Окрестности огласились боевыми кличами, топотом и ржанием лошадей, выкриками боли и ярости, стонами раненых и умирающих. Люди и кони сплелись в один клубок, поверх которого мелькали руки с заносимыми мечами, саблями и булавами. Летели в стороны обломки щитов и копий; искры сыпались из-под клинков, как на точильном камне. Подобно связкам встряхиваемых цепей лязгали сочленения доспехов, трещали под ударами панцири и шлемы, гулко грохотали окованные медью и железом щиты.
Неистовая жажда убийства овладела всеми, мольбы о пощаде не встречали сочувствия. Упавшего на землю ждало увечье или смерть: кони топтали сраженных, дробили им кости, спотыкались и скользили на мокрых от крови телах. Некоторые скакуны, вконец обезумев, вскидывались на дыбы и молотили передними копытами, другие лягались как дикие ослы; третьи, храпя и скалясь, тянули шеи, чтобы зубами ухватить за ногу чужого седока.
Огромные клубы пыли медленно расползались над местом схватки, скрывая происходящее от взглядов окружающих. Прибывшие на подмогу турецкие всадники, не в силах распознать неприятеля, растерянно топтались на месте, со смятением на лицах вслушиваясь в ужасающие звуки сражения. То и дело из пылевой завесы вырывались кони с пустыми седлами на хребтах и дико храпя, с налитыми кровью глазами, неслись прочь, не разбирая дороги.
Роман, находящийся в первых рядах построения, не уберегся: округлый шлем, поначалу неплохо защищавший от вражеских клинков, просел под ударом палицы тимариота и съехал вперед, закрывая глаза. Упругий кожаный наголовник смягчил тяжесть удара, но сотрясение было так велико, что у сотника на мгновение помутилось в голове. Полуоглохший от удара, полуослепший от сдвинутого забрала, он некоторое время разил мечом наугад, затем улучив момент, локтем возвратил шлем на место.
Что было потом, он помнил плохо. В яростной сече, на фоне беспрерывно колышущегося моря рук, голов и спин, заносимого оружия и оскаленных лошадиных пастей, то и дело всплывали у него перед глазами размытые от быстрых телодвижений силуэты неприятельских бойцов в остроконечных шлемах. И тогда он во всё плечо замахивался мечом и….. Рука, в короткий срок привыкшая убивать, наносила ряд безошибочных ударов.
От недостатка воздуха под тесным забралом он задыхался; смешанный с пылью горячий пот разъедал глаза, кровь громко шумела в голове и звоном отзывалась в ушах. А может то был звон скрещиваемых клинков? Роман не знал. Он и не думал об этом, как не думал ни о чём другом. У него не оставалось времени даже на самые простейшие мысли. Он успевал только отбивать наскоки вражеских наездников и вкладывать всю силу в ответные удары.
Основная тяжесть сражения легла на рыцарей головного отряда. Не менее десятка турок, теснясь и отталкивая друг друга, наседало на выдвинувшегося вперед Кантакузина. Щедро раздавая по сторонам удары тяжёлого шестопёра, непобедимый, как герой из древних преданий, он упорно расчищал себе дорогу в плотном скоплении неприятеля. Закованный с ног до головы в броню, в глухом шлеме с узкой прорезью для глаз вместо забрала и со стальными выростами особой формы рожек по бокам, в которых то и дело застревали или ломались вражеские клинки, он был неуязвим для копий и мечей. Его могучий рыцарский конь грудью опрокидывал легконогих турецких лошадей, подминал под себя сброшенных наземь всадников.
Клин византийской конницы всё глубже взламывал строй тимариотов. Не в силах пробить латы горожан, турки обращали оружие против их лошадей. Но и это приносило мало пользы — кони надёжно были защищены кожаными попонами с нашитыми на них стальными полосами.
Тела убитых османских воинов густо покрывали поле битвы. Ни одно войско, как бы не были храбры и отважны его воины, не выдержало бы столь чудовищного избиения: тяжёлые мечи византийцев разили без промаха и без пощады, шутя разрубая кожаные доспехи степняков. Оружие тимариотов бессильно было против врага — тонкие клинки сабель и ятаганов не способны были состязаться с железом панцирей и зачастую просто разлетались от ударов.
Вскоре, несмотря на свой более чем десятикратный численный перевес, полки турецкой конницы дрогнули и поползли в стороны, спасаясь от полного истребления. Заметив отступление, горожане усилили напор и турки, вконец расстроив ряды, обратились в беспорядочное бегство.
Не понеся серьезного урона, византийцы продолжили путь к северной оконечности города и въехали в столицу через Адрианопольские ворота.
Роман, оглушенный ударом вражеской палицы, до конца сражения полностью оправиться так и не сумел. Когда схлынул душевный подъём, вызванный яростью и опьянением боем, и опасность осталась далеко позади, он ощутил подступившую к горлу тошноту и постепенно нарастающее головокружение. Хотя в глазах временами темнело, а уши наполнял неприятный звон, он не слезал с коня и даже находил в себе силы отвечать на улыбки и приветствия горожан.
«Только бы добраться до кровати», — думал он, крепко сжимая коленями округлые бока коня.
ГЛАВА XXIII
Костёр, в который более не подбрасывали дров, медленно угасал, постреливая напоследок пучками искр. Стефан зевнул, потянулся, на лету подхватил сползающую с плеч куртку и поднялся на ноги. Несколько человек, войнуков из сербского полка, в кружок сидящих у костра, повернули головы в его сторону.
— Спать? — лениво осведомился один из них.
— Притомился сегодня. Да и поздно уже — за разговорами полночи пролетело.
— Верно, отдыхай. Завтра начинать по новому.
— Это уж точно. — откликнулся кто-то. — Турки нас в покое не оставят. Вновь, как скотину, погонят на приступ.
Стефан махнул рукой и направился к почти неразличимым в темноте повозкам. Он шел медленно, глядя себе под ноги и стараясь не наступить на лежащих вокруг людей, устроившихся на ночлег прямо на голой земле. Дойдя до телеги с пожитками односельчан, он тихо чертыхнулся: все места под днищем повозки были заняты. Досадливо бормоча себе под нос, он отошел в сторону, нащупал ступнями небольшое углубление между двуми кочками, поплотнее запахнул вокруг тела длиннополую меховую куртку и лег на землю, положив руку под голову. Впоследствии он так и не смог припомнить, как долго он проспал. Пробудившись от толчка в плечо, он испуганно дёрнулся, попытался было вскочить, но быстро передумал: острое лезвие, режущим краем приставленное к горлу, уложило голову обратно.
— Тихо, — властно произнёс незнакомый голос. — Не вздумай трепыхаться или звать на помощь.
Стефан только и смог в знак согласия слегка кивнуть головой. Холодея от страха, он плотнее вжался затылком в землю, стараясь ослабить нажим железа на кадык.
— Кто ты? Что тебе нужно? — шепотом попытался он вступить в переговоры.
— Не торопись, — предостерёг незнакомец. — Вскоре узнаешь всё, что я сочту нужным тебе сообщить.
Он оглянулся по сторонам, мгновение помолчал, затем продолжил:
— Помнишь ли ты своего старшего брата?
— Йован? — войнук растерялся.
Чуть приподняв голову, ровно настолько, насколько позволило это сделать лезвие ножа, он пристально, до боли в глазах, стал вглядываться в неразличимые в темноте черты лица незнакомца.
— Йован, ты ли это? Но нет, у тебя другой голос, выговор чужака….
— Ты прав, я не Иоанн…..
Только сейчас войнук обратил внимание на своеобразное, с заметным чужеземным акцентом, произношение незнакомца.
— Твой брат отважно сражается в защиту Святой Церкви и уже успел покрыть своё имя почётом и уважением. Третьего дня копьё нечестивца ранило его в грудь. И хотя сейчас его жизнь вне опасности, за ним неусыпно наблюдают монахи при госпитале монастыря Святых Апостолов.
Стефан молчал, не зная, что ответить.
— Ты же в то время, не щадя своих сил и жизни, прислуживаешь подсобникам дьявола, позоришь славное имя своего брата.
— Неправда! Я не хотел, меня заставили. Если бы я не пошел с нехристями, они отняли бы у меня мою землю, забрали бы детей и пустили по миру стариков-родителей. А то и попросту продали бы нас в неволю.
Он еле сдержал стон. Затем осторожно дотронулся кончиками пальцев до лезвия кинжала.
— Убери нож, я не закричу, — жалобно попросил он.
Незнакомец, судя по выговору — грек, отнял руку. Стефан сел и бережно ощупал шею.
— Йовану хорошо, — принялся оправдываться он. — Мой брат не любил труда и всегда искал лёгкой жизни. И потому, едва ему минуло семнадцать лет, он ушел с отрядом ландскнехтов, навсегда покинул земли предков. Я же остался, чтобы было кому ходить за скотиной, валить лес, в поте лица обрабатывать надел. Выбивался из сил, чтобы прокормить стариков, а затем и свою семью.
Он всхлипнул от жалости к самому себе.
— За что мне выпадают одни лишь несчастье? Ведь это так просто, отбросить свои корни и жить перекати-полем.
— Довольно болтовни, — оборвал его грек. — Я здесь не для того, чтобы слушать твоё нытьё.
Он на мгновение взглянул в сторону темнеющих на фоне звездного неба башен Константинополя, затем вновь повернулся к Стефану.
— Слушай меня внимательно. От перебежчика Иоанн узнал, что ты находишься в лагере и объяснил мне, как проще тебя найти.
— Зачем я тебе, византиец? Я не могу показаться на стенах города. Турки мстительны: они вскоре пронюхают обо мне и вырежут всю мою семью.
— В городе и без тебя бойцов хватает. Те же, кто воюет из-под палки, пусть остаются султанам. Нет, ты нам нужен здесь и сейчас.
— Что вы хотите от меня?
— Ты поможешь нам взорвать пушку Урбана. Самую большую.
— «Пращу Аллаха»? Ты безумен, византиец! — серб попятился, упираясь пятками в землю.
— Пушку венгра стерегут зорче наложниц султана.
— Вот мы вдвоем и лишим его этой главной утехи. — последовал ответ.
Лазутчик выбросил руку вперёд и крепко ухватил Стефана за ворот рубахи.
— Ты же не откажешься помочь своим братьям по вере? — в его голосе зазвучала открытая угроза. — Узнав о твоём новом предательстве, Иоанн охотно укажет нам, где искать твою деревню.
Серб содрогнулся от ужаса. В том, что Йован сделает это, он не сомневался. С юных лет старший сын Бранковичей прославился своим крайне дурным и вспыльчивым нравом, наводил страх на односельчан необузданной жестокостью. Не раз, после очередной его дикой выходки, селяне шептались по углам, что, дескать, жена Милоша Бранковича «понесла» от дьявола. Когда же, возмужав, Йован уязался за группой бродячих солдат, все, включая самого главу семейства, вздохнули с облегчением. Стефан занял место старшего сына, о «заблудшей овце» вспоминали всё реже. Лишь иногда до деревни доходили слухи о кровавых похождениях в сёлах турок-переселенцев мстителей из числа крестьян, обездоленных завоевателями. И предводителем тех шаек называли некоего человека по имени Йован, по слухам — из местных краев.
И вот теперь, спустя почти полтора десятилетия, он вновь явился из небытия, чтобы с вершин городских стен дотянуться рукой до горла младшего брата.
— Ты же не настолько соскучился по своим домочадцам, — продолжал говорить византиец, — чтобы пожелать воотчую увидеть рядом с собой их головы?
Стефан застонал. Больше всего на свете, до зуда во всем теле, ему хотелось сейчас вскочить и бежать, мчаться прочь, не разбирая дороги. Бежать во весь дух, всё равно куда, лишь бы оказаться вдали от этой жестокой войны, от этих не знающих пощады людей. Но он не сделал ни одного движения.
— Я вижу, ты согласен, — уже в открытую насмехался лазутчик. — И даже в мыслях не держишь вогнать при удобном случае мне меч в спину — ведь мои друзья в городе знают, к кому я пошел.
— А теперь слушай и запоминай! — его голос внезапно посуровел. — Твоя задача проста. Когда я умертвлю часовых, ты подбежишь к самой крупной пушке и глубоко забросишь ей в пасть вот это.
Он бросил на колени войнуку тяжелый сверток, на ощупь напоминающий большой морской голыш, обшитый куском кожи.
— Что это? — испуганно отдёрнул руки серб. — Там внутри порох?
— Нет, — усмехнулся византиец. — Всего лишь кусок железа. Но от него пушка заглохнет навсегда.
— Почему я?! — вновь взмолился Стефан. — Почему не кто-нибудь другой?
Но лазутчик его уже не слышал. Выпрямившись, он пристально смотрел в сторону Константинополя: на одной из башен яркой звездой разгорался костёр.
— Пора! — глухо произнёс он.
Затем повернулся к войнуку.
— Довольно расспросов! — как бритвой отрезал он. — Иди вперёд и помни — одно лишнее движение….
Стефан покорно поднялся, поправил меч и шапку на голове и вскоре две фигуры растворились в темноте.
Коменданту османского лагеря, Акбаш-паше, плохо спалось в ту ночь. Приобретенное за долгие годы военной жизни некое особое чутье тревожило старого солдата. Но, увы, пока ничто не подсказывало ему, с какой стороны может явиться беда. Не снимая одежд, он то и дело ложился на софу, но тут же, томимый тревогой, вскакивал и выбегал из шатра. Беспокойно оглядываясь вокруг, он вслушивался в каждый шорох, в каждый звук, доносящийся издалека. Огромное становище крепко спало, лишь изредка сонными голосами перекрикивались часовые и лаяли своры бродячих псов, привлеченные запахами остатков пищи.
— Всё спокойно, — убеждал себя бей.
Но тревога продолжала мучить его.
— Всё спокойно, — как сговорившись, твердили ему многочисленные посыльные, которых он вновь и вновь отправлял в разные концы турецкого лагеря.
И всё же покой к старику не приходил. В очередной раз выйдя из шатра, он вдруг замер, как вкопанный, глядя на костёр, полыхающий на одной из башен осаждённого города.
— Тысяцкий! — рявкнул бей, не сводя глаз с яркого пятна.
Из-за угла шатра вынырнул огромного роста воин в полном боевом снаряжении.
— Что это? — спросил Акбаш-паша, указывая пальцем вперед.
— Это….? — растерянно повторил за ним тысяцкий.
Затем вытянулся в струнку и гаркнул:
— Похоже на костёр, мой господин!
— Я сам вижу, что это костёр, — рассвирепел бей. — Я спрашиваю тебя, тупица, почему гяуры запалили его? Кому и для чего они подают сигнал?
Тысяцкий развел плечами.
— Пусть господин простит меня, но я думаю, что караул неверных разжёг костёр для обогрева или для того, чтобы отогнать сон у часовых.
— Ты так думаешь? — недобро спросил Акбаш-паша и смерил взглядом великана. — Может быть, может быть….
— Все посты проверены? — новый вопрос прозвучал как выстрел.
— Да, господин, проверены. И неоднократно.
Некоторое время они молчали.
— Не нравится мне все это, — угрюмо бросил бей и вернулся в шатёр.
— Что могло быть причиной? — вслух рассуждал он, меряя шагами помещение от одной стены к другой. — Огромный костёр для обогрева? Как бы не так! Такое в голову могло прийти лишь этому дураку тысяцкому. Не забыть бы завтра назначить на этот пост более сообразительного командира, а того увальня послать на стены — там его настоящее место. Для обогрева! Ха! Греки слишком умны и осторожны, чтобы разводить огонь, который освещает только их, а всё остальное погружает во мрак. Они определённо подают кому-то в лагере сигнал, но кому и для чего, ведомо пока лишь им самим.
Он остановился и энергично потёр лоб.
— Что нужно предпринять, чтобы помешать им? Поднять тревогу в лагере? А если они именно этого и добиваются? Поставить на ноги людей, посеять в них страх перед ночным нападением и продержав всех в напряжении до самого рассвета, сорвать утренний штурм?
Он вновь зашагал вдоль шатра.
— Вопросы, вопросы и ни малейшего проблеска отгадки. О, если бы Аллах просветлил мой разум!
Он опустился на подушки и устало покачал головой.
— Видно, стар я становлюсь для ратных дел. Если военачальник не в силах разгадать замысел врага, он уже наполовину проиграл сражение.
— Но неужели неверные осмелятся на ночную вылазку? — продолжал размышлять он, нервно теребя пояс своего халата. — Нет, это с их стороны было бы большим безрассудством: они в темноте заплутают, разобьются на небольщие отряды и потеряют много солдат. А если пойдут в наступление с факелами, мы перестреляем их, как зайцев. В любом случае, кроме небольшого переполоха в лагере, им не добиться ничего!
Тут он услышал голос тысяцкого, встревожено зовущего его наружу. Не мешкая ни секунды, паша выскочил из шатра. В объяснениях не было нужды: еще на одной башне, в пятистах ярдах от первой, точно так же плясали языки огня.
— Не к добру это. Ох, не к добру, — бормотал старый воин.
Затем, повернувшись к подчиненному, с яростью обрушился на него.
— Так значит ты, сын свиньи и дохлого мула, говоришь «для обогрева»? Быстрее на коней! Скачите, поднимайте тревогу на всех постах!
Он осекся: со стороны пушечной батареи донёсся пронзительный крик. И тут же, как бы в ответ на него, ярчайшая вспышка озарила правое крыло османского лагеря. На краткий миг столб света вырвал из темноты островерхие шатры и палатки, черные пятна кострищ на земле и лежащие вокруг них фигуры людей. Ещё через мгновение земля покачнулась под ногами и тишина взорвалась чудовищным грохотом. Огненный смерч взлетел под небеса, выплёскивая из себя по сторонам пылающие брызги. Горячий воздушный шквал пронёсся по лагерю, сметая всё на своём пути.
Над равниной зависли вопли перепуганных людей, мечущихся во мраке в поисках спасения. Дико ржали обезумевшие лошади, неуклюже подскакивая на спутанных передних ногах; им вторил оглушительный рёв ослов и верблюдов; покладистые и безразличные до того ко всему окружающему волы оборвали привязи и, надсадно мыча, мчались вдаль, не разбирая дороги, втаптывая в землю всё, что попадалось им под копыта.
Смерть оказалась милостивой к Акбаш-паше: когда под утро тело старого полководца извлекли из под обломков шатра, оказалось, что голова его была размозжена рухнувшим опорным столбом.
Урбан упорно не желал просыпаться. Сонно бормоча, он ворочался с боку на бок, зарывался поглубже в подушку и натягивал на голову меховую доху. Тогда Мартин, один из лучших его подмастерьев, взял со стола кувшин с водой и тоненькой струйкой принялся поливать хозяину темя. Испытанный прием оказал своё действие: выкрикнув проклятие, венгр вскочил на ноги и замахнулся кулаком. Мартин проворно отбежал в сторону.
— Хозяин, ты же сам говорил: «Буди, пока не проснусь», — оправдывался он.
— В следующий раз оторву тебе руки, — пообещал венгр и мутно повёл глазами в поисках одежды.
Пока он натягивал на себя камзол, Мартин поставил на стол блюдо со вчерашней уткой и принялся нарезать хлеб толстыми ломтями.
— Что это? — рявкнул Урбан, тыча пальцем в поникший до самой земли угол шатра. — Так ты, негодяй, следишь за моим имуществом?
Мартин сочувственно присвистнул.
— Хозяин, похоже, спал очень крепко, вот и не знает ничего, — произнёс он, обращаясь к стенам.
Урбан приблизился к столу, оседлал табурет и обхватив руками голову, уставился невидящим взглядом в покрытый бурой корочкой бок утки.
— Что со мной? Как обухом по затылку. Всё так и плывёт перед глазами.
— Не беда, — бодро отвечал подмастерье. — Сегодня у многих будет плыть перед глазами.
— Что ты мелешь?
— Хозяин, ты и впрямь ничегошеньки не слышал? Ну и ну! А ведь шуму было много, очень много!
— Ты перестанешь говорить загадками? Или мне проломить тебе башку, чтобы выжать хоть что-то путное?
— Этой ночью византийцы взорвали пороховые склады. Азиатов погибло…..
Мартин сочно прищелкнул языком.
— …..тьма!
Прошло некоторое время, прежде чем до сознания венгра дошла эта новость.
— Что-о?! — завопил он, вскакивая с табурета. — Что ты сказал? Повтори!
— Пусти, хозяин! — Мартин хрипел и брыкался, пытаясь высвободиться от вцепившихся ему в горло жилистых рук.
— Ты меня задушишь!
— Какой склад? Говори! Какой склад взорвали византийцы?
— Склад на правом крыле. Основной…. Ой, пусти, хозяин!
Венгр разжал руки, схватился за голову и несколько мгновений стоял, раскачиваясь на месте и бормоча себе под нос, как невменяемый.
— Весь порох…. Всё, что завезли накануне из Тырново — всё погибло?
— А мои орудия? — вновь заорал он. — Что случилось с ними?
Урбан повернулся в сторону Мартина, который, стоя возле двери, одним глазом косил наружу, другим — опасливо посматривал на хозяина.
— Пушки целы и невредимы, — последовал ответ.
— Ты это…. Может что-то напутал? — в голосе венгра звучали просительные нотки.
Подмастерье покачал головой и выскочил за дверь.
Урбан пошатнулся, еле удержал равновесие, плеснул в кружку воды из кувшина и жадно, так, что зубы лязгнули о край, припал к ней губами.
"Почему я не слышал взрыва?» — мысли в голове ворочались медленно, как мельничные жернова. — «Ведь если это правда, то подобный грохот мог поднять на ноги даже мертвеца».
"Меня опоили!» — молнией блеснула догадка.
"Но кому и зачем это могло понадобиться?»
Перед мутным взором медленно всплыло румяное вислощёкое лицо торговца-грека. Вчера вечером, после захода солнца, он зашел в шатёр к Урбану и, пересыпая свою речь цветистой восточной лестью, повёл разговор….. О чём? Урбан потёр пылающий жаром лоб. Ах, да! Грек желал сбыть ему пятнадцать тысяч фунтов очищенной меди для отливки новых пушек. Цену он заломил несусветную и не был особенно огорчен последовавшим отказом. Уходить торговец однако не торопился и неустанно нахваливая дивный вкус, то и дело подливал в чашу собеседника вино из своей объёмистой фляги. В то время как сам едва прикасался губами к напитку. Прошлым вечером венгр был убеждён, что купец всего лишь прибегает к старому как мир способу улещивания несговорчивых покупателей. Но почему тогда так зло и мстительно блестели его глаза? Сомнения все больше охватывали Урбана.
«Если в вино был подсыпан яд, я бы не проснулся никогда. Сонный порошок? Или медленная отрава?»
Венгр терялся в догадках. Хотя он и не отличался особой сообразительностью, но всё же постепенно начинал понимать, что его заблаговременно вывели из какой-то непростой игры, в которой не последнюю роль играл взрыв пороховых складов. Дальше этой мысли он пойти не сумел.
Дверь распахнулась от сильного удара ногой. В шатер быстрым шагом вошел плечистый сотник в одеждах янычара с двумя лучниками по бокам.
— Кто здесь венгр Урбан? Ты? — отрывисто спросил он.
Мастер медленно вернул кружку на стол и распрямился.
— Я. Что тебе надо?
— Паша желает знать, почему молчат пушки.
— Как же они могут стрелять, если ваша охрана проспала вражеских поджигателей?
Юзбаши перекосился от злости и сделал шаг вперёд.
— Ни слова больше, гяурская свинья! Ты слышишь? Ни слова больше, не то я зарублю тебя.
Его рука легла на эфес сабли.
Венгр пожал плечами, оторвал утиную ногу и стал хладнокровно грызть её.
— Ты сейчас же пойдёшь на батарею и начнёшь обстрел пролома. Это приказ султана!
Урбан швырнул на стол обглоданную кость.
— Я во всём покорен воле своего господина. Однако пороху в моем личном орудийном погребе хватит лишь на три дня обстрела.
— Не твоего ума дело, гяур! Через три дня мы подвезём столько пороха, что поднимем на воздух стены этого подлого города!
Юзбаши повернулся к выходу.
— Поторапливайся, — прошипел он напоследок и так пнул распахнутую дверь, что она слетела с петель.
Пушкарь сплюнул, сорвал с крюка кожаный шлем и вышел наружу. Почти сразу же к нему подбежал молодой турок из числа орудийной прислуги и стараясь попасть хозяину в шаг, быстро затараторил, захлебываясь в словах. Урбан не останавливался, вполуха слушая сбивчивый рассказ. Поначалу турок, проклиная коварство греков, красочно описывал панику, поднявшуюся после взрыва среди войск Исхак-паши, затем перешел к основному. И только тут Урбан остановился, впившись глазами в чумазое лицо прислужника.
— …..а когда мы прибежали на крик, то увидели на земле, возле главной пушки, два бездыханных тела. Всемогущий Аллах, там была целая лужа крови! Горло одного из стражников было перерезано так глубоко, что голова почти отделилась от тела. Но второй показал себя настоящим воином: сабля в его руке была запачкана в крови нападавшего, хотя тот и успел не менее трех раз ударить храбреца кинжалом в грудь. И если не предательский удар от подкравшегося сзади сообщника убийцы, который и разрубил мечом затылок воина-героя, им бы никогда не уйти из наших рук!
— Так значит вы их упустили! — заорал Урбан, замахиваясь кулаком.
— Хозяин, я же говорю, — юноша привычно увернулся от удара, — сразу после этого был взрыв, все страшно перепугались, бегали и кричали полночи. Трудно было разобрать, где свой, а где враг.
Вспышка бешенства сменилась глубоким безразличием.
— Вы видели их? — устало спросил он. — Лазутчиков было двое?
— Да, господин, до того, как взорвались склады, бегущих было двое. Потом все вскочили на ноги, бегали, кричали, махали руками….
— До пушек они не дотронулись?
— Нет, не успели. Мы пришли слишком быстро.
— Слишком быстро…, - усмехнулся венгр. — Что ж, и на том спасибо.
Он медленно обошел бруствер, на глаз отметил расстояние от кровяной лужи до ствола орудия, затем поднялся на лафет и беглым взглядом осмотрел запальник. Порох в канавке уже успели заменить на сухой, оставалось только поднести фитиль. На всякий случай венгр проверил прицел и правильность наклона заранее наведённой пушки. Ограничившись этим, он соскочил на землю и отряхнул руки.
— Запаливай! — крикнул он прислуге.
Мускулистый турок с пятнами копоти на теле извлёк из жаровни пылающую головню, вскарабкался на лафет и вопросительно взглянул на Урбана. Венгр неторопливо завязывал на подбородке тесемки кожаного шлема, предохраняющего слух от оглушительного грохота при стрельбе. Невзирая на сильную головную боль, он с усмешкой рассматривал натянутые воловьи шкуры вдоль бреши в крепостной стене.
— Глупцы, — пробормотал он. — Надеются лоскутками кожи остановить полёт моего ядра!
Он пренебрежительно хмыкнул и дал отмашку рукой.
"Хорошо еще, что лазутчики не успели испортить орудие», — подумал он, возясь с непослушным узлом.
Тут венгр вздрогнул и опустил руки.
"Испортить…?!»
Страшная догадка мелькнула у него в голове.
— Остановитесь!! — во всю мочь закричал он.
Но было поздно. Огонь стремительно бежал по затравочной бороздке. С пронзительной ясностью Урбан вдруг осознал, что именно должно произойти через мгновение.
— А — а…., - простонал он и рухнул на колени, обхватив голову руками.
Полные жажды мщения за ночную сумятицу, султанские воины столпились у переднего края лагеря в ожидании утренней потехи. Раздавшийся грохот был встречен громкими приветственными криками. Десятки тысяч горящих злорадством глаз устремились в сторону бреши, ожидая нового сокрушительного удара ядра. Но жалкие заслоны греков не спешили разлетаться в клочья. Тогда воины повернули головы к батарее и увидели, что бронзовый колосс исчез в облаке дыма и пыли.
«Праща Аллаха» прекратила существование. Расчет византийцев оказался верен: ствол пушки, дефектный со дня своей отливки, закупоренный к тому же на пути продвижения ядра небольшим куском железа, не смог выдержать чудовищного напора раскаленных газов и разлетелся далеко по сторонам смертоносным градом металлических осколков.
Ничем не примечательный сербский ополченец в высокой меховой шапке вздрогнул при виде взрыва на батарее, побледнел, перекрестился и заплетающимися шагами пошел прочь от возбуждённо гомонящей толпы. Оказавшись в стороне от случайных взглядов, он ощупал на поясе тяжелый, глухо звякнувший от прикосновения кошелек, затем извлёк из ножен меч и в десятый раз принялся тщательно обтирать тряпкой клинок.
ГЛАВА XXIV
— Ого! Шумно гуляют! — прислушавшись, произнёс один из горожан.
Двое ополченцев, только что сменившись в дозоре, устало волоча ноги, шли по направлению к своим жилищам. Из корчмы, мимо которой они как раз проходили, неслись крики, хохот, отдельные возгласы.
— Наши или латиняне? — второй, помоложе, вопросительно взглянул на товарища.
— Сейчас проверим.
Первый ополченец приблизился к низкой дубовой двери и тычком распахнул её. Гвалт хмельных голосов поначалу оглушил их. Горожанин ободрительно кивнул своему более робкому напарнику и приставив копьё к стене, направился вглубь помещения.
Из десятка грубо сколоченных столов, более похожих на козлы для распилки дров с дощатым настилом поверху, пустовало лишь два. За остальными, сдвинутыми в ряд, сидела уже изрядно подвыпившая ватага пёстро одетых воинов. Одни без устали опрокидывали себе в рты полные чаши вина; другие взахлёб, стараясь перекричать друг друга, рассказывали что-то; некоторых разморило так, что они, опустив головы на плохо струганные доски столов, мирно подрёмывали, не реагируя на случайные тычки от соседей.
Навстречу новоприбывшим, из-за стойки с медной и глиняной посудой, поднялся приземистый человек, узловатым ручищам которого позавидовал бы любой молотобоец.
— Желаете выпить? — утробно пророкотал он.
Но не успели горожане открыть рты для ответа, как от столов донёсся радостный окрик:
— Ефремий!
Ополченец быстро оглянулся в сторону возгласа.
— Ты ли это, старина? Хорошо, что встретились!
Ефремий всмотрелся в лица сидящих и в свою очередь издал радостное вопль.
— Мануил, старый черт! Где ты пропадал?
Он направился к столу, приветственно потрясая рукой.
— Как это где? Кости дробил язычникам, пока ты дрых у женушки под боком.
— Вот и врёшь! Весь день сегодня простоял в дозоре. Да только неверные не очень-то жаловали нас своим вниманием.
— Видать, далеко от нас стояли. На нашем участке было жарковато. Ну о том разговор впереди. Бери табурет, зови своего приятеля и присоединяйся к нам.
— Мы празднуем победу, — пояснил один из пирующих и столкнув с колен женщину в нечистом переднике, по-виду — служанку, отвесил ей шлепка по мягкому месту.
— Ну-ка, красотка, неси ещё вина для гостей!
— Потише, ты, мужлан! Ишь, размахался ручищами. Жене своей давай под зад!
— А ты не ругайся. Не то как встану….
— Это ты-то встанешь? Как бы не так! Нагрузился не хуже бочки, вот-вот фонтаны из ушей забьют.
— Твоё имя Ефремий? — деловито осведомился щуплый горожанин, сидящий у дальнего края стола.
— Да, — кивнул головой ополченец.
— Будь здоров, Ефремий! — дружно гаркнула вся компания.
Раздался стук сдвигаемых кубков.
— А тебя как звать? — спросили его более робкого товарища.
— Марком.
— Твоё здоровье, Марк!
Стук повторился вновь.
— Хозяин, вина!
— Так ты говоришь, участвовал в вылазке? — почти в самое ухо прокричал Ефремий изрядно захмелевшему Мануилу.
— Я ж говорю…!
— Ты, навроде, был пешим? Где лошадь раздобыл?
— Купил. Намедни у стены подколол янычара, стал шарить у него по карманам, а там аж целая пригоршня золотых. Не вру, клянусь Богородицей! И ещё какие-то цепочки, браслеты….
— Эх, везёт же недоумкам! — шумно вздохнул один из бражников. — А у моих мертвецов — всё медь да серебро. Не больно-то и поживишься.
— Ой, не могу! — взвыл его сосед, одной рукой придерживающий сидящую рядом с ним девицу.
— Друзья мои, вы только послушайте, что несет эта дура!
— Сам ты дурак!
— Нет, ты скажи, скажи! — подталкивал он в бок обиженно хмурящуюся женщину.
Но та, сжав губы, отворачивалась в сторону.
— Что, что она сказала? — заинтересовались прочие.
— Говорит, толчок подземный был сегодня утром. Они с подружками перепугались, думали — Господь на небе сердится.
От дружного хохота дрогнули стёкла в окнах корчмы.
— Ха-ха! Она думала — землетрясение!
— Ага! Турки землю трясли. Вцепились в нее все разом — и давай дергать из стороны в сторону!
— Перестаньте смешить! Вино обратно польётся….
— Э-э, не сюда, а на пол. Пригнись пониже, вот тогда и смейся.
— Дура — она и есть дура. Землетрясение выдумала. Это же наши умельцы подкоп турецкий взорвали.
— Говорят, тыща нечестивых под землей заживо осталась.
— Какое там «заживо»? Это же все равно, что зарядить человеком пушку и вытрелить из нее. Много ли потом насобираешь?
— Да-а, не позавидуешь нехристям! Рыли подкоп, рыли, а он возьми да лопни!
— …а-ха-ха!
— И это всего лишь два дня спустя после того, как взорвали их пороховые погреба, пушку венгра-христопродавца, да и его вместе с ней!
— То-то султан взбеленился!
— Да только ли султан? Магометане лезли через ров, как оглашенные. Не успевали им головы сносить.
— Наших тоже немало погибло, — рассудительно произнёс кто-то.
— Это ещё как посмотреть, — возразили ему. — Один за десяток неверных — правильный счет.
— А потом, когда мастер Димитрий приказал распахнуть ворота, вот мы задали перцу тому, кто не успел вовремя сбежать!
— Хозяин, вино высохло! — орал какой-то верзила, тряся над своей чашей пустым кувшином.
— Я слышал, стратег зарубил какого-то важного бея, — стараясь перекричать шум, спрашивал Марк.
— А вот и нет! Не стратег это был, а наш, из простых.
— Как так? Ведь говорили….
— Ты меня слушай, я все видел. Своими глазами….
— Звать тебя как?
— Игнатий.
— И что же ты видел, Игнатий?
— Наш это был, не из знатных. По имени Раккавей….
— Рангевис, а не Раккавей!
— Один бес! Сказывают, из Афин он, доброволец. Зарезал по пути какого-то пузатого бея, отобрал его деньги и сбежал за море. Купил себе богатые доспехи, лошадь и примчался к нам на подмогу.
— Почему же тогда…? — настаивал Марк.
— Ты не галди, меня слушай. Шлем-то у него с рогами был! А на макушке пук павлиньих перьев торчал. Броня тоже знатная, вот османский паша и решил, что это мастер Димитрий. И пожелал потягаться с ним силами.
— Бей-то был не из простых, — вставил кто-то. — Пленные говорили — личный знаменоносец самого султана! Омар-паша по имени. Широкоплечий такой, крепкий, как дуб.
— Да нет, то переводчик напутал. Не знаменоносцем он был, паша этот, а единоборцем. Ну тем, кого цари выставляют в именитых поединках….
— А я что говорю? — Игнатий застучал кулаком по столу, не желая никому уступать право рассказчика.
— Этот бей кричал что-то по-своему и рвался к Рахкавею. Но и тот храбрец не из последних. Вот и сцепились они, как два петуха. Видел, небось, бои петушиные? Мы уж решили было — конец афинянину пришел.
— Да что ты всё врёшь? Не афинянин он вовсе. Наш, из ромеев!
— Молчи! Не мешай…… Ну значит, дерутся они, дерутся, а щепки из щитов летят, как перья….
— Да, да, уже слышали. Как перья на петушиных боях….
— Помолчите же наконец! Дайте дослушать!
— Крепко дрался Рахкавей и вскоре бею пришлось несладко……
— Ещё бы! У Рахкавея секира была, а у бея — сабля тоненькая.
— Жидки они против нас, хотя и славятся, как добрые рубаки…….
— Дальше, дальше, — до предела заинтригованный Марк локтями толкал соседей, чтобы добиться желаемой тишины.
— Ну так вот, рубились они, рубились. Оба в кровище, а отступать не хотят. Бей тоже упорный попался: видит — дело плохо, но сдаваться и не думает. Кричит что-то по своему и снова саблю заносит. Размахнулся и — р-раз — по голове афинянину. А клинок-то, глянь, и застрял между шлемом и рогом. Только хотел выдернуть обратно, да уже поздно было: промеж глаз на вершок железо сидело!
— Не успел бей свалиться с седла, как Рахкавей поудобнее хватает секиру и….
— Бац!! И разваливает бея пополам, от плеча и до пояса!
— Эх, добрый парень был, этот Рангевис. Жаль только, убили его.
— Убили?! Как?
— Он-то на радостях вопить начал, затем ухватил застрявшего в седле бея за бороду и принялся голову ему срубать. Трофей, значит, хотел заиметь. А какой-то янычар возьми да и пусти в него стрелу. Прямо в шею попал, под забрало шлема.
— Мы было бросились его отбивать, да не успели. Сбоку налетела тьма нехристей и начала теснить нас обратно к пролому. Если бы протостратор не двинул нам на помощь гвардейцев, мусульмане могли бы прорваться в город.
— Брешешь! — возразил другой заплетающимся языком. — Они уже проникли за стены и только потом отступили обратно.
— Ну, брат, ты уж совсем заболтался. Больше ему не наливайте, а то ещё начнёт уверять, что он в одиночку отогнал турок от города.
— Почему в одиночку? Вместе с остальными. И еще генуэзцы помогли: забросали врага бочками с порохом и горючей смолой.
— Генуэзцы — бравые ребята. Но и мы им ни в чём не уступим, — один из воинов ущипнул проходящую мимо служанку в бок.
Та коротко взвизгнула.
— Ты согласна, малышка?
— Руки прочь, грубиян!
— Друзья! — Мануил застучал кубком об стол. — Выпьем за упокой души раба Божьего Рангевиса-Рахкавея!
— Вечная память герою!
— Сказывают ещё, — молвил один из пирующих, — что султан до того осерчал на своих солдат, что приказал им рубить головы и камнемётами метать в город.
— Я видел это! — Ефремий сморщился, как-будто хлебнул уксуса, затем поднес к губам кубок и залпом опорожнил его.
— Преотвратное зрелище, скажу я вам. И если бы только головы! А то и руки, и ноги.
— Тьфу! — громко плюнула одна из гетер. — Мерзость!
Она соскочила с колен Мануила и одёрнула юбку.
— Пошли отсюда, Феодора, — позвала она подругу. — Не место нам здесь. Уж если мужики заговорили о мертвецах, то это на всю ночь.
— Ты и впрямь так думаешь? — возразил один из воинов.
Он обхватил её сзади руками, перебросил через колено и задрав на ней юбку, сильно ущипнул за розовую округлость.
— Не знаю кто как, но моё место здесь! — во всеуслышание заявил он.
Дружный гогот перекрыл визг вырывающейся женщины.
— А теперь, девки, танцуйте и пойте!
— Хозяин, музыку давай!
— Где я вам её добуду среди ночи, неугомонные? Тем более что и за выпивку вы ещё не заплатили.
— Заплатим за всё! Только не ной.
— А будешь надоедать — все горшки об твою голову переколотим.
— Тан-нцуем! — массивный, почти квадратный ополченец попытался было вскочить на стол, но не удержался и звучно шлепнулся на кирпичный пол.
Это еще более развеселило публику.
— Видали, как Прокопий сверзился?
— Не поднимайте его, пусть лежа попляшет.
— Девки, кому сказано? Скидывайте одежду и лезьте на столы.
— Пр-равильно! Гулять так гулять!
— Евстигней, ты спишь? Продери глаза, дурень. Смотри, что делается!
— Да оставь ты его. Спихни под стол, авось до утра проспится.
— Марк, ты куда? — Ефремий поймал за руку поднявшегося из-за стола товарища.
— Пойду я, — ответил тот, неодобрительно поглядывая на начинающийся разгул. — Жена дома ждет, дети.
— Успеешь! Оставайся…. Может в последний раз душу отводим.
— Не хочу я. Устал. Пусти, Ефремий.
— Как хочешь, — пожал плечами тот. — Вольному воля.
Марк подхватил стоящее у входа своё копьё и вышел наружу. Густая тьма на мгновение ослепила его. Он потянулся, вдохнул полной грудью свежий, пахнущий морем воздух и медленно переставляя гудящие от усталости ноги, побрёл в сторону своего дома.
— Значит, сын мой, взрыв подкопа прошёл удачно?
— Да, мастер, — Алексий поудобнее устроился в кресле. — Иоанн Немецкий оправдал свою репутацию. Благодаря нашим указаниям он точно вывел встречный подкоп к вражескому и произвёл взрыв пороховой мины именно в тот момент, когда кирки турецких землекопов уже долбили разделяющую проход перегородку.
— Сколько человек погибло при этом?
— Трудно определить. Вероятно, несколько десятков. Но народная молва уже успела многократно увеличить число погибших.
— И взрыв спровоцировал новую атаку со стороны осаждавших. Хотя это нетрудно было предвидеть.
— Да, мастер. Штурм был ожесточённый. Враг едва не прорвался через брешь, но общими усилиями его удалось отогнать обратно.
Феофан удовлетворённо кивал головой.
— Скажи мне, Алексий, что это за история с расчленёнными трупами османских солдат?
— Я был сам поражён, мастер. Осатанев от преследующих его неудач, султан повелел забросать Константинополь трупами своих же воинов, погибших в этом бою. А так как человеческое тело громоздко для метательных механизмов, тела разрубали на куски и лишь затем швыряли катапультами за стену.
Даже немало повидавший на своём веку советник императора не сразу пришёл в себя от изумления.
— Да-а, — протянул он после долгого молчания. — В истории не раз бывали случаи, когда для устрашения враг метал в крепость к осаждённым отсечённые головы захваченных в плен солдат. Но такое….
Он развёл плечами.
— Это едва не вызвало бунт в войсках, — заметил Алексий. — Даже самые преданные сатрапы возмутились против такого решения. Особенно негодовали шейхи и дервиши: ведь по обрядам исламитян не дозволяется даже засыпать тело единоверца землей, а расчленять останки и разбрасывать их на поругание врагу и вовсе кощунство.
— И что же султан?
— Он упорствовал, пока недовольство не перекинулось на корпус янычар. Лишь после начавшейся резни между ними и занятыми выполнением приказа оглан-лары, он пошел на попятную.
— Но для чего понадобилось Мехмеду оскверять тела погибших?
— К сожалению, мастер, это не было импульсивным решением. Он желал вызвать в городе эпидемию от гниющих тел. Мне это доподлинно известно. Один из наших осведомителей в ставке султана донёс, что сатрапы пытались переубедить своего владыку, мотивируя под конец даже не религиозными и моральными соображениями, а тем, что город слишком велик и опасность заражения ничтожна.
— Да, сын мой, ты прав! — Феофан скрестил руки на животе. — Мехмед уже пытался вынудить нас к сдаче, отравив нечистотами воду в реке Ликос. Он не знал, что в городе созданы значительные запасы воды в хранилищах.
— В ответ на это нами были отравлены все колодцы внутри и вокруг лагеря, — ответил Алексий. — Два дня подряд турецкие войска усиленно выкапывали новые.
— Теперь же султан вознамерился с помощью трупного яда устроить мор среди горожан! — брови старика гневно двинулись к переносице.
Некоторое время он молчал, как бы не в силах принять нелегкое решение. Затем заговорил вновь.
— Сын мой, подойди к книжному шкафу.
Алексий повиновался.
— Нажми на тайную пружину, сдвинь его в сторону и извлеки из углубления ключи.
Массивный шкаф, полки которого до потолка были уставлены рукописными фолиантами, повернулся вдоль боковой оси плавно, без единого скрипа шарниров.
— Выбери из связки тот, к которому прикреплена бирка VI.
— Этот, мастер?
— Да. Слушай внимательно. Возьмёшь с собой двух слуг, спустишься в подвал и отомкнешь ключом дверь под тем же номером. В том маленьком помещении хранятся два обшитых свинцовым листом ящика. Они не тяжелы. Эти короба должны быть погружены на вёсельную лодку и тайно вывезены за пределы Константинополя.
— В какую сторону, мастер?
— Их необходимо выгрузить в двух милях от правого фланга османского лагеря. Доверенный человек, сопровождающий ящики, должен на выделенные ему деньги купить подводу с лошадью. Затем, с помощью зубила и молотка, он вскроет короба. Но перед тем он обязан плотно обвязать нижнюю часть лица двумя полосками материи, смоченной уксусом.
— Я перестаю понимать, мастер.
— Вскоре поймешь. Но пока что слушай и запоминай. Вскрыв эти ящики, он обнаружит в них аккуратно сложенные отрезы тканей, покрывала, богатые одеяния, обувь, керамические чаши и кувшины. Не прикасаясь к ним иначе как железными щипцами или кожаными рукавицами, он погрузит эти вещи на повозку и под видом бродячего торговца направится в турецкий лагерь. Там он постарается тем или иным способом сбыть товар османским воинам.
— Эти вещи отравлены? — высказал догадку Алексий.
— И да, и нет. Специально их никто не отравлял. Они были взяты в домах, где доживали свои последние дни больные моровой язвой, чумой, посетившей Константинополь три с лишним десятилетия назад.
Старик взглянул на своего приближенного.
— В то страшное время смерть тысячами косила ни в чём не повинных людей. Меня она обошла стороной и по какому-то наитию свыше я решил подчинить ее себе, запрятать в обшитые металлом короба, чтобы бубонная погибель не вырвалась случайно наружу. Но, похоже, настал срок, когда необходимо вызволить дракона из его темницы, чтобы не дать свершиться злодеяниям похуже этого.
— Да поможет нам в этом Бог! — твердо произнёс Алексий.
— Поначалу ящиков было три, — не слыша его, продолжал Феофан, — Но вскоре их число уменьшилось. Ровно тридцать один год назад армия Мурада II, отца нынешнего султана, осадила нашу столицу. Осада эта не была продолжительной. Помимо нехватки у мусульман приспособлений для штурма, над войсками внезапно пронеслось поветрие чумы. В ужасе от расползающейся заразы, султан приказал спешно снять лагерь и переправить армию за Босфор.
— Надеюсь, сын не окажется глупее отца.
— Я тоже надеюсь на это. Ступай, Алексий!
Оставшись один, старик повернулся в кресле и еще долго смотрел на подрагивающие огоньки свечей. Нет, он не испытывал угрызений совести. В схватке со смертельным врагом хороши все средства, способные хоть немного поколебать мощь противника. И молодой султан уже понял это. Но ему не хватило выдержки и жизненного опыта действовать исподволь, чтобы не вызывать людского гнева и осуждения. Ведь стоило только ему объявить трупы расчленённых — телами христиан и тогда вместо бунта он получил бы полное одобрение от своего окружения.
Феофан шевельнулся в кресле.
Даже если признаки начинающегося мора будут выявлены достаточно быстро, у османских воевод не окажется иного выбора, как снять с позиций охваченные недугом полки и под тем или иным предлогом убрать их прочь от основного лагеря. Это частично ослабит вражескую армию, а неизбежные слухи и пересуды посеют страх и смятение среди оставшихся.
— Мудрейший! — управитель склонился в глубоком поклоне. — Восточный бейлер-бей Исхак-паша просит твоего позволения принять его немедленно.
Визирь отложил в сторону увесистую книгу и недовольно нахмурился.
— Нехорошо, Селим, заставлять таких гостей ждать у порога. Проси его ко мне.
— Слушаюсь, мудрейший.
Селим исчез за полотняной дверью. Через мгновение в шатёр быстрым шагом вошел Исхак-паша.
— Прости за беспокойство, мудрейший…., - начал он, убедившись, что кроме них в помещении нет никого.
— Мне странно слышать такие слова, — возразил визирь, поднимаясь навстречу бейлер-бею. — Твой приход всегда в радость для меня. Садись, паша. Не желаешь ли освежиться с дороги?
— Нет, благодарю, мудрейший. Дело, приведшее меня к тебе, не терпит отлагательств.
— Я слушаю тебя.
— Это нужно видеть, а не слышать. Не откажи в милости сесть на коня и последовать за мной.
Халиль-паша удивленно поднял брови. Но повнимательней взглянув в глаза бейлер-бею, понял, что произошло нечто серьёзное и без лишних слов вышел из шатра.
— Не плохо бы прихватить с собой твоего личного лекаря, — шепнул Исхак-паша на ухо визирю, пока слуги подводили к ним лошадей. — Его присутствие может оказаться нелишним.
Визирь вновь удивился, но возражать не стал. Спустя некоторое время немногочисленная кавалькада прибыла в ставку Исхак-паши.
— Тысяцкий! — распорядился бейлер-бей. — Приведи сюда одного из тех, кто был сегодня утром заключен под стражу.
— Чауши паши выявили измену среди его солдат? — высказал предположение визирь.
— Хуже, мудрейший, гораздо хуже, — мрачно отвечал тот.
— Хуже измены? — визирь недоумевающе покрутил головой.
Невдалеке показалась группа вооруженных людей. Визирь чуть сощурил глаза: между стражами, спотыкаясь на каждом шаге, понуро брёл человек в одеждах пехотинца — яя. Когда они приблизились, Исхак-паша приказал конвою расступиться и отойти на двадцать шагов. После чего вопросительно взглянул на визиря. Тот всё еще терялся в догадках.
— Его лицо, мудрейший. Присмотрись внимательнее.
— Как видно, этот воин слаб и истощён, — задумчиво произнёс Халиль-паша. — И язвы на его лице — следствие плохой пищи.
Он повернулся к своему лекарю.
— Что скажешь ты, аль-Асир?
— Мне кажется, у него горячка, — араб в сомнении качал головой. — Дозволит ли мудрейший более тщательно осмотреть этого человека?
— Я думаю, бейлер-бей именно поэтому и настоял на твоем присутствии, — усмехнулся Халиль-паша.
Лекарь спешился, приблизился к больному, пощупал пульс, разорвал на нем рубаху, заставил поднять руки, всмотрелся в струпья на коже. После чего поспешно отступил назад.
— Ты уже закончил осмотр? — осведомился визирь.
— Да, господин, — лекарь извлёк муслиновый платок и промокнул блестящий от проступившего пота лоб.
Затем, откупорив маленькую флягу на поясе, он обильно смочил руки едко пахнущей жидкостью и принялся тщательно обтирать их.
— Я покорнейше прошу обоих пашей не приближаться к этому человеку. Даже дышать с ним одним воздухом очень опасно.
— Договаривай до конца, аль-Асир.
— Этот воин смертельно болен, — араб подошел к Халиль-паша вплотную и тихо, так, что даже бейлер-бею пришлось напрягать слух, произнёс несколько слов.
— Бубонная чума? — визирь резко выпрямился в седле. — Черная погибель?
Лицо верховного советника сильно побледнело.
— Ты не ошибся?
— Господин, я головой ручаюсь за свои слова. К вечеру следующего дня этот человек умрет.
— Он прав, — мрачно подтвердил бейлер-бей. — Мой личный лекарь утверждает то же самое.
Некоторое время Халиль-паша молчал.
— Возвращайся к себе, аль-Асир, — наконец вымолвил он. — И не забудь покрепче держать язык за зубами.
— Нет такой тайны, которая не умерла бы во мне по воле моего господина, — с поклоном ответил араб и сев на коня, направился в центральную часть лагеря.
— Поедем и мы, паша. К тебе, в твоё гостеприимное жилище. Нам нужно о многом переговорить.
Визирь тронул плетью коня.
— Как быть с этим человеком?
— С этим человеком? — переспросил Халиль-паша.
— Стража! — громко окликнул он.
Воины гурьбой ринулись на зов.
— Этот солдат — страшный преступник, лазутчик гяуров. Посадите его в мешок, привяжите камень и утопите в море. В самом глубоком месте.
Приговорённый дёрнул головой, поднял мутные глаза на пашу, как бы силясь осознать смысл слов визиря. Когда его схватили и заломили руки за спину, воин хрипло вскрикнул и слабо, насколько хватало его быстро гаснущих сил, стал вырываться из железной хватки стражей.
— Мой господин! — стонал он. — Я ни в чем не повинен. За что же ты караешь меня?
Визирь поворотил коня. Исхак-паша, недовольно хмурясь, последовал за ним.
— Что нам делать с остальными? С теми, кто уже заболел и кто мог заразиться, — произнёс он, не скрывая раздражения. — Всех же не перетопишь.
— Ты так думаешь? — бросил визирь через плечо. — Напрасно.
Он натянул поводья.
— Мне расхотелось ехать в твой шатёр. Разговор предстоит серьёзный, а у стен могут оказаться уши. Побеседуем-ка лучше на открытом воздухе.
Исхак-паша согласно кивнул головой.
Повинуясь его приказам, слуги расстелили на земле ковёр, разложили на нем подушки и с помощью шестов натянули поверху навес от солнечных лучей. Убедившись, что на расстоянии полусотни шагов кроме стражи нет ни единой души, визирь опустился на подготовленное сидение и жестом пригласил бейлер-бея последовать его примеру.
Долгое время сановники молчали.
— Аллах послал нам кару за святотатственный поступок султана, — начал Исхак-паша.
— Ты говоришь о метании трупов в осаждённую крепость?
— Да, мудрейший. Добро бы это были вражеские воины. Но бросать на осквернение нечестивым тела правоверных, погибших к тому же в бою за торжество истины…. Как же страдали их души на небесах, когда смотрели вниз, на землю, и видели творимое там бесчинство!
Визирь согласно покачал головой.
— Да, и я думаю так же. Дурной пример всем тем, кто не страшится потерять жизнь в бою. Но хуже всего, что наш повелитель принял это решение под влиянием винных паров, одурманивших его мозг. Тебе хорошо известно, паша, что он с малых лет страдает болезненным пристрастием к горячительным напиткам, которое перешло к нему по наследству от отца его, султана Мурада. И если этот недуг будет развиваться и дальше, мы увидим много скороспелых, необдуманных, а иногда и просто преступных поступков султана.
— Но что нам надо предпринять, чтобы предотвратить начавшееся бедствие? — бей поспешил уйти от обсуждения столь опасной темы. — Аллах велик и кара его сурова, однако большинство из тех, кто вымрет от этой болезни, ни в чём не повинны перед ним.
— Сейчас не время рассуждать о вине и о мере кары за неё, — оборвал Халиль-паша. — Я должен кое-что обдумать и прошу тебя, бей, не задавать мне пока никаких вопросов.
Визирь опустил руки на колени и погрузился в долгое молчание. Исхак-паша терпеливо выжидал, теребя на запястье массивный, золотой, украшенный россыпью драгоценных камней, браслет.
— Я слышал, бей, в Анатолии беспокойно? — вопрос прозвучал столь неожиданно, что бейлер-бей едва не подскочил на месте.
— Нет, мудрейший, мне неведомо это. Но если бы в моих землях возникло недовольство, гонцы немедленно сообщили бы мне это.
— Твои гонцы, — визирь выделил первое слово, — еще не поспели к тебе с известием. От своих же верных людей я знаю совершенно точно — на границе с Караманом зреет мятеж против власти султана.
— Неужели так и есть? — забеспокоился Исхак-паша. — Надо немедленно сообщить повелителю и двинуть войска на подавление бунта.
— Много войск не понадобится, — ответил визирь. — Три-четыре полка легко справятся с мятежниками.
— Два-три полка? — бей начал понимать. — Пожалуй, это так, мудрейший.
Он шумно вздохнул.
— У меня отлегло от сердца, — искренне признался он. — Поначалу я и впрямь подумал…. Да, ты прав, визирь. Бунт удастся подавить малыми силами. Но что потом будут делать в Анатолии эти солдаты? Разносить заразу по окрестным землям?
— Они не доберутся до Анатолии, — спокойно возразил визирь. — В море их перехватят и пустят ко дну пиратские суда христиан.
— Но кто сообщит неверным о направлении кораблей с солдатами на борту?
— Никто. Роль христиан сыграют несколько боевых галер Палда-паши.
Бейлер-бей невольно поёжился.
— Если правда раскроется, как на это посмотрит султан?
— Он будет нам благодарен, — усмехнулся Халиль-паша. — Ты забываешь, что он видит перед собой только одну цель. Человеческая же жизнь для него не стоит и выеденного яйца.
— Но могут возникнуть нежелательные пересуды в лагере. Всем очевидцам ртов не заткнуть.
— Вызвал ли пересуды мой приказ утопить хворого солдата? Нет, ведь он оказался изменником. Любая попытка измены должна нещадно пресекаться, равно как и разговоры, смущающие боевой дух наших солдат. А если посланная вдогонку тем транспортным баржам военная флотилия на некоторое время задержится у берегов Анатолии, вреда это не принесёт. Тем более, что флот наш у стен Константинополя раздут чрезмерно и матросы на кораблях голодают.
Он довольно потёр свои тонкие холеные руки.
— Адмирал — мой сторонник. Лишних вопросов задавать он не станет.
— И всё-таки мне это не по душе, — заявил Исхак-паша. — Из-за нескольких заражённых солдат жертвовать четырьмя, а то и более полками? Не лучше ли ограничиться сотнями, в которых были выявлены заболевшие?
— У нас нет выбора, бей. Можем ли мы знать, как далеко распространилась зараза? Если мы не уничтожим всех, кто мог подвергнуться болезни, мор перекинется на остальные части войск. Не сочти себе за труд представить последствия. В земле не останется места хоронить умерших от чумы. Лагерь превратится в гигантский могильник, а остатки армии в ужасе разбегутся по домам, неся в себе погибель для всего живого.
— Нет, нет, ты прав, мудрейший! — бей вскочил на ноги и возбуждённо зажестикулировал руками. — Злой дух попутал меня усомниться в твоих словах. Сегодня же все полки, в которых выявлены захворавшие, будут отведены к берегу моря и под надёжной охраной будут ждать погрузки на корабли.
Визирь тоже поднялся на ноги.
— Я знал, что ты будешь согласен со мной. Мы оба не хотели этой войны, но коли уж вынуждены выполнять высокую волю, то должны довести задачу до благополучного исхода.
— С наименьшими потерями для нас и как можно скорее, — добавил он чуть погодя. — Сейчас наш главный враг — мор, а не византийцы!
— Прикажи подвести коня, Исхак-паша, — визирь обеими руками поправил сбившуюся на бок чалму.
— А ты, бейлер-бей, не жалей в сражениях полки, соседние с теми, которые отправятся в море. Бросай их на штурм на самые трудные участки. Когда они полностью израсходуются, а чем скорее это произойдёт, тем лучше, я пришлю тебе новые, хорошо обученные, из резервных частей армии.
Халиль-паша повернулся к бею спиной, давая понять, что разговор окончен.
ГЛАВА XXV
Дым ароматических смол сочился из отверстий курильниц и извилистыми струйками возносясь к потолку, зависал там голубовато-сизыми кольцами. Двойные стены шатра глушили все внешние звуки, тишину нарушало лишь потрескивание тлеющих благовоний и шорох осыпающихся углей в очаге.
Несмотря на раннее пробуждение, Мехмед не торопился покидать свое ложе; зябко кутаясь в необъятное пуховое одеяло, он сидел, скрестив ноги и тихо, сквозь зубы, сыпал проклятиями.
Причин для недовольства было предостаточно: почти за месяц войска ни на шаг не продвинулись к цели, хотя потери за то же время понесли немалые. Султан не сожалел об убитых, искалеченных, из-за ран или болезней вышедших из строя — в первую очередь избиению подвергались неумелые, плохо обученные части азиатских войск. Для подобной армии, численность которой затруднялись определить даже собственные полководцы, это было равносильно стреле, засевшей в шкуре носорога. И отчасти походило на очищение от ненужного балласта. Но частые и удачные вылазки византийцев подрывали грозную славу османского войска, ставили под сомнение репутацию самого султана как полководца.
Каждым своим нервом Мехмед ощущал, что те же соображения всё чаще посещают многих, от царедворцев до простых солдат. И понимал, что рано или поздно сдерживаемое страхом недовольство прорвется наружу. Не раз он со скрытым содроганием вспоминал слова, некогда сказанные визирем: «Большая армия — палка о двух концах. Зачастую полководцы бывают вынуждены следовать на поводу у заупрямившейся солдатской массы. И тогда почти всегда их ожидает разгром.»
Похоже, это предсказание начинает сбываться. Ситуация понемногу выходит из-под контроля. Если упрямство ромеев не будет сломлено в ближайшие же дни, нужно будет принимать срочные меры, вплоть до удаления части войск от города, иначе армия развалится, расползется, как плохо сшитое лоскутное одеяло. Дезертирство уже началось: под покровом темноты войнуки целыми отрядами покидают свои лагеря. А если за ними последуют другие? Татарская конница, аккынджи и многие прочие — все те, кто хороши лишь до первого боя, для которых война — это разбой, короткие стычки, грабежи и последующее бегство с награбленным восвояси. А тут еще и зловредный слух, запущенный византийскими шпионами, слух о том, что вскоре пол-лагеря вымрет от заразной болезни, насланной колдунами в черных рясах! Лишь посулив денежное вознаграждение за донос и упокоив на виселицах с полторы сотни болтунов, удалось добиться прекращения уже начинающейся паники.
Нет, нужно, просто необходимо что-то предпринять, пока разложение не перекинулось на остальные, традиционно верные части регулярных войск.
Мехмед стиснул руками виски и забормотал:
— Что, что можно сделать? Ворота города д о л ж н ы распахнуться!
«Если первый приступ успешно отражен неприятелем, овладеть стенами крепости становится очень сложно», — настойчиво вертелись в голове слова некоего европейского мыслителя, не столь давно гостившего в Эдирне.
Легкий шорох со стороны входа отвлек его. Мехмед дернулся и подался назад: страх перед убийцами никогда не оставлял его. Но тут же он успокоился: из-за двустворчатой двери осторожно, одним глазом, выглядывал начальник личной охраны. Заметив, что повелитель не спит, он вошел вовнутрь и низко поклонился.
— Прости мою дерзость, господин! Я никогда бы не осмелился нарушить твой покой, но….
— Говори!
— Флотоводец Палда-паша покорнейше просит соизволения предстать перед твоими очами. Он говорит, что это не терпит отлагательств.
Мехмед не колебался.
— Зови его.
Быстрым шагом, едва не задев головой прекладину дверного косяка, в шатёр вошел человек богатырского телосложения. В десяти шагах от ложа султана он опустился на колени и прижался лбом к ковру.
— Мой повелитель!
— Зачем ты пришел ко мне?
— Я спешу сообщить тебе важное известие. Дозорные на мачтах кораблей заметили со стороны моря приближение четырех парусных и гребных суден христиан, а также одну грузовую баржу вместе с ними.
— Четыре? Ты уверен, они не ошиблись в числе?
Мехмед вскочил на ноги.
— Это венецианцы! Они всё-таки выслали флот в поддержку грекам!
— Нет, о повелитель. Я с болью в сердце осмеливаюсь перечить тебе, но это не венецианцы.
— Тогда кто же? Чьи это корабли?
— На мачте одного из них развевается ромейский флаг. Остальные, судя по оснастке, принадлежат генуэзцам.
— И за ними нет других кораблей?
— На много миль вокруг море пустынно.
Топча подушки, Мехмед в волнении заходил по постели. Не поднимаясь с колен, Палда-паша пристально наблюдал за ним.
— Что бы это значило? Какую еще хитрость придумали неверные?
— Осмелюся доложить, повелитель, военной хитрости я здесь не вижу. Скорее наоборот: корабли в нерешительности стоят на одном месте. Вероятно, они везли в Константинополь припасы и солдат, но не ожидали увидеть здесь твоего флота.
Мехмед остановился, взглянул на адмирала. Лицо богатыря светилось хищной улыбкой.
Правитель города Галлиполи, болгарин по происхождению, христианин — ренегат, перешедший в ислам, Палда-паша слыл среди военачальников ревностным служакой. Целыми месяцами пропадая на верфях азиатского Средиземноморья, где ремонтировались и оснащались пришедшие в негодность старые корабли, он появлялся в султанских покоях лишь для того, чтобы выпросить из казны значительные денежные суммы на постройку новых быстроходных галер. Не раз вступал в ожесточенные перепалки с казначеем и пашами, возмущенными его непомерными требованиями, настойчиво доказывая важную роль флота в предстоящих войнах. Почти всегда Мехмед принимал его сторону: молодой владыка никогда не отказывал людям, сулящим ему новейшее оружие или господствующее положение там, где на протяжении десятилетий османы терпели одно поражение за другим — на море.
И теперь паша, неутомимой энергией которого создавался внушительный турецкий флот, стоял на коленях перед султаном и с нетерпением заглядывал ему в лицо.
— Только прикажи, о великий, и я твоими кораблями раздавлю, уничтожу дерзких!
— Да! На все воля Аллаха. Ступай и готовь корабли к бою. Я желаю видеть, как те посудины пускают пузыри. Тебя ждет хорошая награда, если ты сумеешь доставить мне удовольствие.
Палда-паша вскочил на ноги, но у самого выхода Мехмед окликнул его.
— Однако помни, горе тебе, если хоть один корабль врага ускользнёт от расправы.
Флотоводец низко поклонился.
— Пусть это не тревожит моего господина. Галеры великого владыки достаточно быстроходны. Ни одному поганому гяуру не удасться избежать своей смерти.
— Ступай, — кивнул головой султан.
Неожиданная удача встряхнула султана, погнала прочь тягостные мысли. Пока его одевали, он нетерпеливо притопывал ногой, затем, даже не прикоснувшись к завтраку, выбежал из шатра к толпе ожидающих его появления придворных.
— Коня! Почему до сих пор не оседлали коня?! — закричал он, хотя его любимый белоснежный жеребец, возбужденно пританцовывая, уже рыл землю копытами в пяти шагах от него.
Одним махом взлетев в седло, он цепко обхватил лошадиный круп кривыми, как у прирожденного наездника, ногами и пришпорив, хлестнул его плетью. Конь захрапел и с места понесся вскачь, сшибая с ног замешкавшихся конюхов. Многочисленная свита, поспешно рассевшись по седлам, устремилась в догонку за султаном.
На кораблях османского флота тем временем уже распускались паруса, с громкими всплесками погужались в воду длинные широколопастные вёсла. Большие сигнальные барабаны утробно рокотали, а поверх их глухого ритмичного боя неслись громкие и протяжные, как крики чаек, голоса матросов и надсмотрщиков. Спокойная вода залива вспенилась и заволновалась; под топот ног, плеск весел и скрип уключин галеры снимались с якорей; в спешке, не успевая вырулить, они сталкивались друг с другом и вновь расходились в стороны, мешая порядки и ломая строй.
Большой трехмачтовый парусник, взяв на себя роль флагмана, медленно выдвинулся вперед и расталкивая мелкие суда своими крутыми бортами, повёл за собой флотилию из полутора сотен больших и малых гребных кораблей. Сам же Палда-паша, чтобы облегчить себе руководство боем, обосновался на небольной быстроходной биреме и теперь маневрировал среди множества приходящих в движение судов, подгоняя их экипажи и выравнивая построение галер.
Ослеплённый своей мощью, предвкушая всю сладость расправы, османский флот широким строем, напоминающим по форме гигантский полумесяц, начал надвигаться на четыре замерших в отдалении корабля христиан.
На берегу и на прибрежных скалах зарябило от множества столпившихся людей — большинство воинов правого крыла турецких войск, прослышав о попавших в западню кораблях неприятеля, поспешили к кромке воды, чтобы в полной мере потешиться нежданно выпавшим развлечением. Отдельной группой расположились послы от вассальных или дружественных государств, а также иноземные советники на службе у султана. Как и положено зрителям на ристалище, они устраивались поудобнее, стараясь избрать наиболее удобную точку обзора; за флягами вина обсуждали детали разворачивающейся драмы; выкрикивая ставки, бились об заклад: попытаются ли скрыться команды христиан или предпочтут сдаться на милость неприятеля.
Армада неторопливо, с достоинством сильнейшего, приближалась к четырём кораблям, стоящим квадратом, на равном расстоянии друг от друга. Маленькая баржа, груженная порохом и зерном, сцеплённая пеньковым канатом с кормой византийского парусника «Святой Павел», находилась в центре строя, превращая прямоугольник в подобие креста.
Лишь «Святой Павел», как крупный военный корабль, мог оказать серьёзное сопротивление. Генуэзские галеры, хотя и хорошо оснащённые, с высокими бортами и прорезями орудийных бойниц, долгое время использовались для грузовых перевозок и мало были приспособлены для затяжного боя.
Весть о попавших в беду кораблях заставила василевса поспешить к Морским стенам. Одного взгляда хватило ему, чтобы признать те долгожданные суда с Хиоса, прибытие которых по неведомым причинам (были ли тому виной неблагоприятные ветра или другие, не столь очевидные обстоятетельства?) задержалось более чем на два месяца.
Хмуря брови, Константин повернулся к мегадуке.
— Что скажешь, мастер Нотар? Можем ли мы помочь кораблям, если выпустим в тыл врага часть флота из залива?
Лука угрюмо пожал плечами.
— Османы сняли с якорей лишь треть свой армады. Стоит нам опустить заградительную цепь, как оставшиеся галеры, а их не менее трехсот, не только отрежут путь нашим кораблям, но и попытаются прорваться в Золотой Рог. При десятикратном преимуществе противника сражение начинать бессмысленно. Хиосских кораблей нам всё равно не спасти, рисковать же остатками своего флота недопустимо.
— Значит, мы бессильны что-либо предпринять?
— На всё воля Всевышнего.
К императору приблизился Джустиниани. Исход событий ни в коей мере не зависел от него, но и в этой ситуации кондотьер решил воспользоваться благоприятным случаем.
— Государь, пока османы увлечены предстоящим зрелищем, самое время произвести вылазку. Я со своими воинами очищу подступы к стенам от осадных орудий, а заодно лишний раз потреплю неверных.
— Делай так, как велит тебе опыт, — согласно кивнул Константин.
Он вплотную подошел у краю башни и встал между защитными зубьями. С двадцатиметровой высоты картина происходящего развернулась перед ним, как на ладони.
Для императора было очевидным то, что подспудно чувствовали многие. То, что должно было произойти у всех на глазах, как бы символизировало войну за Константинополь, в которой неисчислимой мощи завоевателей противостояла лишь безнадёжная решимость, подстегнутое отчаянием мужество горожан. Наглядный урок преподносился со всей помпезностью: не было никакой необходимости снимать с якорей сотни судов, с окружением справилось бы и два десятка галер. Скорее всего, османские военачальники и не помышляли о пленении вражеских кораблей. Хотя как военный приз добыча была достаточно привлекательной, турки стремились к иному: одним видом своей флотилии обратить противника в бегство, настичь, окружить и только тогда демонстративно расстрелять из пушек, пуская ко дну корабли неприятеля и людей.
Южный ветер дул устойчиво, в направлении Золотого Рога.
Паруса «Святого Павла» были приспущены; неподалеку от него генуэзские галеры сошлись бортами, почти касаясь вёслами друг друга. Между капитанами, членами команд и наёмными солдатами вспыхнула ожесточённая перебранка.
— Быстрее поворачиваем обратно! — вопил ландскнехт на крайней галере.
Его бурно жестикулирующие руки напоминали дёрганные движения картонного паяца.
— Смотрите, какая громада движется на нас! Надо удирать, иначе пропадем ни за грош!
— Куда ты уйдёшь, дурная голова? — вопил чернявый сотник, размахивая перед его носом увесистым шестопёром. — Они догонят нас через две мили!
— Я никогда не отступал перед врагом и впредь не собираюсь ронять своей чести! — вторил ему рослый наёмник, выставляя на всеобщее обозрение щит с выбитым на нем родовым гербом.
— Мы пришли слишком поздно, — неслись крики с соседней галеры. — Нас подставили! Как овец привели на бойню!
— Какие же вы солдаты, дьявол вам в глотку, если при виде врага спешите показать ему свои спины?
— Вперед, на нехристей! Дорогу осилит идущий!
— Храбер заец во хмелю! На кол захотелось, дубина?
— Мне почему-то кажется, — сквозь зубы бросил капитан средней галеры своему помощнику, — что наши купцы послали оружие и провиант не ромейскому царю, а султану.
— Измена! Предательство! — кричали со всех палуб.
Византийцы на палубе «Святого Павла» хмуро вслушивались в перебранку на генуэзских галерах, не отрывая глаз от приближающейся армады. Капитан, Иаков Флатанел, криво усмехнулся и обратился к своим людям:
— Похоже, сейчас лигурийцы удерут, оставив нас один на один со всем мусульманским флотом.
— На то они и лигурийцы, — пожал плечами командир отряда хиосцев. — По мне так лучше умереть в бою, чем остаток жизни влачить ярмо у турок.
— Как видно, наши латиняне не прочь присоединиться к желающим спасти свои шкуры, — штурман кивком головы указал на приближающуюся к корме группу воинов и матросов, среди которых большинство составляли выходцы из Италии.
Из толпы вышел плечистый моряк с заломленной на ухо шерстянной шапочкой, на которую удобно было надевать железную каску или шлем. Его длинные обезьяньи руки нервно мяли красную тряпицу, отдаленно смахивающую на шейный платок.
— Пора поворачивать корабль обратно, синьор, — заговорил он голосом, в котором нарочитая бравада мешалась с привычным почтением к старшему по чину. — Мой капеллан говорил, что Господь сурово карает самоубийц.
— У тебя хорошая память, Джованни, — усмехнулся Флатанел. — А не разъяснял ли он тебе, что еще строже Всевышний карает за трусость и предательство?
— Мы только зря теряем время на болтовню! — вне себя закричал один из солдат. — Вели выкатывать пушки к бою, капитан, или поворачивай обратно — среднего не дано.
Флатанел вновь взглянул на приближающиеся суда. Его бородатое лицо на мгновение отразило происходящую в душе борьбу чувств: от сомнений и колебания до напускной решимости. Не желая признаваться самому себе, он тянул время, пытаясь отсрочить момент принятия окончательного решения. Вступать сейчас в бой не имело ни малейшего смысла: он может только зря погубить корабли и людей. Но и пытаться уйти от погони нельзя: трехмачтовый парусник легко бы оторвался от врага, галеры же генуэзцев были обречены — измученные дальним переходом, гребцы на вёслах не могли состязаться в скорости с быстроходными феллуками турок. Не менее мучительной для него была необходимость отступать, находясь в полутора милях от цели; позорно бежать на глазах у десятков тысяч горожан, бросая соотечественников в беде, без столь необходимой им поддержки, без новоприбывших солдат, оружия и провианта. Лучшее в этой ситуации — попытки маневрировать, затягивать время и, не даваясь в руки турок, вести переговоры о достойной сдаче в плен. А затем, под покровом ночи, прорваться в залив, под спасительный заслон Цепи.
Но пока он размышлял, Судьба решила всё по-своему.
С борта турецкого флагмана взвился дымок и через несколько мгновений ядро с шумом подняло столб воды в одной стадии[10] от носового бруса «Святого Павла».
— Анисим, — окликнул штурман седого канонира, нетерпеливо переминающегося с ноги на ногу возле заряженной пушки.
— Покажи этим недотёпам, как стреляют христиане. Получишь золотой, если урок заставит их призадуматься.
Старик с готовностью бросился наводить орудие. Капитан невольно припомнил, что в последнем сражении с турками тот потерял едиственного, горячо любимого внука. Привычные руки быстро навели ствол и отстранившись, канонир воткнул конец горящего фитиля в отверстие запальника. Пушка дрогнула, откатилась назад, окутав палубу белым дымом. Ветер тут же разогнал дымовую завесу и моряки увидели, как из борта турецкого парусника полетели в стороны обломки досок. Через мгновение из-под палубы рванулся в небо язык багрового пламени и сильным толчком корабль разметало на куски.
Все замерли, как пораженные громом, оцепенело глядя на кувыркающиеся в воздухе горящие обломки, на мачты, которые медленно, подобно срубленным соснам, заваливались на бок, в волнующуюся, вспененную воду. Тягостное молчание повисло над людьми, стали слышны далёкие крики ужаса и ярости.
— Браво! С первого выстрела — в пороховой погреб! — громко выкрикнул кто-то по-итальянски.
— Я слышал подобные байки, но принимал их за моряцкое враньё, — откликнулись на соседней галере.
— Ты перестарался, старик, — с усилием выговорил наконец Флатанел. — И награда тебе уже вряд ли понадобится.
Затем, повернувшись к морякам, произнёс:
— Мне нечего больше добавить, вы видели все сами. Готовьтесь к драке, пощады ждать уже не придётся.
— Святая матерь Божья, ты услышала мои мольбы! — канонир стоял на коленях и истово бил поклоны. — Мой маленький Прокл, я отомстил за тебя!
Посыпалась резкая дробь барабана. Под трели боцманских дудок матросы разбегались по своим местам. Солдаты похватали оружие и прикрываясь щитами, выстроились вдоль бортов. Канониры спешно раздували фитили и угли жаровен, в которых начинали калиться железные ядра; корабельный священник быстрым речитативом читал молитву и отпускал грехи подходящим за покаянием. На открытой площадке между двух мачт установили небольшую катапульту, хранившуюся до того в корабельном трюме, выстроили рядом с ней ряд глиняных горшков с греческим огнём.
Развёрнутые паруса заполоскались и наполнились ветром; с трепещущего полотнища флага размахивал крылами и как живой рвался ввысь горящий золотом императорский двухглавый орёл. Постепенно набирая скорость, «Святой Павел» двинулся навстречу бесчисленным судам турецкого флота.
— Отцепите баржу, — крикнул Флатанел, опуская на голову стальной шлем с узкими прорезями-щёлками для глаз.
Штурман подскочил к вбитому в настил кормы медному кольцу и двумя ударами перерубил пеньковый канат. Упруго загудев, волокна лопнули; мгновенно измочалившийся конец с шумом опустился в воду. Вслед за этим послышались еще три всплеска: рулевые, не желая оставаться на покинутом судне, попрыгали в море и вскоре были подобраны генуэзской галерой.
Штурман взял у солдата арбалет, макнул стрелу в горшочек с зажигательной смесью и подпалив от пламени жаровни, нажал на спусковой крючок. Потянув за собой дымный след, стрела вонзилась в борт баржи и вновь вспыхнувшее пламя принялось жадно лизать просмоленные доски.
— Пусть лучше сгорит, чем достанется нехристям, — пробурчал он, возвращая арбалет обратно.
На генуэзских галерах так же утихли споры и в полном молчании, под ритмичные всплески вёсел, они последовали за «Святым Павлом».
Сто пятьдесят против четырех. Исход сражения не вызывал сомнений почти ни у кого.
Все шире растягивая строй, турецкие галеры быстро приближались. Уже отчетливо доносились воинственные крики, невооруженным глазом были видны на палубах неистовые пляски, полные нетерпения и жажды битвы.
Не доплывая трех стадий, центральная часть кораблей притормозила движение; рога полумесяца вытянулись вперед, стремясь замкнуть кольцо. Этот манёвр не мог пройти незамеченным: Флатанел послал свой корабль на левый, ближний к береговой полосе строй врага. Две галеры, бросившиеся наперерез, попали под шквальный огонь византийцев и, теряя мачты и гребцов, поспешно отвернули в стороны. Ещё одна, пытавшаяся протаранить «Святого Павла», сама получила такую пробоину в борт, что изо всех сил помчалась к берегу, намереваясь выброситься на мель.
— Подпускайте ближе и бейте в упор, — крикнул Флатанел, прикрываясь щитом от града сыплющихся стрел. — Лучше смерть в бою, чем на плахе!
Отгоняя рукой дым от лица, он обратился к критянину, натягивающему тетиву своей катапульты:
— Целься точнее. Сегодня от твоей игрушки зависит многое.
Грек вскинул голову, мрачно сверкнул глазами, но удержался от ответа.
Генуэзские галеры не имели дальнобойных орудий; небольшие пушки и пищали могли метать картечь, да и то лишь на небольшое расстояние. И хотя град свинцовых пуль, каждая с грецкий орех величиной, был убийственен для гребцов на мелких феллуках, итальянские корабли пока еще не имели возможности активно участвовать в битве «Святого Павла» с османским флотом.
С борта византийского парусника вылетел тёмный предмет и оставляя за собой дымный след, вдребезги разбился о борт приближающейся биремы. Пламя вспыхнуло и растеклось по переборкам, с поразительной скоростью подбираясь к парусам. С горящего судна посыпались в воду воины и моряки, предоставляя прикованных к скамьям гребцов их собственной незавидной участи. Удачно сманеврировав, византийцы прошли мимо еще одной галеры, осыпая ее градом пуль и ядер. Повреждённое судно осталось за бортом; плывущая вслед генуэзская галера, с размаху протаранив, потопила его.
Зеленоватая гладь Мраморного моря покрылась черными точками голов тонущих, но это было лишь началом боя. События разворачивались стремительно, с нарастающей быстротой.
Большая трирема, неосторожно приблизившаяся к «Святому Павлу», получила в бок свою порцию греческого огня и воины на палубе, уже готовые взять врага на абордаж, метнулись в стороны от всепожирающего огня. Молодой турецкий матрос, блестя на солнце мускулистым торсом, схватил заранее поготовленное ведро воды и с размаху выплеснул его в центр пылающего пятна. Лучше бы он не делал этого! Шипя, взвились раскалённые брызги; дымно-огненный шквал косматым клубком прокатился по палубе. Паруса съёжились и опали, разбрасывая по ветру клочья пылающей ткани и трирема, полыхая как гигантский погребальный костёр, медленно остановилась в спокойной воде.
Бой разрастался. Палуба «Святого Павла» напоминала развороченный муравейник, но за кажущейся сумятицей без труда просматривалась завидная слаженность действий. Каждый знал своё место и в минуту крайней опасности интуитивно делал то, что требовалось от него на данный момент. Воины и моряки без устали перебегали с одного борта на другой, успевая дружно отражать попытки турецких кораблей любой ценой взять противника на абордаж.
Механик-критянин, скачущий и дёргающийся возле катапульты, напоминал своим видом бесноватого. Весь черный от дыма и от гари, он быстро натягивал воротом тетиву, бросался к горшочкам с огненной смесью, устанавливал сосуд в специальное углубление и едва успев прицелиться, дергал спусковой крючок.
— А-а….съели, собаки?…..вот ещё….гори и ты…., - бессвязно выкрикивал он, ловко манипулируя рычагами машины.
Полуоглохшие от выстрелов, плавая в дыму, как в густом тумане, пушкари подхватывали лафеты откатывающихся орудий, опрокидывали вёдра воды на раскалённые стволы, быстро перезаряжали и вновь нацеливали на ближайшие вражеские корабли. Вокруг пронзительно-тонко свистели тучи дротиков и стрел; деревянные переборки напоминали выводок зло ощетинившихся дикобразов. Время от времени кто-либо хватался за голову или за грудь, со стоном или молча валился на палубу, красную и скользкую от крови. Мертвые лежали под ногами, при сильной качке шевелясь подобно живым, пока их бесцеремонно не оттаскивали в сторону, подальше от суеты сражения. От едкой пороховой вони, замешанной на запахах крови, калёного железа и горящего дерева, спирало дыхание, глаза застилались слезами и потом, но времени на передышку не хватало.
Гоня перед собой буруны, тяжелый парусный корабль быстро надвигался на византийцев; острый, сверкающий чищенной медью форштевень уже целился сокрушить борт «Святого Павла». Пёстро разодетые воины, толпящиеся на носовой палубе, испускали воинственные, леденящие душу крики и, отталкивая друг друга, вскакивали на перила, повисали на вантах, готовясь обрушиться на врага, одним махом смести поредевшие ряды европейцев.
Механик стремглав бросился к одному из солдат и надрывно крича, принудил его следовать за собой. Вдвоём они вытащили из трюма длинный жестяной цилиндр в пол-обхвата толщиной и поволокли по палубе, спотыкаясь о тела убитых. Выбив пару балясин из перил, они просунули его в образовавшееся отверстие и механик, с факелом в руке, улёгся рядом с трубой, начинённой смесью греческого огня и пороха.
Вражеское судно быстро приближалось. Турецкие воины вопили и бесновались, осыпая ромеев стрелами, копьями и топорами. Флатанел бросился на корму и оттолкнув рулевого, сам всем телом навалился на перекладину руля. Толстое дерево бруса протестующе заскрипело, выгнулось дугой, грозя переломиться, и «Святой Павел», чудом избежав столкновения, прошёл всего лишь в нескольких саженях от турецкого корабля. В это мгновение критянин, опасно перегнувшись через перила, поджёг пороховую заглушку цилиндра-сифона.
Раздался приглушенный взрыв, сменившийся затем чудовищным гулом и свистом. Гигантский язык огня ударил в борт неприятельского судна, расцвёл на нём грозным пламенным цветком. Ревущая огненная струя сметала с палубы людей, мгновенно прожигала канаты и паруса. Почерневшие от страшного жара борта тут же воспламенились и сквозь треск и гудение начавшегося пожара стали слышны дикие вопли моряков, живыми факелами бегающих по палубе.
ГЛАВА XXVI
Белая пена выступила на губах султана, когда он увидел гибель своих лучших кораблей. С яростным криком, он пришпорил коня и направил его в море, где всего лишь в двух сотнях саженей от кромки воды кипела жестокая битва.
Но уже через несколько шагов лошадь стала захлебываться в волнах, поднятых сражающимися кораблями и вымокший до нитки султан был вынужден вернуться на берег. Вместе с ним возвратились обратно и сановники его свиты, не по доброй воле принявшие вслед за своим господином морские ванны.
— Смелее, воины Аллаха! — кричал, срывая голос, Мехмед. — Смелее, провались вы в пасть сатане!
В отчаянии он сорвал с головы тюрбан и спрятал в нём лицо. Затем вновь принялся кричать, взывая к мужеству своих моряков. Неподалёку от него на берег выполз турецкий матрос с потопленного судна. Вода ручьями текла с него, мокрые шаровары облепили худые ноги, лицо ещё кривилось от пережитого ужаса. Шатаясь от усталости, он рухнул на колени, вознося хвалу Аллаху за своё чудесное спасение. Но не успел он произнести и двух слов, как подскочивший султан перегнулся с коня и одним ударом снёс ему голову. Голова откатилась на два шага и немного покачавшись, застыла на мокром песке, не сводя с Мехмеда скорбного взгляда остекленевших глаз.
— Вот что ждёт каждого, кто отступит в бою! — вопил Мехмед, потрясая окровавленной саблей. — Бежавший жизнью заплатит за свою трусость!
Он снова бросился в море, страшными угрозами посылая своих капитанов в бой.
Еще не пришедшие в себя от сильного отпора, командиры турецких галер вновь направили свои суда вперёд, стремясь отсечь генуэзские корабли от византийцев и поотдельности расправиться с врагом. Но это им не удалось. «Святой Павел» свирепо огрызался ядрами и огненными зарядами, заставляя даже самых отважных отворачивать в сторону. Тогда вперёд устремилась бесчисленная флотилия феллук, до того благоразумно пережидающих битву гигантов. И если предыдущее сражение походило на схватку медведя с волчьей стаей, то последствия этой атаки наводили на на память библейскую причту об избиении младенцев.
Остроносые плоскодонки подпускались вплотную и только потом, в упор расстреливались из орудий — один залп картечи пускал на дно сразу несколько феллук. Даже тем, кому посчастливилось невредимыми доплыть до кораблей христиан, это не приносило удачи: турки не могли преодолеть высоких бортов, с которых к тому же обрушивалось на их головы всё, что имело хоть какую-то тяжесть и годилось в качестве метательных снарядов. Под хруст проламываемых черепов, оставляя на бортах отсечённые руки, атакующие валились вниз, переворачивая свои неустойчивые суденышки.
Турецкие галеры бросились на выручку, но огневая мощь христиан по-прежнему держала их на почтительном расстоянии. Стоило неприятелю приблизится, как спаренные цепями чугунные ядра вновь начинали рвать паруса, ломать мачты и проделывать большие безобразные дыры в обшивке корпусов. Свинцовая картечь генуэзцев свирепо свистела над палубами, унося сотни жизней; чадящие языки греческого огня, подобно пятнам проказы расползались по воде, поджигая всё новые и новые суда османов. Акватория прибрежного участка кишела тонущими людьми, чьи взывающие о помощи, полузахлебывающиеся выкрики не слышал и не слушал никто.
Солнце уже давно миновало зенит, но морская битва не утихала. Четыре корабля, подобно тарану, уверенно взламывали строй турецких галер, прокладывая себе путь к спасительной гавани Золотого Рога.
Устрашенные греческим огнем, под градом камней, ядер и пуль, спасаясь от полного уничтожения, турецкие галеры отвернули во второй раз.
Ликованию византийцев на Морских стенах Константинополя не было предела. На глазах у всех маленькая эскадра прокладывала себе путь в густом скоплении вражеских кораблей, из которых не менее полутора десятка галер уже горело или тонуло в море, а остальные беспорядочно сновали из стороны в сторону, как птицы в переполошенном курятнике.
Горожане радостно обнимались и покатываясь со смеху, указывали пальцами на противоположный берег, где металась, беснуясь от ярости, маленькая фигурка верхом на белом скакуне. Некоторые, повернувшись к берегу спиной, спускали штаны и показывали врагу свои голые зады, подпрыгивая и похлопывая по ним. Столь неприкрытое глумление вызывало у турок яростные крики и, теряя головы от злости, они пытались дометнуть до стен копья и стрелы. Но расстояние было слишком велико.
Торжествующее выражение не покидало лицо василевса. Еле сдерживая улыбку, он повернулся к Луке Нотару.
— Когда корабли приблизятся, прикажешь опустить Цепь на один пролёт и выслать в поддержку пять галер под началом Тревизано.
— Это слишком опасно, государь. Османские корабли только и ждут момента, чтобы прорваться в залив.
— Что же ты предлагаешь? Бросить наших храбрецов на произвол судьбы?
— Отнюдь. Корабли укроются в гавани Феодосия: подступы к ней простреливаются с башен и там они будут в полной безопасности. С наступлением же сумерек, под защитой стенных камнемётов, они проследуют вдоль берега до входа в Золотой Рог, где их и примут под конвой венецианские галеры.
— Мне нравится твой совет, — согласился василевс.
Предложение Нотара было хорошо продуманным, но довести его до сведения сражающихся мореходов оказалось непростым делом: на кораблях не замечали отчаянных усилий сигнальщиков на башнях или, в горячке боя, просто не успевали расшифровать условные знаки разноцветных флажков.
Турки предприняли ещё одну бесполезную попытку сломить сопротивление христиан. Палда-паша сорвал себе глотку, пытаясь собрать вокруг себя разрозненные корабли, вдохнуть боевой дух в объятые паникой экипажи судов. Он взывал к доблести и мужеству, обещал награду или смерть на колу и на плахе, напоминал о радостях битвы и об ожидающем смельчаков загробном блаженстве. Его бирема, как ткацкий челнок, сновала сновала вдоль линии боя, с каждым поворотом увлекая за собой всё больший хвост галер с оправившимися от растерянности командирами. Османские суда сгруппировались и вновь, мешая и преграждая путь друг другу, помчались на уже изрядно потрепанные корабли христиан.
Атака захлебнулась точно так же, как и в предыдущие разы. Поспешное отступление увлекло за собой и бирему предводителя, который, стоя на мостике, осыпал проклятиями трусость своих подчиненных.
— Да падут на ваши головы все кары небесные! — вопил он, размахивая кривым отточенным мечом. — Но если даже Аллах простит, то я вам никогда не спущу!
— Ах ты, собака болгарская! — прошипел капитан одной из удирающих галер, которая как раз проплывала мимо адмиральского судна. — Прикинулся правоверным, чтобы руками нечестивых истреблять нас?
Он выхватил у солдата пращу, вложил в неё камень и быстро завертел над головой.
Яркая вспышка боли ослепила флотоводца. Он вскрикнул, схватился за лицо и ощутил струйку крови у себя между пальцами. Мучительная боль сводила глазницу; Палда-паша понял, что свет навсегда померк в его правом глазе. Тихо застонав, он опустился на палубный настил и впал в беспамятство.
На юго-восточной части Константинополя, среди части османского флота, ещё не снявшегося с якорей, возникла паника. Экипажи спешно рубили якорные канаты и бросались за весла, торопясь поскорее уйти с дороги с рвущихся вперед неприятельских кораблей, а также турецких галер, которые преследуя врага, в слепой ярости уже не разбирая, таранили борта судов своих единоверцев, если те оказывались у них на пути.
Хотя запасы ядер и пороха быстро иссякали, «Святой Павел» по-прежнему продолжал отбиваться от врага, не щадя своей огневой мощи. Но наиболее устрашающее действие производило жидкое пламя.
Греческий огонь — оружие, на протяжении восьми веков, не раз выручавшее Империю в морских сражениях; неугасимая смесь, способная гореть на воде и под слоем песка; стараниями византийских мастеров доведённая почти до совершенства — и в тот день переломил неблагоприятный ход событий.
К трем часам полполудня сражение начало затихать. Разгром османского флота, лишенного к тому же своего предводителя, был настолько внушителен, что оставшиеся военачальники уже более не помышляли о противостоянии.
Грохоча ржавыми звеньями, часть заградительной цепи сползла глубоко в воду. К образовавшемуся проходу приблизились высланные навстречу венецианские галеры, но в том уже не было необходимости: наученные горьким опытом, турецкие суда остерегались подходить на пушечный выстрел. Византийский корабль сманеврировал, пропуская генуэзцев вперед и выпустив в сторону моря прощальный залп, последовал за ними.
Колокольный звон величаво плыл над Константинополем. Со стен ему вторило ухание пушек и торжественное пение фанфар. На башнях распускались полотнища стягов, в воду летели охапки цветов. Под звуки священной литургии ворота храма Святой Софии медленно распахнулись, пропуская процессию священослужителей, несущих впереди крестного хода икону Богоматери. При виде святыни народ опускался на колени, славил и благодарил, не спуская увлажнённых глаз с её строгого в своей простоте лика.
Четыре корабля медленно плыли вдоль Золотого Рога. Ликование горожан взбодрило измученных моряков и с их лиц ушли остатки боевого запала и ожесточенности. Вёсла с новой силой опускались в воду; солдаты выстраивались вдоль бортов, махали встречающим касками и руками; выставляли напоказ изрубленное и окровавленное оружие.
Ноги почти не держали Флатанела. Он опустился на ступеньку мостика, обеими руками снял с головы тяжёлый шлем. Случайно встретился глазами с критянином, который оседлав свою катапульту, нежно, как женщину, гладил ее по бокам.
— Где Анисим? Где этот негодный канонир? — внезапно вспомнил он. — Я задолжал ему один золотой.
Стоящий рядом адъютант заботливо баюкал свою повреждённую стрелой руку. Вопроса он не расслышал и честно в этом признался.
— Анисим. Старик. Тот самый, кто с первого выстрела подбил турецкий флагман.
Адъютант подумал и пожал плечами.
— Где-нибудь там, — равнодушно кивнул он в сторону уложенных возле мачты тел погибших. — Среди раненых и прочих я его не видел.
Капитан глубоко вздохнул.
— Жаль. Значит, награда ему и впрямь не понадобилась.
— Не надо скорбеть о нём. Его ждет высшая награда на небесах!
Священник, стоящий на коленях подле мертвых, повернул к Флатанелу свое покрытое гарью лицо, по цвету мало отличающееся от черной сутаны и значительно поднял указательный палец к верху.
На пристани солдаты еле сдерживали напор возбуждённой толпы. Каждому хотелось протиснуться вперед, дотронуться рукой до героев или хотя бы досыта насмотреться на них. Раненых заботливо укладывали на груженные соломой возки и оберегая от малейших толчков, быстро везли в госпитали при монастырях. Целый отряд плакальщиц окружил погибших. Громко причитая, они смывали копоть и кровь с холодеющих лиц, укутывали тела в белоснежные полотнища саванов. Тем же, кто мог самостоятельно передвигаться и не нуждался в срочном врачевании, на улицах устраивали торжественные встречи, напоминающие чествование триумфаторов во времена древнего Рима.
Выбрасывая в воздух клубы чёрного дыма, медленно догорали остовы турецких кораблей. Множество моряков погибло в огне и в воде; обезображенные трупы густо устилали палубы. Несколько сот несчастных ещё держалось на плаву, но их мольбы о спасении оставались без ответа. Повреждённые галеры торопились к мелководью, чтобы там, вблизи от берегов, зализать свои раны; остальные, слабо полоща веслами, бесцельно бороздили акваторию моря.
Когда, перекрывая проход, заградительная цепь вернулась на своё место, Мехмед дико взвизгнул, пришпорил коня и помчался обратно в лагерь. Ворвавшись в свой шатёр, он рухнул на ложе, в слепой ярости молотя подушки кулаками. Затем, не успев отдышаться, с такой силой ударил в гонг, что серебрянная цепочка лопнула и диск, громко звеня, покатился по полу.
— Позвать сюда всех пашей и беев! — крикнул он выросшему в дверях начальнику охраны.
Низко кланяясь, военачальники и царедворцы поочередно входили в шатёр и толпясь у входа, чуть ли не прячась за спинами друг друга, стыдливо отворачивались, стараясь не попасть под испепеляющий взгляд молодого владыки.
— Что же вы молчите? — язвительно осведомился Мехмед. — Вам наверное есть, что рассказать своему господину!
Он вскочил и подбежал к ним.
— Но я не вижу среди вас славного, победоносного Палда-пашу. Или он стал скромен соразмерно своей доблести, если не смеет показаться показаться на глаза султану?
Саган-паша приподнял голову.
— Не гневайся, о всемогущий… Мы уже послали за ним. Флотоводец вскоре предстанет перед твоими очами.
— Хорошо, — согласился Мехмед. — Мы подождём. А я пока подумаю о людях, которые меня окружают.
Томительно-долго текли минуты ожидания; в гробовой тишине стук двух десятков сердец монотонно вёл отсчёт промежуткам времени. Топот, донёсшийся от входа позволил многим перевести дух. Придворные посторонились — окружённый четвёркой янычар в шатёр ввалился Палда-паша. Его вид был ужасен: изорванный и обгорелый халат висел на нем клочьями, одна из рук была перевязана грязной тряпицей, борода и волосы курчавились, опалённые огнём, а всю правую часть лица скрывала чёрная маска запекшейся крови.
Еле держась на ногах, качаясь на каждом шаге, он приблизился к султану и с размаху рухнул на колени.
— Прости меня, о великий! Я уповаю лишь на милость Аллаха и твоё добросердечие….
В измученном голосе звучала мольба о чуде. В лицо ему полетел тюрбан одного из стражей, пущенный рукой самого султана.
— Негодяй! Смердящий пёс!! — в бешенстве кричал Мехмед, осыпая несчастного ударами тяжелого золочённого жезла.
— О, как я был глуп, когда доверил тебе командование моим несравненным флотом! Ты подло обманул, предал меня и получай за это! Получай!
— Прости меня, о повелитель…,- тихо, в полузабытии шептал флотоводец.
Не смея уклониться от ударов, он только неуклюже прикрывал руками повреждённое лицо.
— Твои корабли не могли устоять перед колдовским зельем византийцев….
— Ты предал меня! — не слыша его, твердил Мехмед.
Тяжело дыша, он отбросил булаву в сторону.
— Ты заслужил самую жестокую казнь и завтра поутру, с восходом солнца, она с нетерпением будет ожидать тебя.
— Пощады, о великий султан….- чуть слышно выдавил болгарин и рухнул на пол.
По знаку Мехмеда, янычары схватили его и за ноги выволокли из шатра.
Сановники подавленно молчали, справедливо полагая, что каждое неосторожное слово может навлечь и на них гнев султана. Но Мехмед уже успел обуздать себя. По-прежнему тяжело дыша, он вернулся к ложу и с размаху уселся на упругие подушки.
— Мой повелитель…., - раздался со стороны негромкий голос.
Мехмед поднял глаза и повернул лицо к великому визирю, от которого тут же непроизвольно отодвинулись окружающие.
— Ты что-то хочешь сказать, Учитель?
Халиль-паша в жесте покорства приложил руки к груди.
— Прости великодушно мою дерзость, если слова мои не придутся тебе по душе. Твой гнев велик и это справедливо. Но незадачливый Палда-паша не столь виновен, как это может показаться. Да, наш флот потерпел позор, но причина тому не бездарные действия флотоводца, а высокое мастерство и опыт христиан. Они сызмальства обучены ходить под парусами, мы же делаем первые шаги на море.
Сановники слегка оживились. Послышалось одобрительное перешептывание. Саган-паша ненавидел визиря, чьим верным сторонником являлся Палда-паша, но заметив колебание в глазах султана и почувствовав общее умонастроение, неожиданно принял его сторону.
— Повелитель, дозволь и мне сказать свое слово. Я лично допрашивал командиров многих галер и все они в один голос утверждали, что Палда-паша отважно сражался в первых рядах. Раны, полученные им в бою и которые только что мы видели своими глазами, свидетельствуют о том же.
Несмотря на свои молодые годы, зять султана был весьма дальновиден: гнев Мехмеда вскоре пройдёт, а обычай казни провинившихся полководцев вполне может укорениться. И в этой затягивающейся войне, в которой одна неудача сменяет другую, а исход с каждым днём становится все более непредсказуем, головы военачальников могут начать слетать с плеч в удручающем количестве. Не худо бы лишний раз отвести беду (как знать? кому открыто собственное будущее?), в дальнейшем, может быть, и от самого себя. Более того, ни в коем случае нельзя допускать и тени сомнения в преданности султану многих придворных христиан-ренегатов, принявших учение ислама, к числу которых принадлежит и он, Саган-паша. А такие разговоры уже идут и с каждым днем становятся все громче!
— Правда, — заторопился он, заметив хмурящиеся брови Мехмеда, — будь на месте этого презренного опытный командир, враг никогда бы не прорвался в гавань. Главное, в чём виновен Палда-паша — это в своей полной непригодности.
— Христианские корабли высоки бортами. Они быстроходны. Стрелки на них метки и искусны, — подхватили голоса сановников.
Долгое время султан молчал, кусая себе губы. Затем его лицо разгладилось.
— Палда-паше оставить жизнь, — наконец произнёс он. — Отсчитать по спине и по пяткам сто палочных ударов, лишить имущества в пользу янычар и посадить гребцом на галеру. Пусть там, под ударами кнута, изучает премудрости военного мастерства.
Придворные зашевелились, взбодрённые султанской милостью. Нарочито громко пробежал по толпе шепоток одобрения.
— Теперь я хочу услышать о результатах сражения, — заявил Мехмед.
Великий визирь поклонился.
— Предугадав желание своего господина, я велел своим слугам составить подробный отчет и просчитать потери с обеих сторон.
С этими словами он вытолкнул вперед писца, маленького перепуганного человечка.
— Читай, — потребовал Мехмед. — Читай самое главное — цифры.
— Пусть простит меня мой повелитель, — заикаясь, выговорил писец и громко сглотнув, начал:
— Убыток наш ввергает в огорчение! Семнадцать гребных и парусных кораблей было сожжено или потоплено неверными. Ещё полтора десятка сильно повреждено и требует продолжительного ремонта. Количество уничтоженных феллук определить затруднительно, поскольку мы не распологаем данными об их первоначальной численности. После боя команды кораблей недосчитались более двух с лишним тысяч моряков и солдат…..
— Довольно, — оборвал Мехмед, кипя от еле сдерживаемой ярости. — Какие потери понесли неверные?
— Несмотря на то, что все их суда прорвались в гавань, они потеряли много людей. Очень много! Прости, о великий, назвать точное количество я не в состоянии….
— Однако, — тут голос писца окреп и приободрился, — наши храбрые моряки отбили у врага, сожгли и потопили весьма ценную баржу, которая везла в осажденный город провиант и…..
Он поднял глаза на султана и увидел во взгляде владыки нечто такое, от чего пергамент выпал из его рук, а сам он невольно попятился.
— Убирайтесь все вон! — заорал Мехмед, швыряя подушкой в царедворцев. — Я не могу видеть ваши гнусные лица! Глупец, и вот с такими-то….
Он поискал нужное слово и не найдя, сплюнул наземь.
— ….вот с этими я мечтал овладеть столицей мира!
Он горько рассмеялся.
— Мне следует разогнать вас всех и набрать себе армию из греков. Презренные! Евнухи! Торговцы телами своих матерей! Прочь с глаз моих!!
Теснясь, сановники бросились к выходу. Огромный шатёр моментально опустел. Всхлипывая от бешенства, султан опустился на подушки и глухо застонал.
Поздно вечером, когда в чернильно-черном небе зажглись по-южному крупные звезды, наблюдательными придворными было отмечено странное оживление возле шатра султана. То и дело под конвоем офицеров гвардии через полотняные двери входили и выходили чужестранцы из числа наёмных знатоков военных ремёсел и кондотьёров на службе у султана.
Недобрый слух тут же пополз среди сановников: повелитель, разочаровавшись в своих верных слугах, намеревается выполнить свою угрозу и приблизить к себе иноземцев. И даже (о, ужас!) готов передать им в руки, в руки язычников без роду и племени, все верховные посты в османской армии! Не на шутку встревоженные военачальники не находили себе места, многие уже ощущали на своих плечах всю тяжесть предстоящей опалы. Брожение умов разрасталось; к шатрам влиятельных царедворцев, во избежание внезапных арестов, уже подтягивались отряды лично им преданных солдат; гонцы томились возле оседланных лошадей, готовые по первому же приказу помчаться к янычарам с призывом к мятежу.
Однако всё объяснялось проще: у молодого правителя возникла острая потребность в человеке, чьё имя напрочь вылетело у него из памяти. Вскоре после того, как изгнанные придворные покинули шатёр, в голове у не находящего себе места, удручённого позором султана мелькнуло смутное воспоминание. Некий кондотьер, чей отряд был настолько малочисленен, что не вызывал интереса у нанимателей, был за хорошие деньги принят на службу к султану. И он, желая выслужиться на новом месте, предложил своему благодетелю на первый взгляд совершенно безумную идею. Суть её заключалась в следующем: как, не имея возможности преодолеть заградительную цепь, перехитрить ромеев и без потерь переправить турецкие корабли в Золотой Рог.
В тот день, от души повеселившись, Мехмед прогнал болтуна, но сейчас, после сокрушительного разгрома, невольно призадумался. Этот шаг, на первый взгляд казавшийся столь безрассудным, одним махом мог оборвать тягостную цепь неудач, перечеркнуть неблагоприятное действие небесных светил. Мехмед решился. Но найти нужного человека оказалось непросто: обладая великолепной памятью на лица, имя этого кондотьера султан вспомнить так и не смог.
И поэтому теперь, под какими-то надуманными предлогами, он поочерёдно, группами вызывал к себе всех предводителей отрядов наёмников-христиан. Вскоре, среди десятков прочих, он признал того человека.
— Всем, кроме этого, убираться прочь, — приказал он, указывая пальцем на кондотьера.
И когда шатёр опустел, поманил его к себе.
Итальянец подошел без видимого страха. Даже сквозь маску напускной почтительности, на его лице проступало выражение врожденного нахальства и бесшабашности.
— Садись, — милостиво пригласил султан.
Кондотьер подчинился.
— Как твоё имя?
— Гаспар Сколари, повелитель.
— Из каких же земель происходит твой род?
— Флоренция, господин. Север Италии.
— Скажи мне, иноземец, — продолжал допрашивать через переводчика султан, — В здравом ли ты уме предложил своему господину план переброски суден в залив Золотого Рога?
Кондотьер наконец-то уяснил себе, для чего он так срочно был разыскан и заметно приободрился.
— Да, синьор, в весьма здравом уме. В моем предложении нет ничего невозможного: сооружается деревянный настил, густо смазывается жиром и по нему, на катках, влекомые быками, перетаскиваются мимо Галаты галеры твоего флота.
— Твой план в деталях совпадает с замыслом нашего властелина, — заявил переводчик. — Но всё-таки султан желает знать, правильно ли ты представляешь грандиозность этой операции, чтобы сопоставить потуги твоего недалёкого ума с божественным предвидением нашего повелителя.
Сколари посмеялся про себя.
«Всё ясно. Эта желтокожая обезьяна на троне хочет представить дело так, будто эта идея первым озарила его, а не была подброшена мною».
У него хватило ума никак не проявить свои мысли и, следуя этикету, он привстал и поклонился так низко, как только позволила это грубая кольчуга, покрывающая его тело.
— Куда уж мне, простому смертному, постичь величие замыслов повелителя, — развязный говор бывалого вояки звучал диссонансом в сравнении с кажущейся почтительностью слов. — Однако должен сказать — эта тактика не нова. Не так давно венецианцы в Ломбардии переправили на платформах с колесами свою флотилию с реки По на озеро Гарда. Вот я и подумал: не худо бы нашему великому хозяину распорядиться перетащить корабли в обход стен Галаты.
— Наш повелитель удивлен сходству планов, родившихся в столь разных головах. Но почему, вопрошает он, нельзя перетаскивать корабли на катках из бревен прямо по земле или на таких же платформах, которыми пользовались венецианцы?
— Что по мне, так это без особой разницы. Достаточно лишь, чтобы эти посудины катились резво. Можно даже распустить паруса и гребцов усадить за вёсла, — флорентиец расхохотался, довольный своей шуткой.
Мехмед раздраженно повёл плечом, переводчик сделал страшные глаза и итальянец мгновенно умолк.
Султан заговорил, не спуская глаз с грубоватого лица искателя наживы:
— Ты отмечен печатью Аллаха, иноземец. И хотя ты не относишься к приверженцам истинной веры, разум твой достаточно глубок, чтобы уловить веление свыше.
Кожаный кошелёк звучно шлёпнулся к ногам кондотьера.
— Возьми и возблагодари своего господина за милость!
Сколари поспешно прижался лбом к земле, затем схватил мешочек и в открытую взвесил на ладони. Несмотря на свои скромные размеры, кошелёк оказался достаточно тяжёлым и, по-видимому, был заполнен крупными золотыми монетами.
— Ступай, — отослал его толмач и сам, повинуясь взгляду Мехмеда, вышел вслед за наёмником из шатра.
Только полотняный полог закрылся за ними, как на звон колокольчика к султану приблизился рослый сотник-янычар.
— Ты звал меня, мой господин?
— Запомнил ли ты лицо чужеземца, только что покинувшего шатер?
— Да, господин. Что прикажешь — убить его?
— Кошелёк с золотом на его поясе — твой.
Юзбаши пал на колени, приник лбом к ковру и быстро, пятясь задом, покинул шатер.
Мехмед удовлетворённо откинулся на спинку сидения.
Деревянный настил от залива Святого Устья до Золотого Рога был сооружен в кратчайший срок. В течении всего этого времени пушки, установленные в Долине Источников, вели навесной обстрел бревенчатых понтонов у входа в гавань, массивных поплавков, на которых крепились звенья заградительной цепи. Тем самым турки хотели отвлечь охраняющие ее корабли от наблюдения за манёврами османских войск и флота, а так же закрыть клубами порохового дыма вид на этот участок Босфора.
В прямой видимости дозорных на сторожевых башнях Галаты гарцевали отряды конных янычар, не приближаясь, впрочем, на полет стрелы. Довольно часто пушечные ядра опускались почти у самых городских стен, недвусмысленно предупреждая жителей от чрезмерного любопытства.
Обитатели Перы строили всевозможные догадки, но большинство сходилось в одном: османский правитель жаждет взять реванш за недавний разгром своего флота.
Это подтвердил и явившийся к подесте лазутчик.
— Ты уверен? Действительно уверен? — настойчиво допытывался Ломеллино.
— Синьор, я слишком устал для выдумок. Повторяю, тысячи рабочих и ремесленников заканчивают последние приготовления. Транспортировка кораблей начнется или сегодня ночью или с завтрашнего утра.
— Хорошо, Джованни, ступай. Я доволен тобой: твоя задолженность по ссуде будет мною погашена.
У самой двери лазутчик немного замялся, затем решился:
— Нельзя ли получить немного денег на руки, синьор? Я совсем поиздержался, нечем даже за ужин заплатить.
— Завтра придёшь. Завтра…
Подеста почти силой вытолкнул его из кабинета, захлопнул дверь и запер ее на ключ. Затем приблизился к вделанному в стену шкафу, сдвинул его в сторону и извлёк из маленького тайничка шкатулку. Сдунув тонкий слой пыли, он отпер ее и достал свёрнутый в трубочку лист пергамента. Бережно развернул, пробежал глазами и удовлетворённо хмыкнул.
— Ну что ж, синьоры ромеи, в подписанном договоре, составленном вами же, нет ни слова о добровольном нарушении нейтралитета, а уж тем более о военной вылазке для уничтожения вражеских построек. Галата верна своим обязательствам, но ни на шаг не переступит их.
Довольно потирая руки, он несколько раз прошёлся вдоль кабинета. Затем, остановившись, призадумался, продолжая рассуждать вслух.
— Все правильно, все по закону, однако….. Наше положение слишком двусмысленно: многие сочтут бездействие предательством и могут даже обвинить в сговоре с врагом. Эти греки чересчур подозрительны, да и мои соотечественники в этом грехе им не уступят. Надо бы обезопасить себя, но как?!
Он звучно хлопнул ладонью по лбу.
— О, дьявол! Как я раньше не подумал! Надо срочно послать гонца к Феофану и известить его обо всем. Доброжелательность этого человека ценится высоко и пренебрегать ею никак нельзя!
Подеста сел за стол и заскрипел пером.
— Пусть даже он узнаёт обо всём раньше меня, это письмо в дальнейшем послужит хорошим оправданием.
— Пьеро! — громко позвал он, сворачивая и запечатывая воском послание.
Подеста ещё не успел осознать масштабности близкого несчастья — ведь с переправой османских судов в Золотой Рог был сделан первый весомый шаг к взятию Константинополя.
ГЛАВА XXVII
С наступлением рассвета турецкие галеры двинулись в обход Галаты. Толстые пеньковые канаты, концами уходящие в морскую воду, разом натянулись; ближняя галера дрогнула, задрала нос и медленно, рывками стала потягиваться к берегу. Над поверхностью показалось буро-зеленое, обросшее водорослями и моллюсками днище; вслед за ним, обрушивая вниз потоки воды, въехала на смазанный жиром настил полузатопленная платформа с закрепленным на ней корпусом корабля. Широкие, концами загнутые вверх полозья с протяжным скрипом заскользили по настилу; платформа с галерой двинулась вперёд под дружные выдохи и крики впряженных в лямки рабов. Воловьи упряжки сменили людей, а из моря тем временем вынырнул нос следующего судна.
Щелканье бичей перекрыло посвистывание флейт и дудок, звенели медным звоном цимбалы, под басовитое уханье больших барабанов подрагивали реющие по воздуху флаги. Экипажи галер по команде заняли свои места. Матросы повисли на мачтах, распуская треугольные паруса; десятники расхаживали по палубам, выкрикивая приказы; гребцы в такт громыханию гонга на корме усердно махали веслами в пустоте. Султану неожиданно пришлось по душе шутовское предложение теперь уже покойного кондотьера-флорентийца. В самом деле, почему бы не превратить тяжелый изнурительный труд в подобие праздничного шествия, поразить воображение необычностью и неким тайным смыслом? Пусть дух захватывает у невольных зрителей происходящего!
Первый же дозорный на сторожевой башне, разглядевший в зрительную трубу фантасмагоричное зрелище ползущих по суше между холмами кораблей, чьи паруса свободно полоскались по ветру, а весла мерно бороздили воздух, тихо чертыхнулся, начал протирать себе глаза и даже несколько раз тряхнул головой, чтобы отогнать от себя это дьявольское наваждение.
К полудню караван кораблей пересёк середину пути и стал виден с городских стен Константинополя. На смену первоначальному изумлению и неверию в происходящее пришел ужас, сменившийся вскоре чувством полного бессилия. К концу второй половины дня вода в заливе приняла в себя первое судно. Пораженным горожанам только и оставалось, что считать корабли, поочередно, с небольшими интервалами, сходящие в воду.
Их было уже не менее пяти десятков и это число продолжало расти.
— Это измена! Вы слышите? Измена!
Тревизано дрожал от ярости.
— Предположи кто-либо подобное неделю назад, я рассмеялся бы ему в лицо!
— Спокойнее! — предостерёг Контарини.
— К чертям спокойствие! У нас под боком осиное гнездо, оплот иуд-христопродавцев, а вы толкуете мне о каком-то спокойствии!
Капитаны венецианских кораблей молчали, не скрывая своего уныния. Единственный посторонний на этом собрании — Джустиниани — и впрямь чувствовал себя посторонним. Грудой мышц возвышаясь над столом, он сидел, не поднимая головы, и лишь время от времени взглядывал исподлобья на говорящих.
— Просто в голове не укладывается, — развел руками Заккарий Гриони, помощник Тревизано. — Как Галата могла допустить такое?
Хотя вопрос как бы не был адресован непосредственно Джустиниани, глаза присуствующих обратились к кондотьеру. Лонг вздохнул и принял бой.
— Никто не в праве был ожидать, — возразил он, — что ополчение Галаты выступит против полков Саган-паши. Городской сенат блюдет свой нейтралитет, закреплённый кстати договором с Византией. И потому лишь в случае крайней необходимости согласен поступиться безопасностью своих граждан.
— Но они не могли не знать о готовящейся переброске кораблей турок в залив. Что им мешало предупредить нас?
— Предупреждение было, могу вас заверить. И оно в деталях совпало с донесениями византийских лазутчиков. Днём раньше, днём позже — значения не имеет. О намерениях турок мы были извещены задолго до наступления ночи.
— Удивительное бездействие при подобной осведомлённости, — едко заметил кто-то.
— А что нам было делать? — взъярился кондотьер. — Волочить свои галеры навстречу турецким? Это было бы незабываемым зрелищем — бой кораблей среди лугов и в иноградников.
— Можно было воспрепятствовать спуску судов в залив.
— Каким образом? Подставив свои корабли под удары вражеских камнемётов и береговой артиллерии?
Кондотьер хмыкнул и обвёл взглядом лица венецианцев.
— Вы напрасно думаете, синьоры капитаны, что высшие военные чины во главе с императором взяли себе в обыкновение до третьих петухов предаваться праздной болтовне, подобно некоторым, а затем хором обвинять друг друга в ротозействе. Помешать спуску турецких кораблей в Золотой Рог ни жители Галаты, ни защитники Константинополя были не в силах. Если вы дадите себе труд задуматься, то очень скоро придете к тому же выводу.
— Десант в Долину Источников захватил бы пушки врага и мог уничтожить проложенный турками настил для судов.
Кондотьер пожал плечами.
— И что потом? Не надо забывать о полках Саган-паши. Даже если бы высадка солдат увенчалась успехом, то ценой многих сотен жизней манёвр турок был бы отсрочен не более чем на несколько дней.
— Кондотьер прав, — вмешался Контарини. — Если что-то и можно было предпринять, то теперь эта возможность безвозвратно утеряна. Мы имеем дело со свершившимся фактом и надо искать выход из ситуации на данный момент, а не тратить время на поиски виновных.
После непродолжительного молчания предложения посыпались градом.
— Тише, синьоры, тише! — Контарини пытался восстановить порядок. — Не надо перебивать друг друга.
Тревизано вскочил на ноги. Голос капитана дрожал от возбуждения, черный хохолок волос на его макушке воинственно подрагивал.
— Предлагаю сегодня же атаковать турецкие корабли. Разумеется, поначалу мы предложим им безоговорочную сдачу, а если откажутся — дадим возможность поупражняться нашим пушкарям.
— Знает ли синьор Тревизано соотношение сил?
— Двадцать пять против семи десятков? Чепуха! Мы очевидцы того, как один византийский корабль вместе с лигурийскими галерами задали хорошую трёпку всему османскому флоту. Чем же хуже венецианцы?
— Тревизано прав! — закричал Орнелли. — А если еще и генуэзцы Галаты поддержат нас, мы раздавим магометан, как пустую скорлупку!
Заметив кислое выражение на лице Джустиниани, он поторопился продолжить:
— Даже если Галата уклонится от совместного боя, мы легко справимся сами.
Контарини отрицательно покачал головой.
— Синьор…?
— Наивно было бы предполагать, что турки примут бой. Не для того они с таким трудом переправляли свои корабли. Суда отойдут вплотную к берегу, под защиту сухопутных орудий, которые расстреляют любого смельчака, рискнувшего приблизиться на полёт ядра. Даже при содействии Перы, потери будут неоправдано велики.
— Морская дуэль бессмысленна, — отверг он следующее предложение. — Наши пушки не дальнобойнее османских.
— Есть другой план, — капитан Зитторио, одутловатый толстяк с вислыми моржовыми усами, важно раздувал щеки. — Высадим ночью десант в Долине Источников, который отобьёт у врага орудия, или хотя бы попортит их. А утром, спозаранку, дружно навалимся на нехристей!
Пришел черед Джустиниани отрицательно качать головой.
— Но почему?
— В городе слишком мало воинов для подобной операции.
— Много людей на это и не потребуется, — Зитторио был огорчен, но продолжал настаивать. — Всего лишь один полк снять со стен.
Кондотьер усмехнулся.
— Всего лишь один полк? — с сарказмом повторил он. — Я и не предполагал, что вы так плохо осведомлены, синьор. Снять один полк — означает оголить участок протяженностью почти в две мили. Такую брешь в обороне не заткнуть даже задами всех городских гетер.
— Тем более, что именно туда и рванется основная часть османских войск, — Тревизано не преминул пристегнуть к выданной им остроте парочку соленых выражений.
Спор продолжался еще более часа. Капитаны один за другим выдавали идеи, Контарини и Лонг без особого труда разносили их в пух и в прах. Однако предложение Джакомо Кока, капитана и владельца прибывшей из Трапезунда галеры, заинтересовало всех. Оно было достаточно простым и остроумным: использовать тяжелую баржу в качестве брандера, начинив ее чрево бочками пороха и зажигательной смеси. Транспортировку плавучей мины должны были взять на себя две быстроходные галеры, которые разогнавшись, по команде отворачивали в стороны, посылая брандер в середину вражеского строя, как камень из пращи. Кроме того, предлагалось под прикрытием галер подпустить к турецкой флотилии вёсельную шлюпку, которая, пользуясь суматохой, сновала бы среди вражеских кораблей, обливая греческим огнём уцелевшие при взрыве брандера суда.
Венецианцы бурно аплодировали находчивости Кока, но от осуществления акции в ту же ночь отказались.
Джакомо был взбешен.
— Откладывать нельзя! — кричал он. — Если враг разведает о нашем плане, провала не миновать!
— До наступления темноты мы не успеем подготовить и снарядить корабли, — возражали ему. — А экипажи? Попробуй собрать их сейчас, если основная часть моряков, находится на различных участках стен города. Да и потом, ненужная спешка вызовет любопытство и огласка тем самым будет неизбежна.
— Огласка не страшна, если действовать быстро, — настаивал Джакомо. — Шпионы просто не успеют сообщить своим хозяевам. А те — принять меры.
— Нет, — Контарини был категоричен. — План слишком хорош, чтобы приносить его в жертву поспешности. А что касается огласки….
Он повернулся к Джустиниани.
— Синьор, могу ли я от имени командиров судов, а также от себя лично просить вас пока что не сообщать о разработанном плане своим соотечественникам?
— Синьор Контарини, синьоры капитана, — в тон ему отвечал Лонг. — Пока я на службе у василевса, я меньший генуэзец, чем кто-либо из вас.
Собрание удовлетворенно загудело. Венецианцы поднимались с мест, обменивались рукопожатиями, хлопали друг друга по плечам, как бы заранее празднуя успех. Тревизано успел повздорить с Джакомо, пытаясь присвоить себе право руководить экспедицией. Контарини отбил ладонь об стол, пытаясь добиться тишины. Затем произнес несколько внушительных слов о пользе молчания, распределил поручения между командирами и на этом закрыл совещание.
Недаром пословица «Тайна известная двоим, перестаёт быть таковой» пережила века. Трудно определить, кто первый вольно или невольно приподнял завесу секретности над намерениями венецианцев, а может прочие мореходы, ревнуя к соперникам, понаблюдав за их действиями, сами пришли к определённым выводам, но факт остается фактом — вскоре о решении капитанов поджечь вражеский флот знали многие.
Подготовка галер к броску через Золотой Рог по ряду причин затянулась еще на день, а на следующее утро делегация лигурийских моряков явилась к Джустиниани в весьма возбужденном состоянии. Генуэзцы были взбешены фактическим их устранением из предстоящего сражения, возмущались бесцеремонностью венецианцев и требовали себе равной доли участия.
— Они желают присвоить себе всю славу! — вопил, потрясая кулаками Альфредо Манетти. — Мы каждый день льём кровь на стенах города, а они так и норовят оттяпать себе лучший кусок!
Его поддержали гневные выкрики остальных командиров.
— Пусть вспомнят, чьи галеры неделю назад задали жару магометанам!
— По какому праву Святой Марк распоряжается в чужих владениях?
— Похоже, венецианский лев слишком высоко задирает свой хвост. Не мешало бы, пожалуй, слегка его прищемить!
— Послушайте, синьоры…,- Джустиниани крутил головой, как бык, отмахивающийся от слепней.
Затем, разъярившись, в свою очередь заорал:
— Что вы все от меня хотите? Убирайтесь отсюда и выясняйте с венецианцами свои отношения сами. Меня же оставьте в покое, к флоту я не имею никакого касательства. Мне и своих забот хватает.
— Впредь по подобным вопросам обращайтесь к мегадуке, Луке Нотару, — крикнул он им уже в дверях.
Мстительная улыбка наползла на лицо кондотьера.
— Непременно зайдите к нему. Он очень любит нас, генуэзцев, и во всем поддерживает наши начинания.
Капитаны недоуменно уставились на него, переглянулись и, распрощавшись короткими кивками, удалились из помещения.
Джустиниани откинулся на спинку кресла и вновь усмехнулся.
— Эти крикуны придутся тебе по вкусу, старый брюзга. Ты же на дух не перевариваешь все чужеземное, даже помощь в трудный час. Хотя мы и только мы способны спасти тебя и твоих собратьев от беды. А впрочем, с тебя уже слетают остатки твоей спеси.
Он поднялся на ноги и подошел к окну.
При мысли о Нотаре и его сторонниках Джустиниани каждый раз охватывало раздражение. По многим причинам он недолюбливал этого человека и слыша о нём благоприятные отзывы немалой части именитых горожан, искренне недоумевал.
Да, спору нет, мегадука богат и знатен. Как командиру ему не откажешь в уме, осторожности и знании людей. Но его готовность к компромиссу с врагом, причем на самых невыгодных условиях, настораживала кондотьера. Можно ли это назвать иначе, как малодушием? Жаль, что император и его советники другого мнения. Несмотря на двойственную позицию Нотара, он по прежнему руководит христианским флотом, третья часть всех крепостных стен отдана под защиту верных ему отрядов. Пусть до недавнего времени стены Золотого Рога не были опасны в военном отношении, но теперь положение резко изменилось. Османский флот в верховьях залива и способен не только быстро перебросить войска Саган-паши на помощь основным силам турок, но и напрямую атаковать корабли союзников. В этом случае огромная мера ответственности может оказаться (а скорее всего так и будет) не по плечу престарелому нобилю-полководцу. Тем более, что он не только открыто признаётся в своих симпатиях к туркам, что само по себе предполагает измену, но и восстанавливает против себя итальянских моряков недоверчивым, а иногда и прямо враждебным к ним отношением. Это вдвойне неблагоразумно — ведь многие из тех, кого он полупрезрительно именует «латинянами», служат византийскому императору не за награду, а по зову души.
Лонг вздохнул и с хрустом расправил плечи. Хотя его совета о назначении на тот или иной пост не спрашивал никто, он не раз заявлял о ненадёжности Нотара. Ромеи не желают прислушиваться к советам Джустиниани? Что ж, пусть корят себя сами, если в ответственейший момент оборона лопнет именно на участке мегадуки. Ему же, кондотьеру Лонгу, подобно прокуратору из Священного Писания, остается лишь умыть руки.
Бродячая собака, вынюхивающая что-то в мусорной куче, трусливо вздрогнула, оглянулась и насторожила уши. Топот шагов донёсся почти одновременно с запахом горящих факелов. Поджав хвост, собака нехотя попятилась и издав подобие рычания, бросилась прочь, боязливо скаля зубы.
Небольшая группа людей быстро шла по направлению к Влахернской пристани; четверо солдат факелами освещали дорогу. Впереди уверенно вышагивал человек, чей рост и ширина плеч выделяли его из любого окружения; каждый, кто хоть раз видел Джустиниани, впоследствии безошибочно узнавал его.
В ту ночь не спали многие. На условный стук в дверь портовой корчмы несколько десятков голов, как по команде, повернулись в сторону входа. Джустиниани вошел в помещение, обвел взглядом собравшихся и опустился на услужливо подставленный хозяином табурет.
— Все ли в сборе?
— Почти. Нет только Тревизано и его моряков.
— Что стряслось с этим непоседой?
— Занят последними сборами на своём корабле. Поклялся успеть до начала.
Кондотьер недовольно покрутил головой.
— Джакомо, ты еще генуэзцев обвинял в медлительности?
— Благодаря кому же мой план оказался отсроченным на три дня? — угрюмо отозвался тот. — Ни один лигурийский корабль не оказался в достаточной мере снаряжен и подготовлен для отплытия. Вот так и получилось, что в угоду некоторым все расчеты оказались на грани срыва.
— Генуэзские капитаны говорили мне, что они специально сняли со своих кораблей оснастку, чтобы доказать маловерам свою решимость разделить судьбу города, — возразил Лонг.
— Не понимаю этой глупости. Как можно сознательно ослаблять мощь своих кораблей?
— Оставим это, — кондотьер шумно поднялся со своего места. — Время не терпит.
— Священник! — позвал кто-то.
Немолодой священнослужитель прошел вдоль строя моряков, причащая и отпуская грехи каждому.
— Пора? — спросил Лонг.
— В добрый час! — откликнулось несколько голосов.
— Господи, помилуй и защити…! — шептал священник, осеняя крестом уходящих в ночь.
— Франческо! — Лонг ухватил за рукав юношу, безуспешно старавшегося проскочить мимо него незамеченным.
— Ты все-таки здесь? А мой запрет?
— Кузен, я не могу быть в другом месте, — спокойно отвечал тот, высвобождая руку.
— Если я прикажу?
— Тогда я буду вынужден впервые нарушить приказ.
Джустиниани закусил губу.
— Упрям, как и все в нашем роду. Хорошо, ступай. Да хранит тебя Бог!
Пришвартованная у самого пирса галера мерно закачалась на воде: по трапу на борт один за другим поднимались вооруженные воины. Лонг стоял у самых сходней, выхватывая взглядом из темноты лица проходящих мимо него смельчаков. Немногим более половины из них были генуэзцы, остальная часть состояла из юношей знатных византийских родов.
Кондотьер пробурчал под нос проклятие. Джакомо прав, весть о предстоящей вылазке распространилась слишком широко. Шила в мешке не утаить, о ненужной огласке его предупреждали со всех сторон. Как-будто кто-то в силах помешать людям трепать языками! Нет слов, приятно лишний раз убедиться в отваге и готовности к самопожертвованию не только горожан, но и их союзников. Но удержать в узде людей, обуреваемых эмоциями, задача непростая и не всегда благодарная.
Якорный канат ближайшей галеры задрожал, ослаб и начал наворачиваться на барабан лебедки. Вскоре был выбран якорь и второй галеры. Весла тихо опустились на воду.
— С Богом! — произнес Лонг.
— Вперед! — приказал Джакомо.
Чернильно-черная вода заструилась и зажурчала, легкие волны от весел мягкими хлопками заплескалась о камни причала. Корпуса кораблей дрогнули, двинулись с места и постепенно набирая скорость, медленно растворились в темноте.
Лонг шумно выдохнул воздух из груди и оперся руками о каменный парапет. До рези в глазах всмотрелся в глубокую тьму противоположного берега, который угадывался лишь по нескольким тускло мелькающим огонькам.
— От полуночи два часа, — неожиданно громко произнес кто-то.
— Молчать! — еле сдерживаясь прорычал кондотьер.
Суеверный страх, подстегнутый тревогой и ожиданием, скользнул в него, как холодная змея.
— Каркать вздумали? — грозно спросил он и вновь повернулся в сторону Перы.
«Почему так долго? Где они? Что происходит на галерах? "— он отдал бы многое за ответ на эти вопросы.
Джустиниани поймал себя на мысли, что в глубине души он молится. Хотя еще недавно о Боге вспоминал нечасто. Былая уверенность испарялась быстро. Лонг утер струящийся по лбу пот.
Рискованная вылазка могла многое изменить в борьбе за Город. Если удастся замысел находчивого венецианца, турецкая флотилия, с таким трудом переправленная в залив, запылает как дровяной склад. И новая неудача может основательно подкосить османскую армию, стать началом ее развала. Потеряв свои корабли, турки будут вынуждены отказаться от единовременного штурма со всех сторон, берег залива обезопасится, а значит станет возможным значительно усилить оборону сухопутных стен Константинополя. Частые штурмы захлебываются с тешащим душу постоянством, защитники даже в шутку жалуются на скуку и однообразие. Подольше бы тянулось это однообразие — в положенный срок оно изнутри взорвёт огромную разноплеменную массу пришельцев!
Лонг перевел дыхание и украдкой взглянул на небо, как бы надеясь увидеть там свет неведомой звезды-покровительницы.
Внезапно за спиной послышался тревожный возглас. Он вздрогнул и до боли в пальцах вцепился в холодный камень ограждения: на воде, в ста ярдах друг от друга, стремительно разгорались четыре плавучих костра на плотах. Яркий свет огней вырвал из темноты силуэты трех приближающихся к берегу Перы суден.
— Назад! — отчаянно закричал Лонг.
Гулко рявкнула дальняя пушка. Почти сразу же ей отозвалась другая и дробя тишину, выстрелы посыпались часто и без счёта. Как по сигналу противоположный берег вспыхнул россыпью огней и перед невольными зрителями, будто в театре теней разыгралось трагическое представление.
— Измена!
Обороненное кем-то слово подобно эху стало блуждать между людьми, множась и наливаясь тяжелым смыслом.
— Измена!
— Измена?!
— Измена!!
Каменные ядра крушили обшивку кораблей, превращая дерево в щепы. Водяные столбы от близких попаданий, как волны в шторм, обрушивались на палубы, окатывали людей с ног до головы.
Основной удар пришелся в борт генуэзской биремы. Изрешеченная, вздрагивая от каждого удара как живая, она начала медленно оседать, заваливаясь на бок. Моряки бросились на другой борт, пытаясь своей тяжестью выровнять корабль, уравновесить плещущую в трюмах воду. Напрасно — полученные повреждения были слишком велики.
Венецианский корабль, невзирая на обстрел, упорно продолжал плыть вперед, таща за собой уже два судна: баржу-брандер и тонущую генуэзскую галеру.
— Канат, ублюдки! Рубите канат! — орал Тревизано, рупором сложив ладони у рта.
На брандере двое поджигальщиков в сшитых из шкур и смоченных водой плащах с обтягивающими головы капюшонами пытались отцепиться от генуэзцев, но просмоленные пеньковые волокна плохо поддавались ножу. Спустя несколько мгновений канат все-таки лопнул, свалив одного из поджигальщиков в воду. Венецианское судно дёрнулось и поплыло чуть быстрее.
— Отлично! А теперь все дружно навалимся на весла! Сильнее, чаще!
— Надо возвращаться, капитан, — Гриони бегал за своим командиром, пытаясь ухватить его за рукав. — Галера теряет в скорости. Мы не в силах в одиночку метнуть брандер!
Однако Тревизано был не из тех, кто отступает с полпути.
— Вместе! Разом!! — кричал он, перебегая от гребца к гребцу и чтобы воодушевить людей, хватался за рукояти весел и тянул вместе с ними.
— Лодка Джакомо подбита! — донесся с кормы голос рулевого. — Она перевернулась! Тонет!
Галера качнулась от сильного удара, послышался шум вливающейся в трюмы воды.
— Пришел и наш черед, — заявил Гриони голосом человека, которому больше нечего терять. — Мы тоже подбиты и тоже вскоре потонем.
Он опустился на скамью и вытянул вперед длинные, неестественно худые ноги.
— Так и не успел толком исповедаться. Жаль, припомнил бы веселые денёчки. Такое порассказал бы попу, что у бедняги глаза бы на лоб полезли.
— Гриони! Где ты, мерзавец? Гриони!
— Капитан….?
— Где тебя черти носят? Немедленно отцепляй баржу!
Заккарий без лишних слов помчался на корму.
— Приготовиться к повороту на правый борт!
Грохоча каблуками по ступеням лестницы, Тревизано растрепанной птицей взлетел на мостик.
— На веслах — слушай! Левый борт — грести вдвое чаще! Правый борт — отгребай назад!
Он сам схватился за перекладину руля.
Сильный крен помешал правильно выполнить манёвр: черный силуэт брандера, подобно призраку бесшумно вынырнувший из темноты, пронёсся в опасной близости от галеры.
— Дело сделано, — Тревизано торжествующе потряс над головой кулаками, затем стёр с лица водяные брызги и грязь.
— Держи прямее, на генуэзцев, — приказал он рулевому. — Надо попытаться спасти кого еще возможно.
Все муки ада, о которых некогда красочно вещал приходской священник, показались бы Лонгу в те ужасные минуты детской забавой. Могучие челюсти кондотьера, шутя разгрызавшие толстые кости, крошили теперь в бессильной ярости собственные зубы. Время от времени из его груди вырывалось глухое рычание, в котором страдания было больше, чем угрозы. Внешне спокойный, он не сдвинулся ни на шаг, хотя тело сотрясала сильная дрожь.
Сигнальные костры ярко полыхали на башнях. Люди толпились у кромки пристани, всматривались вдаль, пытаясь разглядеть хоть что-то из происходящего у берегов Перы. Другие, вцепившись в канаты, дружно подтаскивали к причалу пришвартованную неподалеку галеру. Внезапно расплывчатые тени дрогнули, укоротились и обрели чёткие контуры; обширное пространство залива осветилось, как в предрассветный час. Даже не взрыв, а какой-то необычайно мощный хлопок сотряс воздух. Из засверкавшей кроваво-красными бликами воды вырос огненный столб, увенчанный дымно-пламенной шапкой. Она поднималась ввысь, вбирая в себя все новые потоки огня, переливалась всеми мыслимыми оттенками красного и желтого цветов, шипя исторгала из себя хвостатые раскаленные брызги.
— Они успели, они смогли! — какой-то моряк хватил шляпой оземь и как безумный пустился по ней в пляс.
— Они всё-таки сделали это!
Радостный крик разом вылетел из сотен глоток. У подтянутой к причалу галеры возникло столпотворение. Узкий трап не мог пропустить всех желающих, наиболее нетерпеливые с разбега перепрыгивали через борт и в кровь раздирая себе пальцы, карабкались на палубу.
Слышался звон оружия, доносились проклятия и грохот разбираемых весел.
— Вызволим храбрецов!
— Спасем наших братьев!
Десятки абордажных багров упёрлись в причал; тяжелое судно медленно отошло от берега и быстро набирая скорость, поплыло вглубь залива. За галерой спешили весельные лодки, в которых разместились те, кто не успел подняться на большое судно.
Лонг повернулся и понурив голову, направился к воротам порта. Он казался уже не тем человеком, который еще час назад излучал энергию, силу и уверенность в себе. Неожиданный провал хорошо продуманного плана настолько подкосил его, что кондотьер сейчас мечтал об одном — лечь и надолго забыться сном без сновидений.
ГЛАВА XXVIII
Взрыв брандера не был губителен для османского флота: предупрежденные кем-то заранее, турки отвели основную часть своих кораблей к северо-восточной части залива, к границе мелководья, за которой начинались болота. Из судов, оставшихся у берегов Долины Источников две галеры и еще с десяток феллук перевернулись от поднятых взрывом волн; четыре биремы сгорело, накрытые огненным шквалом. Пожары, вспыхнувшие на других кораблях были быстро загашены смоченными в воде воловьими шкурами.
Потери защитников были ощутимее. Хотя галера Тревизано поспешила на выручку генуэзцам, спасти тонущее судно было невозможно. Подобрав тех, кто еще держался наплаву, венецианские моряки направились к берегу, хотя под тяжестью принятых на борт людей, и воды, заполняющей трюмы, поврежденное судно потеряло в скорости и стало оседать еще быстрее.
Турецкие феллуки, как волки, рыскали в темноте. Перегруженное, тонущее судно могло стать для них легкой добычей, если бы не подоспевшая от берега галера. Венецианский корабль был взят на буксир и быстро доставлен в порт. К всеобщей скорби среди спасенных не оказалось ни одного человека с лодки Джакомо Кока; по-видимому даже тем, кому посчастливилось уцелеть и вплавь добраться до берега Перы, была уготовлена незавидная участь пленников.
С наступлением рассвета, воодушевленные ночной победой, турецкие капитаны двинули свои суда в атаку. Навстречу им устремились горящие жаждой мести христианские моряки. Флотилии сошлись в центре Золотого Рога, напротив западной оконечности Галаты. После ожесточенного четырехчасового боя, несмотря на трехкратное преимущество, турецкие корабли были отброшены назад и укрылись под защитой своей береговой артиллерии.
Хамза-бей, правая рука Саган-паши, рвал бороду с досады: он не желал боя, но был вынужден выполнять волю султана. Теперь ему, едва получившему столь высокий пост первого помощника флотоводца, приходилось отправляться к двору владыки и там оправдываться за новую неудачу.
Но и защитникам города битва обошлась недешево: хотя основательно и потрепав суда турок, христианский флот потерял один корабль, около сотни моряков было убито, но главное — не удалось выбить неприятеля из Золотого Рога. Угроза Константинополю от этой небольшой победы не стала меньше. Не раз горожанам вспоминалось, что именно оттуда, через наиболее уязвимое место два с половиной столетия назад прорвалось за стены крестоносное ополчение европейских стран.
Минули века, крест сменился полумесяцем. Стоящий на подступах к городу враг говорит уже на другом наречии и молится другому богу. История повторяется с удручающим однообразием: на смену одним завоевателям вскоре приходят другие. Так и морской прибой, удар за ударом стачивает скалы на своём пути, превращая их обломки в серую, обкатанную, безликую гальку.
Последующий день оказался для горожан новым испытанием: султан повелел учинить публичную казнь участников ночной вылазки.
Император поначалу не мог поверить словам стратега, настолько чудовищной оказалась принесенная им весть.
— Уверен ли ты, Димитрий? Мы же послали султану предложение об обмене пленными. Вероятнее всего, ты ошибся — турки карают своих изменников и дезертиров.
— Государь, я был бы рад ошибиться, если бы не видел расправу своими глазами.
Лицо Константина oкаменело. Повернувшись к дверям, он окликнул дежурного офицера.
— Коня! — коротко приказал император.
Несмотря на ранний час, участок стен возле Маландрийских ворот был усеян воинами и городским людом. С обзорной площадки башни отчетливо просматривался на равнине свежесрубленный эшафот в два человеческих роста высотой, уже успевший изрядно обагриться кровью. Вокруг него, как море в шторм, бурлила и колыхалась огромная многотысячная толпа. От дальних островерхих палаток лагеря струйками продолжали течь припозднившиеся зеваки, не желающие пропустить нежданно выпавшей потехи.
От плотного кольца стражников отделилось двое; воины приблизились к группе пленных, выдернули одного из них и поспешили со своей добычей к помосту. Помощники палача подхватили несчастного под скрученные за спиной руки, поволокли по лестнице наверх и после некоторой заминки опустили его на колени. Палач, огромного роста человек в багрово-красном халате, не спеша воздел руки к верху и, как бы молясь, на мгновение замер в таком положении. Затем резко опустил их вниз. Невидимый издали меч метнул в сторону крепости яркий отблеск солнечного света. Почти сразу же толпа разразилась злорадным ревом.
— Двадцать первый, — бесстрастно вёл счет один из наблюдателей.
Широкая спина Лонга, стоящего у самого края площадки, излучала страдание и бессильную ярость. В стороне от него нервно пощипывал бородку Нотар, ничем иным не высказывая своих чувств.
Константин приблизился к бревенчатой ограде, до середины груди прикрывающей тело от вражеских стрел и ядер и принял поданную ему зрительную трубу. Расстояние в два полёта стрелы резко сократилось, стали видны отдельные лица, возбуждённые и алчущие.
Стражники схватили очередную жертву, стройного юношу с черными как смоль волосами.
— Это Франческо, мой кузен, — глухо и отстраненно произнес кондотьер, не отрывая глаз от происходящего. — Я дал слово его матери оберегать сына от опасности.
Затем внезапно выхватил из рук гвардейца копьё и сильно размахнувшись, метнул его в сторону лагеря.
— Погодите, злобные твари! Придёт и ваш черед!
Вновь послышались слитые воедино громкие крики. Палач ногой столкнул обезглавленное тело и с недовольным видом принялся осматривать кривое лезвие своего инструмента. Вероятно, он счел, что меч притупился, а может быть просто решил отдохнуть. Казнь на время приостановилась.
Кондотьер медленно повернулся. Лицо генуэзца набрякло кровью, из-под слипшихся на лбу волос стекали крупные капли пота.
— Никогда ещё на мою долю не выпадало такого позора, — задыхаясь, проговорил он. — Видеть, как моих людей режут наподобие скота и, — он шумно сглотнул, — прикидываться безучастным, чтобы скрыть свое бессилие.
Он увидел василевса и сделал шаг по направлению к нему.
— Государь! — голос кондотьера звучал требовательно и непреклонно. — Враг в своей безнаказанности переступил все границы. Больше терпеть это нельзя!
Константин убрал от лица трубу и обвёл взглядом своих подчиненных. Сановники и командиры опускали головы, не в силах выдержать взрывчатого напряжения, наполняющего обычно спокойные глаза.
— Сотник! — окликнул он Троила.
— Приведи всех пленных турок, предназначенных нами для обмена.
Византиец поклонился и поспешил к башенной лестнице. Военачальники переглянулись; всем было ясно решение василевса.
— Это справедливо!
— Так и должно быть.
— Око за око, так учит Святое Писание.
— Пусть василевс простит меня за дерзость…..
Последние слова принадлежали Нотару. Одобрительные возгласы стихли. Недоумевая, все, включая караульных, повернулись в сторону мегадуки.
— Мы слушаем Луку Нотара, — спокойно произнёс Константин.
Обстреливаемый неприязненными взглядами, Лука приготовился к нелегкой словесной схватке.
— Государь! Сограждане и иноземцы! Вами движет чувство праведной мести и это созвучно естеству человека. Но достойно ли нам, представителям высшей культуры, уподобляться в жестокости диким варварам? Ведь их помыслы идут не далее обжорства, грабежей и убийств. Избивать безоружных пленных, чья вина состоит лишь в покорстве прихотям своего господина — означает без нужды озлоблять своё сердце. Да, должно и нужно отвечать ударом на удар, но надо ещё и соизмерить силу возмездия. Недопустимо для нас, христиан, затмевание гневом велений рассудка.
— Мне кажется, я слышу откровения бродячего проповедника! — Джустиниани еле сдерживал себя.
Лицо кондотьера полыхало, как будто бы он сгоряча хватил пинту греческого огня.
— Что ещё подскажет рассудок уважаемому мегадуке?
Нотар не удостоил его взглядом.
— Жестокость унижает человека. Милосердие к побежденным — вот признак силы!
Константин не сводил с него глаз.
— Не кажется ли мегадуке, что время и место не совсем подходят для диспута о добре и зле?
— Есть Высший, небесный суд и лишь он в состоянии взвесить меру правоты моих решений, — после короткой паузы продолжал император.
— Взгляни вниз, димарх, — он указал на эшафот, затем обвёл рукой томящуюся в ожидании продолжения потехи толпу. — Что ты там видишь?
Плечи Нотара чуть дрогнули и поникли.
— Я вижу казнь наших героев.
— А здесь, — император кивнул на участок стен между башнями, — здесь произойдёт казнь пленённых воинов Мехмеда.
Джустиниани вплотную приблизился к Нотару и положил руку на рукоять меча.
— Если для некоторых твои мысли темны, то для меня — достаточно прозрачны. Рассчитываешь на примирение с султаном и потому взываешь к милосердию? Но это далеко не все, в чем ты только что косвенно сознался. Предательство давно зреет в тебе, но только сейчас оно стало проступать наружу.
— Предательство?! — мегадука отступил на шаг и тоже взялся за рукоять меча. — О предательстве ступай толковать со своими сородичами в Галате, они будут тебе достойными наставниками. Кто как не они, спасая свою шкуру, выдали султану замысел венецианцев? Торопись, спеши к ним, не то деньги за измену поделятся без тебя!
Они рванулись навстречу друг другу; гвардейцы едва успели встать между ними.
— Даже меня, командующего флотом, не сочли нужным поставить в известность, — продолжал кричать Нотар. — Таились, умалчивали, всё боялись упустить свой шанс, свой маленький кусочек славы! И в результате потеряны два корабля, погибло более сотни бойцов, среди которых был и мой старший сын. Если за это дело взялись бы ромеи, то взялись бы с умом и не было бы тогда этих ненужных смертей.
Лонг ворочался, пытаясь стряхнуть с себя облепивших его солдат и тяжело дышал, как загнанная лошадь.
— Ты затронул мою честь! Клянусь прахом предков, это не пройдет тебе даром!
— Твою честь? Ты как пришел, так и уйдешь, наемник. Город останется без защиты и нам придется платить за твое безрассудство. Ты еще смеешь кого-то обвинять в измене? Да ты в стократ хуже любого предателя, потому что люди верят в тебя, идут за тобой. В слепоте душевной они не видят той губительной силы, которую ты несешь в себе. Ты приведешь нас всех к могиле и это большее, на что ты способен.
Джустиниани взревел и в мгновение ока расшвырял гвардейцев.
— Довольно! — резкий голос василевса отрезвил всех.
— Спрячьте мечи в ножны! Вы, взрослые мужи, ведете себя как драчливые мальчишки. Оскорбляете своими речами и поступками величие смерти наших героев.
Он вновь взглянул вниз, в сторону лагеря. Казнь возобновилась, но крики слегка поутихли: толпе уже начинало прискучивать однообразие зрелища.
Со стороны города показалась длинная колонна одетых в лохмотья людей. Оцепленные по бокам рядами латников, пленные испуганно жались друг к другу, крутили бритыми головами и щурясь отвыкшими от яркого света глазами, исподлобья косились на каменные лица конвоиров. Некоторые, по-видимому, уже поняли, куда и зачем их ведут и горестными криками пытались вызвать к себе сострадание. Другие шли молча, пугливо втягивая головы в плечи и заискивающе поглядывая по сторонам.
Кантакузин перегнулся через парапет и закричал:
— Веди их на стену, Троил!
И, повернувшись к Константину, добавил:
— Государь, мы не подготовлены к массовой казни. Я должен спуститься вниз и подобрать достаточное число добровольцев на роль палачей.
— Лиха беда начало, — возразил Лонг. — Среди моих солдат найдется немало желающих поквитаться. Я сам позабочусь о добровольцах и лишь прошу доблестного Кантакузина уступить это право мне.
Димитрий охотно, почти с радостью, выразил согласие. Тяжело ступая, кондотьер направился к лестнице. Сановники торопливо уступали ему дорогу, как бы страшась быть задетыми хотя бы краем его малинового плаща. У самого выхода Лонг обернулся и еще раз смерил взглядом мегадуку.
— Наш разговор остался неоконченным, Нотар, — с угрозой проговорил он.
— Мы возобновим его, как только опасность минует город, — последовал ответ.
— Да будет так!
Лонг исчез в глубине коридора.
За три с небольшим часа двести шестьдесят голов скатилось со стен Константинополя в ров. Вслед туда же было сброшено ровно столько же обезглавленных туловищ со спутанными за спиной руками.
Таким был ответный шаг правителя Византии василевса Константина XI.
В тот день многим стало ясно, что мосты сожжены, борьба ожесточилась до предела и пощады побежденным ждать не следует.
Провал вылазки Джакомо Кока и последующая казнь ее участников до предела обострили и без того неприязненные отношения между генуэзцами и венецианцами. Давно назревавший конфликт, подстёгнутый бесчисленными взаимными попрёками, разразился внезапно лишь для непосвященных; перерос в побоище из заурядной пьяной драки подвыпивших матросов.
Пока в помещении таверны, где воздух был густо пропитан запахами жареной рыбы и вина, крушились столы и оконные рамы, летели в головы пивные кружки, кувшины и табуреты, а сами забияки, сцепившись, клубками катались по грязному полу, добровольные глашатаи мчались вдоль улиц, скликая подмогу. И она не замедлила явиться: к месту драки быстро подтягивались моряки и солдаты из соперничающих лагерей.
Побоище выхлестнулось на улицу, для новых участников места в таверне оказалось мало. Городская стража не спешила вмешиваться: число сражающихся уже перевалило за две сотни и с каждой минутой продолжало увеличиваться.
Кантакузин и Джустиниани, которых известие застало на крепостном валу, немедленно бросились по коням. Лонг поспешил к казармам, откуда его ландскнехты в полном боевом вооружении уже готовились выступить на помощь своим соотечественникам. Криком и угрозами он принудил солдат вернуться на места, а сам, в окружении конников, помчался к пристани. За это время Димитрий уже успел оцепить заставами место схватки и теперь, с помощью немногих латников пытался разнять перессорившихся итальянцев. Это оказалось непростой задачей — побоище по своему размаху зашло далеко.
В лужах крови лежали мертвые и умирающие; некоторые из них, странно сплющенные, были втоптаны в грязь и валялись там, подобно кучам неопрятного тряпья. Длинные кровавые полосы и пятна, как влажный след улитки на камне, обозначали собой путь раненых, пытавшихся отползти подальше от места схватки. Замкнутое с четырех сторон пространство площади полнилось звоном оружия, слышались крики, брань, призывы к мести. Сражающиеся разделились по парам или по группам, по пять-шесть человек в каждой; со стороны могло показаться, что враг уже прорвался в город и настало время уличных боёв.
Окрестные жители выглядывали в окна, теснились у стен домов, но вмешиваться отнюдь не торопились. Некоторые даже откровенно злорадствовали: наглость и бесцеремонность наемников уже давно вызывали недовольство. Воины Кантакузина все туже сжимали кольцо. Выставив вперед копья и алебарды, они разводили по сторонам противников, выжимали, выдавливали щитами за оцепление тех, кто вновь норовил наброситься на неприятеля.
Сквозь цепь византийцев прорвался Джустиниани с десятком своих командиров. Выражение его бледного от бешенства лица заставило бы дрогнуть и мраморную статую.
— Прекратить! — взревел он так, что его собственный конь в испуге присел на задние ноги.
— Прекратить, вы, грязные ублюдки!
Сражение и в самом деле начало затихать.
— Слушайте все! Оружие — за пояса! Первому, кто поднимет руку, я самолично отрублю ее.
Он пришпорил коня, подлетел к генуэзкому моряку, азартно наседающему на своего противника и с размаху опустил ему палицу на голову. Наемник свалился замертво; смятый подобно куску бумаги шлем, звеня, покатился по камням.
— Последний раз повторяю, остановитесь! Следующему — место в петле. Это говорю вам я, Джустиниани Лонг!
Тяжело дыша, покачиваясь на нетвердых ногах итальянцы опускали оружие. Многие без сил оседали на землю, утирая с лиц пот и кровь.
— Добрые же у нас солдаты! — продолжал греметь Лонг. — Вы, недостойные даже лизать под хвостами турецких кобылиц, учиняете побоище в городе, вверенном вашей защите?
Он перевел дух и вновь во весь голос взревел:
— Слушайте и запоминайте мои слова! Властью, данной мне правителем Византии, я обещаю: первый же из зачинщиков повернувший оружие против своего единоверца, будет объявлен преступником и подлежит немедленному заточению в каменный мешок!
Кантакузин подъехал вплотную к кондотьеру.
— Мне кажется, мастер, ты превышаешь свою власть. У подданных Империи есть свой суд и государь и только им дано право определять меру вины и наказание за него.
— Ты прав, мастер, — огрызнулся Джустиниани. — Безусловно, это так. Но вверенном мне корпусе наемных солдат суд вершит командир, то есть я!
Оцепление гвардейцев у края площади раздалось в стороны. Вслед за ними расступились и другие. Император в сопровождении Луки Нотара и Феофила Палеолога медленно въехал с середину людского кольца.
Некоторое время от молча обводил взглядом толпу. Над площадью зависла тишина, лишь слышались хрипы и стон покалеченных в схватке.
— Позаботьтесь о раненых, — первое, что произнёс он.
Только после этих слов многие как бы очнулись. Часть наемников бросилась поднимать своих истекающих кровью товарищей, другие неловко прятали оружие в ножны или за спину или за спину.
Выждав некоторое время, Константин заговорил вновь:
— Пусть виновники происшедшего, под которыми я подразумеваю вожаков обоих сторон, приблизятся ко мне!
Разделенные цепью гвардейцев, венецианцы и генуэзцы порознь приблизились к василевсу. Лонг приметил в числе прочих своего адъютанта, Доменика, который несмотря на довольно потрепанный вид и в кровь разодранную щеку держался с вызовом и нагло, как бы стараясь всем своим видом показать, что он в этой истории — лицо не последнее. Кондотьер недобро сощурил глаза.
— Я спешил сюда, чтобы примирить вас, — произнес император. — Напомнить, что каждый день войны уносит из наших рядов десятки, а то и сотни сограждан и единоверцев. Людей, достойных гораздо более лучшей доли, чем смерть в расцвете сил и лет. И хотя бы в память о погибших призвать вас не затевать распрей между собой. Но то, что я увидел, превзошло мои самые худшие предположения.
Он приподнялся на стременах и голос его налился гневной силой.
— Неужели вы забыли, как еще вчера сражались бок о бок и плечом к плечу? Как каждый день шли в бой за Веру и за Славу? Как без страха в сердцах повергали врага, метали свинец и огонь навстречу исчадиям ада? Всё забылось в мгновение ока! Для этого достаточным оказалось лишь несколько брошенных сгоряча обидных слов.
Горечь и упрёк звучали в голосе императора.
— Мне стыдно за вас, христиане! Стыдно и больно. Я, государь, скорблю о содеянном вами!
Он поворотил коня и медленно удалился с площади. Вслед за ним потянулись димархи и свита. Стараясь не поднимать друг на друга глаз, неся на себе убитых и раненых, стали расходится и участники ссоры.
Нотар приблизился к протостратору и громко, так, чтобы было слышно и Лонгу, спросил:
— Не приходит ли на память мастеру Феофилу басня о человеке, пригревшем у себя на груди змею?
Палеолог не ответил. Мегадука продолжал, уже не в силах сдержать яда в голосе:
— К чему нам латиняне, пусть даже преисполненные храбростью и воинским умением, коль скоро эти качества оборачиваются против нас?
Он открыто взглянул в бледное от бешенства лицо кондотьера и усмехнулся.
— Одной рукой они помогают нам, другой — упрощают задачу султану. Наглядный тому пример — двуличие Галаты и сегодняшняя междоусобица. Возможно, когда-нибудь они сделают окончательный выбор, но будет ли он в нашу пользу, я не уверен. Ведь человеку чаще всего всаживает меч в спину тот, кого он прикрывает своим телом.
Лонг резко дёрнул коня под уздцы и отъехал в сторону. Палеолог недовольно нахмурился.
— Сдержи свой язык, Лука. В лагере наших союзников розни хватает и без твоих обдуманно-неосторожных слов. Наберись терпения. Пусть только Господь дарует нам победу, а после мы найдем способ без хлопот избавиться от тех, кто незаслуженно чувствует себя хозяином на нашей земле. И не позволяй себе забывать, что эти люди, несмотря на многие свои недостатки, делают то, от чего без тени колебания устранились все прочие — жертвуют ради нас своими жизнями.
ГЛАВА XXIX
Спустя несколько дней после казни христианских моряков, у берега Перы началось строительство плавучего моста. Давно вынашиваемый замысел Саган-паши, подкрепленный расчетами заморских инженеров, стал приводиться в исполнение.
Были раздобыты и доставлены к побережью тысячи пустых дубовых бочек. Опытные бондари трудились, не покладая рук, с особой тщательностью заклёпывая днища и обмазывая доски древесной смолой и густым нефтяным пеком. Тут же, неподалеку, сотни плотников сколачивали из бревен щиты и покрывали их затем досчатым настилом. Бочки складывались по четыре в ряд, затем спускались на воду и крепились канатами к предыдущим. Когда длина понтонов становилась достаточной, они устилались покрытием из бревен и досок — ширина была таковой, что по мосту, не теснясь, могли идти пять воинов одновременно или спаренная колонна всадников.
Параллельно сооружались плавучие платформы, на которых предполагалось перевозить орудия и стенобитные машины. Для защиты от возможного обстрела на плотах крепили обтянутые воловьими шкурами щиты из досок. Работы велись с рассвета и до заката. Плавучий мост удлинялся прямо на глазах и покрывал уже две трети расстояния через залив. Но строительству не суждено было завершиться: в полдень от башни Полация ударили камнемёты.
Хотя турки и предвидели возможность обстрела, они не сомневались в том, что пушечному ядру, а уж тем более снаряду из катапульты не под силу пробить двухслойный бревенчатый настил. Вероятность тарана гребными судами или поджога вражеским брандером была значительно выше и потому принимались дополнительные меры безопасности: пушки на защитных платформах, плавучие мины, представляющие из себя легкие подвижные плоты с бочонками пороха и с фанатиками-гази на бортах, готовыми в любой момент поджечь фитили. Для вящей уверенности беспрерывно курсировали неподалеку от строящегося моста турецкие быстроходные галеры, способные отразить неожиданную атаку противника.
Единственное, что не учли осаждающие — это греческий огонь, знаменитую горючую смесь, обессмертившую имя своего создателя. Именно это средство вновь, как и несколько дней назад, задействовали византийцы.
Вода вокруг понтонов вспенилась и забурлила под градом глиняных горшков.
Черные маслянистые комки, всплывая из затонувших снарядов, метались по поверхности волн и изрыгая из себя трескучее пламя, прилипали к торчащим из воды бревнам. Настил, частично успевший пропитаться влагой, занялся не сразу: до тех пор, пока несколько горшков не разбилось о доски, с начинающимся пожаром удавалось бороться. Вскоре все попытки стали тщетными — чадящий огонь, от присутствия воды разгорающийся еще жарче, быстро, подобно пролитому маслу, растекался по заливу, охватывая все новые и новые участки недостроенного моста.
Среди работников поднялась паника. Люди бежали прочь, вместе с кожей срывая с обожженных тел остатки тлеющей одежды. Те, кому пламя отрезало путь назад, метались вдоль плотов, истошно вопя и призывая на помощь. Наиболее отчаянные бросались в воду и плыли к берегу, зачастую навсегда исчезая в завесе дыма и огня.
Гулко взорвалась одна из плавучих мин, разбрасывая в стороны пылающие доски. На других смертники-гази, не надеясь на скороходность своих плотов, побросали бочки пороха в воду и сами попрыгали вслед за ними. От поднятой взрывом волны перевернулись две тяжело груженные сторожевые платформы с пушками на бортах; выделенные для охраны моста галеры, гребцы на которых с немыслимой быстротой махали веслами, резво уносились прочь от огня.
Обстрел вскоре прекратился: пожар разгорелся так, что в дополнительной трате греческого огня уже не было смысла. К вечеру от большей части плавучего моста остались лишь обугленные бревна и бочки, качающиеся на волнах подобно поплавкам гигантской рыболовной сети.
Саган-паша, пряча под светлой бородой в кровь искусанные губы, приказал капитанам кораблей приблизиться к стенам Константинополя на пушечный выстрел и начать навесной обстрел города: против самих укреплений пушки были бессильны. Командиры нехотя повиновались — бессмысленность приказа, продиктованного скорее местью, чем рассудком была очевидна многим. Обстрел прекратился лишь с наступлением темноты. Было сожжено значительное количество дорогостоящего пороха, израсходовался почти весь запас ядер. Две пушки разорвались, попортив борта своих галер и погубив большое число гребцов. Ответным огнем из крепости была подбита небольшая каррака, неосторожно приблизившаяся к стенам; несколько галер в перестрелке с ромейскими пушкарями лишились своих мачт.
Для горожан урон от обстрела оказался на удивление невелик: ядром разрушилась стена давно опустевшего жилого дома и незадачливый прохожий был насмерть задавлен выбитой из крыши деревянной балкой.
Поняв бесплодность такого рода атак, Саган-паша приказал подвести себе коня и в сопровождении своей свиты отправился к султану — он намеревался умолить Мехмеда позволить ему крупными силами штурмовать Морские стены. Задача была нелегка: после недавних событий султан ревниво оберегал свой флот от столкновений с противником. Кипя от бессильной ярости, паша оттачивал в уме каждую фразу, чтобы не только оправдать себя за свой неудачный план, но и в выгодном свете представить перед сановниками все происшедшее днем.
С рассветом пять наиболее крупных галер, в сопровождении нескольких десятков более мелких судов, приблизились к берегу, неподалеку от ворот Святого Марка. Несмотря на обстрел из камнеметов (борта кораблей предусмотрительно были защищены оплетенными виноградной лозой щитами), флотилии удалось вплотную подойти к укреплениям и бросить якоря. Особого вида перекидные мостки, более похожие на штурмовые лестницы, были прислонены к стенам и по ним, качаясь в такт прибою, быстро полезли вверх серые фигурки турецких моряков.
Так как этот участок стен защищался лишь небольшим смешанным отрядом из горожан, пизанских колонистов и послушников из близлежащего монастыря, штурм удалось отразить не сразу.
Филофей медленно шел по улице, подметая булыжник полами сутаны. Редкие прохожие с поклонами уступали ему дорогу, но священник не замечал их — его глаза были прикованы к крепостной стене, над которой ветер поднимал клубы дыма. Пальцы старика перебирали четки, губы безостановочно творили молитву. Там, на стенах, во славу Всевышнего отдавали жизнь люди, восставшие против прихода в мир царствия Антихриста, Князя Тьмы, Зверя, явившегося из преисподни, чтобы погубить род человеческий.
Он шел, вспоминая богослужение прошлого дня, когда ему, духовному пастырю, благоговейно внимали те, кто вверил души свои и сердца вечнопристной Святой Троице. Он рёк им и голос его, эхом отражённый от стен, проникал в сознание людей, как откровение свыше.
— Храните в себе, как святыню бесценную слова апостола нашего Иоанна: «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, исповедующий Иисуса Христа, пришедшего к нам во плоти, есть от Бога. Всякий же дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть не от Бога. Это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь он есть уже в мире».
Не поддавайтесь искусу, братья мои и сестры, ибо Антихрист ложью соблазнит вас, чтобы ввергнуть отступивших от учения Спасителя в пучину вечного мрака и страдания!
Он набрал полную грудь воздуха.
— И для того, чтобы укрепиться в сердце своем, братья мои и сестры, мы вместе пропоём псалом, хвалу Премудрости Божией.
Он взмахнул руками и подьячие и мальчики-служки дружно затянули мелодию священной литургии. Им вторили голоса молящихся.
Господи, как умножились теснящие меня! Многие восстают на меня, Многие глаголят к душе моей: "Нет Бога в спасении для него». Но ты, Господи, защита моя, Ты — слава моя, Ты возносишь главу мою. Гласом моим я воззвал к Господу, И услышал он меня от святой Горы своей. Я уснул, и спал, и восстал, Ибо Господь защищает меня. Не устрашусь я множества врагов, Отовсюду обступивших меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ты поражаешь всех супостатов моих, Сокрушаешь кости грешников. От Господа — спасение, И на людях твоих — благословение Твое. Я уснул, и спал, и восстал, Ибо Господь защищает меня.Литургия окончилась. Горожане с просветленными лицам расходились по домам. Но Филофей не мог уснуть до утра. Мысль о чудовищных испытаниях, посылаемых Господом его пастве, всю ночь напролёт мучила священника.
С восходом солнца решение, как сама истина простое и ясное, пришло к Филофею — он отправится на стены и вместе с воинством Христовым станет отражать врага. Пусть даже за всю жизнь ни разу не коснувшийся оружия, там он будет необходим: он будет причащать стоящих на пороге смерти, даровать утешение перед лицом Вечности, помогать раненым и ободрять надломленных духом людей.
И сейчас он шел к Морским стенам города, где вражеский десант на кораблях предпринял в тот день отчаянную попытку прорвать оборону.
У самой лестницы на крепостную стену возникла небольшая заминка: молоденький ополченец с прыгающими страха губами пытался не пропустить Филофея.
— Не надо туда ходить, святой отец, — горячо убеждал он, загораживая телом проход. — Там нехорошее место, там убивают.
— Не мешай мне, сын мой. Пастырь не должен покидать свое стадо.
Отстранив юношу рукой, придерживая полы сутаны и покряхтывая на каждом шагу, он медленно поднялся наверх.
Уже только по доносящимся с верхних площадок звукам нетрудно было предположить, что там и впрямь происходит нечто ужасное. Но все же открывшаяся перед глазами картина потрясла священника до глубины души.
Кровью было покрыто всё — и люди, и древние, немало на своем веку повидавшие камни. Местами зло и жарко полыхали коптящие языки нефтяного огня; воины плавали в густом пороховом дыму как призраки в тумане, иногда полностью исчезая в нем, чтобы через мгновение появиться вновь. Уши наполнились несущимися со всех сторон криками, стонами и звоном оружия; где-то невдалеке захлебывался в нескончаемом полувое-полухохоте какой-то помешавшийся.
Чумазые, покрытые копотью бойцы сшибались телами, кололи и рубили друг друга саблями, мечами и топорами — всем, что могло калечить и убивать. Мимо Филофея, громко визжа, пронесся чужеземный солдат, сжимая голову обеими руками. В то же мгновение невесть откуда прилетевший камень угодил в нее, расколов череп подобно ореху.
Священник вздрогнул, утер лицо ладонями, стряхнул с них кровяные брызги и желто-серые маслянистые сгустки. Как подрубленный он рухнул на колени и обратил к небесам лицо в полосках налипшего мозгового студня.
— Боже, всемилостивейший Боже, — шептал он в полузабытьи. — Как можешь Т ы допускать т а к о е?
Чья-то мускулистая рука схватила его за ворот сутаны и рывком поставила на ноги.
— Что, поп, тебе это в диковинку? — орал в самое ухо латник с багровым перекошенным лицом.
— Не узнаёшь? Ха! Да ведь это тот самый ад, которым ты нас давеча стращал. Погляди, как бесы пытают грешников, жарят их в огне, шпарят кипятком, отсекают им руки и ноги. Погляди!
Он густо захохотал и ткнул рукой прямо напротив себя.
— А вот и новоявленный Спаситель!
В двух десятках шагах от них громадного роста инок отбивался от обступивших его турок. Истошно вопя, монах молотил врагов по головам тяжелой палицей, отбрасывал их прочь, как малых детей.
— Вот она, доблесть во Христе! Держись, долгорясый, я спешу к тебе!
Латник обоими глазами сумасшедше подмигнул Филофею, оттолкнул его в сторону и вобрав голову в плечи, быстро побежал вперед.
Филофей всхлипнул и попятился к стене. Внезапно сзади цепкие руки схватили его, в нос ударила струя чесночной вони. Священник рванулся, но турок держал крепко, и не устояв на ногах, они оба покатились по земле. Оставив в чужих пальцах добрый клок сутаны, Филофей высвободился и не помня себя от ярости и отвращения, вцепился ногтями в лицо врага. Тот завопил, завертелся ужом, пытаясь увернуться, но было поздно. Пальцы Филофея, как когти хищной птицы, жадно шарили по лицу чужака и наткнувшись на глазницы, глубоко погрузились в них.
Отчаянный предсмертный крик оглушил его. Священник стряхнул с себя разом ослабевшие руки и поднялся во весь рост.
— Ты видишь, Господи…., - бормотал он, шатаясь и жестикулируя, как пьяный.
— Ты видишь всё…. Ты жаждешь крови, жаждешь жертв…..Я понял, я иду к тебе. Прими душу раба твоего…..
Он споткнулся о тяжелый двухлезвийный топор, нагнулся, с неожиданной легкостью поднял его и держа топорище обеими руками, как рукоять креста, высоко воздел его над головой.
— Умрем за веру Христову!
Он побежал в самую гущу схватки, готовый обрушить оружие на голову первому встречному.
— Вперед, к царствию Небесному!
ГЛАВА XXX
Расположение фигур на шахматной доске не было благоприятным для Караджа-бея. Это угнетало пашу, хотя прибыл он к визирю для того, чтобы скоротать время. Подобно многим прочим, бей не любил проигрывать; неудача, пусть только за игорным столом приводила его в дурное расположение духа. В глубине души он уже примирился с разгромом и сейчас подыскивал лишь удобный предлог, чтобы отложив до середины уже сыгранную партию, приступить к истинной цели своего визита.
— Паша сегодня не в духе? — осведомился визирь, убирая с доски еще одну фигуру противника.
Тот покривился с досады, невольно провожая взглядом поверженного всадника, затем принял невозмутимый вид и медленно кивнул головой.
— Мы можем продолжить игру в более подходящее время, — предложил советник султана.
Караджа-бей жестом выразил согласие.
— Я не отказался бы узнать причину твоей задумчивости, паша.
— Я смущен выбором, стоящим передо мной.
— Выбором? Не понимаю. Поясни твои слова.
— В то время, когда наш повелитель принял окончательное решение перенести свою столицу из Эдирне в Константинополь, мне пришла в голову некая мысль.
Визирь неопределенно хмыкнул. Тогда многим царедворцам приходили в головы самые разные мысли, что легко читалось в их словах и поступках. Некоторые даже серьёзно хворали от них. Однако, нелишне будет выслушать пашу, откровениями такого рода пренебрегать не следует.
— Я слушаю тебя.
— Нам хорошо знакомо коварство византийцев и потому нетрудно было бы предположить, что враги непременно воспользуются заложником, в течении ряда лет бережно охраняемого ими.
— Ты говоришь о принце Орхане?
— Да, мудрейший. Используя тайные лазейки, они наверняка попытаются вывезти его за пределы города и перебросить к берегам Леванта. Там он, пользуясь именем и славой своих предков, заручится поддержкой эмира Карамана, нашего исконного недруга. Во владениях Ибрагим-бея, еще не так давно за непокорство разоренных повелителем нашим, султаном, он быстро наберёт себе войско…..
Визирь прервал его.
— Сказанное тобой не новость ни для меня, ни для кого-либо ещё, посвящённого в тайны верховной власти. Подобные намерения вынашиваются неприятелем давно и мы по мере наших сил препятствуем их осуществлению.
— Это так, мудрейший. Но не лучше ли от защиты перейти к наступлению?
— Мне казалось, паша, что мы отложили недоигранную партию, — с иронией в голосе произнёс визирь. — Или я ошибаюсь?
— Наверное, я неудачно выразился, — смешался бей. — Просто шахматное поле всегда напоминало мне поле битвы.
— Не тебе одному, друг мой, — визирь начал терять терпение. — Отнюдь. Но неужели это всё, что ты желал сказать мне?
— Нет. Пребывая в беспокойстве, я решился на рискованный шаг.
Визирь слегка повел головой.
— Какой же?
— Мною было отправлено послание к эмиру Египта…..
— Только как от частного лица к частному лицу, — поторопился он продолжить, заметив выражение лица собеседника.
— Что было в том послании?
— Просьба о дружеском совете.
Халиль-паша молча выжидал.
— Я интересовался, как в государстве эмира мамлюков Сайф ад-дин Ахмеда устраняют опасность в лице незаконных претендентов на престол.
Визирь мгновенно утратил интерес к разговору. Он даже деланно зевнул и отвернулся в сторону.
— Мои слова разочаровали мудрейшего?
— Да. Возможно ты запамятовал, паша, но нами, верными слугами султана, не раз предпринимались попытки заполучить в свои руки Орхана. Или, хотя бы, только его голову. Не было никакой необходимости демонстрировать перед эмиром наши неудачи. Он ревнует к военной мощи нашего государства и будет рад в невыгодном свете представить эту ситуацию.
Некоторое время они молчали.
— Помнит ли визирь о некоторых людях, именующих себя хассисинами? — вновь заговорил Караджа-бей.
Визирь недоуменно взглянул на него.
— Что-то припоминаю. Какая-то секта?
— Некогда весьма могущественная. Более столетия назад она пришла в упадок и с тех пор влачит жалкое существование. Остатки ее приверженцев перебрались в Каир, где и находятся сейчас при дворе эмира Египта.
Халиль-паша пренебрежительно махнул рукой.
— Забудь о них. Хассисины пережили свой век.
Он сухо рассмеялся.
— Я вспомнил: они вдыхают дым гашиша, когда совершают намаз. Глупцы убеждены, что это приближает их к Аллаху. Этак, пожалуй, каждый пастух, наглотавшись дыма, может возомнить себя Пророком!
— Оставим на время их ложное понимание ислама. Хочу напомнить тебе о другом. Многие поколения этих людей воспитывались в предельной преданности воле своих духовных наставников, в ненависти к любому другому вероучению. В своём фанатизме они доходили до крайности: по первому знаку муфтия бросались в костер или в пропасть вниз головой. Но не это нас интересует….
— Да, да, паша. Это нас совершенно не интересует.
— Часть этих людей совершенствовалась в устранении из жизни неугодных их братству вождей.
Лицо верховного министра посуровело.
— Опасная секта. Мне остаётся только дивиться недальновидности эмира, пригревшего у себя под боком фанатиков-цареубийц. Венценосные головы неприкосновенны для простых смертных, пусть даже это головы врагов.
— Я полностью согласен с тобой, мудрейший. На совести хассисинов немало темных дел. Они осмеливались посягать даже на прославленного предводителя правоверных, сокрушителя христиан, Салах ад-дина Юсефа, прозванного своими врагами Саладином. Лишь случай, отвага сатрапов и крепкие доспехи спасли жизнь человеку, возродившего угасающий было боевой дух ислама!
Визирь нетерпеливо повёл плечом и паша поторопился продолжить.
— В своем послании я посетовал на вероломство христиан, готовых на любую подлость чтобы ограничить распространение заветов Пророка. Обрисовал все тяготы братоубийственной смуты, в которую ввергнет Анатолию, и не только ее, появление самозванца. Вскользь упомянул о некогда прославленном…. кхм…. мастерстве хассисинов. И в заключении пожелал эмиру долгих лет царствования.
— Вероятно, ответ на столь учтивое письмо не заставил себя долго ждать?
— Некоторое время спустя гонец Сайф ад-дин Ахмеда вручил мне письмо от своего господина. Гонца сопровождали семеро воинов.
— И эти семеро — члены секты?
— Да, мудрейший.
— Ты умеешь выжидать и хранить молчание.
Бей не ответил.
— Где сейчас хассисины?
— Здесь, за порогом твоего шатра.
Визирь хлопнул в ладоши.
— Найди семерых воинов, прибывших с пашой и приведи их сюда, — приказал он явившемуся на зов начальнику охраны.
Вскоре дверь шатра распахнулась и в помещение, сопровождаемые стражей, вошли семеро. Приблизившись на десять шагов, они разом преклонили колени и прижавшись лбами и ладонями к ковру, замерли так в долгом поклоне. Визирь жестом отпустил стражу и перевел взгляд на чужеземцев. Сизые, свежевыбритые затылки хассисинов плавно переходили в мощные, кажущиеся короткими из-за обилия мышц шеи и далее — в широкие и покатые, как у ярмарочных борцов плечи.
— Они согласны служить нам? — тихо спросил визирь.
— Почему бы нет? — пожал плечами бейлер-бей. — Деньги нужны их секте. Да и потом, я думаю, они не прочь возродить свою почти уже похороненную славу.
— Встаньте! — приказал Халиль-паша.
Хассисины поднялись с колен и сложили руки на груди.
Что-то неуловимо общее роднило их, как братьев. Вызывалось ли сходство одинаковым выражением лиц, как бы вытесанных из грубого камня, или причиной тому была непреклонная решимость, сквозившая в каждом их нарочито медленном движении, а может бесстрастный, покрытый ледяной поволокой взгляд делал их похожими на близнецов — этого визирь определить не мог.
— Вы и есть те самые знаменитые борцы за веру?
В глубине души визирь уже сожалел, что отпустил стражу. Хотя ирония свободно звучала в его словах, вид этой молчаливой семерки вызвал у него чувство тревоги и смутное беспокойство.
— Да, господин, — отвечал тот, чьё поведение выдавало в нем вожака, а цвет кожи и своеобразный выговор — уроженца Сирии.
— Мы есть те, кому предназначено убирать препятствия на пути несущих знамя истинной веры.
Халиль-паша усмехнулся.
— Сильно сказано. Но я не уверен, в состоянии ли вы устранить некую помеху с пути владыки нашего, султана Мехмеда.
— Не много в мире найдется задач, которые были бы нам не по плечу, — возразил сириец.
— Если ты держишь ответ за свои слова, мы прямо сейчас отправимся просить приёма у султана.
— Мы готовы, — ответил за всех вожак.
Нетрудно было предположить, какое впечатление произвела на Мехмеда весть о нахождении в лагере наёмных убийц.
Убранный золотыми лентами шатер окружило плотное кольцо янычар; два десятка испытанных на верность стражей с саблями наголо расположились возле трона султана; у входа в шатер стояли с луками наизготовку самые искусные стрелки.
Вся охрана не спускала глаз с хассисинов, стоящих перед троном и хладнокровно игнорирующих почести, оказываемые их ремеслу.
— Я ни о чем не просил своего царственного собрата, — высокомерно заявил Мехмед Халиль-паше. — Все должны знать, что хассисины находятся здесь по приглашению одного из моих сатрапов. И хотя переговоры бейлер-бея с эмиром Египта я считаю дерзостными по отношению к моим семейным делам, я прощаю ему эту ошибку.
Караджа-бей низко поклонился.
— Хассисинам же, — громко повторял Саруджа-паша слова султана, — мы повелеваем: проникнуть в осажденный город, выследить укрывшегося там сводного брата повелителя нашего, изменника веры и престола принца Орхана, уговорами или силой принудить его явиться в лагерь и припасть к стопам всемилостивейшего султана. Если же принц заупрямится, или сатрапы ромейского царя попытаются воспрепятствовать воле султана, хассисинам надлежит доставить к ногам повелителя корзину с головой мятежного принца.
— Ясна ли вам речь султана? — спросил визирь.
— Да, господин, — в один голос ответили семеро.
— За мертвого принца султан платит столько же, как и за живого, — предупредил Шахаббедин.
— Мы просим пять дней на выполнение приказа, — произнес сириец.
— Повелитель даёт вам три дня, — отрезал визирь. — Если к этому сроку задание окажется невыполненным, к эмиру с выражениями признательности доставят ваши головы.
— В корзине, — непонятно к чему уточнил Караджа-бей.
— На всё воля Аллаха! — вожак не повел и бровью. — Мы находим эти условия справедливыми. Однако отпущенный срок невелик и потому мы покорнейше просим соизволения султана удалиться. Нам необходимо как можно лучше подготовиться к выполнению поручения, чтобы вызвать не гнев, а милость султана.
Мехмед кивнул. Хассисины низко поклонились и пятясь назад, покинули шатер. Вслед за ними гуськом потянулись лучники и янычары.
Султан благосклонно взглянул на советников.
— Не сомневаюсь, вами двигали добрые намерения. Но впредь любой важный шаг, предпринятый без моего ведома, я сочту за проявление своеволия. Ступайте!
Советники отвесили поклоны и удалились.
Оставшись один, Мехмед вскочил с трона и забегал по зале, возбужденно приплясывая и потирая руки.
— Эти семеро просто находка! Кому как не им отыскать отщепенца? Молись своим новым богам, Орхан! Хассисины непременно разыщут тебя, распластают на земле и выпустят кровь, как из жертвенного барана!
В ночь того же дня сириец проник за стены Константинополя. Переодетый в платье горожанина, он беспрепятственно миновал турецкие заставы и приблизился к кромке рва.
Там, на дне, уже вовсю кипела работа. Жители города, вооруженные мотыгами, лопатами и баграми, спешно очищали углубление от сброшенных осаждающими накануне бревен, связок хвороста, корзин с землей и прочего мусора. Лазутчик выбрал место, еще не охваченное работами и с помощью веревки бесшумно спустился на дно. Взвалив на плечо одну из корзин, он поспешил, спотыкаясь о кочки, к подъемной платформе и сбросил на нее свой груз. Спустя некоторое время доверху полный поддон задрожал и чуть накренясь, поплыл вверх, шурша канатами на густо смазанных жиром вращательных барабанах. На крепостном валу другая часть рабочих быстро опорожнила его и, вновь опустив платформу в ров, принялась сооружать из поднятых со дна рва материалов заграждение возле пробитой пушками бреши.
Чтобы не привлекать внимания, сириец, подобно прочим, работал не покладая рук. На исходе ночи, когда серповидный диск луны поблек и начал угасать, он зашвырнул мотыгу на одну из платформ, перескочил через борт и присел на корзину с землей, широко улыбаясь ничего не подозревающим горожанам. Платформа начала медленно подниматься, люди в ней смолкли и затаились. Однако ожидаемого обстрела не последовало: турецкий лагерь крепко спал.
Горожане возвращались в Константинополь через несколько незамурованных калиток. Эти узкие проходы в толще стен, защищенные дверцами из дубового тёса в вершок толщиной, обшитых к тому же с внешней стороны железным листом, способны были выдержать даже удар пушечного ядра. Они служили для сообщения между оборонительными ярусами укреплений и были незаменимы при неожиданных вылазках в тыл врага. В перерывах между штурмами калитки использовались, как и в данном случае, для очистки рва от сброшенных в него засыпных материалов.
Пригибая головы, городские жители поочередно входили в узкий, похожий на тоннель, проём калитки. Приглушенные разговоры и смешки эхом отражались от стен, порой лопаты и мотыги звонко стукались о камни, толкали впереди идущих под руку или в спину. Сириец был общителен и многословен. Его греческая речь, хотя и испорченная чужеземным выговором, не привлекала внимания — люди слишком устали для подозрений. Да и потом, редкий город в то время мог сравниться с Константинополем пестротой и разноязычием населения.
Когда последний из рабочих миновал проход, один из двух стражников аккуратно запер дверцу на тяжелый засов и для верности укрепил ее подпоркой.
— Пошли и мы, Николай, — проговорил он, не в силах сдержать раздирающей рот зевоты. — Честно отстояли всю ночь на ногах, не грех теперь и вздремнуть до полудня.
— Погоди, — его напарник кончил подсчитывать черточки на навощенной дощечке и озадаченно сморщил лоб.
— Что-то тут не сходится. Получается так, что вошло в город на одного человека больше, чем вышло. Как это понимать, Захарий?
Первый стражник развеселился.
— Говорил же тебе, дуралею, что премудрости счета не для твоей головы. Так нет же, ты торопился выставить себя грамотным перед бригадиром. Пошли-ка лучше в корчму, смочим глотки перед сном.
— Нет, — заупрямился Николай, — я уверен, что не ошибся. Вот смотри: сорок три черточки отмечено при входе. Так? А на выходе было на одну меньше.
Захарий демонстративно пожал плечами.
— Ну и что? Какой-нибудь работяга вышел из одной калитки, вернулся через другую. Может так ему к дому ближе. А ты забиваешь себе голову разной ерундой, носишься со своими табличками, как примерный школяр.
Он от души, с хрустом, потянулся.
— Ну беги, докладывай бригадиру. Эта партия землекопов еще не успела уйти далеко. А я пошел отдыхать. Вся спина свербит от железа. Жду не дождусь, когда скину с себя эту кольчугу.
Он положил копье на плечо и беззаботно насвистывая, отправился в город. Второй стражник, немного поколебавшись, махнул рукой и поспешил вслед за напарником.
Оказавшись в центре города, хассисин ни на мгновение не оставался бездеятельным. Он заговаривал с мастеровыми и солдатами, заводил мимолетную дружбу с уличными торговцами и коробейниками, щедро раздавал медную мелочь бродягам и попрошайкам. К концу дня, выведав почти всё, он уже крутился возле ограды Вуколеонского дворца. Стараясь не привлекать внимания, он часами наблюдал за перемещениями дворцового караула, за сменой стражи у въездных ворот и боковых калиток.
С наступлением темноты улицы быстро пустели. Спешащие по домам горожане не удостаивали взглядом загулявшего и явно нетрезвого мастерового, который что-то бормоча себе под нос, брёл вдоль ограды заплетающейся походкой. Дождавшись ночи, лазутчик перемахнул через изгородь парка и прячась за деревьями и кустами, быстрыми перебежками направился к одному из входов во дворец. Там он, укрывшись под специально припасенным куском серой ткани, полностью смазавшим в темноте очертания его фигуры, еще раз тщательно отмерил промежутки времени между сменами караула, проследил маршрут движения патрулей. И возблагодарив Аллаха за отсутствие в парке сторожевых собак, обмануть которых было бы несравненно сложнее, чем людей, покинул пределы Вуколеона.
Уйти из Константинополя в ту же ночь он не решился: на улицах патрулировала конная стража, да и риск попасться на глаза крепостному дозору был велик. Поэтому, проведя остаток ночи и часть следующего дня в бодрящем сне, он с наступлением сумерек влился в группу горожан, направляющихся на еженощную расчистку рва. Никем не примеченный, он был вместе с остальными выпущен за крепостную стену. Помахав для вида лопатой, он через некоторое время, якобы по нужде, удалился в сторону. Бегло осмотрелся вокруг, затем, используя два кинжала для опоры рук, принялся быстро карабкаться вверх на противоположную от крепости стену рва. И тут удача впервые изменила хассисину: из-под его ноги вырвался и покатился вниз большой ком сухой земли.
Среди горожан послышались встревоженные голоса:
— Слышали шум?
— Где? В какой стороне?
— Смотрите! Вон там, там!
Землекопы бросились на крик.
— Кто-то сбежал?
— Вот он, я его вижу!
Град камней полетел в сторону беглеца.
— Смерть дезертиру!
Хассисин уже добрался до кромки рва.
— Презренные гяуры! — он звучно сплюнул вниз.
Но тут же охнул, присел на корточки и схватился за правую ногу. Через мгновение он уже мчался вперед, пытаясь бросками из стороны в сторону уклониться от стрел городской стражи. Отбежав на безопасное расстояние, лазутчик сел на землю и скрипя от боли зубами, обломил зазубренный кончик стрелы. Осторожно извлёк древко из голени, оторвал рукав куртки и сильно перетянул рану. Кровотечение, несмотря на перевязку, не останавливалось, и он, хромая на каждом шаге, чувствуя, что силы быстро покидают его, поспешил по направлению к лагерю.
— Я был везде и выведал всё, что нужно было знать.
Хассисин был горд собой и не считал нужным скрывать это. Широкое лицо наёмного убийцы светилось довольством, обнажая в улыбке два ряда крупных желтых зубов.
— Видел ли ты Орхана? — допытывался Караджа-бей.
— Да, светлейший. Принц со своей свитой прошествовал в двух десятках шагов от меня и скрылся за оградой замка, именуемого греками Вуколеоном.
— Почему же ты сразу не убил его? Побоялся смерти?
Хассисин презрительно усмехнулся и покачал головой. В знак особой милости он сидел перед османскими сановниками на маленькой скамеечке, поврежденная нога с повязкой ниже колена была заботливо уложена на подушку. Остальные члены секты молча стояли у него за спиной.
— В одиночку я даже не смог бы приблизиться к принцу. Убить же наверняка мешала кольчуга на его груди.
Он вновь усмехнулся.
— Но если я и сделал бы это, то кто бы сообщил радостную весть султану? Кто свидетельствовал бы за меня?
Бей открыл было рот для следующего вопроса, но тут же передумал. Неожиданная мысль настолько потрясла его, что некоторое время он молча не сводил широко раскрытых глаз с визиря.
— Что стряслось, бейлер-бей? — недовольно осведомился тот. — Ты смотришь на меня, как на дух давно почившего предка.
— Мне только что пришло в голову…, - медленно произнес паша и не окончив фразы, обратился к хассисину. — Ответь, могли бы вы вместо Орхана подобраться к греческому царю?
Сириец поклонился.
— Для нас невозможного мало.
Караджа-бей перевёл взгляд на визиря.
— Нет, — Халиль-паша отрицательно качнул головой. — Константин дважды бросил открытый вызов могуществу султанов. Он должен умереть, сломленный силой, а не от ножа наёмного убийцы. Это послужит хорошим уроком для всех строптивых.
Караджа-бей пожал плечами.
— Ты прав как всегда, мудрейший, — разочарованно протянул он. — Но как много вопросов можно было разрешить одним ударом кинжала! Пусть даже то будет кинжал наёмника.
— Ступайте, — приказал он хассисинам. — Договор остаётся в силе: через день, к закату солнца, голова Орхана должна лежать у ног султана.
Воины поклонились и направились к выходу.
— Запомните, храбрецы, — голос визиря остановил их, — ошибки быть не должно. Отличительный знак принца — родимое пятно величиной с акчу[11] на левой щеке у мочки уха.
— Мы будем помнить это, господин, — ответил сириец.
— И еще: один из вас останется в лагере и будет дожидаться возвращения остальных.
Вожак покачнулся на костыле и удивленно взглянул на пашу.
— Это ослабит нашу силу! — возразил он.
Визирь нахмурился.
— Приказы султана не обсуждаются! Имей это ввиду, прежде чем в следующий раз откроешь рот. Ступайте!
Когда двери закрылись за хассисинами, визирь обратился к Караджа-бею и Исхак-паше, за всю беседу так и не оборонившему ни одного слова:
— Пока что всё складывается достаточно удачно. Заполучив голову Орхана, султан может отказаться от дальнейшей осады Константинополя. Придворная клика во главе с Шахаббедином потерпит поражение и будет отстранена от ведения государственных дел. Мы же получим возможность без помех заняться обустройством и наведением порядка в нашей разоряемой бесконечными войнами стране.
— Когда я смотрел на этих удальцов, — нарушил свое молчание восточный бейлер-бей, — я думал вот о чем. Мне не хотелось бы, чтобы кто-либо заказал мою голову хассисинам. Я не могу пожаловаться на надежность своей охраны. И многие, очень многие из моих ратников телосложением покрепче этих семерых, да и клинками наверняка владеют лучше. Но их решимость, этот тусклый блеск в глазах, как у оживших мертвецов……
— Они фанатики, им неведом страх смерти, — хмуро согласился визирь. — Таких можно убить, но остановить — никогда.
— Однако…., - начал было Исхак-паша.
— Я знаю, что ты скажешь, — перебил его первый советник. — Что немалое число твоих воинов жаждет сложить головы в бою, чтобы доказать тем самым свое право вечно пировать за столами героев. Но это самообман: они лгут сами себе и даже под пытками не признаются в том, что смерть страшит их, как и каждого прочего человека. И мне более понятны те, в ком желание победить и уцелеть при этом заглушает тягу к посмертной славе. Нет, истинных фанатиков наберется немного и оттого они в стократ ценнее и опаснее.
— Армия из хассисинов не многим будет отличаться от армии из простых, хорошо обученных солдат, — высказал свое мнение Караджа-бей. — Ну разве что чуть больше горячности в бою….
— ….. и больше бестолковости из-за презрения к врагу, — добавил Исхак-паша.
— И потому, — заключил визирь, поднимаясь на ноги и тем самым давая понять, что разговор исчерпан, — они, хассисины, посвятившие жизнь воспеванию смерти, более всего подходят для засылки их в тыл врага, для тайных убийств и покушений. То есть именно для того, для чего испокон веков их и использовали.
ГЛАВА XXXI
Всё оставшееся до наступления сумерек время сириец наставлял своих подручных. Из-за своей раны вынужденный остаться в заложниках, он терзался сомнениями, понимая, насколько усложнилось до мелочей продуманное им покушение. Вновь и вновь он вычерчивал на песке схему укреплений, которые нужно было перейти незамеченными; объяснял кратчайшую дорогу к дворцу; указывал расположение зданий и пристроек бывшей резиденции ромейских царей и расстояния между ними; острой щепкой обозначал наиболее вероятное местонахождение палат принца. Хассисины сидели перед ним плотным полукругом, слушая и запоминая каждое слово. Время от времени они согласно кивали головами или напротив, задавали вопросы. Вопросы радовали предводителя, указывая на понятливость слушателей, хотя ответы на них подбирать становилось всё труднее.
— Численность охраны невелика, — говорил он им. — У этих дверей стоят только двое, с ними справится даже подросток. Какими словами стражи узнают друг друга? К чему вам эти слова, если они меняются каждый день? Помните, стражники принца отличаются от греческих солдат своей одеждой — широкими холщовыми штанами и тюрбанами вместо касок на головах. Оружие у них тоже другое — круглые щиты и простые копья вместо топоров и крючьев на концах, как у христиан. Но не вздумайте говорить с ними по-турецки: они признают обман и поднимут тревогу. Убивайте их сразу, издалека, так будет надёжнее. Поменьше разговаривайте между собой — горожане подозрительны и могут кликнуть караул. Почаще улыбайтесь и держите рты на замке, не ввязывайтесь в случайные ссоры: одно неосторожное слово или жест выдадут вас с головой. А перед толпой врагов бессильны даже герои легенд.
Шипя от боли и опираясь на костыль, он с трудом поднялся на ноги. Никто из хассисинов и не подумал шевельнуться: броситься на помощь — означало усомниться в силе вожака, оскорбить его подозрением в немощи духа и тела.
— Этой ночью вас поведёт Сулейман, — кивнул он на горбоносого араба, в знак признательности склонившего голову. — Ослушание ему я объявляю равносильным предательству.
Спустя несколько часов шестеро убийц, переодетые в холщовые куртки и штаны казненных христианских моряков и в натянутых поверх костюмов долгополых кафтанах горожан, поочередно, один за другим спустились в ров. Там, на дне, они затаились в ожидании прихода рабочих бригад.
Под утро, смешавшись с византийцами, они разделились и проникли в город через разные калитки. Однако в тот день стража была начеку и заподозрив неладное, подняла тревогу. Горожан, несмотря на их недовольство, задержали и лишь орудийный обстрел, по случайности пришедшийся именно на этот участок крепостной стены, спас хассисинов от немедленного разоблачения. Воспользовавшись поднявшейся суматохой, они поспешили скрыться и с наступлением темноты встретились, как и было условленно, на рыночной площади, возле форума Тавра.
Двое из хассисинов извлекли из котомок удачно приобретённые у старьевщиков поношенные мундиры императорской гвардии, трое других остались в халатах воинов из свиты Орхана, выслеженных и умерщвленных неподалеку от пристани.
Добраться, пользуясь объяснениями сирийца, до покоев принца, труда не составляло. Двое стражей в восточных одеждах сидели на ступенях лестницы у бокового крыльца и вели неторопливую задушевную беседу. Услышав шаги, они поднялись на ноги и нацелили на пришельцев копья. Однако, обманутые одеждой, подпустили лазутчиков вплотную. Платой за доверчивость стали две перерезанные глотки. Убитых оттащили в сторону и двое хассисинов заняли их места.
Удача в тот день сопутствовала им: уже на лестнице Сулейман настороженно повел головой, бросился к пролету под ступенями и извлек из почти незаметной каморки заспанного малолетнего прислужника. Перепуганный подросток пытался увернуться от зажимающей ему рот ладони, бился в руках хассисина, подобно вытащенной из воды рыбке.
— Ты знаешь, где принц, — скорее утверждал, чем спрашивал вожак.
— Отведи нас к нему. В награду получишь жизнь.
Прислужник энергично закивал головой.
— Пошли, — распорядился араб, передавая свою добычу в руки другого хассисина. — Держите оружие наготове.
— Ослабь свою хватку, Али. Ты же не хочешь, чтобы мальчишка задохнулся? Если вздумает кричать, сверни ему шею.
Сказанное предназначалось для пленника, сам же Али в наставлениях не нуждался.
— Сулейман, мы возьмем тебя в кольцо, — заявил один из хассисинов. — Если наткнемся на стражу, скажем, что ведем подозрительного человека на допрос.
— Дело говоришь, Муса, — одобрительно кивнул тот. — А пока что позови сюда оставшихся снаружи.
Подражая размеренной поступи караульных, хассисины беспрепятственно миновали две полутемные галереи. В одном из переходов нога каждого из них по разу наступила на плиту, своим чуть более светлым цветом выделяющуюся из одинаковых с ней по размерам соседних плит. При каждом нажатии плоский камень едва заметно подрагивал и подавался вниз. Они прошли мимо, даже не обратив на это внимания. В самом деле, мало ли перекосившихся от времени плит может встретиться в покрытии полов коридоров ветхого замка? Дворцовая стража была осведомлена значительно лучше — на эту плиту, особенно в ночное время могла наступить лишь нога незваного гостя. Сдвигаясь с места, камень каждый раз приводил в действие рычаг, натягивающий пропущенный под полом шелковый шнурок.
Через две залы от перехода, в маленькой комнате требовательно зазвонил колокольчик. Двое молодых людей, не снимая одежд расположившихся на ночлег, тут же вскочили на ноги.
— Шестеро, — прислушавшись к звону, произнес один из них.
Не обменявшись больше ни словом, они выскочили в коридор. Один из них сжимал в руке пучок коротких дротиков, другой застёгивал на ходу пояс с торчащими из чехлов рукоятями метательных ножей.
Ничего не подозревая, хассисины шли вдоль коридоров, заглядывая по пути в темные ниши: в любой из них мог притаиться в засаде враг. Вскоре прислужник замычал и начал тыкать пальцем в полоску света из-за поворота галереи.
— Там, там, — он сильно заикался от страха. — Туда мы носили кушанья и питье для турецкого принца.
Хассисины переглянулись.
— Али, ты останешься здесь.
Тот молча кивнул головой. Дальнейшие указания не только не были нужны ему, напротив, они казались бы оскорбительными — не дело для мужчины бестолку множить слова и заставлять себе равных выслушивать их. Он лишь сомкнул посильнее пальцы на тонкой шее мальчугана, искоса без интереса наблюдая, как гаснет жизнь в судорожно бьющемся тельце.
Возле массивных дверей из резного дуба, положив на колени устрашающе-изогнутые мечи, мирно подрёмывали двое стражников в широченных ситцевых шароварах и с белыми тюрбанами на головах. Жизнь одного из них отлетела мгновенно, другой даже не пробовал сопротивляться.
— Где принц, вероотступник? — Сулейман обеими руками держал его за горло и сильно встряхивая, бил головой об стену.
— Говори, если хочешь жить!
— За дверью, внутри, — турок в смертном ужасе закатывал глаза.
— Всё скажу, всё сделаю, только не убивайте!
Он вырвался из цепких пальцев и прижался спиной к двери. Хассисин изловчился и одним ударом снес ему голову. Обезглавленное тело подпрыгнуло, метнуло из перерезанных артерий кровяной выплеск и загребая ногами, тяжело повалилось на пол.
Араб тревожно оглянулся.
— Поторапливайтесь! — прошипел он. — Стража может сбежаться на шум.
Хассисин, чертами и цветом лица похожий на европейца, приблизился к дверям и вытащил из-за пояса лом с изогнутым жалом. Дерево громко затрещало, но замок, несмотря на старания, не поддавался. Все остальные столпились у него за спиной, возбужденно дыша и переминаясь с ноги на ногу.
— Все спокойно? — повернул он к ним голову.
— Да, да, — раздраженно откликнулся вожак, хотя и ему послышался невнятный шум в глубине галереи. — Если что, Али давно подал бы знак.
— Значит, показалось, — взломщик неуверенно пожал плечами и вновь принялся за работу.
Внезапно он дернулся, вцепился пальцами в дерево и стал медленно оседать на пол. Из затылка у него странным выростом торчала рукоять метательного ножа. Сулейман стремительно отскочил в сторону и это спасло ему жизнь: дротик просвистел и вонзился в дверь на уровне его груди.
— Убейте их, — завопил он и с размаху налег на дверь.
Дубовые створки дрогнули от удара, но устояли. Прикрываясь щитами убитых стражников, хассисины бросились на врага, но византийцы, не приняв боя, отступили вглубь галереи.
С третьего удара двери распахнулись.
— Сюда, быстрее, — крикнул вожак.
Первый же, кто проскочил вовнутрь, свалился вниз с разрубленным черепом. Сулейман взревел от ярости и с саблей наголо перепрыгнул через труп товарища.
Муса успел поймать щитом летящий в него нож, но уклониться от дротика уже не смог. Рыча от боли, он укрылся за дверями и выдернув наконечник из плеча, тут же принялся заваливать вход всем, что попадалось под руку. Тем временем Сулейман, вместе с Умаром, последним из шести участников покушения, с двух сторон теснили юношу в просторной ночной рубахе. Несмотря на его отвагу и тяжелый палаш в умелой руке, с ним было покончено быстро.
— Хорошо умер. Как воин, — одобрительно произнес Сулейман, умело отделяя голову от тела. — Что ж, значит царская кровь не всегда жидка.
— Подопри поплотнее двери, — крикнул он Мусе. — Надо выиграть время, чтобы ускользнуть отсюда.
— Постой! — Умар бросился к входу. — Там же Али! Мы не можем бросить его.
— Али не придет, — отрезал вожак. — Ты должен был сам понять это.
Он встряхнул за волосы отсеченную голову и всмотрелся в нее. Затем издал глухой вскрик, плюнул ей на щеку и принялся энергично тереть. Это удивило двух остальных хассисинов.
— Что ты делаешь, Сулейман? Зачем ты плюешь в лицо принца?
— Это не принц, — горестно произнес вожак. — Нас перехитрили!
Умар подскочил к нему, выхватил голову и приблизил ее к глазам. Кожа под размазанными полосками крови на левой щеке была чиста, без единого намёка на родимое пятно. Хассисин разжал пальцы и бессильно опустился на пол.
— Нас перехитрили, — повторил он слова главаря.
И тут же принялся затравлено озираться.
— Надо уходить отсюда.
Он вскочил на ноги, подбежал к окну, пинком распахнул ставни и свесился вниз, высматривая землю. Площадка под окном была густо утыкана острыми кольями.
— Нам некуда бежать, — возразил Сулейман. — Вернуться к султану с пустыми руками?
Он переложил саблю в правую руку. За забаррикадированными дверями все громче слышались встревоженные голоса и топот ног.
— Приготовимся к смерти, братья.
Сириец не находил себе места от беспокойства. Как зверь в клетке, он ходил из угла в угол и не мог остановиться, хотя боль от раны жгла ногу огнем. Часами, преклонив здоровое колено, возносил молитвы, затем покидал палатку и до рези в глазах всматривался в сторону, откуда должны были появиться его товарищи. Вопреки здравому смыслу, его мучило чувство вины за то, что он не с ними, за то, что он остался в стороне в столь трудный и ответственный для братства час. Прошли почти сутки, но от ушедших в город хассисинов не было ни весточки.
В середине следующего дня за ним пришли стражники Караджа-бея.
— Пойдешь с нами, — угрюмо бросил старший.
Сириец безропотно повиновался. Вскоре он, опираясь на костыль, предстал перед сидящим в седле бейлер-беем. Вельможа, раздающий указания гонцам, медленно повернул к нему голову.
— Что скажешь, борец за веру? — брезгливо осведомился бей. — Где твои собратья по ремеслу?
Хассисин подавил в себе злобу и насупился.
— Я знаю не больше тебя, светлейший, — резко ответил он.
Караджа-бей согласно покачал головой.
— Пожалуй, я склонен поверить этому. Но хочу порадовать тебя: мне только что принесли послание, которое поутру нашли подброшенным неподалеку от шатра султана. Я хочу, чтобы ты прочел нам его.
— Я не умею читать, — возразил хассисин.
— Это письмо тебе нетрудно будет прочесть.
Бей щелкнул пальцами. Один из воинов приподнял лежащий рядом с ним мешок и вывалил содержимое к ногам сирийца. Хассисин подавил вскрик и медленно опустился на колени.
— Почему ты не читаешь нам его вслух? — продолжал глумиться бей. — Оно же короткое — буквы можно сосчитать по пальцам.
Стража, как могла, принялась подыгрывать хозяину.
— Спасибо грекам, избавили нас от лишних хлопот, — рослый сотник смотрел на пашу, ожидая похвалы за свою находчивость.
— Какая честность! — громко восхищался другой. — До последней штучки вернули то, что им не принадлежит.
— А зачем грекам эти шесть голов? У них что, собственных баранов мало?
— Нужно ли было ходить так далеко? Могли бы перерезать друг другу глотки там, в своих холодных пещерах.
Хассисин не слышал оскорблений. Он на коленях ползал в пыли, поочередно брал в руки бурые от высохшей крови головы, выстраивал в ряд, звал по именам, гладил жесткую поросль волос. Затем обратил лицо к небесам и подвывая от скорби, затянул прощальную песнь.
Паша презрительно скривился и похлопал жеребца по шее.
— Забирай свою падаль и проваливай, — заявил он. — Не забудь явиться к ногам эмира и вместе с этим мешком передать ему наилучшие пожелания от повелителя нашего, султана Мехмеда.
Он помолчал и добавил:
— За твои хвастливые слова я самолично содрал бы с тебя шкуру. Но ты не заслуживаешь подобной чести. Пошел прочь, смердящий пес!
Хассисин взревел и подобно дикой кошке бросился на пашу. Однако охрана была начеку: волосяной аркан тут же обвился вокруг его шеи, в грудь и в плечи упёрлось сразу несколько копий. Еще некоторое время богатырь боролся, разбрасывая в стороны обступивших его людей, пока один из стражников не нанёс саблей удар, до основания шеи разрубивший ему череп.
— Будет собакам пожива, — буркнул юзбаши, заботливо обтирая тряпочкой клинок.
ГЛАВА XXXII
Визирь приостановил жеребца, оперся об услужливо подставленное плечо конюха и поддерживаемый под руки, медленно опустился на землю. Почтенный возраст, до которого редко удавалось дожить его предшественникам, все чаще напоминал о себе: проведя большую часть дня в седле, на осмотре передовых позиций войск, а затем и на совете у султана, Халиль-паша ощущал себя разбитым и вымотанным до предела.
Стараясь не горбиться от ноющей боли в позвоночнике, он вошел в шатер, двойные стены которого хранили тепло уходящего дня, и беззлобно поругивая прислугу, ждал, пока расторопные руки лакеев снимали с него покрытый пылью дорожный халат и накидывали на плечи свежий, из мягкой и шелковистой на ощупь парчи. Белоснежный тюрбан, украшенный массивным, округлой формы рубином, был заменен на легкую, не обременяющую голову своей тяжестью чалму, сафьяновые сапоги — на мягкие и просторные туфли. И только тогда, как бы сбросив вместе с походной одеждой груз земных забот, первый министр позволил себе со вздохом облегчения опуститься на россыпь упругих подушек софы.
Сбоку возникла приземистая фигура управителя и безмолвно жестикулируя, чтобы не потревожить покой своего господина, принялась отдавать распоряжения слугам. Тут же, как бы по волшебству, перед визирем возник тонконогий столик эбенового дерева с расставленной на нем в золотой и серебряной посуде снедью, приправами и вином.
Паша скривился и покачал головой: после многочасовой тряски в седле у него разыгралась застарелая болезнь желудка и он теперь не мог без содрогания смотреть на сочные, дымящиеся куски баранины, на нашпигованные и сдобренные пряностями тушки перепелов и рябчиков. Даже любимое лакомство — заячьи почки, вываренные в вине и обжаренные до хрустящей корочки — вызывало в нем отвращение. Управитель понимающе кивнул и блюда с горячей пищей исчезли, сменяясь сладостями и фруктами; из прежнего на столе остались лишь тонкогорлые кувшины с придирчиво отобранными наилучшими сортами греческих и венгерских вин. Затем он приблизился к хозяину и почтительно склонившись, быстро зашептал, указывая при этом на группу замерших в ожидании музыкантов и танцовщиц.
— Гони всех, Селим, — буркнул визирь. — Я слишком устал для развлечений.
Управитель отпрянул и энергично замахал руками. Шатер мгновенно опустел. С легким шорохом опустились полотняные двери и под мерцание маслянных светильников тишина мягко обступила визиря. Для слуха Халиль-паши, истёрзанного дневным шумом, орудийной пальбой и гвалтом людских голосов, полное безмолвие было подобно действию бальзама на саднящую болью рану. Визирь вздохнул и прикрыл глаза.
Подобно тени ночного мотылька, к нему бесшумно приблизился чернокожий раб, в огромной и уродливой, чудом держащейся на маленькой голове, чалме. В вытянутых руках он бережно держал дымящийся кальян и длинную отводную трубку с янтарным наконечником. Установив кальян у ног визиря, раб подхватил с чашечки тлеющий уголёк, несколькими дуновениями оживил запрятавшийся в глубине его огонь и аккуратно опустив его в выемку на горлышке сосуда, с низким поклоном вручил трубку паше. Тот принял ее и припав губами к мундштуку, наслаждаясь мелодичным бульканьем розового масла внутри кальяна, вдохнул полную грудь терпковатого дыма.
Скоро, после нескольких затяжек, очарование, звенящее и покалывающее плоть тысячью мельчайших иголок, заструилось по жилам; тело стало легким, почти невесомым, голова очистилась от сора ненужных мыслей. Визирь тихо вздохнул от наслаждения.
Хотя для истинного ценителя жизни общеизвестные удовольствия, такие как женщины, соколиная охота и конные бега, тонкие на вкус вина и яства никогда не теряют своей прелести, однако острота ощущений со временем притупляется и доступность изыска начинает навевать скуку. Но этот пряный дымок, сублимация горящей смеси маковых и конопляных слез, несущая в себе отрешение от повседневности, чистоту и ясность рассудка, неторопливое блуждание в мире собственных грез, для пресыщенного человека, находящегося к тому же на исходе жизненного цикла — добрый и бескорыстный дар богов.
Прикрыв глаза, визирь некоторое время наслаждался покоем души, но чуть позже, приподняв веки, с отстраненным недоумением отметил, что раб по прежнему стоит перед ним, беспокойно заглядывая хозяину в лицо.
— Что такое, Абу? — ленивым голосом осведомился он.
Раб издал невнятный звук (для уверенности в неразглашении случайно подслушанных тайн он с детских лет был лишен языка), метнул по сторонам быстрый взгляд и сняв с головы тюрбан, извлек из складок ткани маленький кусочек пергамента.
Визирь поколебался. Ему не хотелось нарушать очарования сонной истомы, но любопытство пересилило и он поднес листок к глазам.
«Жди безумного монаха» — всего три слова было выведено на нем.
Визирь гадливо отбросил послание. Повинуясь кивку головы, Абу подбежал к светильнику и сунул пергамент в огонь. Визирь смотрел, как ёжась, обугливается в пламени дубленый кусок телячьей кожи и покусывал губы, стремясь сдержать нарастающий гнев.
Воистину, о коварстве и бесцеремонной наглости византийцев впору было слагать легенды: в самый разгар войны прислать предложение о закулисных переговорах! Пусть даже смысл послания, написанного на языке древней латыни, столь же тёмен для окружающих, как и секретнейший из шифров, для первого министра и верховного советника султана смертельный риск заключался не только в возобновлении двойной игры, но и в получении письменных передач от лиц, одно упоминание о которых может привести на плаху.
— Абу! — грозно крикнул визирь.
Раб мгновенно очутился перед ним.
— Кто дал тебе эту записку?
Абу задрожал и опустился на колени. Затем приподнял голову от пола и с помощью рук и мимики лица принялся объяснять.
Он готовил заправку для кальяна своего господина, когда неожиданный порыв ветра распахнул боковую дверь шатра и едва не повалил полотняную ширму. Абу бросился закрывать дверь, чтобы пыль не проникла в помещение, а когда вернулся, записка уже лежала на подносе, придавленная ножкой сосуда. Как она оказалась там, он ума приложить не может, но ручается головой, что шатер все это время был пуст.
— Ты не только немой, но еще к тому же слеп, как крот! — рассвирепел визирь.
— Убирайся вон, обезьяна!
Раб со всех ног бросился бежать.
Визирь долго не мог успокоиться. И это один из самых верных и расторопных слуг! Остаётся лишь позавидовать находчивости и бесстрашию подручных своего недавнего друга, а теперь опасного врага, Феофана.
Нет, он не примет посыльного от византийца, а еще лучше — прикажет схватить его и казнить на месте, как опаснейшего из преступников. Пусть вместе с ним умрут попытки втянуть великого визиря в не терпящие дневного света дела.
Халиль-паша глубоко вздохнул и подпер подбородок кулаком.
Если бы только было возможным удалиться от государственных дел и сохранив при этом голову, доживать свой век в спокойной старости! Своего богатства визирю хватило бы на долгие годы. Хотя…. Он был бы грешен перед Аллахом, если бы поклялся, что не нуждается в приумножении своего состояния. Что поделать, человек слаб и в отличие от бога христиан, Аллах не карает верующих за стремление к наживе и богатству. Тем более, что деньги имеют обыкновение растрачиваться значительно скорее, чем накапливаться.
Снаружи послышался слабый шум. Визирь вздрогнул, мгновение помедлил, затем поднялся на ноги и приблизившись к двери, чуть приоткрыл полог.
В тридцати шагах от шатра ярко горел разведенный ночной стражей костер. Вперемежку с многоголосым хохотом оттуда доносился резкий и визгливый голос бродячего дервиша.
— Верьте мне, правоверные, всемогущий Аллах ниспошлет нам победу!
Старик прыгал вокруг костра, кривляясь и кружась в замысловатом танце. Его длинная суковатая палка описывала круги, перелетала из руки в руку, время от времени лезла в костер и ворошила там уголья.
— Слушайте меня, внимайте мне! — голос оборванца был настолько пронзителен, что визирь без труда улавливал каждое слово.
— Прошлой ночью на меня снизошло откровение…..
Монолог прервался, сменяясь неразборчивым бормотанием. Затем вновь раздался громкий дребезжащий смех, тут же подхваченный стражей.
— Великий город превратится в руины и храбрые воины султана захватят себе много красивых жен! На каждой пяди ваших могучих тел повырастают новые детородные органы и каждым из них вы будете многократно и долго иметь истамбульских девственниц! О, я вижу…. я даже отсюда вижу, как они томятся желанием, как они, подобно переспелым грушам, испускают из себя соки, мечтая о скорейшем приходе воителей Аллаха!
Старик кривлялся, делая непристойные жесты и телодвижения. Стражи, согнувшись пополам от хохота, от души потешались над безумцем.
Визирь вышел наружу и сильно хлопнул в ладони. Хохот стих. Стражники вытянулись в струнку и уподобились каменным истуканам. Дервиш пал на колени и несколько раз стукнулся лбом о землю.
— Сотник! — окликнул Халиль-паша.
И когда тот стремглав подбежал к визирю, небрежно осведомился:
— Где вы раздобыли этого шута?
— Он сам пришел, о великий, — юзбаши тупо хлопал глазами. — Не гневайся, мудрейший. Мы виновны, что сразу не прогнали его.
— Сегодня я прощаю тебе твою оплошность. Введите безумца ко мне, я тоже не прочь позабавиться.
Воины подтащили слабо упирающегося старика к шатру и грубо обыскав у входа, швырнули его перед ложем визиря. Халиль-паша жестом отослал их прочь и некоторое время молча смотрел на оборванца.
— Я жду. Что ты мне скажешь?
Дервиш, ничком лежащий перед визирем, дёрнулся и пополз по ковру, волоча за собой свои лохмотья. Затем бросил взгляд по сторонам и поднялся на ноги.
— Мне приказано передать тебе приветствие и пожелание долгих лет у истоков власти.
Визирь усмехнулся.
— И от кого же исходит это пожелание?
— От твоего старинного друга. Когда-то он задолжал тебе и шлёт сейчас великому паше в счет погашения долга вот это.
Старик поклонился и протянул руку. Визирь всмотрелся: на нечистой ладони сверкал яркий лучик.
— Что это?
Халиль-паша двумя пальцами принял подношение и приблизил его к пламени светильника. В золотом кружеве оправы перстня поигрывал огненными бликами крупный, с лесной орех величиной, бриллиант. Турецкий вельможа по праву слыл знатоком драгоценных минералов, но даже его поразила чистота и прозрачность благородного камня, изумительная точность огранки. С усилием оторвавшись от этого зрелища, он повернул голову к пришельцу.
— Что ещё велел мне передать уважаемый мною Феофан Никейский?
Ряженый дервиш усмехнулся.
— Мой хозяин желал бы знать, как долго войска султана будут стоять у стен Константинополя.
Визирь в притворном недоумении поднял брови.
— Для этого ему не следовало утруждать себя засылкой лазутчиков. Ответ очевиден и так: до тех пор, пока стены не падут или пока не распахнутся городские ворота.
— Турецкая армия велика своим числом, — возразил византиец. — Но и это число с каждым днем неуклонно сокращается. В любой части света войска султана при меньших потерях смогут собрать неизмеримо больше добычи.
— Дельный совет. Так почему бы тебе, лазутчик, не пойти и не поделиться этими соображениями с султаном?
— К сожалению многих своих сатрапов и к великой радости моего господина, султан прислушивается к мнению лишь одного человека.
— Вот как? И кто же этот счастливейший из смертных?
— Тот, кого сам султан почтительно именует Учителем.
Хотя лесть была грубой, и к тому времени не столь уж близкой к истине, Халиль-паша ощутил приятный укол тщеславия. Вот если бы все недруги были бы того же мнения!
— Твоему хозяину должно быть хорошо известно, что я никогда не одобрял намерений султана по отношению к Византии и был бы рад изменить цель похода. Однако на этот раз воля молодого владыки оказалась сильнее моих доводов.
— Мастер Феофан лишь сожалеет, что султан оказался менее уступчивым, чем в случае с шейх-уль-исламом.
Визирь высокомерно поднял голову.
— На что ты намекаешь, лазутчик? Уж не думает ли твой хозяин, что я когда-нибудь снизойду до объяснения своих поступков кому-либо из смертных?
— Кроме своего повелителя, разумеется, — добавил он чуть погодя.
— Все мы служим своим господам, — возразил старик, — но каждый служит им по-разному.
Визирь подобрался. Вызов брошен был напрямую, и похоже, пора начинать игру в открытую, без уверток. А может быть лучше кликнуть стражу и немедленно обезглавить гонца?
— Твои слова или глупы или таят в себе некий смысл.
— Я говорю словами моего хозяина, мастера Феофана.
Перед мысленным взором первого министра чередой промелькнули лица его главных противников — Саган-паши, Шахаббедина, Махмуд-паши и Саруджа-бея. Вот кто истинно возрадуется, если у них в руках обнаружатся доказательства, порочащие великого визиря.
— Что хочет твой господин? — почти выкрикнул он и швырнул перстень в лицо византийца.
— Мой господин желает тебе благ и долгих лет жизни, — старик на лету поймал кольцо и возвратил его к ногам визиря.
— Он знает, что лишь ты один при турецком дворе можешь по праву считать себя другом ромеев и имеешь влияние на султана. Он надеется с твоей помощью изменить ход событий.
— Что могут предложить византийцы?
— Император готов признать себя данником султана.
— Этого мало. Мехмеду нужен город, а не покорство вассала.
— Более месяца трехсоттысячная армия не в силах овладеть укреплениями. Константинополь окружён, но горожане готовы биться до последнего человека. А если еще придёт помощь извне…..
— Известий о том пока нет.
— Они появятся в скором времени. Мы знаем, что венгерский король собирает войско, венецианский флот загружается добровольцами из числа принявших Святой Крест и со дня на день поднимет паруса, если уже не сделал это.
— Хотел бы я знать, кто распускает эти ложные слухи.
Лазутчик усмехнулся.
— Как знать, ложны они или нет. Слухи имеют обыкновение подтверждаться впоследствии фактами. А распускают их те, кому прискучило топтаться у стен крепости и жертвовать жизнями ради пустых обещаний.
Визирь встал и несколько раз прошелся по зале.
— Уходи, — наконец сказал он. — Передай своему господину, что угрозы в мой адрес бесполезны. Я слишком долго жил жизнью первого министра, чтобы на склоне лет дорожить своей головой. Однако я, как никто другой, осознаю опасность этой войны и приложу все усилия, чтобы склонить Мехмеда к миру. Удастся ли мне это, ведомо лишь одному Аллаху. Но если неудачи наших войск будут следовать непрерывной чередой, то я, чтобы сохранить армию, любой ценой добьюсь уступок со стороны султана.
Гонец низко поклонился.
— Именно это мой господин и желал услышать из твоих уст.
— Уходи, — повторил визирь.
Но когда лазутчик был уже у самой двери, Халиль-паша неожиданно остановил его.
— Назови мне свое имя. Я желаю знать, с кем из греческих вельмож я имел беседу.
Византиец остановился и повернулся к визирю. Глаза его непонятно блеснули, он сдвинул на затылок грязную чалму и только тут паша понял, что перед ним в личине старика предстал юноша не старше шестнадцати-восемнадцати лет от роду.
— Зови меня Ангелом, — ответил он. — Это имя мне дали родители при крещении.
Он помолчал и, как бы через силу, добавил:
— Ты не ошибся, они были знатного рода.
Затем, вновь сгорбившись, он тенью выскользнул из шатра и вскоре его безумный хохот стих вдали.
Визирь поднял лежащий у его ног перстень, приблизил к глазам, затем отстранил на длину вытянутой руки, безмолвно восхищаясь причудливой игрой световых бликов в глубине прозрачного, голубой воды камня. Там, как в магическом кристалле, в мерцании бесчисленных искр на полированных гранях ему еще долго грезились слава, могущество и безраздельная власть.
Удалившись от шатра визиря (стража больше не осмеливалась задерживать его) Ангел сменил приплясывающую походку на ровный и широкий шаг и устремился по направлению к Деревянным воротам Константинополя. Лазутчик был доволен собой: основная, наиважнейшая часть задания была выполнена успешно. Проявивший поначалу несговорчивость, надменный старик сломался сразу, стоило только упомянуть о порочащих его уликах. Хотя и не напрямую, он дал согласие начать тайные переговоры с наиболее влиятельной частью османской знати о снятии осады и принял дар, который в случае необходимости станет доказательством вступления паши в сговор с врагом. Теперь оставалось лишь проникнуть незамеченным в город и в мельчайших подробностях донести содержание беседы до Феофана.
Огромный лагерь спал беспробудным сном, лишь кое-где лениво подавали голоса собаки и красными пятнами светились затухающие кострища. Лазутчик на мгновение расслабился и тут же был за это наказан: недоглядев, он наступил на что-то мягкое. Спящий человек подскочил и испуганно вскрикнул. Это было его последним движением — как подброшенный пружиной Ангел взвился вверх, всей тяжестью обрушился на лежачего и коротко, два раза ударил его в грудь кинжалом.
Распластавшись на затихшем теле, весь превратившись в слух, он ловил малейшие звуки вокруг себя. Но убедившись, что выкрик никого не потревожил, вскочил на ноги и продолжил путь. Неожиданное, вынужденное убийство в другое время ни в коей мере не могло бы взволновать его, но сейчас торжество над поверженным врагом, будь то всесильный министр воинственной державы или безродный ополченец из далеких земель, мстительной радостью наполняло все его существо.
Он прошел еще несколько шагов, остановился и обведя взглядом пространство вокруг себя, недобро рассмеялся.
— Недолго ждать. Придет ваш срок.
Злое неистовство волнами затапливало его; от знакомой боли заломило виски.
— Заплатите мне за всё……
Перед глазами, как наяву, сменяли друг друга навечно выжженные в памяти картины прошлого.
….. пронзительные крики, звон железа, грохот пушек, топот ног по дощатой палубе…..
….. яркое солнце в дверном проеме, дымные пороховые клубы, широкая спина отца, закрывающего собой жену и детей….
….. гвалт голосов, полуголые люди с серой кожей и хищными лицами, солоноватый привкус крови, брызнувшей струёй в лицо…..
Боль в голове стекала вниз, сводя тело в судорогах. Он застонал и сильно стиснул ладонями виски.
…… обезумевшая женщина, за волосы волочимая по палубе……
….. тяжелые золотые кудри, мягкие и душистые, обычно заплетенные в косы и уложенные вокруг головы — в чужих, покрытых кровью и грязью руках…..
…… обступившая ее хохочущая суетливая толпа, как стая воронья над телом еще не остывшей жертвы….
— Ма-ама! Мамо-очка-а!
Ангел содрогнулся, услышав вдруг донесшийся из глубин прошлого свой детский, преисполненный ужаса и неверия в происходящее крик. Рухнул на колени, вновь ощутив тот страшный удар по затылку, швырнувший его в беспамятство.
Потом была пустота. Долго, очень долго. Пустота и мрак. А после….
….. невольничий рынок, смрад человеческих нечистот, испуганные полуголые люди со свежими ссадинами и следами плетей на теле, лохмотья вместо одежды, плач женщин и детей, выкрики работорговцев, оценивающе-клейкие взгляды безликой толпы….
И еще…… что-то было еще…..
Резкая, ни с чем не сравнимая боль скрутила тело.
Свирепый зверь, засевший в глубине его плоти, вновь пробудился от спячки и рвался теперь наружу, разрывая внутренности тысячами острых когтей. Чудовище жаждало жертвоприношений и лишь кровь, горячая кровь врага могла утолить его голод.
Ангел сунул руку за пазуху, извлек кинжал из прикрепленных к предплечью ножен и поднялся на ноги. Надо спешить, иначе зверь доберется до головы, пожрет его мозг и безраздельно овладеет душой.
Бесшумной тенью он скользнул к затухающему в ста шагах от него костру, над жаркой кучей угольев которого еще плясали голубоватые струйки огня. Он знал, что там его ждёт добыча и знал, как лучше ее взять.
Когда он, некоторое время спустя, уже не таясь, во весь рост уходил оттуда, на лице его блуждала слабая улыбка, а весь облик выдавал довольство — чудовище укрощено и загнано глубоко вовнутрь. Оно более не в силах помешать лазутчику проникнуть за черту укреплений и с честью завершить возложенное на него задание.
Вокруг затухающего костра, остывая вместе с ним, лежало около полутора десятка трупов с глубоко проколотыми затылками.
ГЛАВА XXXIII
В один из теплых майских вечеров василевс вызвал к себе Феофана и более двух часов совещался с ним. Затем, едва двери закрылись за стариком, приказал дежурному офицеру разыскать и немедленно пригласить к себе Нотара и османского принца Орхана.
Мегадука прибыл во дворец, слегка недоумевая по поводу спешного вызова. Когда же император посвятил его в разработанный советником план, димарх выразил удовлетворение и полное согласие с ним. Хотя и не преминул указать на некоторые слабые места предстоящей экспедиции.
— Я рад, что эти затруднения не ускользнули от твоего внимания, — ответил Константин, — и потому поручаю тебе любыми средствами обезопасить пути следования галеры. Даже если для этого понадобится вылазка за Цепь половины ромейского флота.
— Едва ли в том возникнет необходимость, — возразил Нотар. — Уход одного корабля не должен всполошить врага. Турецкие суда не станут гоняться в ночной мгле за одиноким призом. Скорее всего, неприятель сочтет, что группа латинян решила тайно покинуть город.
— Это сыграет нам на пользу.
— Только в части осуществления задуманного. После бегства корабля натиск на стены может резко усилиться.
Константин недоверчиво поднял брови.
— Если бы этот натиск в состоянии был увеличиться хоть немного, турки бы не преминули бы использовать эту возможность.
Он помолчал и добавил:
— Конечно, шила в мешке не утаишь. Чтобы на первых порах скрыть истинную причину побега, мы не будем отрицать малодушия части воинов, а это может вызвать взаимную подозрительность и разлад в рядах защитников.
— И это тоже, государь.
— Но только до той поры, пока не откроется действительная подоплёка происшедшего.
Нотар согласно покивал головой.
— Василевс позволит удалиться?
— Да, ступай. Но ты не ответил, есть ли в гавани снаряженное, подходящее для этой цели судно?
— «Наксос» отвечает всем необходимым требования. Эта галера достаточно быстроходна, имеет малую осадку и легко ускользнёт от возможной погони. Тем более, что этой ночью ветер будет благоприятен для нас.
Мегадука откланялся. Некоторое время спустя в дверях появился дежурный офицер и объявил, что принц Орхан в приёмной и дожидается аудиенции у императора.
Константин кивнул.
— Пусть войдет.
Придерживая рукой развевающуюся полу халата, Орхан размашистым шагом приблизился к императору и поприветствовал его, как равный равного, легким поклоном.
— Василевс звал меня? Я пришел, — просто сказал он.
— Присаживайся, принц, — Константин указал на кресло напротив себя. — Волей обстоятельств мне предстоит держать с тобой нелегкий разговор.
— Я весь во внимании, василевс.
Константин некоторое время молча рассматривал принца.
В отличие от Мехмеда, Орхан был строен и высок ростом. Рыжеватые вьющиеся волосы обрамляли удлиненное лицо с необычно светлой для турок кожей, черты которого, несмотря на орлиный изгиб носа, мало свидетельствовали о сильном характере юноши.
— Я хочу сообщить тебе известие, принц, которое несомненно обрадует тебя. Поскольку агрессия султаната против моего государства более не связывает нас взаимными обязательствами, я возвращаю тебе долгожданную свободу. В одной из гаваней Золотого Рога готовится к отплытию быстроходная галера, которая в короткий срок доставит тебя и твою свиту в любую выбранную по твоему желанию страну или местность.
Он не договорил. Взгляд принца, устремленный на него, выражал глубокое страдание.
— Ты даруешь мне свободу? — после продолжительного молчания заговорил он.
Голос Орхана был неровен, дрожал и срывался почти на каждом слове.
— Свободу чего? Свободу бежать и скрываться, подобно гонимому зверю? И в скором времени, будучи изловленным султанскими сатрапами, окончить свою жизнь презренным скопцом на тюремной соломе? Или свободу быть публично обезглавленным по обвинению в измене государству? Такая свобода мне не нужна.
— Ты предполагаешь наихудшее, принц, — возразил Константин. — Оставь эти мрачные мысли! Мои дипломаты вошли в тайное соглашение с Ибрагим-беем, правителем Караманского эмирата. Он почтет себе за честь выдать за тебя одну из своих дочерей и вручить тебе, при твоем желании, жезл главнокомандующего своих войск. Эмиры Айдына и Гермияна также согласны поддержать твои законные требования на трон османских владык.
Произнося эти слова, василевс не сводил глаз с лица Орхана, но, увы, не находил там желанного отклика. Напротив, в его устремленном к окну взгляде всё отчетливее проступало выражение безысходной тоски, как у приговоренного к смерти человека.
Наконец принц нашел в себе силы сказать:
— Я всё понимаю, василевс. Ты не можешь держать у себя человека, опасного для существования твоего государства. Я знаю, мой жестокий брат неоднократно требовал у тебя мою голову, но ты, как человек чести и великой души, каждый раз отказывал ему в этом. И одна из причин появления Мехмеда под стенами твоей столицы — это я.
Он поднялся на ноги.
— Я всё понимаю и прошу позволения удалиться. Пусть завтра поутру твои слуги зайдут в мою опочивальню, без лишних хлопот отделят голову от бездыханного тела и, согласно варварским обычаям моего народа, на деревянном блюде поднесут султану. Это смягчит его сердце и войска сатрапов без дальнейшего кровопролития удалятся от стен Константинополя.
Император сильно стукнул кулаком об подлокотник кресла.
— Что ты говоришь, принц? Подумай над своими словами и устыдись их!
Орхан гордо вскинул голову.
— Мне нечего стыдиться! Всю мою жизнь имеющие власть решали за меня мою судьбу.
Сглотнув ком в горле, он продолжал:
— Ты желаешь избавиться от опасного человека. Что ж, это твое право. Но мне надоело подчиняться чужой воле. Если мне суждена скорая смерть, я предпочту умереть от своей руки, чем быть затравленным рабами своего царственного брата.
— Садись, — Константин указал ему на кресло.
И когда Орхан подчинился, спросил:
— Почему ты всё время говоришь о смерти? Ты не веришь моим словам?
— Я верю тебе, как своему отцу.
— Тогда я повторю: мятежные вассалы с нетерпением ждут твоего появления в Анатолии. Как только ты ступишь на их земли, вокруг тебя сплотятся враги нынешнего султана.
— И этих людей ты предлагаешь мне в соратники? Благодарю, но я отказываюсь. Единожды укрощенный зверь укрощен навсегда: достаточно одного появления Мехмеда в Анатолии, как те, кто сбежится под мои знамена, так же резво поскачут обратно. Более того, малодушно вымаливая прощение у тирана, своими руками поднесут ему мою отсеченную голову.
Константин долгое время молча смотрел на Орхана.
— Принц, неужели ты так ценишь жизнь, что не желаешь рискнуть ею для завоевания престола?
Орхан тряхнул головой.
— Моя жизнь — единственное, что есть у меня. И она безраздельно принадлежит тебе, васивевс, как и жизнь любого из твоих подданных. Я не раз поднимался на стены и участвовал в сражениях, отбивая атаки своих единоверцев — я жаждал доказать тебе свою преданность. Если понадобится, я горсткой своих храбрецов покину пределы города и буду биться с врагом в открытом поле, пока под ударами сабель не полягут все. Но мне противны бесплодные метания в дальних и враждебных краях, среди немногих своих соратников. И среди тех, кто лишь на время прикинулся другом, чтобы дождаться удобного часа для измены.
Он вновь поднялся на ноги.
— Твое право решать, василевс. По своей воле я не покину Константинополя, но если ты мне откажешь в своем гостеприимстве, я попрошу отправить меня к эмиру Египта, чтобы при его дворе пытаться найти себе защиту и укрытие. Вступать же в безнадежную борьбу, исход которой — позорная казнь, я не в силах.
— Это окончательное решение, принц?
— Да. Повторю лишь, что если для блага твоего государства нужна моя смерть, дозволь мне, как человеку царской крови, встретить свой последний час так, как я сам того пожелаю.
Константин пожал плечами, встал и подошел к окну.
— Каждый в жизни сам выбирает себе дорогу. Хочу разубедить тебя, принц — твоя смерть не будет облегчением для моего народа. Мне же принесет боль и вечные укоры совести. И чтобы впоследствии вера в искренность моих слов не была поколеблена в тебе, я предлагаю тебе принять учение нашей Святой Церкви.
Стремясь дополнить свою мысль, он продолжил:
— Оставив ложное вероучение, ты навсегда лишишься прав на османский престол и твоя голова мгновенно потеряет цену в глазах Мехмеда.
Глаза юноши вспыхнули счастьем.
— Ты угадал мою заветную мысль, справедливейший из всех царей! Поверь, не забота о собственной безопасности движет мною: долгое время украдкой, сменив платье и скрыв лицо за накладной бородой, я посещал храм Святой Премудрости, так как понял, что именно там, под этими сводами, обитает дух истинного Бога. И еще….
Он замялся.
— Среди дочерей твоих номархов я встретил девушку, красотой своей затмевающей великолепие солнечного дня….
Он вновь замолчал.
— Кто же она? — удивленно поднял брови василевс. — Назови мне имя ее отца.
— Дозволь мне, василевс, пока умолчать об именах. Эта девушка происходит из древнего знатного рода и никогда не согласится соединить свою жизнь с человеком иной веры. Я же не хочу подвергать свою любовь унижению преждевременного отказа и откроюсь своей возлюбленной только после перехода в лоно Святой Церкви.
Несмотря на розовые от смущения щеки, Орхан продолжал говорить торопливо, как бы боясь на полуслове быть перебитым своим царственным собеседником:
— Но чтобы никто даже за глаза не смел бы попрекать меня малодушием, я прошу твоего соизволения, василевс, совершить обряд перехода только после отражения врага от стен твоей столицы.
Константин помолчал, глядя в сияющие счастьем глаза принца, и согласно кивнул головой.
— Срок подскажет тебе твоя собственная совесть.
В приемной комнате Нотар и Кантакузин терпеливо ожидали появления василевса. Они невольно подобрались, когда дверь кабинета распахнулась и поприветствовав Орхана, лицо которого расплывалось в радостной улыбке, за его спиной обменялись понимающими взглядами. Вслед за принцем в дверях показался и сам Константин.
Димархи одновременно сделали шаг навстречу императору.
— Государь, — начал Нотар. — Галера снабжена всем необходимым, команда в течении часа готова выбрать якоря.
— Мною подготовлен отряд доверенных людей, многие из которых являются перешедшими в православие мусульманами, — подхватил Димитрий. — Им пока неведома цель экспедиции….
— Тем лучше, — прервал его Константин. — Потому что отбытие османского принца в Анатолию не состоится.
Димархи тревожно переглянулись.
— Случилось что-то непредвиденное, государь?
— Орхан отказался от борьбы за престол и выразил желание не покидать пределов Константинополя.
В ответ повисло растерянное молчание.
— Мы не ослышались, василевс? — только и сумел выговорить стратег.
— Кто может считаться с желаниями отдельного человека, пусть даже принца по крови, если в опасности сама Империя? — возмутился Нотар.
— Я. Как правитель первого христианского государства, исповедующего божественные заветы терпимости и человеколюбия, я не могу послать на заведомую смерть несчастного, чистого душой юношу.
И, как бы обращаясь к самому себе, чуть слышно добавил:
— Нельзя, взрастив волчонка в людской среде, затем насильно выпускать его обратно в стаю. Волки не примут его, как чужака разорвут в клочья.
Качнув на прощание головой, он направился к своим покоям.
— Но, государь…..! — бросаясь вслед, в один голос возопили димархи.
Константин остановился и сделал предостерегающий жест рукой.
— Более того, открою вам тайну государственного значения. Орхан, уверившись в лживости вероучения своих предков, пожелал принять христианство и стать верным сыном Святой Церкви.
Если бы лепной потолок разом обрушился бы на головы ромейских военачальников, они были бы в меньшей степени сражены.
— Как же это…., - забормотал Нотар, недоуменно хлопая глазами.
Димитрий покраснел так, что казалось, еще мгновение — и кровь хлынет из пор его кожи. Некоторое время они молча смотрели вслед удаляющемуся монарху, пытаясь упорядочить разброд в своих мыслях. Первым оправился Нотар.
— Никогда бы не подумал, что у этого варвара-мечтателя хватит наглости и смекалки провести самого императора, — проворчал он.
— Неизвестно еще, в какой из этих двух голов больше наивности и простодушия! — стратег утратил самообладание и наотмашь рубанул рукой воздух.
— Димитрий! — укоризненно покачал головой Нотар, неприметно оглядываясь по сторонам.
— Готов принять христианство? Ха! Да он согласен на что угодно, лишь бы не подвергать опасности свое холеное тело! И подражая всяким там рифмоплётам, до скончания дней валяться на подушках и пачкать пергамент своими убогими любовными виршами.
Они угрюмо шли вдоль коридора, не отвечая на приветствия дворцовой стражи.
— А как хорошо было задумано! — вновь с тоской в голосе заговорил Кантакузин. — Орхан высаживается в Анатолии, сплачивает вокруг себя войска мятежных беев и легко захватывает крупные города, гарнизоны которых из-за своей малочисленности не способны выдержать и двух дней осады. И таким образом, увеличивая свою армию за счет побежденных, постепенно подчиняет себе все владения Мехмеда.
— Да, это так, — подтвердил Нотар. — От Феофана я узнал, что во всей Малой Азии не нашлось бы и тридцати тысяч солдат, способных преградить путь продвижению Орхана. Беи, оправившиеся от недавней войны, только и ждут предводителя, способного возглавить их собственные отряды. В чём они неоднократно заверяли Феофана через своих посредников.
— Мехмеду не оставалось бы ничего другого, как снять осаду и поспешить на усмирение мятежа. Но даже если ему и удалось бы сделать это, Османская империя на долгие годы погрязла бы в пучине междоусобной войны и нескоро бы оправилась от подобного кровопускания.
Стратег помолчал и добавил:
— Тем более, что и в христианских владениях Мехмеда все более растёт недовольство, а западные страны только и ждут удобного случая, чтобы изгнать османов за пределы Европы.
— У Феофана замечательная голова, — с глубоким почтением проговорил мегадука. — Как жаль, что жизнь так часто ломает его хитроумные планы.
Он остановился так внезапно, что стратег по инерции сделал несколько шагов и только потом обернулся к нему.
— Нет! — шептал мегадука, охваченный суеверным страхом. — Помеха Феофану — не жизнь и не взбалмошное упрямство людей. Это Рок!
— Что? — удивленно переспросил Кантакузин.
— Да, да, Рок! — Нотар отрешенно смотрел в пространство. — Древнее проклятие довлеет над землей ромеев. На нас, как на последних из римлян, лежит вина за прошлые злодеяния. Мы должны, мы вынуждены принести искупительную жертву!
Но стратег был мало расположен слушать мистические откровения мегадуки.
— Ступай в корчму и потребуй там полный кувшин крепкого вина, — с бесцеремонностью старого солдата заявил он. — Затем принеси его в жертву своему желудку. Что касается меня, то именно это я сейчас и собираюсь сделать.
Круто повернувшись, он зашагал к выходу из дворца.
ГЛАВА XXXIV
Разрушенные недавним обстрелом, стены в районе ворот святого Романа были отчасти восстановлены. Камни, выбитые ядрами из кладки, бригада землекопов подняла на верхнюю часть завала и кое-как уложила в некое подобие правильных рядов. На камни были навалены вязанки хвороста и сверху придавлены бочонками с землей. Сооружение было достаточно крепким, хотя на первый взгляд не вызывало ничего, кроме насмешливой улыбки.
Джустиниани долго и критически качал головой.
— Вижу, себя не пожалели, — вымолвил он наконец.
— Голову даю на отсечение, мастер: заграда выдержит обстрел, — убеждал кондотьера бригадир, сухопарый грек с уныло повисшим носом. — Хоть мину под нее подкладывай!
— А если нет? На коего дьявола тогда мне сдалась твоя голова?
Широко переставляя ноги, кондотьер быстро вскарабкался на насыпь.
— Иди сюда! — позвал он грека.
— Вон там, — Лонг указал рукой, — за внешней стеной, отступишь на двадцать шагов от пролома и опояшешь это место рвом. Извлеченную землю вытаскивай на внутреннюю сторону рва так, чтобы образовался вал высотой не менее пятнадцати локтей.
Бригадир прикинул в уме объем предстоящих работ.
— Понятно, мастер. Когда же это должно быть выполнено?
— Не позднее послезавтрашнего утра.
Грек чуть не взвыл.
— Мастер, но это невозможно! Просто в голове не укладывается. В такой короткий срок выкопать ров длиной более тридцати шагов и глубиной в пятнадцать локтей? У меня всего два десятка рабочих рук!
Собравшийся было уходить, Лонг повернулся и в гневе обрушился на бригадира.
— Что ты стонешь, бездельник? Людей не хватает? Я дам тебе два десятка своих солдат. Носилок, кирок, лопат слишком мало — доставят всё. Но к назначенному сроку ров должен быть на том месте, где я указал!
Грек успокоился.
— Ну, если два десятка солдат…. Вот только не пойму, мастер, зачем нужен ров позади, а не спереди стен?
— Затем, неумный, что турки, вмиг разобрав на части твою хваленую заграду, устремятся вглубь проёма и попадут в западню. Спереди глубокий ров с кольями на дне, на валу — заряженные пушки, на стенах караулят лучники, а с тыла напирает толпа своих же солдат, которым и неведомо, что уготовано им впереди.
— Ну, мастер, у тебя не голова, а золотое дно! — восхитился бригадир. — Мы сейчас же начнем копать ров, а когда подойдут обещанные тобой солдаты, работа пойдет вдвое быстрее.
Кондотьер взглянул на него, в знак поощрения хлопнул грека по спине так, что тот чуть кубарем не слетел с насыпи и быстро спустился вниз.
— Орудия на валу — это хорошо, — задумчиво пробормотал он. — Только вот где их взять?
Он неторопливо прошелся вдоль укреплений, затем поднялся на крепостную стену и приблизившись к небольшой пушечке, слегка похлопал ее по нагретому солнцем бронзовому боку.
Нет, со стен орудия снимать нельзя: значительное пространство городского вала разом выпадает из сектора обстрела.
— Разлеглись, лежебоки? — зарычал он на группу наемников, удобно расположившихся на отдых в тени. — Кто должен вместо вас заниматься делом?
Он принялся щедро раздавать поручения. Воины без возражений подчинялись ему: в своем отряде кондотьер имел непререкаемый авторитет. Более того, за душевную простоту, за общительность, пусть даже скрытую за маской напускной суровости, за неистощимую энергию и мужество в бою Лонг пользовался почти всенародной любовью.
Через боковые дверцы башен Джустиниани переходил с одного участка стен на другой, осматривал орудия, проверял на прочность тетивы баллист, запасы пороха, ядер и камней для метательных машин. Походя хлопал по плечу встающих при его появлении ландскнехтов, заговаривал с ними, шутил, расспрашивал о старых или недавно полученных ранах. Словом, вел себя как истинный полководец, вождь по призванию, а не по воле случая.
На протяжении всего обхода мысль о недостающих пушках, как зубная боль, не переставала мучить его.
«Где взять орудия? Хотя бы пять штук. Откуда их можно перебросить к пролому?»
— Синьор? — послышался голос за спиной. — Вы что-то сказали о пушках?
Кондотьер резко повернулся. Только сейчас он сообразил, что забывшись, говорил с собой вслух.
— Тебе показалось, Доменик.
— Но я своими ушами слышал, как вы спрашивали меня об орудиях, — настаивал адъютант.
— Я знаю, где их можно взять.
Лонг положил ему руку на плечо. Под тяжестью командирской длани юноша покачнулся, но сумел устоять на ногах.
— Доменик! — угрожающе произнес Лонг. — Если ты вздумал шутить со мной, я переломаю тебе кости.
— Синьор, я говорю правду. На стенах, прикрывающих город со стороны залива, их предостаточно. Помимо этого, там много баллист и катапульт со снарядами из зажигательной смеси. У византийцев нет острой потребности в огнестрельных орудиях. А значит, мы без особых хлопот можем позаимствовать несколько пушек. Хотя бы только на время.
Джустиниани легким толчком сдвинул его в сторону, подошел к краю стены и положив руки на края соседних зубцов, всмотрелся в расстилающуюся перед ним равнину.
В трех полетах стрелы от него, на обширном пространстве, привольно раскинулся вражеский лагерь. Возле еле различимых палаток и шалашей курились белым дымком костры; вокруг шатров военачальников угадывалось движение фигурок солдат. Похоже, обитатели становища занимались своими обычными повседневными делами: одни латали одежду и правили оружие, другие свежевали овечьи туши и готовили пищу, третьи разминали мышцы в воинских упражнениях, большинство же попросту спало.
Лонга мало интересовали будни неприятельского лагеря, он размышлял над предложением своего адъютанта.
Пушки у пролома были более чем необходимы, но снять их со стен — означало сильно ослабить оборону ворот, на которые чаще всего обрушивался основной удар неприятеля. Стены же со стороны залива (кондотьер хорошо знал это) были более безопасными и пока еще не подвергались подобному натиску.
Поразмыслив, Лонг пришел к выводу, что совет адъютанта недурен. Безусловно, кондотьера коробила мысль обращаться по какому-либо поводу к мегадуке. Среди горожан уже притчей во языцех стали их отнюдь не дружественные отношения. Но в конце концов, он же старается не для самого себя и не свой родной город защищает, вот уже восьмую неделю ежедневно рискуя жизнью!
— Значит так! Возьмешь с собой три подводы и десяток солдат. Через два часа пушки должны быть здесь.
Адъютант вытянулся в струнку, затем повернулся и скликая людей, поспешил вниз.
— Доменик! — зычный голос остановил его на полпути.
Наемник удивленно поднял глаза на командира.
— Не лезь на рожон. Возьми пушки миром, — медленно и внятно проговорил кондотьер.
— Ты понял меня?
Адъютант чуть помрачнел, но согласно кивнул головой.
Лонг вернулся на свой наблюдательный пункт и вновь оперся о башенные зубцы.
Конечно же, он мог взять посредником между собой и мегадукой какого-либо уважаемого командира. Лонг просто не подумал об этом. Он привык идти к цели напролом и нечасто давал себе труд задуматься о последствиях своих поступков. Отказ же потребовать от мегадуки орудия мог быть расценен окружающими как проявление мягкотелости, уступка кондотьера желчному димарху.
Лука Нотар неприветливо встретил посланца. Хмуро выслушав, мегадука провел рукой по узкой бородке и повернулся к генуэзцу спиной. Доменик, опешив на мгновение, уставился в красный с золотым шитьем плащ димарха, затем решительно шагнул вперед.
— Я жду, синьор, — в его голосе звучал открытый вызов. — Какие пушки прикажете грузить на телеги?
Нотар глянул на побоченивщуюся фигуру генуэзца и отрицательно покачал головой.
— Синьор отказывается помогать своим союзникам?
— Пушки нужны здесь не менее, чем на сухопутных стенах, — равнодушно ответил Нотар.
Он кивком головы указал на вражеский флот, стоящий у противоположного берега с приспущенными парусами.
— Так и передай своему хозяину.
— Моему командиру плевать, где еще нужны орудия, — рассвирепел наемник. — И я их ему добуду, сколько бы тайных обожателей мусульман не стояло у меня на дороге!
Он схватился за рукоять меча. Почти сразу же перед ним оказался рослый византийский воин с секирой в руке. Сильный удар топорищем в голову швырнул Доменика вниз, на каменные плиты.
— Лигурийский пес, — презрительно кривя губы проговорил ромей. — Ты верно забыл, с кем говоришь! Придется поучить тебя этикету.
Он схватил Доменика за шиворот, приподнял как ребенка и с силой наподдал ему ногой под зад. Адьютант Лонга пролетел пару шагов и звучно шлепнулся на камни. Бросившиеся на выручку своему товарищу генуэзцы вмиг были скручены и обезоружены воинами Нотара.
— Довольно. Отпустите их, — впервые за все это время мегадука повернулся лицом к участникам разыгравшейся драмы.
— Они уже и так достаточно поплатились за свое недостойное поведение. Винить их нечего — каков поп, таков и приход. Возвращайтесь в свой отряд, латиняне, и передайте своему командиру, что пушек он не получит.
Основательно помятым генуэзским наемникам помогли довольно быстро спуститься с лестницы и под общий хохот поволокли под руки к лошадям. Доменик вырвался, оставив в чьих-то цепких пальцах клок камзола и повернул забрызганное грязью лицо к стоящему на площадке стены Нотару.
— Ты заплатишь синьору Джустиниани за этот ответ, адмирал! И лично мне — за нанесенное оскорбление.
Мегадука пожал плечами и отвернулся. Доменик некоторое время еще стоял возле пустых повозок, но нацеленные стрелы стражников заставили его подчиниться.
— По коням! — махнул он рукой своим солдатам.
И громко, с угрозой, добавил:
— Мы еще вернемся. И очень скоро!
Константин приложил печать к последнему документу, протянул свиток секретарю и жестом отпустив его, устало опустился в глубокое кресло. Коротко вздохнул, вытянул ноги и смежил тяжелые веки.
Он был измотан до предела. Порой ему невыносимо трудно было сдвинуть свое разбитое, уже не молодое тело и идти туда, куда призывал его долг государя. Внешний облик Константина мог многое поведать о ежедневном, стоически выносимом нечеловеческом напряжении: он сильно исхудал, под глубоко запавшими, воспаленными от солнца и пыли глазами набрякли синевой тяжелые мешки, черты лица вытянулись и заострились, кожа приобрела нездоровый землисто-серый оттенок. Последние дни он не вылезал из седла, урывками принимал пищу и не досыпал по меньшей мере уже третьи сутки. Лошади под ним менялись по три раза на день, но был ли человек, способный заменить собой государя?
Незаметно для себя Константин задремал в кресле. Нужно быть семижильным, чтобы и далее выносить подобные нагрузки. Сон был тяжелым, более похожим на забытье, не приносил ни отдыха, ни расслабления. Почти сразу же неподалеку возник настойчивый стук и стал преследовать его, как в кошмаре. Константин приоткрыл глаза и повернул голову в сторону двери. Нет, стук ему не померещился. Император тряхнул головой и приподнялся в кресле.
— Пусть войдут! — голос уже приобрел необходимую твердость.
В кабинет скорее ворвался, чем вошел Кантакузин.
— Пусть простит меня василевс, — еще в дверях начал говорить он, — но я вынужден потревожить его покой. Происходящее на стенах Золотого Рога требует его срочного вмешательства!
Константин встал и молча направился к выходу.
Они подоспели как раз вовремя, чтобы предотвратить схватку между генуэзцами и моряками Нотара. Наёмники всерьёз готовились штурмовать изнутри Морские стены, в то время как развернутые вокруг оси пушки и пищали на башнях целили прямо в них свои черные зевы.
Оба предводителя, один в седле, другой — на площадке крепостной стены, утратив остатки выдержки и самообладания, напрягали горло в крике, осыпая друг друга площадной бранью. Каждый из них обвинял противника во всех смертных грехах, в предательстве и в трусости, в сговоре с врагом, и в промежутках между руганью раздавал указания своим бойцам, с оружием наизготовку занимающим позиции к бою.
Увещевания протостратора успеха не имели; небольшой отряд гвардейцев — то малое, что он успел снять со стен на своем участке — тонкой цепочкой стояли перед впятеро превосходящими их по численности генуэзскими наемниками. Появление императора охладило конфликтующих; все одновременно смолкли и повернулись в сторону василевса.
Константин уже был в общих чертах осведомлен о происшедшем. Он направил коня в центр пустого пространства между враждующими и сделал знак Нотару спуститься вниз.
— Я поражен до глубины души, — медленно и раздельно заговорил он.
— Я не могу поверить, что два достойных мужа прилюдно поносят и оскорбляют друг друга. Хороший же пример они подают своим солдатам! Но еще более я удивлен тем, как удачно выбрали они время для подобных попреков.
Он на мгновение прикрыл ладонью глаза. Смертельная усталость распространилась уже не только по телу, но и по всему его существу.
— Да поймите же вы! — он едва не сорвался на крик. — Подобными распрями вы роете себе могилу, в которую канете очень быстро! Вместе со всеми своими обидами и мелкими дрязгами. Месяца еще не прошло, как едва удалось предотвратить побоище между нашими союзниками, выходцами из Генуи и Венеции. И что мы видим сейчас? Вновь возвращается старое? Распря, разожженная на этот раз не винным хмелем, а приказами своих командиров. Мало вам крови неверных, коль скоро вы желаете умыться собственной?
Его голос звенел от еле сдерживаемого гнева.
— Слушайте меня, жители и гости Константинополя! Отныне и до тех пор, пока враг не будет отражен от стен столицы, любой умышленно проливший кровь христианина будет считаться братоубийцей и к нему без снисхождения будет применен закон, установленный еще во времена правления василевса Юстиниана!
Он чуть натянул поводья: конь под ним беспокойно топтался на месте.
— Друзья мои! Изгоните обиды из сердец. Наш общий долг, долг чести свободных людей — с оружием в руках преграждать путь врагу. А не устраивать свары между собой.
— Государь! — обратился к нему Джустиниани.
Константин повернулся к кондотьеру.
— Я прошу твоего суда! Если причиной возникшей ссоры стало дерзостное поведение моего мальчишки — адъютанта, я беру на себя всю меру вины и ответственности. Но прав ли он был или виноват, послал я его я к мегадуке исходя из острой потребности в орудиях. Без пушек выдержать новый штурм на проломленных во многих местах стенах будет непросто.
Василевс помолчал, кивнул головой и обратился к Нотару:
— Может ли мегадука без значительного ущерба для своих позиций выделить часть орудий кондотьеру Джустиниани?
Лука демонстративно повел плечами.
— Это ослабит оборону вверенного мне участка. Но если будет на то воля государя…..
— Да, мастер Нотар. Это будет разумным решением.
Произнеся это, Константин тронул шпорами коня и медленной рысью направился обратно. Головокружение, не оставляющее его все это время, начало быстро нарастать. Константин почувствовал, что может не удержаться в седле. Он чуть скосил глаза в сторону — по правую руку его сопровождал Феофил Палеолог. Если бы можно было подозвать к себе этого близкого по крови и по духу человека, опереться рукой о надежное плечо соратника и друга!
Но нет, нельзя забывать, что на него, на государя, сейчас, как и всегда, устремлены глаза всех горожан. Недопустимо для правителя хотя бы на миг проявить слабость на виду у тех, в чьем представлении он был, есть и будет символом праведной борьбы. Константин собрал в кулак всю волю, едва заметно тряхнул головой и прибавил шпор коню.
На левом крыле османского лагеря, где преобладали выходцы из европейских владений султана, войска вторую неделю находились на грани бунта. Воины отказывались штурмовать стены, в открытую возмущались плохими условиями жизни, скудной и некачественной пищей, задержками выплаты жалования.
Потеряв терпение, Караджа-бей приказал окружить недовольных отрядами отборной конницы, расположил в непосредственной близости от них два полка лучников-азапов и время от времени посылал полицейских-чауши для выслеживания и ареста зачинщиков беспорядка. Но если ранее главари тем или иным способом старались ускользнуть от расплаты, то теперь воины не только не подчинялись требованиям выдать своих товарищей, но зачастую просто не пускали полицейских приставов в свои лагеря. Нередко чаушам приходилось возвращаться обратно побитыми, вымазанными в нечистотах, в разорванной одежде и без оружия.
Тогда паша решил принять суровые меры. Полк войнуков, по донесениям соглядатаев служащий дурным примером для прочих, был выведен за пределы лагеря, выстроен в длинныe ряды и оцеплен конницей тимариотов.
Окруженный свитой санджак-беев, Караджа-бей неторопливо проехал вдоль строя, хмуро поглядывая на лица солдат. Основную часть воинов составляли выходцы из гористых областей Сербии и Болгарии; их угрюмые, насупленные взгляды ни в коей мере не выражали подобающего провинившимся смирения и страха перед наказанием. Это мало удивляло пашу: из-за упрямого норова и врожденного непокорства горцы всегда считались первейшими смутьянами. В подобных случаях от полководца требуется жесткость и решительность в действиях — подавить в зародыше бунт, не дать ему расползтись по всем остальным частям войск.
— Вы обманули наше доверие! — четверо глашатаев по обе стороны от Караджа-бея далеко разносили его слова.
— Хуже того, вы осмеливаетесь подвергать сомнению божественное право наместника Аллаха распоряжаться жизнью и смертью своих подданных! Что из того, что некоторые из вас погибли в бою? Это почетная участь каждого воина. Храбрецы отправляются прямо в рай, чтобы там, среди гурий вкушать плоды неземного блаженства. Они с негодованием взирают с небес на тех, кто по своей трусости готов променять оружие и доспехи на женскую одежду!
При этих словах турецкие воины принялись качать головами, громко цокать языками и в знак презрения сплевывать на землю.
Войнуки молчали.
— Я знаю, среди вас не много таких переодетых в мужское платье баб. Но если вы сами не решаетесь предать их позорной казни, то я, ваш паша, сделаю это за вас!
По знаку одного из санджак-беев азапы сняли с плеч луки и вложили в них стрелы.
— Пусть зачинщики выйдут вперед!
В строю войнуков никто не шелохнулся. Некоторое время паша выжидал, затем глашатаи вновь закричали:
— Если вы отказываетесь выдать главарей, я прикажу разоружить всех и после примерной порки, предать смерти каждого десятого.
Он прочистил горло и глянул по сторонам.
— Но перед тем, за укрывательство, будут казнены все десятники и сотники этого полка!
Войнуки заволновались и теснее сомкнули ряды, пряча за спинами своих командиров.
— Вот как? Вы не желаете смириться? Воины султана, слушайте приказ! Всем положить оружие к ногам!
Азапы натянули и нацелили луки. И тут произошло то, что не предвидел никто, от паши до простого пехотинца.
В толпе солдат раздалось несколько выкриков, громких, но мало похожих на команды. И тут же ряды войнуков начали стремительно смыкаться, в полном молчании выстраиваясь в боевой порядок. Висящие за спинами щиты в мгновение ока были переброшены на грудь, копья опустились остриями вперед, кое-где заскрежетали извлекаемые из ножен мечи.
Османские военачальники оторопели от неожиданности; казалось еще мгновение — и этот отряд весьма решительно настроенных воинов клином устремится вперед, подминая под себя как траву растерявшихся турецких лучников.
Санджак-беи пришпорили лошадей и помчались на фланги, скликая конницу на подмогу. Но и тимариоты не устрашили мятежников. Подобно ежу ощетинившись копьями со всех сторон, полк стоял, не шелохнувшись, готовый отразить любую атаку. Как бы ожидая сигнала к началу боя, противники некоторое время караулили друг друга, затем предводители войнуков решились на переговоры.
Передняя шеренга солдат зашевелилась и расступилась в стороны, пропуская вперед трех воинов, двое из которых щитами прикрывали с боков парламентера. Приблизившись на расстояние громкого голоса, войнук, по-видимому один из тех, кто в первую очередь угодил бы в руки палача, внятно заговорил по турецки:
— Не доводи нас до крайности, бей. Позволь нам с миром удалиться в свои селения. Не растрачивай гнев понапрасну: товарищей и братьев своих на смерть мы никогда не отдадим.
— Говори еще, — потребовал паша.
— Византийцы не делали нам ничего дурного. Зачем же нам умирать, как баранам на бойне? Это не наша война. Так пусть же воюет тот, кто хочет нагреть на ней свои руки.
— Это всё?
— Да. Мы не желаем драки. Но если нас вынудят идти против нашей воли, крови прольется много.
Караджа-бей поласкал свою бородку.
— Как твое имя, храбрец?
— Зачем тебе знать, паша? Говорю не я один: мои слова — слова всех наших воинов.
— Так ли это?
Караджа-бей ухмыльнулся и обращаясь к мятежному полку, вновь поднял голос:
— Значит вы, все как один, боитесь смерти в бою?
— Страшиться и не желать — не одно и то же, — возразил парламентер.
Из глубины построения войнуков молодой задорный голос выкрикнул:
— Проваливай сам в свой мусульманский рай, нечестивый!
Санджак-беи выжидающе смотрели на пашу, но тот молчал, не желая принимать скорого решения. Он уже понял, что совершил грубую ошибку: нельзя было требовать и ожидать от крепких духом и к тому же вооруженных людей покорства перед наказанием. Устрашение надо было начинать со слабых и колеблющихся, они безропотно выдали бы зачинщиков на расправу. Лишь затем, приведя к полному усмирению один из полков и имея таким образом наглядный пример для всех прочих, можно было приступать к другим бунтовщикам.
Бей досадливо поморщился: ошибку легче совершить, чем исправить. Только здесь и сейчас он в полной мере оценил некогда сказанные ему визирем слова: «Наихрабрейший солдат — это тот, кто не только не боится пасть в сражении, но и не примет безропотно смерть от рук палача».
Медлить становилось опасным, выжидание только взбодряло войнуков. Еще немного — и уверенные в слабости и душевном смятении противника, они могут выдвинуть новые требования или, что еще хуже, атаковать тимариотов и пробиваться к стенам Константинополя, чтобы перейти на сторону врага. В разгроме мятежников паша не сомневался, однако начав бой с бунтовщиками, он неминуемо совершит новую ошибку, непростительнее первой. Истребить в вооруженной схватке целый полк своих же солдат, да еще и на виду у всего остального войска — невелика честь для полководца.
«Уклонившись от нежелательного сражения, можно наполовину, а то и полностью выиграть его», — вновь припомнились ему рассуждения визиря.
Паша принял единственно верное на данный момент решение.
— Слушай и запоминай мои слова, христианин. В своих требованиях ты залетел слишком высоко: распустить вас по домам имеет право лишь султан. Пугать же меня большой кровью смешно: на своем веку я повидал ее достаточно. Уходить вам все равно некуда — не успеете сделать и ста шагов, как мои лучники перестреляют вас, как зайцев. А конница втопчет ваши кости глубоко в землю. Ты понял меня? Вам не уйти отсюда, пока стены вражеской столицы не падут.
— Что ж, нам остается только смерть, — согласился войнук.
— Не торопись, — покачал головой паша. — Я предлагаю тебе сделку. Ты без лишнего шума уводишь воинов обратно в лагерь, дав предварительно клятву не сеять смуты среди остальных, а я за это обещаю не посылать этот полк на штурм до тех пор, пока более отважные не овладеют стенами. Но тогда военная добыча разделится без вас.
Парламентер ответил не сразу. Паша без труда читал на его лице борьбу недоверия с желанием спасти себя и других от расправы.
— Нам нет дела до чужого имущества, — наконец выговорил тот. — Но насчет всего остального я должен посоветоваться с собратьями по оружию.
Паша ухмыльнулся и перекинулся взглядом с ближайшим санджак-беем. Ему ли, владетелю миллионов людей, не знать какое решение примут бунтовщики? Чувство самосохранения довлеет над всеми остальными чувствами, как бы они сильны не были: ненависть, любовь, месть и алчность — всё это ничто по сравнению с непреодолимым желанием жить. Самое ценное, чем обладает человек со дня своего появления на свет — это жизнь. И менее всего, как бы храбр и отчаян он не был, готов поступиться своим наиважнейшим достоянием.
Через недолгий промежуток времени войнуки перестроили свои ряды и угрюмо косясь в сторону тимариотов, размеренным шагом вернулись в лагерь.
ГЛАВА XXXV
Трактир находился на самой окраине Галаты. Из-за близости опорной точки караула, он пользовался популярностью среди солдат городского гарнизона. Его стены и двери носили следы бесчисленных попоек и драк, но так как вечер еще не наступил, трактир, подобно прочим увеселительным заведениям был погружен в сонное оцепенение.
Маленькое помещение пропахло запахами дешевой стряпни и пива. Солнечный свет с трудом протискивался сквозь мутные, засиженные мухами слюдяные окошки, скупо освещая грубо сколоченные столы и табуреты, покрытый не первой свежести опилками пол, и тёмную, в разводах от пролитого пива стойку. Хозяин заведения, над широкими плечами которого куце возвышалась несоразмерно маленькая голова с глубоко посаженными глазами и перебитым носом, хмуро вытирал руки некогда белым, но сейчас неопрятным полотенцем. Его объемистый живот покоился на стойке, обтянутый кожаным фартуком с карманами по бокам.
Несколько человек, по одиночке или попарно сидящие за столами, не сводили взглядов со своих полупустых кружек. Пиво, дешевое и невкусное, уже кончалось, темы для разговоров исчерпались давно, но посетители вставать не торопились. Им незачем и некуда было спешить. И потому они упорно, как бы желая измором взять соседа, продолжали сидеть, время от времени отхлебывая из кружек и произнося пустые, ничего не значащие фразы.
Входная дверь натужно заскрипела, пропуская вовнутрь еще одного посетителя. Завсегдатаи трактира дружно подняли головы, смерили вошедшего пристальными взглядами, затем разочарованно отвели их в стороны: от новоприбывшего едва ли можно было ожидать бесплатного угощения или хотя бы интересного рассказа. Посетитель прошел прямо к стойке и молча встал перед трактирщиком.
Тот бросил вытирать руки, скомкал полотенце и отшвырнул его на край стола.
— Джузеппина! — громко крикнул он в сторону кухни.
На зов из-за двери показалась худая как жердь женщина с морщинистым, преждевременно состарившимся лицом.
— Посиди здесь, — бросил ей трактирщик. — Мне нужно поговорить с уважаемым гостем.
Женщина открыла было рот для ругани, но муж сделал страшные глаза и замахнулся кулаком. Шипя как сало на сковороде, она подчинилась и подхватив брошенный ей на руки передник, пошла между столов, смахивая на пол крошки и пролитое пиво.
— Пойдемте, синьор, пойдемте, — трактирщик угодливо распахнул перед гостем дверь в боковую комнату.
Посетитель, в котором угадывался человек высокого происхождения, молча проследовал вовнутрь, снял с себя шляпу и плащ и швырнул их на стол. Затем опустился на табурет и вперил пристальный взгляд в хозяина. Трактирщик так и остался стоять на ногах.
— Что ты приберег для меня, Джованни? — спросил гость. — Какие новости?
Голос у него был глухой, с неприятно режущими нотками.
— Не знаю, что и сказать, синьор Бертруччо, — развел плечами толстяк. — Посетителей мало, доход небольшой, а налоги…..
Он сокрушенно покачал головой.
— Впору закрывать заведение.
— Плевать я хотел на твои дела, — ровно произнес генуэзец. — Я спрашиваю тебя, осла, об известиях из Константинополя.
— Что сказать, синьор, — вновь пожал плечами хозяин. — Сам-то я там не был давно. А рассказывают многое, да только кто ж поймет, где правда, а где ложь.
— Говори что знаешь.
— Ну, рассказывают, что кондотьер Джустиниани, а вместе с ним и другие важные синьоры убеждали императора сдать город туркам.
— Какой же был ответ?
— Да вроде, император сказал так, что советчики дурные ему не нужны, а если кому не по душе, то ромеи силой никого не держат.
— Значит, отказал?
— Выходит так.
— Это все правда или солдатская пьянная болтовня?
— Вот уж не знаю. Мои уши всегда открыты — что говорят, то я и слышу.
— За это тебе и платят.
— Да, синьор. Слышал еще, что у турок мор вот-вот начнется.
— Я тебя не о турках спрашиваю.
— Говорят, флот венецианцев, что на помощь городу выплыл, особенно и не торопится с прибытием.
— Это верно, — усмехнулся Бертруччо. — Адмирал Лоредано получил строжайший наказ «поспешать медленно» и не приближаться к Константинополю ранее конца июня.
Он пристально взглянул в маленькие глазки хозяина.
— Запомнил? Не забывай у себя за стойкой почаще выбалтывать это. Жена и прислуга тоже не должны держать языки на привязи.
Он усмехнулся и как бы про себя добавил:
— Венецианцы жаждут явиться в ореоле славы спасителей, но лишь когда греки и турки измотают друг друга в войне. После чего уже не составит труда растолкать ослабевших локтями и поудобнее устроится у чужого котла.
Некоторое время они молчали.
— Много ли жителей Галаты переправляются повоевать на другой берег? — вновь задал вопрос Лодовико.
Трактирщик ненадолго задумался.
— Когда как. В субботние и воскресные дни не много, чуть более двух сотен. По будням больше раза в два.
— Подеста не чинит им препон?
— Напрямую, конечно же, не позволяет. Но закрывает глаза, когда лодки отчаливают от пристани.
— Что говорят солдаты? Много ли провианта и пороха в городе?
— О каком городе спрашивает синьор? О Константинополе?
— Да, да, — нетерпеливо произнес Лодовико. — Не притворяйся глупее, чем ты есть на самом деле.
— Про то они не сказывали. Но вот….
— Говори!
— Недавно здесь сидела группа солдат, только что прибывших с другого берега. Ну, пили они как всегда, шумели. Так вот, один из них рассказывал, что после вылазки из города в тыл туркам одна из калиток в крепостной стене осталась незапертой.
Генуэзец подобрался, в глазах у него заплясал настороженный огонёк.
— Дальше! — потребовал он.
— Отразили они нехристей, пошли отдыхать. А под вечер глянь — засов-то не задвинут! Значит, любой с обратной стороны мог пролезть в город. И обнаружили это случайно, а то всю ночь до утра дверца оставалась бы открытой.
Лодовико от души расхохотался.
— Нелепый все-таки этот народ, греки, — отсмеявшись, проговорил он. — Ведь через ту дверцу турки могли проникнуть в город, перерезать стражу на воротах и распахнуть их как можно шире. Защищали город, реки крови проливали, а тут из-за чьей-то дурацкой оплошности, возьми и лишись всех плодов своих побед!
— Вот и я говорю, — ободренный смехом генуэзца, зачастил трактирщик. — Если бы кто обнаружил калитку….
— Где она находится? — перебил Лодовико.
— Что где? — растерялся Джованни. — Калитка? Я не знаю.
Бертруччо раздраженно повел головой.
— Где обычно дежурит солдат, рассказавший эту забавную историю?
— Сейчас, сейчас, — забормотал толстяк, надувая в раздумии щеки.
— Вспомнил! — хлопнул он себя по лбу. — Он же говорил! Третья башня от Калигарийских ворот.
Генуэзец взглянул на него, извлёк из-за пазухи скатанный в трубочку лист пергамента и молча развернул его на столе.
— Третья башня от Калигарийских ворот, — раздельно проговорил он, водя пальцем по карте. — Действительно, там есть незамурованная калитка.
Трактирщик с уважением следил за движениями холеной руки. Для него чертеж был столь же загадочен и непостижим, как каббалистические письмена.
— Значит, эта дверца оставалась незапертой на протяжении нескольких часов?
Лодовико перевел взгляд на хозяина. Тот нервно потирал большие красные руки.
— Что ж, Джованни, сообщение достаточно интересное. Хотя я еще не знаю, имеет ли оно какую-либо ценность.
Глаза трактирщика беспокойно забегали. Бертруччо заметил это и выпрямился во весь рост.
— Уж не думаешь ли ты, что я собираюсь удружить мусульманам?
— Нет, синьор, о чем вы? Боже упасти!
— Тебе хорошо известно, — медленно, с расстановкой произнес генуэзец, — что лишь Всевышний может уберечь того, кто оскорбит меня.
— Где Джироламо? — резко задал он вопрос.
— Зарезали на том берегу, синьор, — хмуро ответил трактирщик. — Говорят, ввязался в пьяную драку.
— В пьяную драку? — недоверчиво хмыкнул Лодовико. — Это он-то, который лишний грош на вино пожалеет?
— А Луиджи? — спросил он чуть погодя.
— Его вторую неделю никто не видел. Пропал, как-будто сгинул неведомо куда.
— Вот как? — генуэзец закусил губу.
— Николло по-прежнему рыбачит?
— Где уж там, — неприятно усмехнулся толстяк. — Теперь он сам, должно быть, кормит собою рыб на дне.
— О чем ты говоришь?
— Третьего дня у берега нашли его перевернутую лодку.
Лодовико забарабанил пальцами по столу.
— Все будто бы сговорились.
— А ты? — обратился он к трактирщику. — Ты еще на тот свет не собрался?
— А что я? — возразил хозяин. — Я человек тихий, никуда не лезу, никого не тревожу. Продаю вино и пиво, приторговываю свежей рыбой, слушаю на своей работе всякую болтовню.
— Правильно, — кивнул головой генуэзец. — Потому-то греческие ищейки до тебя еще не добрались.
— Кто-нибудь все-таки уцелел? — спросил он. — Или мне вновь терять время в поисках всякой сволочи?
Толстяк еще раз потёр свои руки.
— Недавно заходил Паоло. Спрашивал вас, синьор.
— Где он сейчас?
— Сказал, что по вечерам проводит время в таверне «Серебрянная макрель».
— Очень хорошо, — гость поднялся на ноги. — Пожалуй, я не прочь повидаться с ним.
— Это тебе, — он бросил на стол кошелек с деньгами.
Трактирщик не пошевелился.
— На днях я вновь зайду сюда, — генуэзец повернулся к выходу.
— Говорят, синьор, — вполголоса произнёс хозяин, — что кондотьер Джустиниани переправил свою греческую любовницу в Галату, в дом одного из своих друзей.
Глаза Лодовико прищурились, но только на одно мгновение.
— Хорошая новость, — усмехнулся он. — Значит, крысы уже побежали с корабля.
— Третий раз ты приходишь ко мне в одно и то же время. Чем ночные часы так привлекательны для тебя?
В голосе Саган-паши не было неудовольствия или удивления. Он знал, что этот человек, пришедший к нему в столь поздний час, не стал бы беспокоить его по пустякам.
— Мои дела не терпят дневного света, — слабо улыбнулся Лодовико.
Паша кивнул в знак того, что принял шутку собеседника.
Они были одни в большой зале шатра. Подслушивающих можно было не опасаться — звуки надёжно глушились двойными стенками, входы и выходы охраняла многочисленная стража.
— Что привело тебя на этот раз?
— Важные сведения, сиятельный паша, — турецкая речь генуэзца текла плавно и без запинок.
— Мне удалось выявить слабое место в обороне византийцев.
— Я слушаю тебя.
— На левом фланге доблестной армии султана, в одной из башен города, есть небольшая калитка. Через нее, время от времени, защитники совершают вылазки в тыл штурмующим отрядам.
— Мне известно это. Караджа-бей не раз сетовал на коварство греков.
— Так вот, сиятельный паша, именно через эту калитку, во время большого приступа, могут проникнуть твои воины.
— Разве калитка не запирается? При ней должна состоять сильная охрана!
— Запирается, паша. И очень надёжно. Но охраны подле нее нет. Я же, при твоем согласии, могу подкупить человека в городе, который ежедневно, за час до полудня на короткий срок будет отмыкать замок.
Это было только половиной правды. На самом деле Бертруччо уже успел разыскать необходимого человека и даже снабдил его подробнейшими инструкциями. Но об этом он предпочёл умолчать.
Паша смерил итальянца пристальным взглядом.
— Пусть лучше твой сообщник отомкнёт ворота. Много ли проку от одной калитки? Она не может пропустить нужное количество воинов: для взятия города их потребуется немало.
— Это невозможно, светлейший, — возразил генуэзец, — При воротах круглосуточно находится стража. Помимо того, ежечасно конные патрули проверяют надёжность караулов. Что может сделать один человек там, где необходимы сотни сабель?
— Калитка пропустит мало бойцов, — настаивал паша.
— Я думаю иначе. Византийцы в короткий срок могли выводить через нее достаточно воинов для контратаки. Почему бы полководцу султана не поступить так же?
Паша недоверчиво качал головой. Но с его стороны это было всего лишь притворством — он не сомневался в ценности предложения генуэзца. Более того, он сразу осознал масштабы подвалившей ему удачи и еле сдерживался, чтобы скрыть охватившее его возбуждение. Просто между ними разгорелся спор, извечный спор между тем, кто хочет выгодно сбыть свой товар, и тем, кому желательно приобрести его с наименьшими затратами — торг продавца и покупателя. И они оба понимали это.
— Если сиятельного пашу не устраивает моё предложение, то я вынужден отправиться ко двору Караджа-бея. Может быть, он в полной мере оценит мои услуги, — пригрозил его гость.
— Постой! — не выдержал Саган-паша. — Не торопись.
Шагнувший было в сторону выхода, генуэзец повернул обратно.
— Почему днем, а не ночью? — спросил турок, чтобы как-то заполнить неловкую паузу.
— Ночью дозорные настороже, — охотно ответил Лодовико. — Они поднимут тревогу сразу, как только заметят что-либо подозрительное. Во время же штурма проникнуть в калитку проще — силы защитников будут скованы на стенах.
Флотоводец кивнул и стукнул в серебряный гонг.
— Позови сюда Мустафа-бея, — приказал он явившемуся на зов начальнику охраны, статному молодцеватому тысяцкому.
Тот поклонился и скрылся за дверью.
— Мустафа-бей — мое доверенное лицо. На его молчание можно положиться, — пояснил свое решение паша.
Лодовико скривился, но промолчал. Он, конечно же, предпочел бы и дальше говорить с пашой с глазу на глаз, но возражать не решился.
— Какой награды ты для себя хочешь? — спросил зять султана.
— Награда мне не нужна, — покачал головой генуэзец. — Я только прошу Саган-пашу помнить договор, закрепленный нами в устной форме.
— Ты напоминаешь мне мое обещание отстаивать перед султаном неприкосновенность Галаты?
— Да, паша.
— Насколько мне известно, — высокомерно заявил флотоводец, — еще никто и никогда не мог обвинить меня в нарушении данного мною слова.
— Это так, светлейший.
— И я продолжаю выполнять обещанное, хотя жители Галаты с каждым днем ведут себя все возмутительнее. Настолько, что мое заступничество начинает вызывать гнев султана. Они не только переправляют в Константинополь оружие и провиант, но и посылают своих солдат на помощь византийцам.
— Разреши возразить тебе, паша. Солдат никто не отправляет, они сами добираются до противоположного берега в рыбачьих лодках. Одними движет жажда подвига, другие хотят подзаработать денег. Правитель Галаты не может им воспрепятствовать, иначе последует карающий удар со стороны Константинополя. И тогда город заполонят греки.
— Мы отобьем у врага дружественный нам город и вернем его жителям.
— В любом случае Галата может сильно пострадать. И потом, число этих воинов настолько мало, что можно говорить лишь о чисто символической поддержке горожан.
В дверях показался вызванный пашой советник. Лодовико метнул в его сторону настороженный взгляд. Этого человека надо было опасаться: черты лица выдавали в нем европейца, а светлые, глубоко посаженные глаза — незаурядный ум.
Генуэзец внутренне подобрался.
— Кроме того, нам известно, что в Константинополе находятся воины генуэзского воеводы Лонга, — продолжал говорить паша. — Тут уж твои слова о символической поддержке совершенно неуместны.
— Лонг хоть и сын моего народа, но больше уже не принадлежит ему, — возразил Бертруччо. — Он — наемник, сражается за деньги и готов помогать каждому, кто заплатит.
— Пусть он помогает нам. Мы заплатим ему больше, чем византийцы.
Лодовико чуть заметно усмехнулся.
— Я думаю, это не трудно будет осуществить. Не сейчас, потом. Когда истечет срок договора между Лонгом и императором. Пока что….
Он выразительно пожал плечами.
Паша переглянулся с Мустафа-беем и в свою очередь насмешливо ухмыльнулся.
— Генуэзцы — хитрые лисы. Когда Константинополь падет, они станут уверять, что это произошло благодаря их усилиям и потребуют от султана сохранения привилегий, какими они пользовались при греках. А если допустить невозможное и представить, что стены вражеской столицы устоят, кто как не твои соотечественники будут громче всех вопить о своих заслугах. Не так ли?
Лодовико предпочёл промолчать.
— Воевода Лонг со своим достаточно сильным отрядом, помощь жителей Галаты, три генуэзских судна, прорвавшихся в гавань, — перечислял паша. — Я ничего не забыл, христианин? Одной рукой вы помогаете нам, другой — грекам.
— Генуя желает жить в мире с Османской державой, — твердо произнес Бертруччо. — Из-за подозрительности, царящей в христианском мире, она не может в открытую протянуть вам руку дружбы: это озлобит и восстановит против нее другие государства.
— И потому она тянет руку украдкой. Чтобы, не приведи Аллах, не утерять ни крохи своего непомерно раздутого самолюбия. Днем во всеуслышание грозит султану войной, ночью же с потрохами продаёт своих союзников и единоверцев.
Лодовико с ненавистью взглянул в сторону Мустафа-бея.
— Мне кажется, уважаемый бей до службы у второго визиря являлся гражданином Венеции? — с язвительной любезностью осведомился он.
— Не все ли равно, кем я был? — парировал тот. — При дворе султана людей ценят за их заслуги, а не за происхождение.
Услышав своеобразный выговор сановника, Бертруччо еще более утвердился в своей догадке.
— Теперь-то мне понятно неприязненное отношение паши к Генуе, — сквозь зубы выдавил он.
— Перейдем к делу, — потребовал Саган-паша. — Укажи нам калитку, которая должна быть отперта твоими людьми.
Лодовико извлек из кармана план городских укреплений, развернул его и пальцем указал на красную отметину.
— Знакомо ли тебе это место? — спросил флотоводец своего советника.
— Да, господин, — ответил тот, внимательно изучив чертёж. — Я узнал и башню, и калитку. Теперь, при необходимости, я и с закрытыми глазами найду их.
— Отдай карту Мустафа-бею, — распорядился Саган-паша. — Больше она тебе не понадобится.
Лодовико повиновался.
— Ступай! Мои слуги позаботятся о твоем ночлеге.
— Пусть паша простит меня, но дела призывают меня этой же ночью обратно в Галату.
— А может к Караджа-бею? — усомнился флотоводец.
— Нет, светлейший. Я веду переговоры только с одним человеком. И на мою честь можно положиться.
— Когда партнёр честен со мной, мое слово нерушимо, — в свою очередь пообещал паша. — Если калитка в назначенное время будет открыта, ни один волос не упадет с голов жителей Галаты.
Бертруччо поклонился.
— Прими от меня золото, — продолжал Саган-паша. — Оно понадобится тебе для подкупа сообщников и стражи.
Он бросил генуэзцу увесистый кошелек. Лодовико на лету поймал его.
— Мустафа-бей, — приказал флотоводец. — Позаботься, чтобы у уважаемого гостя не возникло неприятностей в дороге.
— Покорно благодарю, паша, — возразил генуезец, — но я предпочитаю не связывать себя ничьей помощью.
Паша пожал плечами. Затем прикрыл глаза в знак того, что разговор окончен.
Бертруччо поклонился и вышел из шатра. Отдалившись на некоторое расстояние, он почувствовал у себя за спиной шаги и резко обернулся. К нему приближался Мустафа-бей.
— Мне хотелось бы поговорить с тобой, генуэзец.
— А мне надо идти, — отрезал Бертруччо. — У меня нет времени на пустую болтовню.
— Я не задержу тебя надолго.
Сановник встал перед ним, заложив руки за спину.
— Из всего, что мне только что довелось услышать в шатре, — заговорил он на итальянском, — и из того, что я слышал о тебе раньше, я понял, что ты не совсем тот, за кого себя выдаешь.
Рука Бертруччо непроизвольно скользнула к поясу.
— Не вздумай обнажать оружие, — предостерег его собеседник. — Не забывай, в каком месте ты находишься.
— Что тебе нужно? — грубо спросил Лодовико.
— Мне было бы интересно знать, кто стоит за твоей спиной. Ведь даже в сытой, благодушно-самодовольной Генуе не могут не понимать, что ценой предательства они лишь на короткий срок, да и то ненамного, облегчат положение своих сородичей. Галатских купцов ждет участь дойной коровы, которой позволяют пастись лишь до тех пор, пока из нее не будет выжата последняя капля молока. После чего ее без сожаления отправят на живодёрню.
Он хмыкнул и провел рукой по светлой, почти белесой бородке.
— Но поскольку ты вряд ли расположен давать мне ответ, я позволю себе предположить следующее: а не отбрасывается ли на берега Босфора тень святейшего Ватикана? Я знаю, как хотелось бы Риму обезглавить православную церковь, чтобы прибрать к своим рукам весь мир греко-славянских схизматиков.
— Занимайся догадками сколько пожелаешь, новоиспечённый бей, — высокомерно ответил генуэзец. — Но помни, что день, в который ты докопаешься до истины, будет твоим последним днем.
— Ты удивляешь меня, — пожал плечами сановник. — Пугать кого-либо своей немощью — дело неблагодарное. С вторжением турок весь христианский мир оказался под угрозой завоевания исламом. Но твои хозяева кроме дележки кардинальских и княжеских шапок, и прочей мышиной возни, ни на что большее не оказались способны.
— Ты закончил, бей? — осведомился Лодовико.
Он уже еле сдерживал себя.
— Нет, еще одно. Я хотел сказать тебе, что твоя ловкость и сметливость произвели впечатление на пашу. Он желал бы видеть тебя в числе своих приближенных.
— Сойди с дороги, мусульманин, — Лодовико брезгливо отстранил его. — Я, быть может, негодяй из негодяев, но от веры предков никогда не отступлюсь.
— Тебе необязательно делать это. Я перешел к мусульманам потому, что разуверился в ценностях, которые превозносят наши лицемерные святоши. Если ты поклянешься достойно служить паше, никто и не вспомнит, что ты христианин.
— Зато я буду помнить об этом всегда, — холодно ответил Лодовико и, оттолкнув бея плечом, быстро пошел прочь.
— Жаль, очень жаль, — донеслось до него вслед.
Легким, стремительным шагом Лодовико отмахал около трех миль, отделяющих шатер Саган-паши от стен Галаты. Свет луны и усыпанное звездами небо помогали ему безошибочно ориентироваться в пути, обходить сторожевые заставы, расположение которых он успел досконально разузнать. Уже виднелся впереди черный гребень крепостных стен, как вдруг на пути у него возникло нечто, отдаленно напоминающее сгорбленную человеческую фигуру.
Генуэзец невольно сбавил шаг. Фигура не шевелилась. Бросая по сторонам быстрые цепкие взгляды, Лодовико пошел вперед, держа руку на рукояти сабли.
«Засада?» — лихорадочно думал он. — «Проделки Мустафа-бея? Навряд ли. Да и кто мог признать меня в костюме сипаха?»
Пройдя еще несколько шагов, он всмотрелся и вздохнул с облегчением: по одежде он распознал в стоящем перед ним человеке бродячего дервиша, одного из тех, кто в великом множестве сопровождал армию султана.
— Отойди с дороги, старик, — по-турецки произнес он. — Не мешай воину Аллаха идти своим путем.
— Ты уже отходил свое, предатель, — послышалась в ответ итальянская речь.
— Долго же мне пришлось искать встречи с тобой!
Генуэзец на мгновение оторопел, затем быстро выхватил саблю из ножен. Старик перехватил свою палку обеими руками и держа её наперевес, двинулся навстречу генуэзцу. Завязался бой, короткий и необычный. Как ни старался Лодовико дотянуться саблей до противника, клинок каждый раз встречался с ловко подставленной под удар палкой. Как железо крепкое дерево крошилось в щепы, но ломаться, похоже, не собиралось. После очередного удара старик перехватил посох за широкий конец и с силой опустил его на основание клинка. Раздался короткий звон; сломанное лезвие, кувыркаясь в полете, исчезло в темноте.
Лодовико отбросил оставшийся в руке бесполезный обломок и выхватил кинжал. Точно так же поступил и дервиш. Держа оружие в полусогнутых руках, они некоторое время кружили друг против друга.
Наконец старик, выкрикнув нечто неразборчивое, прыгнул вперед. Лодовико быстро присел, выбрасывая руку с кинжалом навстречу летящему телу. Его удар не достиг цели — еще в полете противник успел наотмашь хватить лезвием по вытянутой руке. Острая боль в предплечье от режущего удара едва не заставила генуэзца выронить оружие. Перехватив кинжал левой рукой, он в свою очередь набросился на врага, но тот ловко уклонился от столкновения. Противники вновь закружили друг против друга, как пара дерущихся скорпионов.
Кровь обильно текла из раны; силы быстро покидали Лодовико. Он уже понял, что перед ним — один из самых жестоких и преданных слуг Феофана, но ни звать на помощь, ни просить пощады он не собирался. Сословная гордость и понятие дворянской чести не позволяли ему признать свое поражение. Да и чем этот поединок отличен от дуэли, где жизнь и смерть бойца всецело находятся в его собственных руках?
Собрав всю волю в кулак, Бертруччо еще раз попытался дотянуться до врага. Промахнулся и тут же почувствовал у себя в боку обжигающую боль от удара. Генуэзец коротко всхлипнул, рухнул на колени и через несколько мгновений тяжело осел на землю.
«Я убит? Да, убит!» — он чувствовал, как горячая кровь затапливает внутренние полости его тела. — «Пусть так, но дело свое успел выполнить!»
Ангел приблизился к нему, наступил на еще сжимающую кинжал руку и прислушался. Из груди умирающего с короткими всхлипами вылетали слова:
— ….исповедаться…. последнее утешение…. священника мне….
— Обойдешься без святого причастия, иуда, — жёстко улыбаясь, произнёс византиец.
Он наклонился и острым лезвием наотмашь полоснул врага по открытому горлу.
— Больше ты не сможешь вредить нам.
ГЛАВА XXXVI
Растянув в подобострастной улыбке уголки своего жабьего рта, Шахабеддин бочком зашел в опочивальню султана, низко поклонился и сложил руки на животе. Мехмед принял евнуха нелюбезно.
— Ты тоже пришел уговаривать меня? — закричал он, как только коротышка переступил порог.
Главный смотритель гарема принял удивленный вид.
— Я не понимаю, повелитель.
Мехмед швырнул подушкой в большую китайскую вазу. Ваза опрокинулась и раскололась на несколько кусков.
— Час назад я прогнал целую делегацию пашей и санджак-беев. Эти наглецы долго юлили и хитрили, но я знаю, цель была у них одна: принудить меня вернуть войска обратно.
Напускное удивление на лице евнуха сменилось маской легкой обиды.
— Разве я когда-нибудь давал своему господину повод считать себя замешанным в придворных интригах?
— О нет, почтенный Шахабеддин! Святость ореолом окружает твое жирное тело, — съязвил султан и отвернулся в сторону.
Главный евнух смущенно откашлялся.
— Зачем ты пришёл? Говори!
— Если бы я осмелился произнести свои мысли вслух….
— Все только и делают, что произносят свои мысли вслух! Что вам всем нужно? Оставьте меня в покое! Мне надоело видеть вокруг себя одни унылые физиономии.
— Молодой повелитель может развлечь себя, — намекнул смотритель гарема.
— Меня тошнит от голых тел!
Мехмед вскочил и заходил по зале, пинками отшвыривая с дороги светильники, вазы, столики со снедью и напитками.
— Одни уговаривают меня снять осаду, другие — несмотря ни на что штурмовать стены. Каждый тянет одеяло на себя, забывая, что я единственный, кто имеет право принимать решение.
Он наподдал ногой ещё одной подушке и с размаху опустился на софу.
— Кончится тем, что я прикажу казнить и тех и других, — угрюмо заключил он и перевел тяжёлый взгляд на евнуха.
— Ну, чего ты ждешь?
— Мой повелитель….?
— Выкладывай свои мысли. Ведь ты за этим сюда явился?
Шахабеддин шумно вздохнул и развел руками в стороны.
— Я всего лишь хотел предложить своему господину вызвать ромейского царя на переговоры.
— Для чего? Чтобы сделаться посмешищем в глазах всего мира?
— О нет, господин! Мир не отважится смеяться над тем, кто силен. Но твоё миролюбие и достоинство благочестивого мусульманина, вынужденного идти на битву лишь из-за упрямства врага, окажут тебе в дальнейшем неплохую услугу.
Евнух отметил быстрый взгляд, брошенный Мехмедом в его сторону. Похоже, султан был заинтересован. Шахабеддин поторопился продолжить:
— Ты сделаешь первый шаг к миру, но византийский царь высокомерно отвергнет его. Твоя совесть будет чиста перед Аллахом и, что не менее важно, перед самим собой, а также и в глазах окружающих. Твои сатрапы, сторонники снятия осады прикусят языки: кто же посмеет защищать, хотя бы только на словах, неверного, который дерзко отвергает протянутую ему руку?
— А если он не отвергнет?
— Надо постараться сделать так, чтобы у него не было другого выбора.
Мехмед хмыкнул и задумался.
— Не расценится ли это как проявление слабости? — наконец произнёс он.
— Нет, повелитель. Предлагающий перемирие силен уже тем, что допускает саму возможность согласия противной стороны. Если же условия заключения мира будут выставлены в достаточно жёсткой форме, то обращение примет вид ультиматума — диалога между слабым и сильнейшим.
И так, как султан молчал, евнух приблизился в нему и вкрадчиво зашептал почти в самое ухо:
— В твоей свите, среди многих прочих, есть некий молодой вельможа. Это весьма образованный юноша, сын перешедшего в истинную веру грека Искандера, синопского санджак-бея. Он в совершенстве владеет греческим языком, наделён красноречием и, по слухам, имеет знакомства среди влиятельных лиц в Константинополе. А вдруг ему удастся убедить византийцев сдать город? Мой повелитель, ну кто же откажется принять бескровную победу?
Он вновь сглотнул и растянул в улыбке рот.
— Прикажешь его позвать, господин?
Мехмед вперил взгляд в хитрые, бегающие глаза евнуха.
— Я ещё не принял решения. Но твои слова меня заинтересовали. Как звать этого вельможу?
— Исмаил, повелитель. Послать за ним?
— Да. Пусть ожидает у моих дверей.
Как ни старался Исмаил, улыбка против воли наползала на его лицо. Ведь не каждому дано иметь великую честь не только лицезреть вблизи самого султана, но и принять из его уст поручение быть посредником в нелегких переговорах со строптивым врагом. Он поначалу не мог поверить в свое счастье и то и дело бросал преданные взгляды на своего покровителя, Шахабеддина. Смотритель гарема кивал ему с благостной, почти отеческой улыбкой, предвкушая предстоящие любовные утехи, бурные ласки, от которых судорогами будет извиваться его дряблое немолодое тело. Что греха таить, старый евнух, чей облик являл собой воплощенное уродство, питал почти сентиментальную слабость к стройным и красивым, еще не отмеченным печатью скрытых пороков юношам. И наслаждение, которое они дарили ему в благодарность за быструю карьеру при дворе султанов, помогало забывать про неполноценность его изуродованного еще в раннем детстве естества.
Ощущение собственной значимости всю дорогу до города не оставляло Исмаила. Сгорая от нетерпения, он еле сдерживал себя, чтобы не пустить коня вскачь. Лишь когда городские ворота, коротко громыхнув, отрезали его и его свиту от внешнего мира, молодой вельможа почувствовал смутное беспокойство.
Справится ли он с этой трудной задачей? Может быть, греческий царь отвергнет саму мысль о переговорах и, в знак отказа от них, вышлет султану голову его посла?
И в том ничего удивительного не будет, если сам султан неоднократно поступал подобным образом. Или же какой-либо из обезумевших от ненависти фанатиков, в великом множестве засевших за стенами, пустит в парламентера меткую стрелу, чтобы не дать тем самым Исмаилу с честью выполнить поручение. Что ж, выражение лиц встречающихся на пути людей никак не свидетельствовало о невозможности такого исхода.
На императорском совете, где помимо самого василевса присутствовало большинство влиятельных людей государства, а также предводители иностранных воинских отрядов, Исмаил справился с охватившей его поначалу робостью и воодушевленно заговорил:
— Доблестные ромеи! Вы и ваш государь уже успели осознать глубину пропасти, на краю которой вы стоите. Безвыходность вашего положения ясна вам, как никому другому. Силы ваши на исходе, помощи ждать неоткуда. Заклинаю вас, не добивайтесь для себя насильственного порабощения, оно принесёт гибель многим из достойнейших. Подумайте о ваших женах и детях! Неужели вы желаете видеть их рабами, влачащими жизнь в унижении и страданиях? Пошлите со мной послов к великому султану и я обещаю, что добьюсь для вас желанного мира.
Исмаил смолк и облизал пересохшие губы. От волнения заготовленная им обширная речь получилась короткой.
— Какой же ценой нам предлагается мир? — задал вопрос василевс.
— Этого я сказать не могу. Но при дворе султана имеется немало сторонников мирного договора, и я более чем уверен, что они всеми силами будут способствовать заключению перемирия.
— Как видно, положение у турок не блестяще, коль скоро они первыми предлагают нам переговоры, — ни к кому не обращаясь, произнёс Кантакузин.
— Разреши возразить тебе, почтеннейший. Вы не раз испытывали на себе мужество и умение наших воинов…..
— А также их неимоверное число, — вставил Кантакузин.
Исмаил пожал плечами.
— Что сказать? Это война, а не поединок.
— Что посоветуют димархи? — спросил Константин.
Первым поднялся с места Нотар.
— Я считаю, надо пойти навстречу султану.
— Отправив посла, мы ничего не теряем, — поддержал его Феофил.
— Разве что его голову, — угрюмо заметил Кантакузин. — Всем известно отношение султана к послам.
— Этого не произойдет! — горячо возразил Исмаил. — Даю вам в том своё слово. Я, вместе с вашим парламентёром, всеми силами буду отстаивать интересы ромеев.
— Надеюсь, за мои услуги вы не оставите меня своей благодарностью, — добавил он чуть погодя.
Под вечер посол, отряженный в ставку султана, вернулся в город и предстал перед советом, собравшимся в том же составе.
— Что сказал тебе султан? Мы слушаем.
— Великий василевс, благородные димархи! Султан принял меня достаточно любезно, но когда его советники огласили условия предлагаемого мирного договора, у меня едва не подкосились ноги.
— Говори!
— Заявление султана звучит так.
Посол развернул пергаментный свиток и принялся читать послание вслух.
«Правителю города Константинополя и его жителям!
Всё готово к решительному штурму и в любой день мы можем приступить к осуществлению задуманного.
Исход сражения предопределён Аллахом, воле которого не в силах противиться никто из смертных. Или город выплачивает ежегодную дань в размере ста тысяч золотых монет…»
В толпе раздался взволнованный гул.
— Что? Что он сказал?
— Сто тысяч? Это немыслимо!
— Султан просто насмехается над нами!
— Тихо! — поднял голос император.
— Продолжай, — кивнул он послу.
«… или всё городское население, отказавшееся принять учение ислама, с посильной поклажей на каждого человека, покидает пределы Константинополя.
Если это условие окажется отвергнутым, император и вся высшая знать лишатся не только имущества, но и жизней, а ваш народ будет порабощен и рассеян по всей земле».
Удар был силён. Услышанное на время лишило всех дара речи. Вместо предполагаемых переговоров султаном был выставлен жесткий ультиматум с требованиями, переходящими грань разумного диалога.
Резко встав, Димитрий Кантакузин вышел на середину залы.
— Что ж, ромеи, нам предоставлен широкий выбор: смерть или вечное изгнание. И еще неизвестно, что хуже. Но этот самонадеянный юнец не предусмотрел третьего исхода — измотав его армию в многомесячном противостоянии, мы опрокинем и погоним прочь азиатские орды.
— Мастер Кантакузин ошибается, — с хохотом возразил ему Джустиниани, — султан оставил вам небольшую лазейку: вы можете остаться в городе и даже сохранить имущество, если разом, всем скопом уверуете в Аллаха и приметесь состригать друг у друга крайнюю плоть.
— Тогда он, чтобы отбросить всякие сомнения, пожелает своими глазами лицезреть ваши новообращенные мужские естества, — тут же подхватил Тревизано.
— А в качестве доказательства перемены веры потребует предъявить ему искомые кусочки кожи, — вторил ему Контарини.
— Это ж какая гора воздвигнется рядом с его шатром!
Император устало повёл головой.
— Соратники мои, сейчас не время для шуток и веселья.
Собрание медленно успокаивалось, лишь кое-где продолжали раздаваться взрывы смеха.
— Не гневайся, василевс, за столь несерьёзное отношение к ультиматуму, — возразил Феофил Палеолог. — Что может быть забавнее предложения отдать Константинополь без боя? Я думаю, что выражу общее мнение, сказав, что ни одно из выдвинутых нам условий не является приемлемым. Сдать город после стольких воинских побед придёт в голову лишь трусу или предателю. Веру же свою изменить даже под угрозой смерти не согласен никто. Грузить на корабли свои семьи и скарб? Но что может быть горше участи изгнанника, скитающегося по дальним странам и вызывающего презрение к себе жалобами на свою несчастливую судьбу? Если уж нам суждено умереть, мы умрем с оружием в руках и с высоко поднятой головой!
Речи остальных димархов и кондотьеров по смыслу мало отличались от сказанного протостратором. Все понимали, что выплата такой неправдоподобно огромной дани немыслима, никто так же не хотел одним махом перечеркнуть все усилия и потери, связанные с обороной города.
Составление ответного послания не заняло много времени.
«Если султан намерен жить с нами в мире, мы возблагодарим Всевышнего. Император и верный ему народ готовы оставить в его владении несправедливо отторгнутые у них земли и города. Столица ромеев готова также выплатить любую посильную дань, чтобы отвести от стен своих чужеземное войско. Но отдать султану сам город не во власти ни императора, ни преданного ему народа.
Общее решение таково: никто не будет щадить своей жизни и, если так суждено, охотнее примет смерть, чем изгнание и вечный позор».
ГЛАВА XXXVII
В субботу вечером в ставке султана был созван большой совет. Шатер командующего армией переполнился военным людом. Воздух в помещении быстро загустел, пропитался запахами пота, кислой кожи и железа и вскоре стал затруднять для дыхание. Прогретые за день полотняные стены подобно полузатухшей печи продолжали излучать тепло, в открытую дверь порывы ветра затягивали пыль. Однако даже те, по чьим телам обильно струился пот, мало обращали внимания на духоту — жара была лишь одним из многочисленных и отнюдь не самым досаждаемым из неудобств походной жизни.
От самого входа до тронного возвышения слуги протянули ковровую дорожку, по обе стороны от которой восседали на тюках шерсти высшие чины Османской державы: великий визирь, западный и восточный бейлер-беи, вторые визири, дефтердар[12], кадиаскер[13], нитанджи[14], шейх-уль-ислам, рейс-уль-кюттаба[15], командующий корпусом янычар и начальник личной охраны султана. За их спинами выстроилась военная знать помельче рангом, от санджак-беев до тысяцких и командиров полков и отрядов.
Многие уже знали или догадывались о провале переговоров с царем Византии и потому, отчасти невольно, разделились на две большие неравные части. Меньшая половина, среди которой преобладала влиятельная верхушка старой османской знати, сплотилась вокруг Халиль-паши и обоих бейлер-беев; другая, более многочисленная, состоящая в основном из молодых и энергичных вельмож, обступила своих вождей, вторых визирей Саган-пашу и Махмуд-бея, приверженцев продолжения осады. Непримиримый противник визиря и его сторонников, главный евнух сераля, Шахабеддин, сидел у подножия трона и масляно щурил на лица советников узкие, заплывшие жиром глаза.
В ожидании султана, сановники тихо переговаривались, то и дело бросая по сторонам подозрительные взгляды. Насыщенная взаимным недоверием атмосфера действовала даже на самых недалёких: люди волновались, шарили взглядами по сторонам, пытаясь высмотреть среди лиц в толпе своих единомышленников. Большинство понимало, что после серии постигших армию неудач, между сторонниками снятия осады и их противниками должна разгореться нешуточная схватка за влияние на молодого султана. Лишь некоторые тысяцкие, благодаря своим заслугам и крепкому телосложению возвысившиеся из числа простых воинов, почтительно и непонимающе хлопали глазами: хотя вызов на заседание Дивана сам по себе являлся большой честью, им было не по себе среди высокородной и влиятельной, надменно держащейся знати.
Мехмед ворвался в шатёр так стремительно, что его появление было встречено поклонами лишь на середине пути к трону. Резко опустившись на сидение, он бросил по сторонам невидящий взгляд и некоторое время молчал, похлопывая рукой по подлокотнику кресла.
— Мне незачем говорить, для чего вы здесь собраны сегодня, — отрывисто бросил он. — Вы были тут всё время осады. Аллах не спешит проявить к нам благосклонность и потому я желаю знать мнение Дивана насчёт дальнейших наших действий.
— Говори, мудрейший! — кивнул он поднявшемуся с места Халиль-паше.
Первый министр неторопливо прочистил горло.
— Повелитель! — последовал глубокий поклон в сторону Мехмеда.
— И вы, уважаемые члены Дивана! Прошу выслушать меня терпеливо и со вниманием. Я уповаю на свою репутацию человека, долго и достойно служившего нашему прежнему господину, безвременно усопшему султану Мураду, внуку славного султана Баязида. Я так же имел высочайшую честь наставлять и учить премудростям управления государством повелителя нашего, достойного сына своего отца, славного султана Мехмеда. Я буду служить ему верой и правдой до конца дней своих и даже если он сочтет нужным отправить меня в изгнание, я по-прежнему останусь ему наивернейшим слугой.
Он сделал паузу, желая оценить эффект от произнесённых слов, затем продолжил:
— И поэтому я, как наставник владыки нашего и как второе после султана лицо в государстве, рискуя навлечь на себя несправедливое возмущение Дивана, во всеуслышание заявляю: нам необходимо пойти на уступки греческому царю.
Собрание взволнованно загудело: итак, позиции обозначены, первый удар нанесён и буря вот-вот должна разразиться. Саган-аша и Махмуд-бей переглянулись, набычились и угрюмо опустили глаза.
— Объясни причины, подтолкнувшие тебя к этой мысли, — потребовал султан.
— Мой повелитель помнит, что на каждом совете я доказывал ненужность войны с византийцами. К чему военной силой добиваться того, что само по воле Аллаха плывет к нам в руки? Византии нет, осталось одно ее название. И еще кучка людей, укрывшихся за крепкими стенами города. Дадим же этим упрямцам столь милую их сердцу призрачную свободу, получив взамен дань отнюдь не призрачными золотом и товарами.
Саруджа-бей нетерпеливо дернулся:
— Мудрейший похоже забывает, что византийцы отвергли требование дани.
— Да, но только потому, что эта сумма была чрезмерно завышена. Даже Сербия, обширное и богатое королевство, не так давно выплачивало казне дань в количестве, наполовину меньшем, чем было затребовано у византийского царя. Что же можно ждать от крохотного княжества, запертого в своих границах, с его полунищим населением, разорённого к тому же войной и недавней засухой?
— Вот потому и надо воевать, а не торговаться о мире, — снисходительно заявил Махмуд-бей.
Визирь даже не оглянулся в его сторону, хотя гримаса презрения проступила на лице старика весьма отчётливо для окружающих.
— Ещё из древней истории известно, что проще овладеть городом, не пытаясь сокрушить ворота железным тараном, а пустив в них осла, груженного золотом, — произнёс он, обращаясь к султану.
— Ты предлагаешь распустить войско и вернуть в гавани флот? — потребовал ясности Мехмед.
Халиль-паша помедлил с ответом. Сейчас он вступал на скользкую стезю и от него требовались весь такт и умудрённость придворного, чтобы сказать «Да», не затронув в то же время болезненного юношеского самолюбия султана.
— Мой повелитель, распустить уже собранную, успевшую побывать в бою армию нелегко. Это может произвести впечатление разгрома. Но в том и нет нужды: до меня всё чаще доходят сведения, что наш ближайший сосед и злейший враг, как бы в насмешку над нами названный «победителем турок», венгерский воевода Янош Хуньяди вновь сколачивает войско для войны с султанатом. Здесь нам и может пригодиться могучая, собранная в единый кулак армия.
— А флот? — ехидно осведомился Саган-паша. — Ведь в мадьярских горах нет морей?
— Флот необходимо отвести к анатолийским пристаням, — категорично заявил визирь. — И тщательно оберегать от ненужных столкновений с врагом. Он слишком дорого обошелся казне, чтобы нам позволительно было растрачивать его по пустякам.
— Не слишком ли низкого мнения паша о доблести наших моряков?
— Все мы были свидетелями, — отрезал визирь, — как четыре христианских судна едва не пустили ко дну всю нашу эскадру.
— Враг тогда воспользовался недалёким умом прежнего флотоводца! — Махмуд-бей был настроен агрессивно и прямо-таки поедал глазами своего противника.
— Вот потому-то я сейчас, во избежание ещё более худшего, советую убрать корабли в безопасные гавани, — невозмутимо заключил визирь.
Лицо нового, с две недели как назначенного флотоводца перекосилось от злости. Он вскочил, угрожающе взмахнул рукой и забормотал оскорбления в адрес визиря.
— Сядь! — прикрикнул на зятя Мехмед.
Саган-паша неохотно подчинился. Султан вновь повернулся к Халиль-паше.
— Ты предлагаешь признать поражение?
— Это не поражение, господин мой, а временное отступление. Поступок более чем естественный в глазах любого полководца, а потому и не несущий в себе никакого позора. Дать воинам отдохнуть, перегруппировать свои силы, выждать благоприятный момент и лишь затем нанести разящий удар.
— Он прав, он прав! — закивали головами царедворцы, сторонники визиря.
— Вспомни, повелитель, три десятилетия назад, отец твой, султан Мурад, тоже осадил Константинополь, но вскоре отвел войска от города, чтобы не растрачивать впустую воинственный пыл своих полков. И это ни в коей мере не уронило в глазах окружающих его величия. Вспомни череду его блистательных побед и ужас, вселяемый во врага одним только его именем! Вспомни многочисленные области, присоединённые им к своей державе или обращенные вассальную зависимость и облагаемые данью! Вспомни безмерную любовь своих подданных, которой он пользовался при жизни….
— Вспомни также, великий султан, как был им повержен князь Константин, владетель Мореи, — вкрадчиво зашептал Шахабеддин, обернув к Мехмеду своё хитрое лицо.
— Теперь же, став царем, он, этот князь, отвергает даже саму мысль признать себя твоим данником.
Эти слова, подобно подлитому маслу в огонь, мгновенно распалили гнев Мехмеда.
— Я никому не позволю пренебрегать своей волей! — заорал он, краснея до корней волос.
— Я знаю, визирь, ты ещё скажешь, что и мой прославленный прадед Баязид тоже осаждал Константинополь и, как все прочие, был вынужден удалиться ни с чем. Я знаю это всё и не устану повторять: никто из моих предков не может сравниться со мной! Никто! Понятно вам? Никто!!
Саган-паша почувствовал, что пробил его час.
— Великий султан! На тебя сейчас обращены взоры всех правоверных! Заклинаю тебя именем Пророка, не слушай речи тех, кто в пустых размышлениях растерял свою мудрость. Разве то, что самый могущественный из государей Востока называет своего визиря «Учителем», даёт советнику право подменять собой правителя и принимать решения за своего господина?
Взволнованный гул наполнил шатёр. Халиль-паша открыл было рот для гневного ответа, но сдержался.
Флотоводец продолжал:
— Помнишь ли ты тот день, о великий, когда ты, ещё молодой годами, но воин в душе и зрелый муж в поступках, одной своей волей и твердостью духа усмирил взбунтовавшихся янычар? Оглядывался ли ты хоть на мгновение назад? Я осмелюсь ответить за тебя: нет! Терзали ли тебя сомнения? Мы, твои верные сатрапы, этого не заметили.
Он экзальтированно вскинул руки вверх.
— Делал ли ты поблажки вконец обнаглевшим мятежникам? Соглашался ли пойти на уступки главарям? Нет и ещё раз нет! Ты смело направил своего коня в гущу рассвирепевшей толпы и бунтовщики пали ниц, узрев исходящую из твоего взгляда божественную силу.
Одобрительный шепоток сопровождал эту страстную речь. Но наибольшее впечатление слова паши произвели на самого султана. Как ни старался Мехмед сдержать себя, довольная улыбка всё шире растягивала уголки его узких губ. Ха-лиль-паша недобро взглянул на флотоводца. Он понимал, что надо хоть на мгновение прервать подобно мёду текущий поток цветистых восхвалений, иначе потом заставить султана прислушаться к голосу рассудка будет очень сложно.
— Мы всё это помним, — резко заговорил он, — и хорошо знаем мужество и отвагу нашего владыки. Но сейчас не время и не место, паша, за неимением своих поминать чужие подвиги. Мы собрались здесь, чтобы обсудить бедственное положение нашей армии, ежедневно терпящей урон и ни на шаг ещё не приблизившейся к цели.
— Я не ослышался, визирь? — возопил Саган-паша. — Ты сказал «ни на шаг»? А наши корабли, запершие врага в его же гавани? А целые мили разрушенных укреплений? В городе голод и мор, сотни тысяч мертвецов валяются непогребенными, а ты уверяешь нас в бедственном положении нашей армии? Мы уже перебили всех солдат неприятеля, завтра на стены смогут подняться лишь женщины и старики. И в это время ты даёшь советы одним махом перечеркнуть все усилия и снять осаду?
— Паша, мне ничего не ведомо о тысячах трупов в городе, но я твердо знаю, что наша армия сократилась почти на целую треть. Без малого восемьдесят тысяч бойцов, способных составить большое, сильное войско, мы потеряли за два неполных месяца! Не слишком ли высокая плата за один-единственный город?
Саган-паша пренебрежительно махнул рукой и повернулся и к султану.
— Мы потеряли лишь тех, кто был солдатом только по названию. Не стоит скорбеть о них, как скорбит Халиль-паша. Эти человеческие отбросы не в праве именовать себя воинами.
— Даже янычары? — ядовито осведомился Караджа-бей. — За время осады около полутора тысяч храбрецов из гвардии султана сложили свои головы под стенами. Им паша также отказывает вправе именовать себя воинами?
Саган-паша невольно глянул в сторону Торгут-бея, командира корпуса янычар, вздрогнул при виде перекошенного от ярости лица гиганта и поспешил исправить свои слова.
— Янычары, как и всегда, отличались в каждом сражении. И именно храбрость этих бойцов послужит нам упрёком, если мы решимся вопреки сопутствующей нам удаче удалиться от стен Константинополя.
Он вытер потные ладони о край халата и продолжал:
— Великий визирь упоминал о полках венгерского воеводы, намекал на бесчисленные флотилии неверных, якобы спешащих на помощь осаждённому городу. Мой повелитель! Нам всем хорошо известно о многовластии западных государей, об их бесчисленных раздорах, мешающих заключению прочного союза. Но даже если бы немногие из них и пришли бы к согласию, то этот договор не имел бы реальной силы: язычники не доверяют друг другу и вечно остерегаются соседей. Они подолгу рассуждают, спорят о деталях, но на деле способны осуществить лишь немногое из задуманного. Решение, принятое вечером на совещании, утром им уже не по вкусу. Но даже если соглашение не отменено, они медлят с его выполнением, стараясь переложить ответственность на плечи другого. Когда же они, а это случается крайне редко, бывают вынуждены выполнять намеченное, то вследствие своих разногласий, успеха, как правило, не имеют.
Он повернулся к визирю и двум бейлер-беям.
— Всем известно стремление гяуров изгнать нас за пределы Европы. Да, мы сильны своими войсками, но собирались ли против нас объединённые армии всех христиан? Верховный муфтий всех язычников охрип в своём Риме, сколачивая против нас крестовый поход. Но мы до сих пор видели лишь разрозненные полки, составленные из бродячих солдат и отчаявшихся землепашцев. И этой-то угрозой вы пытаетесь запугать отважных воителей ислама?
— Остерегись своих слов, паша! — разъяренный услышанным, Исхак-бей вскочил на ноги.
— Не смей приписывать нам свои мысли!
Мехмед с живейшим интересом наблюдал за конфликтом между сатрапами, стравить которых ему удалось одним своим молчанием.
«В спорах рождается истина»- вспомнилось ему изречение древнего мудреца. Он усмехнулся и потёр зудевшую щеку.
«Посмотрим же, что вылупится из этой свары», — он поудобнее устроился в тронном кресле.
Бейлер-бей тем временем почти вплотную приблизился к Саган-паше и угрожающе вытянул вперед правую руку.
— Никто не боится полчищ неверных! — орал он во весь голос. — Но если враг застигнет нас здесь, где войска зажаты между морем с одной стороны, болотами — с другой, а возможность манёвра ограничена с тыла крепостными стенами, за которыми засел всегда готовый к вылазке неприятель, прольётся много турецкой крови!
— Я знаю это! — как мог защищался зять султана. — И всё-таки во всеуслышание заявляю: опасности нет! Ни итальянский флот, ни войска Хуньяди на помощь осаждённым не придут!
— Кто поручится за твои слова? — продолжал наседать Исхак-паша.
— Я сам в ответе за них! Своей головой!
Халиль-паша обратился к султану.
— Мои осведомители при дворе венецианского дожа сообщают об уже отданном приказе на отплытие из городской гавани около трех десятков военных кораблей.
Главный евнух встал, сделал шаг по направлению к визирю и скрестил руки на объёмистом животе.
— Не скажет ли мудрейший, когда это произошло?
Визирь в досаде покривил рот: говорить правду было невыгодно, солгать — означало рискнуть головой. Тем более, что и у Шахабеддина имеются соглядатаи при дворах западных правителей.
— Приказ был отдан в конце первой недели мая, — неохотно ответил он.
Шахабеддин несколько раз быстро кивнул головой.
— Правильно ли я понял, — елейным голосом загнусавил он, в то время как его похожее на жабью мордочку лицо кривилось в неприятной усмешке, — что христианские корабли, многовёсельные парусные галеры, число мачт на каждой из которых доходит до трех, уже более двух недель находятся в плавании? Тогда как расстояние от венецианских владений до Константинополя даже при неблагоприятных ветрах не превышает шести-семи дней пути?
Мехмед подскочил на троне, как ужаленный.
— Так значит флот не выходил из гавани? — вне себя закричал он.
— Доподлинно мне это неизвестно, господин. Но я думаю, что словам осведомителей Халиль-паши можно верить. Флот действительно покинул пределы Италии, но где он сейчас и с какой целью были подняты паруса — остаётся только гадать.
Он демонстративно развёл мясистыми плечами.
— Ведь содержание приказа — тайна для нас.
Лицо его вновь загримасничало.
— Может быть моряки отправились просто порыбачить?
В толпе придворных послышался угодливый смех. Как и визирь, старый евнух был тёртым сановником. Не опровергая прямо слова первого министра (что само по себе могло привести к нежелательным последствиям), он сумел в то же время заставить усомниться всех членов Дивана, включая самого Мехмеда, в доводах Халиль-паши. А заодно и напомнил о недавно высказанном Саган-пашой утверждении о вечном несогласии в рядах христиан.
Мехмед нетерпеливо тряхнул головой.
— Дефтердар! — потребовал он. — Твоё мнение, но только кратко.
Казначей поднялся с места и поклонившись, смущенно прокашлялся.
— Мой господин, я не буду многословен. Казна пуста и жалование воинам платить не из чего. Война сожрала все денежные запасы — подвоз провианта на сотни тысяч человек, дорогостоящий порох, приспособления для осады….
— Довольно, — оборвал его Мехмед, — я понял. Ты хочешь сказать, что если в ближайшее время не будет никаких изменений…..
— …..положение станет катастрофическим, — уныло докончил дефтердар. — Поступления от налогов не могут компенсировать расходов на эту войну.
Некоторое время Мехмед сидел в глубоком раздумье. Затем лоб его разгладился, он оживился и просветлел лицом.
— Слушайте меня, сатрапы! Я принял решение.
В шатре воцарилась полная тишина.
— Саган-паша!
Второй визирь вышел на середину залы и поклонился.
— Этой ночью ты со своими подручными обойдешь весь лагерь и узнаешь настроение солдат.
Он мгновение помолчал, затем продолжил:
— Как скажет большинство простых воинов, так мы и проступим!
Собрание одобрительно загудело. Халиль-паша вздрогнул, побледнел, открыл было рот для возражения, но тут же одумался. Повернулся к своим сторонникам, но беи, стараясь не встречаться с ним взглядами, поспешно отводили глаза в сторону.
"Я проиграл,» — подумал визирь, — "И дни мои уже сочтены».
Он поклонился и чуть сгорбив плечи, медленно направился в сторону выхода. Сановники расступались, торопливо освобождая ему дорогу как прокажённому.
ГЛАВА XXXVIII
Большую часть дня Мехмед провел в седле. Несмотря на услужливо подставленный зонтик и усердие двух опахальщиков, зной донимал его, как и всех прочих. Лица окружающих лоснились от пота, кожа казалась серой из-за налипшей пыли.
Пыль была везде — малейшее движение раскалённого воздуха поднимало с земли густые, почти невидимые облачка, которые блуждали повсюду, проникая в любую щель. Люди, животные, жилища, одежда, оружие — всё было покрыто тончайшим серым налётом. Даже мухи, расплодившиеся в таком великом множестве, что и ложку похлебки нельзя было без опаски отправить в рот — и те, казалось, были покрыты слоем пыли.
Мехмед проезжал мимо выстроенных полков и воодушевлял воинов призывом к новому сражению. Вернее, говорил не он сам: десять глашатаев, по пять с каждой стороны, выкрикивали слова, заученные ими еще утром, у стен шатра султана. Сам Мехмед молчал, не желая натрудить себе горло. Вполне достаточно и того, что он, невзирая на жару, проезжал перед рядами своих солдат.
Но перед расставленными полукругом полками янычар он заколебался. Подспудно он понимал немаловажную роль гвардии в предстоящем сражении, знал он также и то, что опрос, проводимый среди выборных представителей воинских отрядов, сопровождался угрозами янычар расправиться с каждым, кто проголосует за отход от стен города. И потому он решил обратиться к гвардии с призывом сам, хоть и с помощью глашатаев.
Он сделал знак тысяцким, чтобы те сомкнули свои полки потеснее и поднял руку, требуя полной тишины и внимания. Воины повиновались, многие затаили дыхание, чтобы лучше слышать речь султана.
Выждав несколько минут, Мехмед заговорил и глашатаи тренированными голосами далеко разносили его слова:
— Воины мои, любимцы Аллаха и Мохаммеда, пророка его! Вы способны на великие подвиги и знаете это. Завоевать этот город, — он указал в сторону Константинополя, — в вашей власти. Я говорю так, потому что знаю, что слово янычара твердо, как сталь его ятагана!
Восторженный рёв пронёсся над полками. Воины потрясали копьями, стучали клинками плашмя по своим щитам и громко топали ногами. Султан благосклонно качал головой в ответ на столь бурные выражения радости и удовольствия, затем вновь потребовал тишины. Здоровенным десятникам не сразу удалось восстановить порядок.
Мехмед смочил горло из поднесённой ему золотой чаши и продолжил:
— Я не раз спрашивал у ваших командиров, готовы ли они уничтожить врага, на которого укажет воля султана. И они отвечали: «В чистом поле, в открытом бою — любого! Но чтобы успешно штурмовать укреплённый город, надо в достаточной мере разрушить стены». Я сделал всё, о чём меня просили. На многих участках укрепления сравнялись с землей. Более того, почти все защитники уже перебиты и ничто не в силах помешать вам без потерь овладеть городом.
Это слова вызвали заметное оживление в рядах янычар. Кому может претить мысль придти на готовенькое? Тем более, что война с византийцами, вопреки ожиданиям, оказалась довольно-таки затяжной и кровопролитной.
— Теперь же настало время, — продолжал призывать Мехмед, — всем вместе идти на штурм. Без опаски, с открытым сердцем выполняйте свой долг ратников Аллаха! Вы, во многих боях завоевавшие себе славу непобедимых, должны покорить мне столицу греков. Я одарю богатством, саном санджак-бея и великими почестями того, кто первым поднимется на стены крепости и продержится там до прихода остальных. Идите же к своему счастью, в этот прекрасный и праведный бой, к мечте всех храбрецов со львиными сердцами в груди. Завтра настанет день, величие которого на века восславит имя Аллаха!
Мехмед смолк, переводя дух. Краем глаза он ощущал на себе десятки и десятки тысяч горящих алчностью взглядов. Они питали его, заряжали энергией и силой, делали его речь вдохновенной и страстной. Перед ними он чувствовал себя всемогущим, вершителем судеб миллионов и миллионов людей, владетелем необъятного человеческого стада, окруженного сворой преданных псов-волкодавов.
Божественная сила власти, лишь ненамного уступающей власти самого Аллаха! Тому, кто воспротивится ей, не суждена долгая жизнь. Греки первыми подали дурной пример и вот результат — зверь обложен со всех сторон, затравлен и загнан в собственную нору. Остаётся лишь неспешно приблизиться, вдохнуть источаемый им запах безумного страха и глубоко погрузить нож в трепещущее сердце жертвы. Невыразимо прекрасный миг для истового охотника! Душа Мехмеда ликовала.
Он приподнялся на стременах и вытянув руку в направлении Константинополя, еле сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик, продолжал:
— Много столетий копила для вас сокровища столица язычников и нечестивцев. И вот настал срок! Спешите, торопитесь! Ступайте за стены, отбирайте у заплывших жиром горожан золото, ценности, рабов, красивейших женщин и детей! Берите себе всё, чем владеет враг и что вы можете унести на себе. Я отдаю вам город на три дня и три ночи.
Громкие крики радости почти заглушили концовку речи. Хотя подобные призывы звучали каждый раз, когда османам оказывалось серьёзное сопротивление и войска неоднократно пользовались этим жестоким правом завоевателей, янычары веселились буйно, как дети. Они толкались локтями, хлопали в ладоши, подскакивали в воздух и громко славили щедрость своего господина.
Мехмед поднял руку и вновь глашатаи принялись взывать к тишине и вниманию. Радостный гомон стих не сразу.
— Но помните, воины, если кто-либо из вас посмеет уклониться от сражения, бегство его не спасёт. Я из-под земли достану презренного и смерть его будет ужасна. Равно как и смерть того, кто самолично не покарает сбежавшего на его глазах дезертира.
Ещё долго после того, как султан удалился в свой шатёр, продолжалось веселье. Воины кричали, распевали песни, от души колотили в бубны, в медные тарелки и котлы для варки пищи. Дервиши как-будто посходили с ума и, заглушая друг друга, наперебой вопили:
— Пророк завешал нам: «Воюйте с неверными ревностно и неутомимо!»
— Истинно верующих Аллах сам за руку введет в райские кущи!
— Закон правоверных гласит: «Если враг не сдаётся — убей его!»
— Помните, что павшие в бою за веру только кажутся мёртвыми. На самом же деле они уже выряжены в роскошные наряды и спешат к своим небесным скакунам, на которых красуются седла с богатым убранством и золотые уздечки…..
— Сражайтесь на пути праведном со всеми, кто непокорен Аллаху! Избивайте их повсюду, где застигнете, иначе их лисьи сердца склонят вас к состраданию, а за это полагается вечное пламя ада!
Подавляющее большинство бродячих проповедников было слабо знакомо с основополагающими заветами Пророка, чьё имя они славили на каждом шагу, и потому ориентировались лишь на несколько произвольно выхваченных и заученных стихов из Корана.
Они взахлёб перечисляли все доступные их воображению блага жизни; путались в размерах шёлковых подушек, в количестве гурий, положенных каждому герою; нудно перечисляли всевозможные яства и пряные напитки; наделяли будущих счастливцев множеством дополнительных мужских органов, лишь ненамного меньшим, чем число игл в шкуре ежа, и потому способным доставлять нескончаемый поток наслаждения.
Между палатками и шалашами возили на ослах мешки анаши и щедро оделяли опьяняющим зельем всех желающих. Было разрешено забить половину оставшегося скота; не возбранялось даже (хотя это и запрещено Кораном) пить вино тем, кто сумел раздобыть его в близлежащих сёлах.
Удушливый зной становился все нестерпимей. По мутному от горячего марева небу неслись вдаль редкие клочья облаков, белесых и прозрачных, как тополиный пух. Подобно застрельщикам, они влекли за собой облака покрупнее, за которыми грузно и величаво плыли вслед огромные, как снеговые шапки гор, клубы студеной небесной влаги. Молочно-белые вверху, в нижних своих слоях они отливали темной синевой и затягивая горизонт, тихо громыхали в вышине, подобно отрядам крадущихся латников.
Смеркалось. Солнечный свет более не казался столь ослепительным и режущим глаз. Внезапно, как бы пробудившись после долгой спячки, порывисто и резко задул северный ветер. Сухие горячие волны, одна за другой, погнали впереди себя пыль и легкую, как пепел, прошлогоднюю листву.
Поверхность моря покрылась мелкой рябью, голубая толща воды потускнела и приобрела серо-стальной оттенок. То исчезая, то появляясь вновь, в долинах закружились несколько малых, в обхват толщиной, воздушных смерчей. Изгибаясь подобно танцующим под флейту заклинателя змеям, пылевые столбы вытягивались на десятки метров в высоту, жадно шарили остроконечными хоботами по вытоптанной поверхности почвы, вырывали из рытвин и трещин комки сухой глины, песчинки, камешки, мелкое крошево пересохшей травы и уносили всё это ввысь, чтобы затем, распавшись, вернуть отобранное у земли обратно.
Воздух сгустился, стал вязким и липким, как патока. Свинцово-сизые облака покрыли небосвод от края и до края, заполонили собой всё видимое пространство, набрякли тяжело и мрачно пока ещё не пролитым дождем. Кое-где уже поблескивали вспышки зарниц и эхо над землей разносило далекий гул грозовых раскатов.
Всё живое торопилось найти себе убежище. Перестали звенеть в полях цикады, смолкли сердито гудящие шмели, забились в норки пугливые паучки и неповоротливые жуки. Птицы смолкли, исчезли, будто бы их и не существовало вовсе. Лишь юркие любопытные ящерицы высовывали из расселин камней свои плоские головы и как бы облизываясь, ловили раздвоенными змеиными языками запахи подступающего ненастья.
Беспокойство ощущалось и среди прирученных человеком животных. Табуны стреноженных лошадей, похрапывая и перекликаясь между собой тихим ржанием, вздрагивали от громовых раскатов, поднимались на дыбы, пытаясь стряхнуть с себя путы, лягали воздух в попытках избавиться от неведомого врага. Значительно поредевшие отары овец уныло щипали траву и время от времени тревожно блея, без видимой причины сбивались в плотную кучу. Даже медлительные волы и верблюды, не переставая жевать свою вечную жвачку, озадаченно вскидывали головы к небу, чтобы затем, не найдя там ничего примечательного, вновь вернуться в свое обычное полусонное состояние.
Первый удар небесного огня разорвал облачную пелену слепяще-яркой вспышкой. Земля содрогнулась от могучего громового раската; тяжело упали крупные, как горошины, ядрышки градин. За первой вспышкой последовала вторая; третья, наисильнейшая, сумела дотянуться голубым зигзагом до самой поверхности земли.
Град посыпался густо, как из ведра, устилая всё вокруг белесым ковром кусочков мутного льда. Ветер стих, повеяло слабым дыханием ушедшей зимы. Вскоре, как бы истощив свои ледяные запасы, небесное воинство, под вспышки и грохот яростной канонады обрушило на землю косые потоки дождевой воды. Мгновенно всё, что могло отсыреть или промокнуть, пропиталось влагой; в воздухе плыл туман от мельчайших капелек воды.
Поверхность моря, изборождённая мелкой рябью волн, вскипала большими пузырями, которые, множась и тесня друг друга, дробились под новыми ударами дождевых капель в пушистые шапки пены. По земле, в ложбинах между холмами, бежали мутные от взвеси пыли и песка ручьи; река Ликос разбухла и вышла из берегов, вода в ней загрязнилась и приобрела желтоватый оттенок.
Улицы Константинополя обезлюдели, как если бы город вымер столетия назад. Сплошные потоки воды, низвергаясь с небес, гулко барабанили по крышам домов, шумели в отверстиях сточных труб, журча и пенясь текли вдоль мостовых и придорожных канав, превращали землю в парках и садах в топкое болото. В блеске молний высвечивались сиротливо мокнущие статуи, подобно часовым непреклонно стоящие под дождём колонны Ипподрома и акведука Валента, прикрывающиеся от воды золотыми щитами своих куполов древние храмы и церкви.
Спустя некоторое время буйство стихии начало угасать. Всё реже вспыхивали огненные зигзаги, убавляли постепенно свою мощь громовые раскаты. Тучи медленно сносило на юг. Ливень редел и вскоре полностью прекратился. В сизой пелене облаков мелькали кое-где голубые оконца чистого неба и в одно из них неожиданно сумел протиснуться солнечный луч. Упав на землю косым золотистым столбом, он высветил большое пятно, своим краем задевшее османский лагерь.
Излишне говорить, как была воспринята осаждающими эта случайная прихоть природы.
«Небесами нам послано предзнаменование!» — эта мысль в устах множества людей с новой силой всколыхнуло поутихшее было на время ненастья ликование перед предстоящей битвой.
Забылись ужасы осады неприступного города, голод, лишения, десятки и десятки тысяч смертей. До поздней ночи чужеземное становище бурлило и веселилось, как в преддверии близкого праздника.
ГЛАВА XXXIX
Рядом с парадным входом в дворец Вуколеона собралась большая, более пяти тысяч человек, толпа. Воины, выборные представители от отрядов и экипажей кораблей, военачальники всех рангов, горожане, среди которых было немало женщин и подростков — все собрались, чтобы выслушать обращение императора к народу.
Ожидая выхода василевса, люди вполголоса переговаривались, обсуждая ультиматум султана и оживление во вражеском лагере. Большинство сходилось на том, что в ближайшие дни последует серия ожесточённых штурмов; некоторые до хрипоты убеждали скорее себя, чем остальных, что ликование в стане турок было вызвано приказом о скором отходе.
Споры смолкли при звуках фанфар. По толпе прокатилось движение — люди обнажали головы. Вскоре в воротах показалась спаренная цепь гвардейцев и, разделившись на две колонны, солдаты выстроились по обе стороны лестничных ступеней. Спустя несколько мгновений фанфары запели громче и касаясь земли краями пурпурной мантии, к народу вышел император.
Выждав, пока смолкнут приветственные крики, Константин поднял руку, призывая к вниманию. Затем заговорил и даже в задних рядах людям не приходилось напрягать слух, чтобы слышать каждое слово его речи.
— Соратники мои, мой добрый и преданный народ! Пришел час, когда злейший враг наш готовится к решающему бою. Замкнув кольцо и с моря и с суши, он надеется сломать нас, раздавить, как в тисках. Но вы не должны страшиться — мы повергнем неприятеля. Он разбитым вернётся в свое логово.
Он на мгновение смолк, затем с не меньшей твердостью продолжил:
— Братья мои! Вы знаете, что в четырех случаях мы обязаны предпочесть смерть жизни. Во-первых, ради Веры нашей и благочестия. Во-вторых — ради Отечества. В третьих — ради государя вашего, помазанника Божьего. И наконец, в четвертых — ради родных и близких своих. И если мы готовы сражаться только лишь за одно из этих условий, то сейчас все мною перечисленное находится под смертельной угрозой.
Два месяца, почти каждый день и каждую ночь, мы доблестно отражали сарацин. И каждый раз неприятель с потерями откатывался назад. Да не смутит вас, что стены обрушены во многих местах. Насколько это было возможно, мы восстановили их, заделали наиболее крупные проломы. И если враг тешится своей многочисленностью, то мы возлагаем надежду на светлое имя и славу Господню, и лишь потом — на силу рук наших и неистощимое мужество духа.
Завтра огромное стадо нечестивых двинется на нас со всей своей силой, пойдет с великим шумом и воинскими кликами. Не дайте им запугать себя. В тот трудный и ответственейший час пусть каждый спокойно выполняет свой долг. В схватке с врагом не теряйте присутствия духа и ясности ума. Помните, противник не владеет столь совершенными орудиями боя и по недомыслию пренебрегает бронёй для тела и для головы. Пользуйтесь же этим преимуществом, разите всех без пощады и да пребудет с вами милость Всевышнего!
Одобрительные возгласы прервали речь василевса. Когда же он вновь заговорил, мощь и звучание его голоса перекрыли шум и выкрики толпы.
— Из года в год нечестивые жгли наши поля, сады и жилища, уводили в плен наших братьев и сестер, отнимали у матерей и обращали в лживую веру детей, а стариков убивали, как ненужный скот. Скрепя сердце, мы взирали на то бесчинство над естеством человека, копили обиду на слабость свою и немощь. Но вот пришел день и мы поняли: враг рода людского, предтеча Антихриста, уже стучится в наши ворота. Не дайте возможности ему уничтожить вас, накинуть на ваши шеи рабское ярмо. Спасение в наших руках! Бейте их везде, где застигнете, уничтожайте дьявольское отродье всеми силами. И да поможет нам в этом Всевышний!
Вручаю вам этот великий и древний, славный своей историей город, первейшую из всех столиц, Отечество наше!
В толпе, среди воинов и горожан, слышались возбужденные возгласы. Многие прошедшие сквозь несколько войн седовласые ратники, с лицами, изборожденными боевыми шрамами, расчувствовались так, что стыдливо отворачивались в сторону, чтобы скрыть набежавшие на глаза непрошенные слёзы. Воины помоложе не скрывали своих эмоций: кто-то воинственно потрясал секирой, другой целовал перекрестие меча, третий пылко сжимал в руке нагрудный крест или медальон.
Император повернулся к стоящим по правую руку венецианцам.
— Благородные граждане Венеции! Вы не понаслышке знакомы с вероломством турок. Вам часто приходилось биться с врагом на суше и на море и почти всегда победа оставалась за вами. Не покидайте в беде Город, ставший для многих из вас вторым отечеством. Прикройте его в час опасности своими крепкими щитами!
Повернувшись налево, Константин обратился к генуэзцам.
— Славные воины — лигурийцы! Не буду описывать ваших многочисленных подвигов. И без моих слов они известны всем. Я лишь напомню, что на протяжении столетий стены Города служили вам и вашим семьям надежной защитой. Будьте и вы защитой стенам, отплатите Городу добром за добро и за ваши старания вам еще при жизни воздастся сторицей.
Император помедлил, окидывая взглядом лица людей.
— Мне не хватит времени перечислить всех доблестных мужей из разных стран, по велению сердца своего прибывших к нам, чтобы помочь своим единоверцам в битве со смертельным врагом. Одно лишь скажу вам, что если на Небесах за мужество ваше вам уготован алмазный венец, то здесь, на земле — память вечная и праведно заслуженная!
Ответом ему послужили громкие одобрительные выкрики. Император поклонился народу и вернулся во дворец.
Люди расходились возбужденные, с просветлёнными лицами; казалось, невидимый груз спал у каждого с сердца. Многие спешили на свои посты, чтобы поведать тем, кто оставался в дозоре, содержание речи василевса. Другие направлялись к расположенному неподалеку храму Святой Софии, чтобы вновь, как и прежде, влившись в толпы верующих и единомышленников, пережить тот могучий душевный подъем, который помогал им и поддерживал их в долгие, тягостные месяцы осады.
Из-за края застилающих горизонт туч выглянуло солнце и заиграло напоследок предзакатными лучами на золотых куполах тысячелетнего града.
— Иногда меня гложет чувство вины перед сестрой.
Кантакузин положил руку на плечо Романа.
— Перед моей матерью? Но почему?
— Похоже, сам того не желая, я отнял у нее единственную отраду в старости. Не надо было мне этого делать.
— Я не понимаю, дядя.
— Всё указывает на то, что завтра будет бой. Один из самых жестоких. Скорее всего, многим из нас придется сложить в нем головы.
— Но ты не сказал мне ничего нового. Любой из нас, воинов императора, знает, что может не увидеть следующего дня. Так о чем же сожалеть?
Роман стряхнул с себя руку Кантакузина.
— Мне странно слышать от тебя подобные слова! Ведь я нахожусь, пусть даже с твоей помощью, на том самом месте, где я и должен быть. Мое происхождение, возраст и чувство долга просто не позволяют мне отсиживаться в стороне.
Он встал и отошел на несколько шагов.
— Не ты ли мне говорил, и я с тобой согласен полностью, что коли уж я рожден дворянином, а значит — воином, то самой судьбой мне предназначено сражаться с врагом. И умереть, если того потребует долг солдата. Перед смертью же лучшее утешение для воина — знать, что жизнь отдана не зря, что умер он, исполняя свой долг, за правое дело, за народ свой и за государя.
Роман положил ладонь на стенной зубец и взглянул в сторону турецкого лагеря.
— Смешно даже вспомнить, но раньше я считал ремесло наемника, за деньги продающего свое умение воевать — достойным занятием. Возможно, в годы затишья, когда враг далеко и родному очагу ничто не угрожает, это неплохая тренировка мужества. Но сейчас…..
Он на мгновение запнулся.
— Здесь мне открылось многое. Человеческая отвага, доблесть, мужество, самоотверженность. Готовность вознести на алтарь свободы даже самое сокровенное.
Он помолчал, подбирая слова.
— Здесь я познал любовь! Не ту, о которой поют слащавые менестрели. Нечто несоизмеримо более высокое — страсть, наполняющую душу счастьем. И ужасом от возможной разлуки.
Звук, похожий на подавленный смешок, заставил его резко обернуться.
— Ты смеешься, дядя?
Он шагнул вперед, гневно стискивая кулаки.
— Что ты, племянничек! Я просто пыли наглотался, — оправдывался Димитрий. — Вот она и лезет наружу.
Хотя в его бороде затаилась усмешка, глаза смотрели на Романа с легкой, чуть ироничной грустью.
— Скажи, — после некоторого молчания спросил он, — та, которая одарила тебя своей любовью — не дочь ли Феофила, прекрасная Алевтина?
Роман подошел и отворачивая в сторону лицо, оперся рядом с ним на каменный простенок.
— Об этом поговорим позже, — неохотно ответил он.
— Что ж, после так после, — согласился стратег.
Хлопнув ладонями по коленям, он поднялся на ноги.
— У меня до ночи дел невпроворот, — Кантакузин неодобрительно глянул на солнце, низко висящее над горизонтом. — Да и у тебя их должно быть немало.
— Сегодня в дозор выставь самых надёжных своих людей, — кинул он на прощание и двинулся к лестнице, ведущей вниз с крепостной стены.
Роман проводил его взглядом, затем медленно, стараясь ничего не упустить, прошелся вдоль линии участка, занимаемого его отрядом.
Уже совсем смеркалось, когда он, завершив обход, спустился вниз и потребовал себе коня. Оруженосец из числа слуг Кантакузина подвел к нему жеребца и подал поводья. Бросив последний взгляд на темные силуэты башен, Роман направился в город. На полпути к центру Константинополя его внимание привлекли доносящиеся со стороны мелодичные звуки лютни. Он поворотил коня и прислушался.
Неподалеку, в центре небольшой площади, с трех сторон затёртой жилыми постройками, ярко полыхал костёр. Вокруг плотным кольцом сидели люди, чьи тени, как живые, плясали на стенах окружающих домов. Заинтересовавшись, Роман спешился, кинул поводья на руки оруженосцу и со словами: «Жди меня здесь», направился к костру.
В середине круга, близко к огню, сидел незнакомый человек и обратив к огню тонкое и одухотворенное, как у ангелов на стенных росписях лицо, задумчиво перебирал струнами своей лютни. Внезапно он резко ударил по ним и громкий, надрывный звук взметнулся в небеса, растворяясь и угасая там, подобно искрам горящего костра.
— Я спою вам песню, — отстраненным голосом произнес он, — которая сейчас рождается во мне.
Он вновь рванул струны и лютня отозвалась жалобным, плачущим восклицанием.
Десятки столетий минули с тех пор, Как под натиском злобных и диких племен Повергнуто в прах вековое могущество Трои. Нет, не отвагой, не удалью и не воинской силой, Но низким коварством, изменой продажных сограждан Сломлен дух неприступной и гордой твердыни. Из-за пены людской, под покровом тьмы распахнувшей ворота, Пропустивших врага в глубину своей цитадели, Пали стены светлейшей, преславной жемчужины мира. Что сказать мне? Как язык повернется поведать, Всю ту боль, и страданье, и ужас троянцев, Узревших смерть близких, падение отчего дома? В час роковой они, утонченная, высшая раса, Превратились в несчастных гонимых скитальцев, За морями, в чужбине покорно просящих приюта. Агамемнон, Аякс, двоедушный Улисс, Менелай и свирепый, как пёс ненасытный Ахиллес — Вам, злодеям, проклятье людей на века! Много крови пролили вы в ослеплении алчном, Разрушая все то, что не создано вами, С той поры до скончания веков имена ваши черною славой покрыты!От гневного, обличительного пафоса слов у Романа захолонуло в сердце. Воцарившуюся тишину долгое время нарушало лишь потрескивание поленьев и гудение огня. Затем пальцы музыканта принялись вновь блуждать по струнам, извлекая из них звуки тихой и нежной мелодии.
— Спой нам что-нибудь о любви, Лаоник, — попросил один из сидящих, по виду — ополченец.
— О любви? — рассеянно переспросил певец. — Да, да, конечно же о любви! Но не о недолгой, скоротечной любви к женщине я хочу вам рассказать. Я поведаю вам о чувстве, которое сладкой болью томит мне сердце, не дает мне покоя ни ночью, ни днем. Я буду петь о том, что снедало меня все долгие годы, проведённые мною в дальних странах, в чужбине; о том, что привело наконец меня сюда, в родные края, на родину предков.
Он поудобнее устроил лютню на коленях, откинул голову так, что длинные льняные локоны рассыпались по плечам, и запел.
Он пел о вечном городе и о безвозвратно уходящем времени, о времени, в суете людской беспечно растрачиваемом по пустякам.
Он пел о стране, сумевшей на века продлить скоротечность человеческого счастья, полноту и радость духовного бытия.
Он пел об островке гармонии среди хаоса противоречивых страстей, о рае на земле, о кладезе знаний, любви и вечного вдохновения.
Он пел о воплощенном символе всепобеждающего Искусства, о бесценной культуре, хрупкой преграде на пути бушующего половодья дикости и вандализма.
Он пел о Византии.
Чары его чистого, необыкновенно мягкого голоса завораживали слушателей, проникали в душу и плоть, погружая в блаженное оцепенение. Как бы аккомпанируя певцу, постреливал искрами костер, тихо шурша, осыпались уголья, красные блики огня блуждали на бородатых изможденных лицах, высвечивая неподвижные, устремленные в пламя взоры.
Песня закончилась. Последний аккорд вылетел из-под струн, отразился от стен ближайших домов и стих, оставляя после себя печаль и ощущение близкой утраты.
Как бы отгоняя наваждение, Роман тряхнул головой, повернулся и пошел прочь.
«Так, должно быть, Орфей заставлял плакать камни», — подумал он, просовывая ногу в стремя.
Через несколько кварталов, на знакомом пересечении дорог, он вновь остановил коня. Не раз сопровождавший хозяина в его вечерних прогулках, слуга без лишних слов принял лошадь под уздцы. Роман соскочил на землю и хлопнул ладонью по конскому крупу.
— Если меня срочно вызовут, ты знаешь, где меня искать.
Пройдя немного, Роман приблизился к выщербленному участку ограды и быстро перелез через нее. С обратной стороны стены уже третью неделю была установлена позаимствованная с молчаливого согласия садовника переносная деревянная лестница.
Идти по мокрому от недавнего ливня парку не составляло удовольствия: как ни старался уберечься Роман, нижняя часть камзола и брюки пропитались водой, в правом сапоге чуть слышно захлюпала вода. Ступая на цыпочках, он подошел к боковому фасаду дома. На втором этаже, над галереей, сквозь занавеси окон пробивались лучи света. Сотнику не потребовалось много времени, чтобы добраться до карниза, а затем и перепрыгнуть на балкон.
Алевтина полулежала на низкой софе, обитой шелком цвета багрянца. Ее длинные, золотисто-пепельные волосы рассыпались по подушке и плечам, пальцы нервно перебирали цепочку с маленьким золотым медальоном. В широко раскрытых глазах застыла грусть и тревога, она смотрела на освещенную лампадой икону Богоматери, но, казалось, не видела ее.
Заметив входящего через дверь балкона Романа, она вздрогнула и приподнялась на локте.
— Ты пришел? Слава Всевышнему!
— Я немного запоздал, прости. На всех постах димархи объявили повышенную бдительность — похоже, мусульмане решили крупными силами штурмовать город.
— Значит…, - она не договорила.
— Значит завтра, а может еще день или два, нам придется слегка попотеть.
— Ты так спокойно говоришь об этом?
Роман пожал плечами и устроился на краешке софы. Алевтина вскочила, быстрым шагом подошла, почти подбежала к иконе. Всмотревшись в темный от времени лик, она резко повернулась к молодому человеку.
— Ты можешь улыбаться, зная, что завтра лицом к лицу столкнешься со смертью?
— Ну не в первый же раз, — спокойно ответил он.
И усмехнувшись, добавил:
— Я частенько прогуливался под руку с Костлявой, но видно так и не сумел приглянуться ей.
— Не смей так говорить! — пронзительно закричала она, зажимая уши ладонями.
Затем, как подкошенная, опустилась на пол и зарыдала. Не на шутку перепуганный, Роман вскочил и подбежал к ней.
— Алевтина, ангел мой, прости меня! Я, дурак, бахвалился перед тобой как пьяный солдат. Больше не буду….. прости!
Он осыпал ее лоб поцелуями. Затем подхватил на руки и легко, как ребенка, отнес на софу.
— Алевтина, ну перестань…. Неужели мои глупые слова….
— Нет, это не только слова, — она отняла руки от мокрого от слез лица. — Еще до твоего прихода я вспоминала всех знакомых мне молодых людей, которые наравне с тобой взялись за оружие. Где они? Их больше нет! Леонид Кафар, Анастасий Малин, Николай Акопан, Максим Нотар, твои друзья Франческо и Мартино — все они погибли! Все!
Она зарыдала еще горше.
— Я вижу, я чувствую, как Смерть кругами ходит возле меня. И с каждым разом она все ближе и ближе. Я знаю, она хочет отнять у меня самое дорогое — отца и тебя.
Роман растерянно топтался рядом, не зная, как утешить плачущую девушку.
— Алевтина, ну не надо! Успокойся же, дорогая!
Он наклонился и припал губами к ее шее в том месте, где разметавшиеся волосы обнажили пятнышко кожи. Рыдания стихли, она приподнялась и крепко обхватила его руками.
— Прошлой ночью я видела страшный сон, — дрожащим голосом проговорила девушка.
На ее раскрасневшемся лице блестели в пламени свечей влажные дорожки от слез.
— Я стояла на берегу, а ты, смеясь, на лодке плыл ко мне через волны. Внезапно…., - она запнулась, — внезапно вода на горизонте покраснела и эта багровая полоса стала стремительно приближаться к тебе. Все ближе и ближе….. Я вскрикнула, зажмурилась, а когда открыла глаза…..
Она всхлипнула и уткнулась лицом в плечо своего возлюбленного. Роман погладил девушку по волосам и нежно поцеловал в висок.
— Когда я открыла глаза, — она распрямилась и устремила остекленевший взгляд в окно, — все море вокруг тебя было в крови. Даже пена на волнах, и та была розового цвета. Кровавые буруны захлестывали тебя, ты выбивался из сил, кричал мне что-то. А я стояла и беспомощно смотрела, как красная вязкая пучина все глубже затягивает тебя на дно.
— Глупый сон! — решительно заявил Роман. — Посуди сама, Алевтина….
— Роман! — она положила ему руки на плечи. — Пообещай мне выполнить одну мою просьбу.
— Какую, радость моя?
— Дай слово, что завтра ты не поднимешься на Стены!
Сотник оторопел.
— Как это так?
— Пообещай! Я больше никогда ни о чем не попрошу тебя.
— Но дорогая, я не могу! Мой участок, мои воины…. Как я потом оправдаюсь, как я взгляну им в глаза?
— Это несложно. Скажись захворавшим.
— Бог мой, Алевтина, что ты говоришь? — Роман вскочил и взволнованно заходил по комнате. — А честь? Честь дворянина? Не говоря уж о долге перед людьми и клятве, данной императору.
— День! Один только день! — молила она.
— Нет, Алевтина! Нет и нет! Мне странно слышать от тебя такие речи. Из-за какого-то кошмара, дурного сна ты предлагаешь мне стать отступником? Ты боготворишь своего отца, но как бы он поступил, если бы я решился выполнить твою просьбу? Да он тут же приказал бы повесить меня на крепостной стене и был бы тысячу раз прав!
Девушка опустила голову на скрещенные на коленях руки. Плечи ее мелко вздрагивали. Роман подошел к ведущей на балкон двери, приоткрыл ее и выглянул наружу. Затем вернулся к софе и нерешительно топчась на месте, встал около Алевтины.
— Ангел мой, — неуверенно начал он. — Если тебе сегодня нездоровится…
Он замялся.
— Может, мне лучше уйти?
Девушка бросилась к нему и крепко обняла.
— Нет, нет, не уходи! Я говорила глупости, сама знаю это. Но говорила лишь потому, что хочу одного — чтобы ты не погиб. Живи на радость мне! Только об одном молю тебя: в течении одного — двух дней будь предельно осторожен. И тогда, клянусь Богородицей, ты будешь спасен!
ГЛАВА XL
— Ты звал меня, мастер?
— Да. Присядь, — Феофан указал на кресло напротив себя.
— Как твое плечо? Рана зажила?
Алексий поморщился и кивнул головой.
— Пока не совсем. Швы наложены умело, но при резких движениях края расходятся вновь.
— Надо беречь себя, — вздохнул старик. — Не поднимайся на ноги без особой на то необходимости.
— Но сейчас мне нужна твоя помощь, — чуть помедлив, добавил он.
— Я слушаю, мастер.
— Среди преданных нашему делу людей необходимо найти человека, способного справиться с ответственейшим поручением. Он должен быть готов добровольно пожертвовать жизнью.
— А именно?
— Под видом перебежчика он явится в лагерь османов и убедит султана принять его. Само по себе это не должно оказаться сложной задачей: он пообещает содействие группы изменнически настроенных горожан, которые в ночь перед штурмом якобы обязуются открыть одни из крепостных ворот.
— Затем, приблизившись к Мехмеду, убьет его, — кивнул головой Алексий и поднялся на ноги.
— Мне непонятно лишь одно, мастер, — произнес он, глядя прямо в глаза Феофана. — Почему это решение пришло к тебе столь поздно?
— Видишь ли, сын мой, наивный старик до последнего дня надеялся на счастливый исход. А так как эта попытка заранее почти обречена на провал, оттягивал как мог окончательное решение. Ведь покушение, в случае неудачи, вызовет в придачу к чисто захватническим планам еще и личную месть султана. Но ты не ответил мне, можешь ли ты в течении дня найти такого человека? Оказаться в шатре султана — трудно, но возможно. Неизмеримо сложнее пронести вовнутрь оружие, чтобы тем или иным способом покончить с Мехмедом.
— Это не просто, — согласился Алексий. — Но ничего невозможного я в том не вижу.
— Ты знаешь такого человека?
— Да, мастер. Через час я буду готов.
— Ты? — голос старика дрогнул. — Ты не можешь. Ведь твоя рана еще не зажила.
— Моя рана мне не помеха. На первый же вопрос отвечу, что если и существует человек, способный осуществить покушение, то этот человек — я.
— Ты нужен мне здесь, — тихо произнес Феофан.
— Мастер, — усмехнулся Алексий, — неужели ты и впрямь полагаешь, что я могу кому-нибудь уступить право разделаться с султаном?
Феофан отвернулся к окну.
Нелегко, взрастив чужого ребенка как собственного сына, послать его затем на верную смерть. Ведь с мгновения, когда он переступит порог султанского шатра, он — мертв. Мертв, вне зависимости от успеха покушения. Но вправе ли он, Феофан, отказав своему приёмному сыну, послать на смерть другого человека? Заранее зная к тому же, что едва ли кто, кроме Алексия, сможет осуществить задуманное.
Душа старика разрывалась от горя.
— Ты не в состоянии пронести оружие в шатёр, — он отрицательно покачал головой. — Голыми же руками убить человека, окруженного свитой из опытных головорезов…. Нет, это невозможно…..
— Это моя забота, — возразил Алексий. — Дозволь мне, мастер, самому решать, что возможно, а что — нет.
— Когда я должен явиться к султану?
— Этой ночью, — старик смирился с судьбой.
— Перед уходом зайди проститься со мной.
Алексий почтительно наклонил голову.
Феофан еще долго смотрел на закрывшуюся за ним дверь. Даже когда страдание не имеет границ, нельзя распускать себя, давать волю чувствам. Что значит одна человеческая жизнь, когда речь идет о сохранении целого народа?
Алевтина приподнялась на локте, провела кончиками пальцев по лбу Романа, отбросила налипшую прядку волос. Молодой человек спал крепко. Его мускулистая грудь, чуть прикрытая пушком курчавых волос, поднималась и опускалась в такт дыханию мерно и ровно, подобно кузнечным мехам. Она смотрела на него и сердце ее сжималось в тоске и в тревоге.
Статный и красивый, знатного происхождения, по материнской линии восходящий к некогда царскому роду Кантакузинов, Роман был видным женихом в глазах многих византийских аристократок. И зависть, читаемая в их взглядах, подсказывала ей то, о чем она догадывалась сама — они с Романом пара, самим Провидением созданная друг для друга.
Но время беззаботной влюбленности прошло, и похоже, увы, безвозвратно. Часто, слишком часто в его глазах она видела тяжелую усталость, как, впрочем и у всех тех, кто изо дня в день принимал нелегкий, быть может последний в своей жизни бой. Усталость, еще не вошедшую в привычку; усталость, еще не успевшую растворить в себе прочие человеческие чувства, но уже начинающая притуплять и обесценивать их.
Поведение горожан и наемных солдат начинало заметно меняться. Гнетущая тревога находила выход во вспышках буйного веселья, а иногда и в беспричинной агрессии. Привычное мироощущение вытеснялось жаждой чувственных наслаждений. Обжорство, пьянство, похотливость, и как другая крайность — религиозное исступление, подводящее на грань языческих жертвоприношений. Люди торопились, спешили жить, зная, что истекают их может быть последние дни.
Она всем своим существом стремилась раствориться в них, разделить с ними их нелегкую ношу. Бороться, страдать и может быть, погибнуть. Но все ее порывы рассыпались в прах, когда она столкнулась с реальностью. Отец лишь поначалу препятствовал ей, стремясь оградить дочь от ужасов войны. Но потом, устав от ее просьб, все же дал свое согласие. Алевтине никогда не забыть тот пережитое ею потрясение при виде людских страданий и боли, при виде крови и истерзанной в боях плоти. Стиснув зубы, она пыталась накладывать бинты и корпию, но это не получалось у нее хорошо. Монахини, выхаживающие раненых, зачастую оттесняли ее, иногда терпеливо и участливо, иногда — с оттенком досады.
— Отойди, барышня, эта работенка не для тебя, — не раз слышала она.
И ей пришлось уйти после того, как очередное потрясение от увиденного лишило ее чувств. Настоятельница монастыря, в котором размещен был госпиталь, хотя и деликатно, но в достаточно ясных выражениях дала ей понять, что не считает нужным отвлекать опытных сиделок от страдальцев, лишь затем, чтобы приводить в сознание чрезмерно впечатлительных девиц.
— Ты лучше вместе с нами возноси молитвы, сестра, — напутствовали ее монахини. — Молись и о душах усопших, помогай их обездоленным семьям.
Да, просить у Всевышнего милосердия! Это все, что она была в силах делать.
Алевтина вскочила с кровати и не чувствуя прохлады половиц под босыми ногами, подбежала к иконе Богоматери. Опустилась на колени, вглядываясь в темный лик, почти неразличимый в в слабом, подрагивающем пламени лампады. И надолго застыла так, пытаясь подавить нарастающее смятение.
— Господь Всемогущий, Отче наш, — шептала она, молитвенно сжав на груди ладони, — Спаси, избавь нас от этой напасти.
Она непроизвольно всхлипнула.
— Сделай так, чтобы следующий день никогда не наступал.
На востоке, сквозь полуприкрытые ставни окон, белела на горизонте полоска света занимающейся зари.
— Переселение народов представляется мне процессом по большей части стихийным. И в это слово я вкладываю почти буквальный смысл. Подобно волнам от брошенного в воду камня, потоки миграции распространяются во все стороны и одна волна переселенцев нагоняет, давит, теснит предыдущую. Там, где возможность свободного продвижения ограничена естественными причинами — берега Великого океана, непроходимые горы, безводные пустыни или вечный холод северных земель — миграция останавливается или идет вспять, в обратном направлении. Если подобных причин нет, народы устремляются вперед, до тех пор, пока не иссякнет их поступательная энергия.
— Но что вызывает эти волны?
— О, причин может быть множество. Голод, неурожай, засуха, болезни, — Феофан отпил из золоченой чаши и продолжил, — а также исчерпанные ресурсы своих земель, перенаселенность, агрессия соседних народов.
К примеру, где-то на краю света, у границ земель желтокожих синов, в течении двух-трех лет не выпадали дожди. Явление на самом деле довольно заурядное в природе. Тогда, как можно предположить, солнце быстро выжжет почву и бесчисленные кочевые племена узкоглазых людей, дальних родственников гуннов, придут в движение — истощенные пастбища уже не в силах будут прокормить их стада. Спасаясь от вымирания, всем своим укладом накрепко привязанные к скоту, они вынуждены будут перемещаться на соседние земли, туда, где могут надеяться найти прокорм для своих животных. Но свободных территорий давно уже нет, если они когда-либо вообще существовали. Тем самым кочевники неминуемо вступят в конфликт с народами, на чьих землях они вознамерятся переждать тяжелые времена. Они выжмут коренных жителей с их насиженных мест, погонят их прочь, а могут и просто уничтожить, если те окажутся достаточно упорными, чтобы посторониться или дать себя поработить.
— Почему же эти народы не отражают неприятеля? Ведь оседлость предполагает государство, зачастую с сильной княжеской властью и регулярным войском, — задал вопрос Феофил.
— Почему? — Феофан пожал плечами. — Ответ очевиден — пришельцы сильнее и многочисленнее. Они мобильны, постоянно в движении, перемещаются с места на место и могут покрывать при этом громадные расстояния — ведь это необходимо для их выживания. Они до крайности неприхотливы — на том построен весь их быт. Кочевники дики, злы и агрессивны. Пока центральная власть попадающей под завоевание страны опомнится от присущей ей беспечности и начнет принимать меры, захватчики, волна за волной, подточат пограничные заслоны и устремятся вглубь земель. Прирожденные наездники, великолепные стрелки из луков, грабители по крови и по духу, они боеспособнее даже профессионального войска. Потерпеть поражение, отступить, когда отступать некуда, означает для них гибель, уничтожение всего, что составляет смысл существования человека — семьи, рода, нажитого многими поколениями имущества. Они будут драться до последнего. И потому кочевые бродячие народы — первейшая опасность для молодых, еще неокрепших государств.
— Человечество не раз наблюдало это на примере гуннов, арабов и монгол, — кивнул головой Исидор.
— Им несть числа, — возразил Феофан. — Уважаемый прелат привел наименования лишь нескольких народностей, оставивших в памяти людской наиболее масштабные и кровавые злодеяния. А сколько было прочих, бесследно канувших в Лету? Ведь разрушая захваченное, они взамен не созидали ничего, лишь иногда походя перенимали уклад и обычаи местных жителей. Наглядный пример тому Болгарское царство. Поначалу дикие, булгарские кочевники впоследствии без следа растворились в покоренных ими славянских племенах, и, попав под владычество ромеев, переняли от нас нашу веру и государственный строй, сохранив в истории лишь имя своего народа.
— Это достаточно спорное утвеждение, — покачал головой Исидор.
— Как некогда ранее те же славянские племена, впоследствии покоренные булгарами, потеснили и растворили в себе фракийцев, народ, с незапамятных времен населявший эти земли, — не слыша возражения, продолжал Феофан.
— История идет по кругу, — Феофил развел руки в жесте безмолвного покорства перед Судьбой. — Тем более, мы, обладая знанием, должны были найти способ уберечься от катастрофы, используя опыт ошибок и побед, накопленный нашими предками.
— Кто как не ромеи, сломили мощь и погнали прочь орды гуннов, завоевателей Европы! — стукнул кулаком об подлокотник кресла Нотар. — И разве это единственный пример?
— Да, — согласно кивнул головой старый дипломат, — именно Византии принадлежит честь развенчания мифа о непобедимости кочевников. Мобилизировав все свои силы, призвав на службу весь свой вековой опыт борьбы с завоевателями, не обретшими государственности, нашим войскам удалось отразить натиск армии Аттилы. И не только его, как только что правильно отметил мастер Нотар. На протяжении веков Империя ромеев сдерживала полудикие азиатские племена, рвущиеся на покорение Запада. Там, где не было смысла возводить могучие крепости и задействовать войска, неприятелей сдерживали золотом и богатыми дарами. В самом деле, не лучше ли, чем годами гоняться за мелкими отрядами грабителей, предвестников скорого переселения пришлых народов, переманить их к себе на службу, подкупив их предводителей? Или, даровав им прежде малолюдные земли, прикрепить их к ним, сделать оседлыми. Так наша дипломатия и поступала, за исключением тех случаев, когда гордыня и амбиции новоизбранных венценосцев и их окружения не толкали Империю на военные походы, сулящие на первый взгляд лишь легкую победу, а значит и славу, и триумф, закрепляющий власть. Здесь-то и запрятано слабое звено: победа зачастую таит в себе поражение. Примеров тому можно привести немало. Борьба с могучей персидской державой, доставшаяся нам в наследство от наших предков — римлян, а им, в свою очередь — от эллинистических государств, подточила мощь двух колоссов. Когда рухнул, разбитый нами на множество осколков-княжеств наш вековой неприятель, то вместе с ним исчез и естественный барьер, буфер между Византией и полудикой, племенно-кочевой Азией. Не сдерживаемые более персами, хлынули через пограничные области поначалу арабы, а затем пришедшие им на смену тюрки-сельджуки. И этим набегам противостоять оказалось значительно сложнее.
— Уважаемый Феофан упускает некий немаловажный факт, — проговорил Нотар, бегло взглянув в сторону кардинала. — Первое падение нашей государственности вызвали не дикие, нецивилизованные пришельца с востока, а не уступающие им в первобытности и злобе народы Запада. Наши единоверцы, паломники, подобно нам проповедующие учение Спасителя, обманным путем завладели столицей и устроили в ней такой разгром, которому могли бы позавидовать те самые наводящие ужас гунны с монголами. Затем, не в силах изобрести что-либо лучшее, глупо скопировали наш государственный строй и правя страной, как своей деревенской вотчиной, довели империю до полного упадка. Именно на них, а не на азиатах, лежит вина за нашу сегодняшнюю участь.
— Уважаемый Нотар и прав и не прав одновременно, — возразил Феофил, — Да, спору нет, трагедия 1204 года и образование Латинской империи явилось тяжелым ударом для Византии, но спустя полстолетия ромеи отвоевали у франков свои земли. И в течении всего оставшегося времени, а это почти два века, у византийцев было немало возможностей хотя бы отчасти восстановить былую мощь оружия. Но, увы, ни наши предки, ни мы сами не смогли в должной мере возродить порушенное.
— Быстро только сказка сказывается, — ответил мегадука. — Снесенное под самый фундамент здание не отстроить в короткий срок. Равно как и раненное животное не скоро оправится, если стервятники вокруг него без устали клюют и рвут его еще не зажившие раны.
— Я согласен с уважаемым Феофилом, — заметил Феофан. — Ромеи, и прежде всего бесконечно сражающиеся за власть претенденты на трон василевсов не сразу распознали в турках-османах опасного соседа, способного, в отличие от прочих, резко усилиться за счет покоренных народов. За какой-то короткий срок, не более столетия, они сумели сплотить свои кочевья, осесть на уже захваченных ими землях и организовать государство, способное не только выжить, но и повести завоевательные войны.
— Неудивительно, учитывая стремительный прирост их населения, — пожал плечами Исидор. — Если каждому мусульманину разрешено иметь четырех жен, а количество наложниц и рабынь зависит лишь от размеров его кошеля; если каждый мальчик, родившийся в этой семье, неважно от кого, от законной жены, или от невольницы, считается турком и мусульманином, и в свою очередь жаждет обзавестись гаремом, чтобы продолжить свой род……
— …если также учесть, — подхватил Палеолог, — что в случае необходимости, турки бросают клич к всеобщему вооружению и призывают на помощь войска своих вассалов и сопредельных племен….
— ….то армию в короткий срок они смогут собрать поистине несметную, — закончил Феофан. — Это именно то, что мы можем лицезреть сейчас под стенами нашей столицы. Но не будем заглядывать вглубь веков и винить в недальновидности упокоившихся вечным сном правителей и военачальников. Как знать, может спустя столетия и мы предстанем перед судом потомков.
Тяжелое молчание на некоторое время зависло в воздухе.
— В нас, ромеях, слишком глубоко сидит фатальное отношение к жизни, — задумчиво произнес Исидор. — Даже тогда, когда есть возможность отразить удары Судьбы, мы зачастую упускаем этот случай.
— Вот как? — вскинулся Нотар. — Что же мешает почтенному прелату отбросить эти глупые суеверия, пренебречь влиянием Рока и своей волей изменить ход течения событий?
— В моих руках слишком мало власти, — возразил кардинал.
— Тогда их самое время умыть, перекладывая вину на плечи остальных, — язвительно ответил мегадука. — Что сделал для этой страны уважаемый нами посланник Рима? Подвиг папу Николая на крестовый поход? Завербовал союзников в далеких княжествах и королевствах? Нет! Собрал ли он своими стараниями внушительное войско? Я говорю не о тех жалких трех сотнях солдат, которые для турецких жерновов что крохотная горсть зерна, а сильное, боеспособное войско, подобное тому, которое сколотил кардинал Джузеппе Чезарини? Нет! Он более склонен подавать нам советы…
— Кардинал ежедневно рискует своей жизнью на стенах, — сурово возразил Палеолог.
— Ха! Невелик подвиг, если его ежедневно повторяют остальные семь, или нет, сейчас уже пять тысяч бойцов, — в запале спора Нотар начал терять над собой контроль. — Пожертвовать жизнью может каждый пахарь, но от сильных мира сего требуется нечто большее……
— Я делаю все, что в моих силах, — спокойно ответил Исидор. — Если потребуется, я душу дьяволу готов продать, чтобы спасти Империю.
При упоминании имени нечистого мегадука непроизвольно передернулся, осенил себя крестом и возмущенно уставился на прелата. Протостратор спрятал в бороде улыбку и взглянул на Феофана. Старик молчал, погруженный в свои думы, лишь пальцы правой руки по привычке теребили на левом безымянном пальце перстень. Перстень, которого там уже не было.
— Видно, сделка не столь уж и привлекательна, если тот, чьё имя не должно произноситься вслух, не торопится ее заключить, — не слишком громко, но достаточно внятно бросил Лука в сторону.
Воцарилось неловкое молчание. Мегадука обратил внимание на непроизвольные движения руки Феофана. Любопытство взяло верх над тактичностью.
— Мастер Феофан оборонил свой перстень? — спросил он как бы невзначай. — Я помню эту фамильную драгоценность. Ее часто надевала в дни приема у императора покойная матушка хозяина этого дома. Хотя, на мой взгляд, крупный бриллиант в затейливой оправе смотрелся несколько тяжеловесно на изящной женской руке.
— Что? — рассеянно переспросил старый дипломат. — Ах, перстень! Простите меня, друзья мои, я немного задумался. Перстень покинул меня навсегда, но поверьте, я ничуть не сожалею о том. Волею судьбы в нашем роду не осталось наследников, которым по праву должна была перейти эта дорогая безделушка. И потому она ушла в другом направлении. Но это пустяк, не заслуживающий упоминания. Нет, я думал о другом. Я думал о человеке, которому позволил возложить себя на жертвенный алтарь. Меня гнетет сознание, что эта жертва не будет оправдана. И тогда моя жизнь в моих глазах обесценится еще более.
— В голосе уважаемого Феофана звучит горечь и боль, — медленно подбирая слова проговорил Исидор. — Я был бы счастлив, если бы мог, как духовное лицо, снять с него часть душевных страданий и помочь обрести хотя бы малую толику покоя.
— Благодарю, святой отец, — со слабой улыбкой на лице повернулся к нему Феофан. — Я уже давно позабыл тот день и год, когда последний раз исповедался. И вряд ли когда-нибудь ощущение необходимости в том посетит меня вновь. Но зачастую мне кажется, что тяжесть груза, который способна выдержать человеческая душа, имеет свои пределы.
— Что ты говоришь? Какой человек?
Погруженный в блаженное оцепенение, Мехмед никак не мог уразуметь, что шепчет ему на ухо Улуг-бей. Слова доходили до него как бы издалека, с трудом протискиваясь сквозь замутившие сознание винные пары.
— Мой повелитель, у твоих дверей стоит человек, называющий себя перебежчиком из города, — терпеливо втолковывал ему начальник охраны.
— Перебежчик? — уяснил наконец Мехмед. — И из-за этого ты смеешь нарушать мой покой?
Он примолк, подбирая в уме подходящую кару за дерзость подчиненного.
— Но он желает оказать помощь. Это важно! Утверждает, что может показать путь в город. Отказывается сообщать что-либо нам и желает говорить только с великим султаном. Может применить пытку?
— Что? — Мехмед потихоньку начал трезветь. — Он знает дорогу в город? Какую дорогу?
— Он говорит, что многие горожане рады распахнуть ворота перед султаном.
— Тихо!…. вы, там! — рявкнул Мехмед в сторону музыкантов.
Мелодия резко оборвалась. Музыканты, подхватив свои инструменты, вместе с танцовщицами цепочкой бесшумно устремились к выходу.
— Почему он не приходил раньше?
— Не знаю, господин. Но, может, он сам все скажет?
— Хорошо, веди его сюда.
Евнух-постельничий помог султану принять сидячее положение и осторожно водрузил ему на голову обронённый тюрбан.
У входа в шатёр возникла небольшая возня.
— Что там происходит? — лениво осведомился султан.
— Ты не смеешь задерживать меня! Я должен немедленно видеть своего господина! — донесся от двери визгливый голос.
Шахаббедин обеими руками отталкивал с дороги Улуг-бея, в то время как тот пытался за шиворот вытащить коротышку вон из шатра.
— Шахаббедин! — окликнул Мехмед. — Подойди ко мне.
Евнух вырвался из цепких рук начальника стражи и на ходу оправляя халат, быстро подбежал к ложу султана.
— Прости, повелитель, я ворвался к тебе без зова, — запричитал он, стоя на коленях, — но там, у дверей, стоит человек…..
— Знаю, — отмахнулся Мехмед. — Перебежчик от христиан.
— Да, да, господин. Он так называет себя. Но он не похож на того, за кого себя выдаёт.
Султан насторожился.
— Почему ты так думаешь?
— Он весь в крови….
— В крови? — перебил Мехмед. — Улуг-бей?
— Господин, — начальник стражи шагнул вперед. — Тот человек говорит, что стража гяуров пыталась его задержать и что в схватке с ними ему рассекли плечо и поставили на лоб отметину.
— Это так?
Улуг-бей развел плечами.
— Я думаю, он лжет, господин, — вместо него ответил смотритель гарема. — Пусть у него лицо и одежда в крови, но это еще не доказывает, что он силой прорвался из города.
— Что заставляет тебя сомневаться?
— Его глаза, мой повелитель! В них нет подобающего перебежчикам страха и почтения. Они злы. Этот человек не пришел с добром!
Мехмед заколебался.
— Его обыскивали?
— Да, мой господин, — ответил Улуг-бей. — Это первое, что было сделано. При нем был только меч со следами крови, который мы сразу же отобрали. Шахабеддин присутствовал при этом, пусть сам подтвердит.
Он подтолкнул смотрителя гарема в спину.
— Да, — неохотно признал тот. — Я находился рядом.
— Тогда чего же мне остерегаться?
— Не знаю, господин, не знаю, — зачастил евнух. — Я боюсь за тебя, мне неспокойно на душе. Гяуры коварны, они способны на всё. Они даже могут послать на тебя порчу. Всем известно, как много у них нечестивых колдунов. Они хотят твоей смерти!
Мехмед презрительно рассмеялся. Он не боялся сглаза. Оружие — дело другое. Оно создано для убийства. А россказнями о тёмных чарах и насылаемой порче пусть древние старухи потчуют не в меру доверчивых или детей.
— Слишком много людей жаждет моей смерти. Но если они действительно хотят извести меня, пусть придумают способ подейственней, чем вытаращенные глаза какого-то гяура.
Он хлопнул в ладоши.
— Улуг-бей, прикажи ввести горожанина ко мне.
— Стой, Улуг-бей! — крикнул Шахаббедин, запрещающе вытягивая руку к нему.
Мехмед от негодования едва не потерял дар речи..
— Ты что же, ничтожный, перечить мне вздумал? Или от страха совсем лишился разума?
— Прикажи казнить меня, но прежде выслушай! Помнишь ли ты, мой повелитель, смерть прадеда своего, доблестного султана Мурада I?
Мехмед вздрогнул. Об этой смерти он был хорошо наслышан.
— В разгар боя с сербами, — продолжал Шахаббедин, — один из гяуров, прикинувшись перебежчиком……
— …..перебежчиком, мой повелитель! — перебил он самого себя и значительно вытянул палец к потолку.
— Так вот, господин, — евнух чуть ли не захлебывался в словах. — Обманом приблизившись к престолу, этот серб выхватил спрятанный на груди кинжал и насмерть заколол не в меру доверчивого султана!
Мехмед протрезвел окончательно.
— Да, ты прав, всё было именно так, — угрюмо произнёс он.
— Как можем мы знать, не задумал ли этот гяур подобное злодеяние? Ведь, вспомни, завтра ты поведешь войска в решающий бой! Но если бесценному твоему здоровью будет нанесен ущерб (да вырвет Аллах мой грешный язык!), кто возглавит твои полки? Визирь, который только и мечтает распустить по домам солдат великой армии? Или бейлер-беи, которые во всём с ним заодно? Я знаю, тебя, воина по духу и по крови, опасность не может устрашить. Но, мой повелитель, ты рискуешь не только собой! Впустив к себе этого человека, ты рискуешь славой и мощью всего султаната, который без твоей направляющей воли рассыплется, как постройка из песка!
Мехмед вскочил и взволнованно заходил по подушкам.
— Да, это так! Но…. не могу же я прогнать человека, который может и принесет мне бескровную победу. И только потому, что его глаза не приглянулись главному евнуху! — недовольно бормотал он.
— Если ты не желаешь посредника между вами, впусти его, господин, впусти. Но молю, окружи гяура кольцом стражников и не подпускай к себе ни на шаг.
— Так я и поступлю. И еще одно: чтобы полностью успокоить твое сердце, Шахаббедин, я повелеваю тебе принести мою любимую кольчугу из дамасской стали и облачить меня в нее.
— Мой господин! Никто не может сравниться с тобой в умении одаривать счастьем своих слуг! — евнух склонился в глубоком поклоне.
— Зачем ты пришел?
Перебежчик оторвал голову от пола. Левая часть его лица была покрыта полосами плохо стёртой крови из глубокой ссадины на лбу — ссадины, которую он сам себе нанес перед приходом в османский лагерь.
— Прости меня, о султан, — он с трудом, как бы пробуя на язык, подбирал слова, хотя турецкую речь знал в совершенстве.
— Мои братья там, — он указал в сторону города, — они хотят мира. Они не любят воевать. Они любят свои семьи, они любят иметь деньги. Они любят жить. Они посылают меня к султану сказать: «Мы отворяем ворота султану, а он за это оставляет нас в покое».
Мехмед переглянулся с Шахаббедином и с вызванным в шатёр Саруджа-пашой.
— Как они собираются сделать это?
Византиец открыл было рот для ответа, но вдруг его лицо исказилось и он схватился за левое плечо.
— Рука болит, — пояснил он и оперся о пол здоровой рукой.
— Можешь встать, — разрешил султан.
И обратившись к смотрителю гарема, вполголоса произнес:
— Это не убийца. Видишь, рана настоящая и он едва держится на ногах.
— Но, мой господин, — так же вполголоса отвечал евнух, — у него телосложение бойца, а не мирного жителя.
Мехмед недоверчиво хмыкнул.
— Пусть я ошибаюсь, господин. Но умоляю, держись настороже!
Византиец поднялся с колен и знаками показал, что у него пересохло в горле. Саруджа-паша, презрительно морщась, приказал одному из слуг наполнить чашу вином и поднести ее горожанину. Евнух пристально смотрел на перебежчика. Показалось ли ему или на самом деле гяур стоит уже чуть ближе, чем находился прежде?
Не успел стражник приблизиться к византийцу, как тот, едва не упав, сделал два шага навстречу, подхватил чашу с вином и провозгласив здравицу в честь султана, одним духом опорожнил ее. Шахаббедин отметил про себя, что перебежчик на место так и не вернулся.
Алексий, в свою очередь, из-за края чаши окинул шатер быстрым взглядом. На расстоянии пяти шагов от него стояло полукругом шестеро рослых широкоплечих стражей. С каждого края ложа султана расположилось по двое воинов. Еще двое — за его спиной. Итого — двенадцать. По левую сторону от Мехмеда стоит начальник охраны, тот самый, который приказывал обыскать его; по другую сторону — двое сановников, один из которых, судя по его дряблому безволосому лицу — евнух. До самого Мехмеда не менее пятнадцати шагов. С помощью ухищрений удалось немного сократить это расстояние, но все равно, шансы на успех ещё были очень малы.
Ступни Алексия вновь задвигались по ковру, как бы в поисках надёжной опоры.
— Ты не ответил на вопрос султана! — рявкнул Саруджа-паша.
— О, прости, господин! Как только мои друзья перебьют стражу, они дадут знак. Слуги султана пойдут и возьмут спящий город.
— Какой знак? — возбуждённо спросил Мехмед.
Алексий сделал шаг вперед и поклонился.
— Великий султан оставит им и их семьям свободу? Прикажет не трогать их дома?
— Да, да, — Мехмед дрожал от нетерпения. — Их пальцем никто не посмеет тронуть.
— Они помажут свои двери белой краской, чтобы воины султана не могли ошибиться.
— Довольно торговаться, гяур! — в бешенстве заорал Саруджа-паша. — Или ты сам называешь условный знак, или это выпытает из тебя палач!
— Зачем палач? Палача не надо! — византиец в притворном ужасе замотал головой. — Я всё скажу! Они должны зажечь на башне большой огонь.
Султан шевельнулся. Алексий уловил слабое, еле слышное позвякивание. Бес его побери! У него под халатом кольчуга. Значит, надо подобраться ближе, чтобы бить наверняка, в голову.
Мехмед в свою очередь не сводил глаз с перебежчика. Смутное воспоминание не оставляло его: без сомнения, он уже где-то видел этого человека.
— Но прежде воины султана должны подойти к самой стене, чтобы сразу войти в город. Моих друзей мало, они долго не удержат открытые ворота.
— А теперь ответь, — Мехмед приподнялся на ложе. — Где я мог видеть твое лицо.
— Мое лицо? — Алексий удивленно закрутил головой. — Я не знаю, о великий.
— Так, так, — Мехмед усиленно тер лоб. — Ты когда-то уже стоял передо мной….
«Проклятье! Сейчас этот змееныш вспомнит моё прошлогоднее посольство….»
И, хотя расстояние все еще оставалось немалым, а стража была начеку, Алексий решил попытать счастья.
— Господин, он приближается! — завопил смотритель гарема.
Алексий резко вытянул руки вперед и стукнул запястьями друг о друга. Послышался щелчок. Прорвав рукава, из умело замаскированных, прикреплённых к предплечьям пластин вылетели, выброшенные пружинами, два стальных клинка, каждый в пол-локтя длиной.
— Ай-яй! Беги, господин! — в ужасе заголосил Шахаббедин, мячиком откатываясь в угол шатра.
Византиец большими скачками мчался к султану; занесенные вверх клинки казались продолжением его рук. Оторопевшая поначалу стража лишь в последнее мгновение успела преградить ему путь. Послышались звуки сшибающихся тел, хриплые крики, брань. Один из стражников свалился на пол с разрубленным черепом, другой в толчее напоролся на копьё товарища. Еще один рухнул на колени и истошно вопя, пополз по ковру, прижимая к себе обрубок руки, из которого струей хлестала кровь.
Улуг-бей, скособочившись, рвал рукоять сабли, непостижимым образом застрявшей в ножнах. Выскочивший за дверь Саруджа-паша заполошно махал руками и громко сзывал на помощь янычар.
За это время Мехмед так и не сдвинулся с места. Он оцепенел от ужаса, не в силах был шевельнуть ни рукой, ни ногой. Широко раскрытыми, остекленевшими глазами он смотрел на образовавшийся у самых его ног клубок из переплетенных человеческих тел, живую многоголовую и многорукую массу, рычащую, воющую, хрипящую, брызгающую вокруг каплями крови.
Вовнутрь шатра, в суматохе и толчее, врывались янычары из наружной охраны. Не в силах разобрать, где свой, а где враг, зная лишь, что их повелителю угрожает опасность, они набрасывались на крутящийся вблизи самого ложа султана людской водоворот и рубили всех подряд своими кривыми ятаганами.
Мехмед с трудом открыл рот. Он хотел закричать, чтобы его немедленно окружили кольцом и отвели в безопасное место. Но из горла, сдавленного спазмом, вылетали лишь глухие, невнятные звуки.
Клубок сцепившихся воинов внезапно распался и прямо перед султаном выросла фигура подосланного византийцами убийцы. В его облике не многое оставалось от человеческого — по исколотому, иссеченному саблями телу струями бежала кровь; вместо лица блестела как бы лишенная кожи сплошная красная маска. Посреди которой страшным голубым огнем, огнем боевого безумия, полыхали два широко раскрытых глаза. Не издав ни единого звука, византиец стремительно и плавно, как жрец во время жертвоприношения, воздел над ним руки с торчащими из рукавов окровавленными клинками. Мехмед вскрикнул и без чувств повалился на подушки.
Это спасло ему жизнь: один из клинков пронзил воздух в том самом месте, где за мгновение до того находилась его голова, другой, хотя и распорол халат и кольчугу на груди, но, ослабленный броней, оставил на теле лишь небольшую ссадину. В тот же миг одна из рук Алексия отвалилась, отсеченная саблей Улуг-бея, на другой повис подскочивший сбоку янычар.
Вскоре всё было кончено. Рассвирепевшая до предела охрана еще долго рубила в крошево тело византийца и только потом, спохватившись, окружила султана двойным кольцом.
ГЛАВА XLI
День подходил к концу.
Затухающий огненный шар, багрово-красный, как холмик раскалённых углей, медленно опускался в море и, как бы не решаясь коснуться холодной поверхности воды, сжимался, вытягивая окружность в овал.
Перистые облака окрасились в пурпурно-розовые тона и незаметно меняя свои причудливые формы, неторопливо и величаво плыли вдаль по кристалльно-чистому, прозрачному и голубому небосводу.
Морские волны искрились россыпью драгоценных камней, перекатывали в себе пойманные солнечные лучи и мерцали глубинным, завораживающим взор сиянием.
С высоких башен прибрежных стен были видны лишь море и небо; дымка вечернего тумана скрадывала очертания дальних берегов. Очарование тишины, мирно угасающего дня не тревожилось даже кликами чаек, стремительными стаями парящих над поверхностью воды.
Но дозорные на башнях не замечали великолепия развернувшейся перед ними картины, им было не до услады мягкой негой майских сумерек. Их тревожило другое. Белые пятнышки парусов, показавшиеся с востока, обогнули южную оконечность города и устремились к городской стене.
Они несли с собой кровь и горе, разрушение и смерть. Кому как не византийцам было знать это?
Штурм сухопутных стен начался почти одновременно с атакой турецкого флота.
Над главными башнями Константинополя завились дымные шлейфы от костров. Увидев сигнал тревоги, звонари повисли на рычагах и канатах, приводящих в движение литые медные колокола. В дворах пугливо завыли собаки, протяжным голосами вторили им коровы и овцы, беспокойно затоптались в стойлах лошади и мулы. Стаи птиц поднялись в воздух и начали метаться над крышами домов, оглашая окрестности громкими криками.
Захлопали двери и ставни окон; матери звали к себе детей; по улицам бежали ополченцы, пристегивая на ходу перевязь с мечом или поправляя неловко надетый в спешке шлем.
— Тревога, тревога! — утробно гудели большие колокола.
— На помощь! На помощь! — на все голоса перекликались малые.
Услышав колокольный звон, как бы взывающий к Небесам о спасении, турки на мгновение замешкались, затем прибавили шаг, с удвоенной энергией колотя в бубны и медные тарелки, выкликивая боевые кличи и стуча клинками плашмя по деревянным и железным частям щитов.
Звуки неслись навстречу, сталкивались на полпути, теснили друг друга, подобно воинским отрядам. С одной стороны, под крики и топот ног, поддержанный завыванием сурр, мерно, как шум прибоя на обкатанной гальке, как шорох бесчисленных лапок насекомых по земле, катился дробный перестук барабанов и колотушек, с другой — в заоблачные выси взлетал тревожный звон церковного металла.
Город спешно готовился к отражению врага. По проходам вдоль зубчатых стен устремились на свои позиции вооруженные горожане, на винтовых лестницах и в гулких коридорах грохотали сапоги торопящейся стражи. В узких бойницах замелькали силуэты людей, из-за частокола бревенчатого сруба показались укрытые щитами фигуры наблюдателей. На площадках башен натужно скрипели вороты натягиваемых баллист и катапульт; под котлами, где топилась смола, заплясали языки разжигаемого огня. Распоряжения военачальников тонули в гудках сигнальных рожков и в звоне оружия; отдельными возгласами доносились голоса командиров, подбадривающих своих бойцов и ответные задорные выкрики воинов. Вскоре первоначальная суматоха улеглась, уступая место тревожному, напряженному ожиданию.
Османские войска не торопились с началом штурма. Наученные горьким опытом, они не рвались в бой, как прежде; напротив, было видно, что передвижение полков подчинено хорошо продуманному плану и руководится чёткими приказами командиров. Аккынджи, в большинстве своем составляющие первую волну атакующих, продвигались к стенам под прикрытием массивных бревенчатых щитов высотой в полтора человеческих роста; за ними следовали повозки, доверху груженные соломой и мешками с землей. Почти каждый воин нес в руках или за спиной вязанку хвороста и сучьев; некоторые толкали перед собой тачки с камнем и щебнем для засыпки рва; третьи, выстроившись цепочкой, дружно тащили длинные деревянные лестницы для преодоления стен.
Подтянув бревенчатые щиты к краю углубления, аккынджи с полными охапками фашин принялись выбегать из-за укрытий и сбрасывать свою поклажу в ров. Отделавшись от груза, они мчались к повозкам и высвободив из упряжи медлительных волов, сами подкатывали телеги ко рву и опрокидывали вниз вместе со всем их содержимым.
Потери воинов первого эшелона были велики: с башен города метко били катапульты, поражая осаждающих градом камней и глиняных ядер; укрывшиеся за частоколом сруба защитники выпускали в сторону врага ливень стрел, дротиков и снарядов из пращей. Хотя стрелы летели густо, почти каждая из них находила цель: из-за большой скученности атакующие не могли надежно защититься от них.
Засыпав ров на большом протяжении, турки разом опрокинули в него свои бревенчатые щиты и перебегая по ним, как по мосткам, с победным ревом устремились на древесный сруб. Навстречу им из медных труб сифонов хлынули потоки пылающей нефти, воздух раскололся от грохота сотен орудий. Но атакующие не останавливались; невзирая на град смертоносных снарядов, лавины вопящих людей продолжали упорно катиться вверх по склону вала, к четырехярдовой стене и частоколу на ней. Пламя за спиной у турок высвечивало темные силуэты бегущих фигур, из-за нехватки места образующих порой сплошные ряды. Это играло на руку ромейским пушкарям: одно ядро валило с ног иногда до десятка вражеских солдат.
Навстречу туркам ползли, как по склонам вулкана, широкие струи жидкого огня; катились подожженные, щедро пропитанные нефтью бочонки с паклей внутри; упруго рвались под ногами пороховые мины; под тяжестью бегущих воинов с треском оседали хрупкие перекрытия «волчьих» ям с кольями на дне. От пролитой крови земля превратилась в чавкающее месиво; аккынджи скользили в нем, падали и оставались лежать, втоптанные в грязь своими же товарищами.
Части воинов все же удалось невредимыми добраться до стен. И тут, ко всеобщему ужасу выяснилось, что, как это часто бывает, не все носильщики приставных лестниц поспевают за передовыми отрядами. Тогда воины в нетерпении, уворачиваясь от сбрасываемых сверху бревен и камней, принялись карабкаться друг другу на плечи, устраивать подобие ступенчатых куч из тел погибших. Пока отдельные смельчаки взбирались на стены, защитники города еще имели возможность отражать их, но когда наконец поднесли лестницы и число штурмующих резко возросло, они отступили через калитки за частокол и заперлись там.
Некоторые из атакующих бросились на заграждение, другие принялись подрубать топорами бревна и массивные опоры частокола. Из-за темноты и разъедающего глаза дыма все приходилось делать почти вслепую, наощупь. То и дело слышались громкие требования огня, чтобы подпалить деревянную преграду. Те, кто бросались на призывы с факелами в руках, почти все падали на полпути, поражаемые стрелами защитников: пламя факелов безошибочно направляло прицелы лучников, засевших за узкими, в две ладони шириной, бойницами. Другие с риском для себя выхватывали выпавший из рук мертвеца факел и прикрываясь маленькими щитами во весь опор мчались к срубу. Но все попытки поджечь частокол кончались неудачей: бревна заранее были щедро смочены водой.
И все же, несмотря на колоссальные потери, туркам удалось во многих местах разрушить ограждение. Сдержать аккынджи у проломов не было возможности: число атакующих в десятки раз превышало число защитников. Горожане уже готовились отступить, когда в рядах врага вдруг вспыхнуло смятение, очень скоро переросшее в панику — струи пылающей нефти дотекли до рва, заваленного на всем своем протяжении горючими материалами: бревнами, хворостом, связками соломы. Почти сразу же трескучие языки огня взвились вверх и охватывая все новые и новые участки, стали быстро отрезать передовые отряды от остальной части войск.
Аккынджи обратились в повальное бегство. Выйдя из проломов, защитники преследовали их, увеличивая панику в рядах неприятеля. Возле еще не охваченных пожаром участков возникло чудовищное столпотворение. Стремясь первыми перебраться на безопасную сторону, рослые и сильные воины сталкивали в бушующее пламя тех, кто послабее. Истошные крики заживо сгораемых людей подстегивали остальных не хуже бича.
На стороне турецкого лагеря также поднялось волнение. Воду для тушения пожара таскали из реки во всем, что попадалось под руку: в бочках, в кожаных мехах, в котлах для разогрева пищи, а то и в собственных шлемах. Заступами и лопатами швыряли в пламя землю и песок, сбрасывали вниз тела убитых соратников. Нестерпимое зловоние зависло в воздухе; от сильного жара обугленные тела корчились и шевелились как живые.
Несколько долгих часов продолжалась борьба осаждающих с огнем. От пожара удалось отвоевать лишь небольшой участок рва между воротами Полиандра и святого Романа.
Сказать, что султан был взбешен неудачным штурмом, означало сказать лишь часть правды. В гневе он приказал было подвергнуть примерной казни каждого пятого из числа бежавших за ров. Но вскоре, поддавшись уговорам пашей, изменил решение. От османских полководцев сейчас требовалось, не теряя времени, продолжать натиск, иначе растерянность и страх перед врагом овладеют всей армией.
Спустя час по уцелевшему от пожара проходу двинулись на приступ полки анатолийских санджак-беев. Хорошо вооруженные, выучкой и храбростью мало уступающие янычарам, эти войска не без оснований считались главной ударной силой османской армии и на них, соответственно, возлагались гораздо большие надежды турецких пашей. Это сражение, как и предыдущее, длилось не менее четырех часов. Частично проложенный аккынджи путь облегчил задачу анатолийцам: они без особых потерь преодолели заваленный телами убитых вал и после упорного боя овладели первым рубежом обороны — четырехярдовой стеной. Затем, через еще незаколоченные проёмы в частоколе выбили защитников из сруба.
Но на втором ярусе, там, где дорогу им преградили могучие двенадцатиярдовые стены, атака быстро захлебнулась. Напрасно Исхак-паша плетьми заставлял гнать воинов на приступ: раз за разом анатолийцы накатывались на стены, и разбиваясь о них, как волны прибоя о скалу, отходили прочь, усеивая своими телами подступы к укреплениям.
После очередной атаки они, немилосердно забросанные стрелами и камнями, отступили чуть дальше прежнего. Затем, когда на их головы обрушились струи горящей нефти и греческого огня, отступили на более безопасное расстояние. И наконец, после удачной вылазки горожан через боковые калитки башен, они не выдержали и побежали прочь.
Зря богатырь бейлер-бей осыпал своих воинов проклятиями вперемешку с ударами кривого меча. «Спасай свою жизнь» — довлело над каждым. Но в то же время произошло нечто, похожее на счастливое предзнаменование. Тяжелое ядро, пущеное почти вслепую последней уцелевшей из трех пушек Урбана, угодило прямо в середину земляной насыпи, сооруженной возле недавнего пролома. Поднялось тяжелое облако пыли, по плечами и шлемам осаждающих забарабанили комья земли. Предсказание Лонга сбылось: хлипкое сооружение не выдержало сильного толчка и осело, расползлось по сторонам, открывая взглядам атакующих зияющую брешь в стенах. Воины бейлер-бея поначалу растерялись от неожиданности, затем не менее пяти сотен бойцов, оглушая себя радостными криками, устремились к пролому.
— Ай-я! Город наш!
— Аллах указал нам дорогу!
— Вперед! Бей неверных!
То, что преодолев земляную кручу, они окажутся в устроенной кондотьером ловушке, никто из них и помыслить не мог. Лишь когда первые ряды сорвались в ров, широкой дугой опоясывающий участок пролома, а идущие им вслед полегли от выстрелов в упор из расставленных на валу пушек, анатолийцы в панике подались назад. Но было уже поздно.
Со стен полетели вниз камни и бочонки с порохом, обрушилось содержимое котлов с растопленной смолой, а мечущиеся подобно светлячкам огни факелов помогали городским лучникам правильно выбирать себе цель. Из западни удалось выбраться едва ли десятой части угодивших в нее турок.
Это был конец — удержать спасающихся бегством солдат стало невозможно. Они во весь дух неслись обратно, сметая на своем пути тех, кто пытался остановить паническое бегство.
На правом фланге стен Константинополя турок ждал не менее сокрушительный разгром. Саган-паша сорвал себе горло, пытаясь собрать вокруг себя потерянных в ночной мгле санджак-беев и тысяцких; сумятица была такова, что целые отряды сражались между собой, уверенные, что бьются с врагом. Караджа-бею был уготован еще более неприятный сюрприз: войнуки, подневольные воины-христиане, составляющие почти треть его войска, наотрез отказались идти на приступ, угрожая в случае применения к ним насильственных или карательных мер немедленно перейти на сторону врага.
Ночь кончалась. Полоска неба на востоке стремительно светлела, предвещая наступление нового дня. Османская армия, потеряв в сражении множество солдат, спешно возвращалась на свои прежние рубежи.
ГЛАВА XLII
— Я не знаю, что мне делать!
Султан метался вдоль шатра, отшвыривая от себя встречающиеся на пути предметы.
— Я думал, что командую армией, но оказалось — стадом свиней!
Военачальники угрюмо молчали, стараясь без особой надобности не поднимать на повелителя глаз. Это еще больше распаляло Мехмеда.
— Я вручил вам огромное войско, опытных и умелых солдат. И что я вижу? Греки жгут вас, как полудохлых крыс, а вы не можете дать им хорошего отпора!
— Еще не все потеряно, мой повелитель, — осмелился подать голос Саган-паша.
— Твои воины не привыкли вести ночные бои и только этим объясняется наше поражение. С восходом солнца мы продолжим натиск и сопротивление неверных будет сломлено. Верь мне, о великий!
— Я больше никому не верю! — кричал Мехмед. — Своими посулами вы заставили меня продолжать войну, я понадеялся на ваши клятвы и пошел на поводу у большинства. Что я получил взамен?
Он бросился на ложе и тяжело задышал.
— Еще одна такая битва — и я лишусь своей армии, — донесся оттуда его страдальческий голос.
Военачальники понурились.
— А вы — своих голов! — добавил Мехмед, приподнимаясь и обводя всех недобрым взглядом.
— Великий султан еще не посылал в бой свою гвардию, — тихо, но достаточно внятно напомнил Караджа-бей. — Там, где не пройдет простой воин, всегда найдет дорогу янычар.
— Что-о….? — задохнулся от гнева командир янычарского корпуса Торгут-бей.
Он сделал шаг к султану и в обвиняющем жесте вытянул руку в сторону паши.
— Не слушай, о великий, неумных советов! Бейлер-бей забывает, что гвардия предназначена не для битв, а для охраны твоей святейшей особы. Кто осмелится оспорить, что один янычар стоит десяти воинов и не менее трех десятков аккынджи? Тем более их надо беречь и не допускать к сражениям. Совет же послать янычар на уничтожение может исходить лишь от глупца или предателя!
— Трусливый пес! Я вырву тебе твой подлый язык!
Караджа-бей с поднятыми кулаками бросился на командира гвардии, но Исхак-паша обхватил его поперек груди своими сильными руками и удержал на месте.
— Тихо! — заорал Мехмед, вскакивая с места.
— Распетушились тут! С меня довольно и ночной потехи!
— Чем же ты так возмущен, Торгут-бей? — обратился он к сатрапу. — Разве тебе неведомо, что султаны для того и холят свою гвардию, чтобы она в решающий час переломила ход событий в пользу своего господина?
— Я знаю это, повелитель, — смиренно отвечал гигант. — Но осмелюсь заметить, что отправив янычар на стены, мы можем попусту потерять их. Кто же тогда остановит и повернет вспять перетрусивших, оробевших подобно псам солдат бейлер-беев, готовых хоть сейчас без оглядки бежать от города?
Исхак-паша возмущенно покачал своей огромной головой.
— Сладко же ты запел, Торгут-бей! Вот только я не пойму, о ком идет речь: то ли о гвардии, то ли о полицейских-чауши.
Он сделал шаг в сторону бея и громко рявкнул:
— Если вздумал говорить, говори прямо, без утайки! Привык отсиживаться за нашими спинами, злорадствуя в рукав! Думаешь, мы не знаем, что ты больше всех страшишься штурма, боишься поражения своих хваленых солдат?
— Я никого и ничего не боюсь! — взревел в ответ Торгут-бей. — Только гнева Аллаха и султана, повелителя моего. И не вздумайте проверять меня на храбрость, беи, иначе от ваших голов останутся одни пустые черепки!
— Мой повелитель! — он с низким поклоном обратился к Мехмеду. — Если Аллах не желает твоей скорейшей победы, молю тебя — отступись. Но если ты уверен в себе и в своих слугах, приказывай! Я и мои воины без промедления двинемся на штурм.
Он замялся, переступая с ноги на ногу.
— Однако…… - конец фразы повис в воздухе.
— Говори! — потребовал султан.
— Прости меня, повелитель! Я хотел лишь сказать, что если янычары, проявив чудеса храбрости, все как один полягут под стенами, никакие в мире силы не помогут сохранить тебе армию, а тем более — овладеть городом.
— Ты прав! — султан взволнованно заходил по зале.
— Мой господин! — громко произнес Саган-паша, неприязненно меряя взглядом Торгут-бея. — Войска измотаны, число воинов оскудело на треть. Нужны новые, свежие силы, способные вести за собой в атаку изнуренных в предыдущих сражениях солдат. Или ты принимаешь нелегкое и весьма рискованное решение и тогда полки янычар, за исключением немногих, специально отобранных тобой для защиты твоей святейшей особы, идут на приступ впереди всех, или….
Он на мгновение смолк и со вздохом продолжил:
— …. или, что еще более тяжко, надо отдавать приказ войскам об отступлении от стен.
Мехмед изумленно воззрился на зятя.
— И это говоришь мне ты? Ты, который всегда ратовал за войну?
Саган-паша уныло развел руками.
— Повелитель, мы балансируем на лезвии ножа. Если мы всеми силами не начнем новый штурм, то вынуждены будем в скором времени признать свое поражение.
Мехмед отвернулся, чтобы скрыть растерянность. Медленными шагами приблизился к курильнице и провел пальцем по круглым отверстиям дымоходов.
— Великий визирь, — окликнул он, не оборачиваясь. — Почему не слышно твоего голоса?
Халиль-паша коротко откашлялся.
— Мой повелитель, я молчал лишь потому, что всем присутствующим известно мое мнение.
— Я желаю не догадываться, а слышать его своими ушами.
— Еще не поздно, повелитель, вновь отправить к византийцам парламентера с выгодными предложениями мира.
Мехмед щелкнул пальцем по выпуклому боку серебряного сосуда. Послышался резкий дребезжащий звук.
— Нет, — пробурчал он себе под нос. — Поздно. Уже поздно.
Но вслух, повернувшись к сатрапам, произнес другое:
— Пусть будет так! Мы сделаем еще одну попытку. Но если и в этот раз враг ответит высокомерным отказом, пощады ему не будет!
Голос султана задрожал от еле сдерживаемой ярости.
— Я повторяю вам, сатрапы — поражения для меня не существует! Отступить от стен я не позволю никому и никогда. Если византийцы не примут условия мира, я буду кидать войска на штурм вновь и вновь, всех, до последнего солдата! Либо все лягут здесь костьми, либо мы будем пировать на черепах врагов.
Он замолчал, кидая исподлобья мрачные и подозрительные взгляды на пашей.
— Вы поняли меня, сатрапы? Такова моя воля и воля Аллаха! А теперь ступайте и готовьтесь к новому штурму. Торгут-бей, выводи и строй своих янычар. Если через час выбранный мною парламентер не возвратится или вернется с пустыми руками, янычары поведут войска в атаку!
— Говори, — кивнул он шагнувшему вперед Саган-паше.
— Великий султан, я давно собирался сказать тебе. Перебежчики из лагеря греков поведали мне, что в в стенах города, на левом фланге, есть небольшая калитка….
— Там много калиток! — возразил Мехмед. — И византийцы весьма умело пользуются ими.
— Да, господин. Но эта калитка, по их уговору со мной должна в полдень каждого дня на короткий срок отпираться.
— Вот как? — заинтересовался султан. — Почему же ты раньше молчал?
Военачальники замерли, с нетерпением ожидая ответа. Караджа-бей побледнел и волком уставился на на зятя султана.
— Я держал это в тайне только потому, что нашим воинам ни разу не удавалось именно в это время приблизиться к стенам.
— Ты лжешь! — рассвирипел Караджа-бей. — Ты хочешь сказать, твоим воинам. Сколько раз мои храбрецы штурмовали эти стены, но ты молчал о тайном ходе, чтобы приписать всю заслугу себе. Ты повинен в смерти тысяч, десятков тысяч солдат!
— Это действительно моя заслуга, — запальчиво отвечал паша. — А что касается тех тысяч смертей…..
Мехмед остановил его.
— Ваши споры затягивают время. Я же добавлю к уже обещанному: первому, кто поднимется и водрузит османский флаг на одной из башен, я пожалую не только титул санджак-бея, но и столько золота, сколько он сможет взвалить на свои плечи.
— Проваливайте отсюда! — заорал он во внезапном приступе бешенства.
— И не возвращайтесь до тех пор, пока город не будет взят!
Побоченясь в седле, тысяцкий Ибрагим успокаивающе поглаживал по шее коня. Животное пугалось мертвых тел, ловило ноздрями тревожный запах крови, пятилось, храпело и делало попытки вскинуться на дыбы. Но опытный наездник без труда справлялся с жеребцом.
Тысяцкий смотрел на городские ворота и его губы против воли растягивались в улыбке. Он был счастлив и преисполнен гордыни. Еще достаточно молодой — два месяца назад минула тридцатая его зима — он не раз выделялся среди прочих блестящим полководцем, советником и другом султана, Саган-пашой. Вот и сейчас, хотя бея окружает немало проныр и хитрых льстецов, не по годам мудрый зять султана сделал правильный выбор: доверил начальнику своей охраны передать засевшим в городе гяурам повеление наместника Алллаха на земле. А еще ранее, в беседе с глазу на глаз, прозрачно намекнул об ожидающем Ибрагима великом подвиге. По словам бея, этот подвиг может закончиться смертью смельчака, но может и возвести его на вершину славы, дав титул санджак-бея в придачу к прочим милостям султана.
Ибрагим был счастлив от подобного выбора. Это правильно, так и должно быть, таков удел каждого воина. По одну сторону — почёт, богатство и власть, по другую — овеянная славой смерть в бою и последующая загробная вечная жизнь среди блаженства плотских утех.
Тысяцкий нетерпеливо пошевелился в седле.
— Кричи еще, — приказал он оруженосцу, держащему в руке древко с белым полотнищем.
Юноша повиновался. Едва ли стоящие на стенах могли разобрать приглушенные расстоянием слова, но сам вид белого флага в пояснениях не нуждался. Спустя некоторое время створы ворот чуть приоткрылись и на валу показались двое всадников. Даже издали было видно, что это воины знатного рода: на панцирях седоков блестели золотые насечки, а кони под ними были укрыты кожаными попонами с нашитыми на них металлическими пластинами.
Когда всадники приблизились, тысяцкий признал одного из них: о нем, как о непобедимом бойце, уже слагались в османском лагере легенды. Ибрагиму тут же захотелось померяться с ним силами, сбить островерхий рогатый шлем с его макушки. Но вспомнив о еще невыполненном поручении, сдержал себя.
— Кто из вас царь? — дерзко спросил он.
Византийцы переглянулись.
— Тебя послал султан? — произнес тот, чьи черты лица были непривычно мягки для воина.
— Я буду говорить только с царем! — упрямо гнул свое Ибрагим.
— Кто ты таков, что желаешь предстать перед василевсом? — лицо Кантакузина побагровело от гнева.
— Или передай послание султана, или говори, если оно должно излагаться на словах. Но не испытывай наше терпение, пока белый флаг еще служит тебе защитой.
Ибрагим подавил в себе злость. Как и всякий наглец, он знал границы, которые опасно переступать. Он молча извлек из сумы пергаментный свиток и передал его ромеям. Протостратор развернул его и углубился в чтение.
— Что предлагается нам на этот раз? — нетерпеливо спросил стратег, перегибаясь с седла.
— Суть требований осталась прежней, — ответил Палеолог.
Он дал пергаменту свернуться и пренебрежительно бросил его под копыта своего коня.
— Несмотря на недавний разгром?
— Вот именно. В целом тон предложений даже более категоричен, чем в прошлом ультиматуме.
— Вернемся в город, Димитрий. У нас не так много времени, чтобы бестолку тратить его.
Византийцы поворотили лошадей. Ибрагим растерянно смотрел им вслед.
— Какой ответ мне передать своему господину? — крикнул он димархам.
Кантакузин обернулся и попридержал коня.
— Передай ему, что если бы его мать знала, какое чудовище она порождает на свет, она свернула бы ему голову еще в колыбели.
— Что ты сказал, презренный? Я убью тебя!
Ибрагим выхватил саблю и помчался на ромея. Что произошло потом, он не сразу успел осознать. Очнувшись, он понял, что лежит на земле и перекатившись на живот, с трудом поднялся на ноги. Поискал глазами обороненную саблю, еле удержав равновесие нагнулся и поднял её.
В ста шагах от него оруженосец ловил сбежавшую лошадь. Ибрагим приложил руку к горящей огнем щеке и громко застонал. Он стонал не от боли, хотя весь правый бок онемел от удара об землю — ему на глазах воинов обоих лагерей было нанесено страшное, смываемое лишь кровью врага оскорбление. Христианин, небрежно отклонив налокотником сабельный удар, другой рукой наотмашь хватил его по лицу. Оплеуха получилась знатной — Ибрагим был выбит из седла и в падении едва не сломал себе шею.
— Не сейчас, — звенел в его ушах насмешливый голос. — Я убью тебя позже. А пока отправляйся с полученным ответом к своему хозяину.
— Я отомщу за свой позор, — шептал Ибрагим, глядя вслед удаляющимся византийцам. — Клянусь бородой Пророка, месть моя будет страшна.
К нему возвращался оруженосец, ведя под уздцы пойманного коня. Ибрагим сел в седло и пристально взглянул юноше в глаза. Тот покраснел и потупил взор.
— Я отомщу, — с тоской в голосе выкрикнул тысяцкий и что есть мочи вытянул коня плетью.
ГЛАВА XLII
Звуки сигнальных рожков вновь подняли горожан на ноги. Без счета посылая проклятия в адрес врага (не дали даже отдохнуть и подкрепиться пищей!) защитники разобрали сложенное было оружие и разошлись по своим местам.
К уцелевшему от пожара проходу через ров вновь приближались толпы аккынджи. Перейдя на другую сторону рва, они не бросились как обычно, к стенам вверх по склону вала, а принялись издалека осыпать сруб стрелами. Заминка объяснялась просто: вскоре нестройные толпы азиатов раздались в стороны, уступая место длинной, тянущейся на протяжении целой мили счетверенной колонне солдат.
Горожане во все глаза смотрели на мерно шагающих, до зубов вооруженных воинов в роскошных одеждах и доспехах. Голову каждого из них покрывал блестящий, похожий на луковицу шлем с пышным венчиком перьев на макушке; от основания шлема спускалась на плечи мелкая кольчужная сетка для предохранения шеи от косых ударов сабли или меча; более крупная кольчуга мягко облегала тело почти до колен; грудь была защищена железной бляхой величиной с большую тарелку; ноги были обуты в красные сафьяновые сапоги, выше которых пестрели шаровары из яркой расцветки ситца; за плечами развевался в такт шагам просторный плащ зелено-красного цвета. Каждый воин держал в руке короткое копье с широким острием на конце, левый бок прикрывался круглым деревянным щитом, пёстро раскрашенным и обитым по краям железными полосами. У правого бока покачивался колчан с луком и стрелами, с пояса свисали нож и короткий меч, лезвие которого плавно загибалось вовнутрь, что делало его похожим на саблю, заточенную с обратной стороны клинка.
— Янычары! — пробежал среди защитников тревожный шепоток.
— Янычары идут!
Мало кто из горожан не был наслышан о свирепости и бесстрашии этих воинов, составляющих наиболее привилегированную часть османской армии. Сызмальства вырванные из своих семей чудовищным даже по тем жестоким временам налогом «на кровь», они воспитывались и росли в фанатичной преданности исламу и воле своих владык, турецких султанов, и со временем пополняли ряды дворцовой гвардии.
Если не принимать во внимание редкие, немногочисленные стычки, в которых участвовали янычары, большинство горожан и их итальянские союзники впервые видели перед собой в таком количестве этих знаменитых, прославленных своей жестокостью и воинской выучкой солдат.
— Молодцы! Смело шагают, — одобрительно крякнул Лонг и потёр свои узловатые руки.
— Вот бы вызвать на поединок их командира!
Кондотеру возразил Альберто, длинноволосый наемник со сморщенным старушечьим лицом и неблагозвучным прозвищем:
— Смелости у них хоть отбавляй, да только вот потому, что еще не познакомились с моей милашкой.
Он многозначительно похлопал рукой по заострённому бревну, уложенному в желоб баллисты.
— Ну что ж, попробуй, — согласился кондотьер. — А мы посмотрим и сделаем выводы.
Наемник выверил прицел, затем деревянным молотком сбил в сторону пусковой крючок. Метательная машина дёрнулась и отпрыгнула назад; огромное бревно взмыло в воздух и пролетев по дуге, упало прямо в середину строя гвардейцев.
— Попал! — взвыл от радости Альберто.
Порядок янычар на мгновение смешался. Но только на мгновение.
Пронзительная музыка загремела с новой силой, убитых и изувеченных тотчас же отволокли в сторону и колонна, так и не замедлив движения, вновь сомкнула свои ряды.
— Еще? — трясясь от возбуждения, спросил Альберто.
Лонг отрицательно мотнул головой.
— Нет. Пусть подойдут поближе.
— Своих не жалеют! — вскричал один из горожан, глядя, как онбаши добивают покалеченных воинов.
— Они никого не жалеют, — пробурчал седой, как лунь старик, по виду — бывший солдат. — Тут, брат Никифор, не зевай и не подставляй понапрасну шею.
Он сплюнул наземь и пальцем проверил натяжку тетивы самострела.
Подойдя вплотную ко рву, колонна разделилась. Сдвоенные ряды янычар направились в противоположные стороны и стали строиться там по сотням, вдоль почти всего крепостного вала.
— Как только пойдут в атаку, сталкивайте на них бочонки пороха, — приказал своим бойцам Контарини.
— Но бочки-то не покатятся, застрянут, — возразил один из наемников. — Вон сколько мертвецов навалили, чуть ли не в пару слоев!
— Делай что велено! — рявкнул Контарини, в глубине души понимая правоту ландскнехта.
— Хотя нет, — тут же изменил он своё решение. — Будем метать их катапультами.
— Ну всё, построились! — громко произнес кто-то. — Сейчас начнется потеха!
— Посмотрим, какого цвета у них кровь!
Горожане высовывались из-за проломов в частоколе, грозили врагу оружием, сыпали насмешками и оскорблениями.
— Сыны воронов!
— Шакалье семя!
— Подойдите ближе, мы вам всыплем!
— Вобьем железо в ваши глотки!
Некоторые смельчаки в полный рост выходили на край протейхизмы и тщательно прицелившись, стреляли из луков. Хотя многие стрелы падали в середину шеренг янычар, те не отвечали горожанам, спешно выравнивая свой боевой порядок. Постепенно насмешки стихали, стих и дикий восточный марш, сопровождавший до того перемещение янычар.
Тягостное ожидание подобно вязкому предгрозовому воздуху зависло над обеими неприятельскими сторонами. Горожане не сводили глаз с ровного строя вышколенных солдат, янычары же стояли неподвижно, как на параде, хмуро меряя взглядами укрепления города, который им предстояло положить к ногам султана. Все замерло; даже время, казалось, приостановило свое движение. Только ветер нес пыль и чуть поигрывал полотнищами знамен.
Длинноволосому Альберто первому изменила выдержка. Громко выкрикнув проклятие, он дернул крюк пускового механизма баллисты. Заранее нацеленное бревно, как и первый раз, обрушилось прямо в центр построения вражеской сотни. Послышались крики ярости и боли. Заглушая их взревели сурры и под грохот больших барабанов печатая шаг, янычары двинулись вверх по склону.
Они шли, топча как землю тела убитых единоверцев; на вскинутых над головами щитах дробно грохотал град камней из катапульт; некоторые снаряды были так велики, что давили людей своей тяжестью, как виноград. Пушечные ядра и картечь пробивали бреши в рядах янычар; навстречу атакующим летели из метательных механизмов бревна, железные стрелы, горшки с зажигательной смесью. Струи горящей нефти прокладывали себе путь между тел мертвецов; казалось, сама земля пылает под ногами захватчиков. Но янычар ничто не могло остановить. Они шли вперед, как одержимые.
Византийцы не стали долго удерживать сруб. Когда первые ряды неприятеля вплотную приблизились к стене, прозвучал сигнал отхода. Выпустив напоследок залп стрел из луков, горожане укрылись за воротами.
Воинская элита не собиралась впустую растрачивать себя. Остановившись на безопасном расстоянии от укреплений, янычары выжидали, пока носильщики осадных лестниц, уворачиваясь от града летящих в них стрел и камней, приставят свою громоздкую ношу к стенам. Когда наконец крючья на верхних перекладинах лестниц намертво вцепились в кладку, прозвучал сигнал к атаке. Дружный вопль вылетел из десятка тысяч глоток, янычары разом ударили ятаганами плашмя по щитам и бросились в атаку.
Началось решающе сражение за Константинополь. Битва, в которую обе стороны вложили все свое воинское мастерство, выдержку и отвагу, и о которой впоследствии никто из выживших не мог вспоминать без содрогания.
Грохотали пушки и бомбарды, выли сурры и сигнальные рожки, ритмично били огромные, в рост человека, барабаны. Вспыхивали розовые языки огня, клочьями вилась нефтяная гарь, белыми облаками плыл над землей пушистый пороховой дым. Янычары плотно, как муравьи, ползли по лестницам; срывались, падали, сбитые вражескими стрелами, но не отступали. Вскоре на стенах разгорелась упорная рукопашная схватка, в которой ни одна сторона долго не могла одолеть другую.
Воины сшибались щитами, теснили неприятеля всей массой тел, скользили в лужах крови, падали и тут же погибали под ударами. Сброшенные со стен летели вниз с головокружительной высоты и их истошные крики резко стихали, когда соприкоснувшись с землей, они растягивались на ней сплющенным комком одежд и доспехов. Порой густой дым застилал сражающихся и они, не в силах разглядеть в зловонном тумане врага, вслепую продолжали наносить удары. Хриплое дыхание и звон железа оглушали бойцов не менее, чем рев орудий; в глазах рябило от напряжения, от ярких солнечных бликов на оружии и доспехах. Под ноги летели изрубленные в крошево щиты, с противным скрежетом застревали в прямых клинках христиан изогнутые лезвия ятаганов. Извиваясь угрями, раненые ползали между ног бойцов и не имея сил подняться, кололи мечами снизу вверх, хватали за ноги, пытались поглубже запустить зубы в плоть врага. Порой, не выдержав напряжения, воины выскакивали из гущи сражающихся и отходили в сторону, стараясь отдышаться перед тем, как вновь окунуться в жестокую сечу.
Густые потоки крови медленно стекали по стенам, окрашивая их в цвет ярчайшей киновари; казалось, кровоточат сами камни. Люди кричали, стонали, вопили от ярости, отчаяния и боли; некоторые рыдали, не стыдясь своих слез, другие — заходились в безудержном хохоте. Шум битвы то стихал, то перекрывал все мыслимые пределы; казалось, весь мир сошелся в одной ужасной, остервенелой схватке.
Прикрыв левый бок щитом, Роман отбивался от двух наседающих на него янычар. В голове у сотника мутилось, держащая меч рука онемела от множества нанесенных и отраженных ударов. Два перекошенных от злобы лица прыгали перед ним как в дьявольской пляске, гримасничали и скалились в пароксизме ярости. Внезапно один из янычар коротко всхлипнул и волчком завертелся на месте, пытаясь дотянуться до вонзившейся в спину стрелы. Сбив с ног второго воина, Роман заколол его ударом в шею и бросился к приставной лестнице, с которой, через небольшие промежутки времени, соскакивали вниз все новые и новые вражеские бойцы.
— Прикройте меня! — крикнул он горожанам и подхватив валяющийся под ногами багор, упер его в перекладину лестницы.
Однако оттолкнуть от стены осадное приспособление, чей вес многократно увеличивался тяжестью облепивших его солдат, одному человеку было не по силам. Только с помощью двух ополченцев, поспешивших к своему командиру, удалось сдвинуть лестницу с места. Скользнув по стене, она рухнула вниз, впечатывая в землю свой живой груз. После этого осталось лишь обезвредить тех, кто уже поднялся на площадку башни.
Роман смахнул с лица пот и устало присел на каменный выступ, рядом с телом убитого им янычара. Крики и звон оружия на соседних участках постепенно стихали; по-видимому, натиск удалось отразить по всему рубежу обороны. Турки беспорядочно откатывались назад, собираясь силами для новой атаки.
— Проклятие! — выдохнул сотник. — Когда же всё это кончится?
Веки, как под невыносимой тяжестью, смыкались против воли. Мимо него, будто в тумане, ходили ополченцы, переговаривались, смеялись, осматривали поврежденное оружие. Некоторые как могли, врачевали свои раны, другие добивали вражеских солдат и сбрасывали их трупы вниз. Роман глубоко вздохнул, опустил голову на скрещенные на коленях руки и не в силах противиться дремоте, впал в короткий полусон-полубодрствование. И почти сразу же очнулся, ощутив у себя на плече чью-то руку. Сквозь застилающую глаза мутную пелену, он признал в сидящем перед ним на корточках человеке Фому, молочного брата Алевтины.
— Ты здесь? — спросил сотник, уже не способный чему-либо удивляться. — Это ты пустил стрелу в янычара?
— Ты ранен, — вместо ответа произнес Фома. — Позволь мне тебя перевязать.
— Всего лишь царапина, — отмахнулся Роман.
— Ты ранен и обессилен, — настаивал конюх. — Пойдем со мной, я отведу тебя к своей госпоже. Ты отдохнешь, тебе обработают рану. Затем вновь вернешься на стены.
Роман пожал плечами.
— Мне некуда идти. Мое место здесь.
Он со вздохом вытянул ноги вперед.
— Передай своей госпоже, что я всегда рад быть рядом с ней. Но сейчас, увы, я сам себе больше не принадлежу.
Он позволил Фоме перетянуть платком кровоточащее плечо, поднялся на ноги и осмотрелся вокруг. То тут, то там ополченцы опускались на землю, чтобы набраться сил перед новой атакой.
— Ступай к своей госпоже, — он повернулся к Фоме, — Скажи ей, что как только мы отразим врага, я буду счастлив видеть ее вновь.
— Почему ты не уходишь? — спросил он чуть погодя.
— Дочь Палеолога строго наказала мне быть все время с тобой, если ты откажешься спуститься со стен. И оберегать тебя в бою.
Роман усмехнулся, покрутил головой, затем подошел к краю площадки.
— Вставайте, вставайте! — закричал он своим воинам и вытащил меч из ножен.
— Всем приготовиться к бою!
Подступы к городу вновь заполняли толпы вражеских солдат.
ГЛАВА XLIII
Когда очередной приступ был в самом разгаре, Константин с площадки третьей от Полиандровой ворот башни сделал отмашку рукой нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу гонцу.
Вскоре створы городских ворот распахнулись и после минутной заминки осаждающие хлынули в стороны перед строем из пяти сотен закованных в броню всадников. С дружным боевым кличем, на мгновение перекрывшим шум сражения, они бросились вперед, опрокидывая и втаптывая в землю тех, кто не успел или не желал посторониться. Вслед за ними, блестя на солнце кирасами, вышло из города не менее двух сотен воинов из числа личной гвардии императора. Пешие гвардейцы не стали преследовать отступающих турок — разбежавшись вдоль стен, они принялись топорами уничтожать приставные лестницы, а также тех немногих вражеских солдат, кто пытался помешать им в этом.
Неожиданность вылазки сыграла свою роль. Не готовые к отпору, беспомощные перед конницей, турки побежали прочь, ища спасения по ту сторону рва. Латники преследовали их, рубя мечами отстающих. Навстречу византийцам уже спешили конные отряды сипахов и тимариотов; воодушевленные близкой подмогой, мусульмане попытались преградить дорогу врагу. Это короткое столкновение обошлось им в несколько десятков жизней, остальные сочли за благо отступить.
Стиснув зубы, Константин наблюдал за воинами Кантакузина. С площадки башни, как на ладони, просматривалось перемещение небольшого отряда. Смятение среди осаждающих быстро росло. Два полка тимариотской конницы не смогли выдержать настиска, часть всадников была окружена и сброшена в ров. В третий раз за время последнего штурма османская армия отступила от стен и обратилась в повальное бегство. У земляной насыпи через ров произошла заминка: воины, бегущие прочь от города, столкнулись со спешащими им на выручку тимариотами. От смешения двух потоков произошла чудовищная давка; многие попросту были раздавлены, другие задохнулись в толпе, третьи летели прямо в ров, на еще неостывшие после недавнего пожара уголья. В бешенстве, что путь им преградили свои же солдаты, тимариоты хлестали отступающих плетьми; иные, уже не таясь, секли пехотинцев саблями.
В течении часа решалась судьба Константинополя. Но огромный численный перевес османской армии предопределил исход вылазки горожан. На перехват византийцам, уже выдавившим врага за пределы городских укреплений, катилось, поднятое копытами лошадей, громадное облако пыли. Вне себя от бегства лучших частей своих войск, Мехмед, напуганный и близкий к отчаянию, пошел на шаг, который ни при каких обстоятельствах не повторял впоследствии: бросил в бой последний резерв, свою личную охрану — десятитысячный корпус конницы, равной которой не было во всем мире. Бессильный противостоять более чем двадцатикратно превосходящему по численности врагу, Кантакузин был вынужден дать сигнал к отступлению.
Сразу же после отхода византийцев, турецкие войска вновь приступили к осаде. Дворцовые рандухи и чауши нещадно осыпали ударами бичей и палок солдат, заставляя тех возвращаться под стены. Сам султан, не доверяя более санджак-беям и тысяцким, носился на коне вдоль потрепанных полков, убеждая то посулами богатства, то угрозами массовых казней продолжать штурм. Не видя иного выхода, оглушенные, измотанные, еле держащиеся на ногах воины двинулись на очередной приступ, пытаясь криками и громкой музыкой заглушить в себе страх и отчаяние.
В просвет между зубцами башни Джустиниани Лонг мрачно смотрел на движущиеся к стенам людские массы. То, что происходило на глазах кондотьера, не укладывалось у него в голове. Он не раз принимал участие в обороне многих городов, своими знаниями и воинским талантом принуждал к сдаче на первый взгляд совершенно неприступные крепости. Но битва за Константинополь — нечто из ряда вон выходящее. Какой еще город в состоянии был выдержать беспрерывную череду столь ожесточенных штурмов? Какая армия, подвергшаяся подобному избиению, способна была продолжать осаду?
Полдень еще не наступил, но турки, уже трижды отраженные от стен, вновь идут в атаку. Они идут нестройными толпами, идут обреченно навстречу смерти, стерегущей их с натянутых тетив баллист и катапульт, из жерел заряженных пушек, с острий стрел, копий и мечей.
Лонг перевел взгляд на стены. Да, и защитники города тоже готовятся к смерти. Некоторые стоят на коленях, уткнув лица в сложенные ладони; другие, осеняя себя крестами, бьют земные поклоны; третьи молча внимают словам священников, впервые за долгое время сняв со склоненных голов помятые шлемы и каски.
— Сын мой, не желаешь ли причаститься? — послышался за спиной голос полкового духовника.
Джустиниани принял облатку губами и вновь повернулся к надвигающимся толпам.
Проклятие! Когда же иссякнет нечеловеческое упрямство азиатов?
Лонг машинально пожевал и выплюнул облатку. Кажется, целая вечность минула с первых дней осады. Неужели верны боязливые разговоры, что, дескать, мусульманское божество сильнее бога христиан? Ведь что только ни делали защитники Константинополя с пришельцами! Жгли их, топили в воде, в упор расстреливали из пушек и арбалетов, подрывали на минах, сталкивали вниз со стен, в куски рубили мечами и топорами — всё напрасно. Почти каждый день они вновь и вновь идут на штурм, и даже смерть, похоже, не в силах остановить их.
Лонг невольно поёжился. Это не война — нечто более страшное. Бойня для фанатиков — вот, пожалуй, верное определение.
— А если так, то что здесь делаю я? — вслух спросил он себя. — Моё место среди нормальных людей, а не в кругу одержимых дьяволом!
И тут же смущенно обернулся: не слышал ли кто этих слов, свидетельства минутной слабости. Нет, благодарение Богу, никто не поднял головы, все заняты своим делом. С досады Лонг был готов откусить себе язык. Негоже командиру перед самым началом боя высказывать вслух малодушные мысли. По-видимому, сказалась усталость — следствие непрерывного трехдневного напряжения без сна и без отдыха. Отсюда и тупая боль в затылке, и темные круги перед глазами.
Джустиниани приложил стальную перчатку ко лбу, чтобы холодом металла остудить пылающую кожу. Затем повернулся к своим ландскнехтам и расплылся в широкой улыбке.
— Слушайте все! — его зычный бас разнесся далеко над стенами.
— Пусть нехристи твердят себе, что, дескать, велик их бог. Дьявол, сидящий в нас, задаст хорошую взбучку любому чужеземному божку. Пусть знают мусульмане…..
Еще продолжая говорить, он махнул рукой. Конец фразы утонул в оглушительном реве орудий.
Стоя рядом с императором, Феофил Палеолог наблюдал за удачной, но не принесшей желаемого результата вылазкой Кантакузина. После чего отправился на осмотр участка, прикрываемого генуэзкими солдатами. Зрелище было удручающим. Стены в плачевном состоянии, наемники измотаны так, что еле держатся на ногах. Однако кондотьер Лонг наотрез отказался принять помощь, заменить своих ландскнехтов византийскими отрядами. Да и времени оставалось в обрез. Просто же снять воинов со своего участка протостратор не мог: и без того малолюдные укрепления опустели бы полностью. И все же Феофил дал себе слово при первом же тревожном признаке послать, пусть даже с риском для собственных позиций, посильную помощь Джустиниани.
— Государь, — убеждал он тогда василевса, — до сих пор лигурийцы сражались отважно. Но при следующем приступе они могут оказаться слабым звеном в обороне. Необходимо ссадить с коней гвардейцев стратега и укрепить ими отряд Лонга.
Но Константин был убежден в стойкости генуэзцев.
— Конница нам нужна для новой вылазки, — возразил он. — Да и потом, брат мой, как мы можем заранее судить, какой участок окажется в наибольшей опасности? Всадники, в отличие от пехоты, могут в короткий срок поспеть к любому рубежу обороны. Если же мы спешим воинов и расставим их на каком-то определенном участке укреплений, перебросить их потом на другое место будет нежелательно для нас — это может посеять страх в душе остающихся.
Скрепя сердце, Феофил был вынужден признать правоту императора.
С площадки башни он смотрел, как турецкая пехота, теснимая своей же конницей, подступает ко рву, переход через который слишком узок, чтобы пропустить такое количество солдат. Как в толкотне воины спихивают друг друга в почти уже доверху полное мертвецами углубление рва. Как там, в сплошной копошащейся массе, слабо шевелятся изломанные фигурки людей, в агонии цепляющиеся за ноги проходящих прямо по ним солдат. Как те, кто еще не свалился, нелепо дрыгая коленями, выдергивают застревающие между телами ступни, отшвыривают прочь путающиеся в ногах внутренности распоротых человеческих животов. Как воины, преодолев ров, идут вперед, ступая прямо по мертвым телам и грязь из крови, земли и вытекших мозгов облепляет им ноги почти до колен. Не встречая сопротивления, они овладевают протейхизмой, проникают сквозь проломы сруба и движутся к стенам города. Они уже близко. Еще ближе…. Со стороны ворот Святого Романа послышался грохот орудий.
Протостратор убрал от глаза зрительную трубу. Затем поклонился императору и поспешил на свой участок. По дороге, то и дело пришпоривая коня, Феофил пытался отрешиться от увиденного, вернуть себе прежнюю ясность ума. То, что изо дня в день происходило на подступах к Константинополю, в представлении Феофила мало походило на битву. Он воспринимал это как свирепое взаимное истребление, в котором только победитель имеет право на существование.
Лед и пламя, жар и холод — они не совместимы, пока одно не поглотит другое. Так две могучие стихии из века в век будут сходиться между собой в слепой, яростной и беспощадной борьбе, пока не восстановится утраченное некогда равновесие. Но как смириться, если разум восстает против законов Мироздания, где разрушение в конце концов всегда одерживает верх над созиданием?
Лонг обернулся на громкий крик. Отброшенная от стены штурмовая лестница встала торчком и на какое-то время застыла в этом неустойчивом положении, щедро осыпая с себя взобравшихся на нее солдат. Затем с ужасающей силой рухнула обратно на стену, переломилась пополам и исчезла в облаке пыли. Одна, всего лишь одна из двух десятков. По остальным же, невзирая на потери, упрямо ползли на стены цепочки неприятельских воинов. Пока еще горожанам удается отражать врага, но Лонг понимал, что положение в любой момент может измениться. Теперь он уже жалел, что не принял предложенную протостратором помощь. Но как он мог поступить иначе, зная, что и у Феофила каждый боец на счету?
— Продержимся, — пробормотал он сквозь зубы, почти уже не веря в успех.
Он подошел к правому боку башни, всмотрелся в кипящую на стенах схватку, выхватил меч и крикнул своим солдатам:
— Пятеро — за мной! Остальным не спать у самострелов!
Выбежав через боковую дверцу башни, он вместе с горожанами отбросил за стены почти уже прорвавшихся турок, затем схватил бочонок пороха, запалил короткий фитиль и залег за каменным парапетом. С завидным хладнокровием дождавшись, пока огонь доберется до конца фитиля, он обеими руками швырнул бочонок в приставленную лестницу. Раздался упругий взрыв, по воздуху проплыло облако дыма.
Кондотьер ладонями стер с лица пыль и копоть.
— Ну вот, полегче стало, — крикнул он и выпрямился в полный рост.
В то мгновение острая боль пронзила ему бедро. Джустиниани непроизвольно дернул ногой и перевел взгляд вниз. Всего лишь стрела, да и то на излёте. Прорвала штанину и на два пальца засела в плоти. Лонг схватил стрелу за оперённый конец и одним рывком извлек ее из тела. Он знал, что будет боль, но не мог представить ее силы. Если бы воины не подхватили его под руки, кондотьер без чувств упал бы наземь.
— Командир ранен! — суетились вокруг него генуэзцы.
— Молчать! — задыхаясь от боли, взревел Лонг.
— Перевяжите меня, но только поскорее.
— Поднимите меня на башню, — приказал он, когда повязка неумело была наложена на бедро.
На верхней площадке он вновь надолго припал к бойнице, время от времени отдавая распоряжения своим подручным. Когда он наступал на правую ногу, в сапоге громко хлюпало: несмотря на корпию и бинты, кровотечение не останавливалось. Неподалеку с громким треском разлетелось в мраморную крошку пушечное ядро. Осколок рассек Лонгу кожу над бровью, глаз начала заливать теплая струйка крови.
— Где этот лекаришка, черт бы его побрал! — заорал кондотьер адъютанту. — Когда он нужен…..
Он смолк, удивленно уставясь перед собой. Всё вокруг стремительно бледнело, таяло и расплывалось как в тумане; в ушах появился неприятный свист. Джустиниани почувствовал, что еще мгновение — и он потеряет сознание.
— Н-нет! — выдохнул он, пытаясь опереться о стену.
Однако каменная кладка уплыла куда-то в сторону и Лонг, загремев доспехами, тяжело рухнул навзничь.
— Командир убит! — во весь голос завопил Доменик и подскочил к упавшему кондотьеру.
— Убит… убит…, - эхом пронеслось среди наемников.
Сразу несколько человек бросилось поднимать Джустиниани. Лонг приоткрыл глаза.
— Нет, он жив! Жив! — послышались радостные возгласы.
— Все по своим местам! — прохрипел Лонг, и оттолкнув от себя солдат, вновь провалился в забытье.
Генуэзцы растерянно смотрели друг на друга. Без сильной, целенаправленной воли кондотьера они вдруг почувствовали потерянными и одинокими, брошенными на произвол судьбы.
— Несем командира на корабль, — настаивал Доменик. — Он потерял много крови, хватило бы и на целого быка! Ну же, берите его поаккуратней.
Четверо наемников, подхватив на руки грузное тело предводителя, поспешили к крутой лестнице. Вслед за ними потянулись и остальные. У выхода из башни Джустиниани очнулся и приоткрыл глаза.
— Что происходит? Куда вы меня несете? — непонимающе спросил он.
Затем, придя в ярость, стал вырываться из держащих его рук.
— Стойте, лигурийцы! Где же ваша доблесть? Куда, от кого вы бежите? Паскудные псы, или вы забыли, что за ваши шкуры хорошо заплачено?!
Отборная ругань сыпалась на головы наемников вперемежку с ударами командирского кулака. Но ландскнехты, молча уворачиваясь от ударов, продолжали уносить прочь от стен беспомощное тело, криками сзывая своих еще продолжающих сражаться земляков. Раздобыв небольшую повозку, они уложили в нее Джустиниани и вовсю нахлестывая лошадей, устремились к пристани.
Первым на покинутую генуэзцами башню взобрался огромного роста янычар с шипастой палицей в руке.
— О-о-о, Аллах! — вопил он, раскручивая обмотанное вокруг груди зеленое с красными полосами полотнище.
— Я, Хасан, отважный и сильный, стал сегодня санджак-беем! Я получу от повелителя много золота и земель!
Он быстро прикрепил полотнище к копью и водрузил знамя на самой высокой точке башни. Вслед за ним поднялся его единокровный брат Селим, на всякий случай прикрывая плечи и голову щитом. Увидев, что все защитники бежали, а его брат сжимает в руке самодельный флаг, он подскочил к Хасану и радостно заколотил его по спине.
Площадка башни быстро заполнялась турецкими солдатами.
— Видишь это? — пожилой горожанин сдвинул мятый шишак на затылок и указал рукой на развевающий над башней флаг.
— Надо убрать это непотребство.
Его напарник, по-видимости сын, юноша лет двадцати, согласно кивнул головой. Вдвоем они развернули камнеметную машину на подвижной оси и младший принялся выверять прицел.
— Сумеешь попасть? — озабоченно спросил пожилой.
Юноша только хмыкнул в ответ. Фрондибола, похожая на огромный колодзенный журавль, находилась в ста с небольшим шагах от захваченной башни, за внутренней стеной города. Вынужденные до того метать снаряды вслепую, оба горожанина впервые воотчию увидели перед собой цель и от того слегка волновались.
— Готов?
— Еще бы. Устроим нехристям восхождение на Голгофу!
Старший извлек из-за пояса нож и наотмашь полоснул по предохранительной веревке. Конец короткой части рычага рванулся вниз, машина застонала от натуги и по широкой дуге метнула оплетенный веревками валун.
— Фью-ю-ю! — подражая свисту, пропел младший, провожая взглядом летящий снаряд.
Когда ветром разволокло пыль, верхней части башни уже не существовало. Вместе с флагом и укрепившимися на площадке турками она почти полностью была сметена метким попаданием камня. Вдали послышался топот бегущих людей. Оба горожанина навострили уши, но их тревога была напрасной — то спешили на покинутые генуэзцами позиции воины протостратора.
Селим, единственный уцелевший из всех взобравшихся на башню турок, не помышлял о своём спасении. Похоже, он вообще ни о чем не думал, а только сидел и смотрел на кровавое месиво, еще недавно бывшее его братом. Он не видел, что к нему через завалы камней пробирается невысокий одутловатый византиец с большим мясницким топором в руке. Он не поднял глаз, даже когда вражеский воин оказался совсем рядом и во все плечо размахнулся оружием. И ничего не успел почувствовать, когда широкий клинок расколол пополам ему череп.
Алевтина не находила себе места от тревоги. Она то вставала из-за стола с разложенным на нем рукоделием и подходила к окну, то начинала нервно мерить комнату шагами. Машинально переставляла на каминной полке статуэтки из слоновой кости, вновь садилась за стол, чтобы через некоторое время вернуться к окну и надолго задержаться перед ним. Миловидная горничная не сводила с нее расширенных от страха глаз и прижимала ладонь к полуоткрытому рту.
— Нет, это невыносимо! Просто так сидеть и ждать?! — девушка остановилась посреди комнаты и сжала виски кончиками пальцев.
— Почему не возвращается отец? Что происходит на стенах?
— Не знаю, госпожа, — тут же откликнулась служанка.
— Штурм начался вчера вечером. И до сих пор нет никаких известий!
Алевтина вновь заходила по комнате.
— Фома не появлялся?
— Нет, госпожа. Может, посмотреть во дворе?
— Нет…. Хотя, да! Ступай, спроси у привратника. Может он что-нибудь знает или слышал от прохожих.
Горничная кивнула и выскочила за дверь. Алевтина опустилась в кресло и замерла в ожидании. Вдруг она вздрогнула и прислушалась. Шаги? Нет, показалось. Нечто похожее на подавленный стон вырвалось из ее груди. Она встала, быстро пересекла комнату и опустилась на колени перед потемневшей от времени иконой. Пока она шептала слова молитвы, решение пришло к ней внезапно. Зачем мучить себя ожиданием гонца, если можно попытаться самой все разузнать?
Алевтина поднялась с колен и заторопилась к выходу. На первом этаже у входных дверей ее встретил удивленный взгляд старика-привратника.
— Госпожа желает выйти? — он всем своим видом выражал неодобрение.
— Да. Отопри дверь.
— Могу ли я знать, для чего это понадобилось госпоже?
— Поторапливайся! — топнула Алевтина ногой.
Привратник нехотя подчинился.
— Есть кто-нибудь из слуг во дворе?
— Нет, госпожа. Все ушли с мастером Феофилом.
Алевтина на мгновение заколебалась. Своими руками взнуздать лошадь ей не приходилось ни разу, а этот медлительный старик был бы ей плохой подмогой. Добираться же одной, через весь город, без лошади, без провожатого….. Однако выбора не было.
— Дай мне какую-нибудь темную накидку.
Старик растерялся.
— Накидку? Прости, госпожа, но у меня есть только мой старый плащ. Вот он.
Он протянул девушке мешковатый балахон, пошитый из жесткой и грубой материи.
Алевтина быстро накинула его на плечи и подобрав длинные полы, поспешила вниз по лестнице. В конце парка, у ворот ограды, на звук ее шагов обернулись четверо престарелых инвалидов, бывших солдат, нашедших службу и приют при дворе протостратора. Неспособные воевать на стенах города, они несли дозор у въездных ворот и готовы были в меру своих скромных сил защитить домочадцев и имущество своего господина.
— Выпустите меня, — Алевтина вплотную подошла к охране.
Старший из них отрицательно покачал головой.
— Прости, госпожа, мы не можем сделать это. Мастер Феофил настрого приказал нам охранять дом и его обитателей…..
— Мастер Феофил — мой отец! — оборвала его девушка. — Немедленно отворите ворота!
— Мы не имеем права, госпожа, — вступил в разговор другой старик.
— Я приказываю вам!
В ее голосе было столько властности, что инвалиды, недовольно ворча, были вынуждены покориться.
Алевтина вышла из ворот и без труда отыскав находящуюся неподалеку Месу, быстро, почти бегом направилась по ней к западной оконечности Константинополя. Чем ближе она подходила к городским укреплениям, тем отчетливей слышался шум сражения и тем более удручающей становилась картина постигшего город бедствия.
Черные провалы зияли в стенах полуразрушенных построек, осколки битого камня устилали дорогу; кое-где на обочинах дороги лежали трупы людей и животных, убитых метательными снарядами турок. Алевтину обгоняли небольшие группы воинов в помятых и запорошенных пылью доспехах, на взмыленных лошадях пронесся мимо отряд спешащих куда-то всадников. Вокруг суетились горожанки и монахини, на носилках и подводах, а кое-где и вручную переправляя раненых в безопасные места; слышны были крики боли и стоны, скороговорка священника, причащающего умирающих. Воздух дрожал от раскатов орудий, верхушки башен курились белым дымком, отовсюду доносился свист и треск падающих на мостовую неприятельских снарядов.
Алевтина оступилась и едва не задела ногой лежащую поперек дороги лошадь. Далеко обойдя стороной ее вытянутую голову с мученически оскаленной пастью и выкатившимися из орбит глазами, девушка прошла еще около сотни шагов и замерла в растерянности. Хотя минуло не так много времени с тех пор, как отец брал ее с собой на осмотр укреплений, она не могла узнать места, возле которого сейчас находилась.
Мимо нее, припадая на одну ногу, торопливо прошел средних лет горожанин с пикой на плече. Алевтина бросилась за ним вдогонку и крепко ухватила за руку.
— Где находится протостратор? — из-за грохота орудий ей приходилось кричать ему чуть ли не в самое ухо.
Ополченец смотрел на нее дикими глазами и явно принимая за сумасшедшую, молча вырывался.
— Где мастер Феофил? — с досады на непонятливость горожанина, ей хотелось стукнуть его по лбу.
— Протостратор? — горожанин наконец-таки уяснил себе суть заданного вопроса.
— Далеко отсюда. Рядом с Семибашенным замком.
— А где мы сейчас?
— У Адрианопольских ворот. Да пусти же меня, женщина!
Ополченец вырвал руку и оглядываясь, поспешил прочь. Алевтина растерянно посмотрела ему вслед, затем перевела взгляд на крепостные стены. Семибашенный замок? Но ведь это более четырех миль к югу от Месы. Как добраться туда, у кого спросить дорогу? От бессилия ей хотелось плакать. И тут она вспомнила, что между Адрианопольскими и Полиандровыми воротами располагаются две башни, которые защищает отряд Романа. Там же должен быть и Фома, товарищ по играм ее детства.
Алевтина приняла решение. Она пошлет Фому узнать об отце, а сама останется с Романом, единственным по-настоящему близким ей человеком, опорой и поддержкой в этом непонятном, полном ужаса и боли кошмаре.
Она бросилась вдоль укреплений, машинально отсчитывая башни. Четвертая, пятая, шестая. Седьмая! А может, восьмая? Повинуясь наитию свыше, она выбрала ближайшую башню. У самой дверцы внимание Алевтины привлек человек, в неестественной позе лежащий на камнях. Что-то знакомое почудилось ей в этой изломанной, распластавшейся на стертом булыжнике фигуре. Поколебавшись, она приблизилась и заглянув в приникшее к земле лицо, вскрикнула и отшатнулась. Одним остановившимся, выбитым из орбиты глазом смотрел на нее Фома, вторая половина лица являла из себя сплошное кровавое месиво. Алевтина попятилась, осеняя себя крестом, затем повернулась и стремглав бросилась к входу в башню.
Задыхаясь от сдерживаемых рыданий, она поднималась вдоль кажущихся бесконечными лестничных проемов, пробиралась по внутреннему лабиринту переходов башни. Когда, наконец, она вышла на открытую площадку, лучи солнца, нестерпимо-яркие после полутьмы коридоров, ослепили ее. Сквозь мутную пелену проступивших слез, Алевтине на мгновение показалось, что люди, вповалку лежащие внутри замкнутого с четырех сторон пространства площадки, погружены в глубокий сон — настолько тихой и умиротворяющей была картина всеобщего покоя и неподвижности.
Она сделала шаг, поскользнулась и чуть не упала. Переведя взгляд себе под ноги, девушка коротко закричала и отпрыгнула в сторону: ступни чуть ли не по-щиколотку утопали в большой луже крови. Только сейчас, да и то не полностью, она стала осознавать страшную явь.
— Роман! — каким-то не своим, тоненьким голоском позвала она.
Стараясь не наступать на мертвых, заглядывая каждому в лицо, Алевтина прошла вдоль всей площадки. Вздрогнув, уставилась на русые пряди на голове, поникшей из-под груды мертвых тел. Волосы цветом похожи на волосы Романа, но рука какая-то страшная и чужая: верхняя часть кисти отсутствует полностью, на ее месте — полоска оголённого мяса с белыми пятнышками перерубленных костей. Конечно же нет, не может быть, чтобы это был…..
— О, Боже! — вскрикнула она и схватившись за изуродованную руку, стала отчаянно дергать и тянуть ее.
Но мертвые, казалось, не желали выпускать свою добычу.
Обессилев, Алевтина опустилась рядом с телом Романа и беззвучно заплакала.
— Девушка…., - со стороны позвал ее тусклый голос.
Алевтина медленно подняла голову.
У самого края парапета сидел человек в камзоле критского легионера. Обеими руками он зажимал себе бок, откуда, несмотря на его старания, струйками выбивалась кровь и текла между пальцами, окрашивая их в матово-красный цвет.
— Беги вниз…, - с натугой, в несколько приемов выговорил он. — Зови воинов на помощь….. нас всех перебили…. турки скоро будут здесь….
И как бы в подтверждение его слов, из-за стены взметнулись две смуглые руки, ухватились за последнюю перекладину приставной лестницы и вслед за этим в пространство между двух выступов выскочил чужеземный солдат. Мусульманин скалил зубы с зажатым между ними ножом и настороженно озирался, поводя глазами по лежащим вокруг мертвым телам. Грек в последнем усилии с криком бросился на него и враги, накрепко сцепившись, стали раскачиваться над краем башни. Затем, не разжимая рук, они полетели вниз, стиснув друг друга в предсмертном объятии.
Алевтина вскочила, подбежала к котлу, в котором глухо булькала черная нефтяная смола и вытащив оттуда объемистый ковш на длинной рукояти, сгибаясь от тяжести, быстро понесла его к краю стены. Темная нить стынущей смолы протянулась вслед за ней и оборвалась, когда девушка вылила густую жидкость на голову взбирающемуся на башню вражескому солдату. Дикий вопль сменился неразборчивым бурчанием и турок, моментально превратившийся в эфиопа, покатился вниз по лестнице, сшибая собой карабкающихся вслед.
В полном забытьи, как бездушный автомат, Алевтина металась от котла к краю башни, обрушивая на врага все новые и новые потоки горячей смолы. До тех пор, пока меткая стрела янычара не пронзила ей горло.
ГЛАВА XLV
Узнав о бегстве генуэзцев, Константин поспешил на пристань. Он все еще не мог поверить услышанному, сгоряча возводя напраслину на Феофила. Наемники дезертировали по приказу Лонга? Нелепость, абсурд! Покинули стены вопреки его воле? Это вероятно лишь в том случае, если кондотьер мертв — будучи живым он никогда бы не допустил отступления. Но разве от раны в бедро умирают? Скорее всего, что-то напутал гонец Феофила, второпях исказив первоначальный смысл слов протостратора.
Константин прибавил шпор коню. Одни вопросы и предположения, ответ пока на них не найден. Нужно разобраться во всем самому и любыми способами вернуть генуэзцев на стены. Им мало полученных денег? Константинополь отдаст свои последние ценности. Они напуганы, помышляют лишь о спасении? Но как они могут на это надеяться, если город окружен двойным кольцом неприятеля?
Спасение заключено в победе, ландскнехты должны понять это, если разум еще не окончательно угас в них.
Чувство тоскливого бессилия охватило василевса. Почему так жесток к своим детям Всевышний? Ведь на оголенных, штурмуемых отборными султанскими войсками всего две сотни воинов Феофила! Сколько могут они продержаться? А если и венецианцы, поддавшись дурному примеру лигурийцев, отступят с позиций, катастрофы не миновать.
Маленький отряд проскочил через незапертые ворота пристани и выехал на площадь перед причалом. Неподалеку шел бой — христианские моряки отбивали атаку турецких гребных суден. Облака от пороха и горящей смолы низко плыли над водой, скрывая противоположный берег; отовсюду слышались крики и громкое ухание пушек.
Вне всяких сомнений, Джустиниани мертв, погиб на стенах. Мир праху его!
Константин не решался признаться себе, что в глубине души завидует Лонгу. Заманчиво, нет слов, не испив до дна чаши страданий, уйти в мир иной с сознанием выполненного долга. Но участь государя — не участь простого смертного. Перед Богом, перед Вечностью он в ответе не только за себя, но и за весь свой несчастный народ.
— Где галера главного генуэзца? — окликнул Франциск Толедский пробегающего мимо моряка.
Тот остановился, пару раз растерянно моргнул и ткнул рукой куда-то в сторону. Константин повернул голову в указанном направлении.
Облако серо-черного дыма застлало на мгновение корабль, остались видны лишь верхушки его длинных мачт. На одной из них, центральной, колыхался на ветру командирский вымпел. Константин вздрогнул и натянул поводья так, что железо узды в кровь разорвало губы коню.
«Лонг жив? Этого не может быть! Но почему тогда на мачте командирский флаг?»
От потрясения у василевса закружилась голова. Он пришпорил испуганного жеребца и помчался к галере.
С палубы неслись крики и торопливый топот. Стража у трапа нацелила было копья, но признав василевса, спешно отступила в сторону. Константин спешился и по убегающему из-под ног мостику поднялся на борт корабля. Суматоха на галере почти сразу же улеглась; генуэзцы замерли от неожиданности, затем стали сбиваться в толпу, недружелюбно посматривая на пришельцев.
— Командир ранен, к нему нельзя! — Доменик попытался преградить дорогу императору.
Удар кулака кастильского графа швырнул адъютанта в сторону. Доменик упал, перекатился набок, сел и заскулил, придерживая руками сломанную челюсть.
Константин толчком распахнул дверь каюты. Навстречу ему испуганно обернулись два лекаря и слуга с комком окровавленных бинтов в руке. Задетый кем-то таз с врачебными инструментами упал, с грохотом вывалив свое содержимое на пол.
— Оставьте нас одних, — приказал Константин, разглядев за тремя скрюченными от страха фигурами тело лежащего на кровати кондотьера.
Врачи заколебались; один из них даже открыл рот для возражения.
— Поторапливайтесь! — рявкнул от двери Франциск. — Не заставляйте меня ломать вам шеи.
Он выпихнул генуэзцев из каюты и плотно прикрыл за собой дверь. Константин вплотную приблизился к кровати.
— Я был уверен, что ты погиб, — после долгого молчания произнес он.
Кондотьер безуспешно пытался подняться.
— Как мог ты покинуть свой пост? Как мог увести за собой солдат? — продолжал допрашивать Константин.
— Я никого не уводил, они отошли сами. Я приказывал им остаться, но…..
— ….но они, увидев, что командир сбежал, поспешили последовать его примеру, — докончил за него василевс.
— Нет, государь. Это не так. Я…..
Лонг потупился и отвернул голову. Что возразить? Как признаться в собственной слабости, в том, что даже собственные воины не считаются с тобой, поступают вопреки твоей воле? И всё-таки он сделал попытку оправдаться.
— Я вынужденно поступил так. Моя рана…..
Он указал на туго перевязанное бедро. На бинтах проступало алое пятно крови. Константин взглянул на ногу кондотьера, затем вновь на его прячущиеся, молящие о снисхождении глаза. Жила на лбу императора узловато вздулась.
— Это и есть твоя рана? Стыдись, Иоанн Лонг! На стенах города воины, даже если у них осталась только одна рука, продолжают отражать врага. А ты и твои люди? Вы украдкой бежали, дезертировали с укреплений! Отдав их тем самым в руки турок.
— Но, государь…..
— Молчи! Со всего периметра города к воротам Романа спешат жалкие крохи отрядов, чтобы оголив собственные участки, заткнуть собой проделанную вами брешь в обороне. Ты же тем временем удобно возлежишь на кровати и страдая от пустяковой царапины, готовишь корабль к побегу? Клянусь Богом, если бы я когда-нибудь мог предположить подобное, я бы вооружил не только монахов, но и святых сестер в монастырях, чтобы поставить их вместо наемников Лонга!
— Государь! Не надо таких слов!
— Ты не заслуживаешь иного!
Некоторое время они недобро смотрели друг на друга, затем гнев отпустил василевса. Он сделал шаг к кровати и положил руку на плечо раненого.
— Возвращайся на стены, Лонг. Кроме тебя и твоих солдат их некому защищать. Медлить нельзя. Вспомни клятву! Пусть это будет наш последний бой, но отступать мы не имеем права. Такова воля Всевышнего!
Кондотьер колебался. Не только слабость, сковывающая все его тело, не только уверенность в поражении византийцев, но и какое-то непонятное упрямство мешало ему сдвинуться с места.
Константин с улыбкой протянул ему руку.
— Вставай, Джованни. Время не терпит.
Кондотьер схватил протянутую руку и привлек василевса к себе.
— Государь! — горячечно зашептал он. — Неужели ты не видишь — это конец. Наша битва проиграна. Оставайся на галере….. Мы покинем залив, прорвемся сквозь заслоны турок. Там, на островах вблиз Мореи соберем сильное войско, вернемся и отберем у нечестивых столицу.
Константин отнял руку и распрямился. Лицо его окаменело, улыбка погасла, как пламя задутой свечи. Он ясно расслышал слова генуэзца, но не сразу смог вникнуть в их смысл. Удар в спину от соратника и друга всегда неожиданен и силен для любого человека, будь он простым пахарем или венценосцем.
— Я ошибся в тебе, Джустиниани Лонг, — после долгой паузы, медленно, чуть ли не по слогам, произнес император. — Ты не только трус, но еще и предатель.
Он повернулся и вышел из каюты. За дверью с нетерпением ожидали византийские и генуэзские командиры.
— Что сказал кондотьер? — с ходу спросил Франциск Толедский.
— Кондотьера Джустиниани больше нет, — коротко ответил император.
Не произнеся более ни слова, он направился к трапу. Генуэзцы ахнули и бросились в каюту. Кондотьера Джованни Джустиниани Лонга, прославленного воина и командира там действительно не было — на кровати, закрыв лицо руками, лежал жалкий, раздавленный собственным ничтожеством человек.
Константин сел на коня и намотал уздечку на кулак. Он ни разу не обернулся назад. Да и зачем? Он должен был понять значительно ранее, что помощи ждать неоткуда, ни от Бога, ни от людей.
Пришпорив коня, император помчался обратно в город. Страшная весть о прорыве турок и отступлении защитников застала его на полпути к крепостным стенам.
Неподалеку от башни Анема, там, где смыкается стена Влахерн с двойной стеной Феодосия, около трех сотен янычар раз за разом штурмовали укрепления. Под защитой бревенчатых щитов, подтянутых носильщиками-аккынджи к самому подножию стен, турки, с помощью осадных лестниц время от времени атаковали горожан. Ранее этот участок осаждающие обходили вниманием и на башнях дежурило не более десятка дозорных. Теперь же византийцы были вынуждены перебросить от Адрианопольских ворот около полусотни ополченцев.
После нескольких приступов штурм начал выдыхаться; и без того неохотно идущие на приступ янычары, засев за укрытиями, не жалея содержимого своих колчанов, принялись обстреливать амбразуры башен и каждый просвет между зубьями стен. Потери с обеих сторон не были велики: около двух десятков убитых у турок и несколько легко раненных стрелами горожан.
Час спустя янычары неожиданно, все разом, бросились в атаку. Отражая нападающих, византийцы не обратили внимания на то, что один из бревенчатых щитов, подобно гигантской черепахе медленно отполз в сторону и замер там, уткнувшись краем в основание башни. Даже если кто-либо из защитников и вспомнил бы о находящейся под щитом незамурованной калитке, через которую не раз совершались дерзкие вылазки горожан, ему и в голову не пришла бы мысль заподозрить подвох: толстое листовое железо дверцы могло выдержать не один прямой удар пушечного ядра.
Провожаемый взглядами своих солдат, Ибрагим приблизился к калитке и навалился на нее плечом. Прослышался скрежет ржавых петель. Тысяцкий отпрянул в сторону, открывая перед остальными темный проем в толще башни.
— Аллах велик! — объявил приближенный Саган-паши. — Он услышал наши просьбы и отворил нам дверь.
Он встал сбоку от входа и взмахнул рукой.
— Быстро! По одному! И без единого звука!
Втягивая головы в плечи, янычары поочередно исчезали в узкой щели. Когда последний из воинов проник вовнутрь, тысяцкий хищно осмотрелся вокруг, вошел в проем и аккуратно запер за собой дверцу.
Подмога ему не нужна, как не нужны и соперники. Добровольно делиться с кем-либо славой и наградой? Видит Аллах, он не настолько глуп!
Пробравшись на внутреннюю сторону стен, янычары теснились в тени, отбрасываемой башней, уступая место идущим вслед. Ибрагим обнажил саблю и торжествующе взглянул на своих солдат.
— Вперед!
Турки бросились к лестнице, ведущей на площадку стены. Некий горожанин с пикой на плече, пыхтя от утомления, преодолевал высокие каменные ступени. Обернувшись на топот шагов, он недоуменно воззрился на толпу спешащих в его сторону чужеземных солдат.
— Эй! Кто вы такие? — окликнул он янычар и взял копье наперевес.
— Тревога! Османы в городе! — завопил он через мгновение и тут же покатился вниз, пронзенный сразу десятком стрел.
Никем более не замеченные, янычары поднялись на стены и с громким боевым кличем набросились на горожан. Растерявшись от неожиданности, ромеи поначалу пытались отбить врага, но под напором более многочисленного неприятеля, дрогнули и оттянулись на фланги.
— Нас предали! — послышался чей-то заполошный крик.
— Измена! — вторило ему сразу несколько голосов.
Сказалось колоссальное напряжение, непреходящее на протяжении многих недель осады, и внезапность нападения с тыла сыграла здесь свою роковую роль. Охваченные смятением горожане больше не могли сдерживать врага. Да и кто мог предположить, что численность прорвавшихся за укрепления янычар не превышала пяти десятков человек? Крики «Спасайтесь! Турки в городе!» заставили попятиться даже самых отважных.
Овладев протяженным, от башни до башни, участком и получив подкрепление от уже беспрепятственно поднимающихся на стены однополчан, янычары устремились к Калигарийским воротам. Городская стража во главе с сотником Феодором стояла насмерть и вскоре вся полегла под саблями мусульман. Иоганн Немецкий и сотник Павел, ударив в тыл уже захватившим ворота янычарам, приперли к стене вражеский авангард и в жестокой сече почти полностью истребили его. Но через незащищенные участки укреплений, сметая последних христианских бойцов, катился непрерывный поток султанских воинов, задержать который у горожан уже не было сил. В схватке с ними Павел погиб вместе со всем своим отрядом. Поспешившие к нему на помощь остальные двое братьев, Троил и Антоний, с остатками своих бойцов были вынуждены остановиться и затем прорываться к берегам Золотого Рога.
Тщательно продуманный, просчитанный до мельчайших деталей план обороны Константинополя начинал рассыпаться прямо на глазах. При виде развевающихся на башнях Керкопорты турецких знамен, осаждающие резко усилили натиск. Прорвавшиеся за внутреннюю сторону укреплений, османские отряды бежали вдоль стен, нападая с тыла на защитников и пытаясь распахнуть ворота. Попавшие в окружение венецианцы Минотто несли тяжелые потери. Феофил Палеолог, сняв со стен почти всех своих воинов, отразил турок от Полиандровых ворот, но дальше продвинуться не смог: его маленький отряд буквально увяз в огромном множестве вражеских солдат.
Первыми пали Адрианопольские ворота. Широкий вал пеших и конных воинов Исхак-паши влился через распахнутые створы и разбиваясь на более мелкие потоки, устремился вглубь города.
Гонец дрожал и заикался, время от времени взмахивал рукой и указывал вдаль, себе за спину. Константин почти не слышал его сбивчивых слов, ощущение непоправимой беды охватило его с такой силой, что поначалу василевс просто не смог собраться с мыслями.
— Как ты сказал? — неестественно спокойным голосом переспросил он. — Мусульмане в городе?
И тут же пришпорил жеребца так, что могучее животное взвилось на дыбы и как вихрь понеслось вскачь.
«Это ошибка!» — звенело в голове у Константина. — «Какое-то чудовищное недоразумение. Не может быть, чтобы всё было кончено.»
Железо подков выбивало из булыжника каменную крошку; строения на обочинах Месы проносились мимо одной сплошной ломанной линией; за спиной, подобно эху, слышался топот коней приотставшей свиты.
«Почему Кантакузин не остановил врага? Как мог протостратор допустить отход защитников?»
Всё это напоминало дурной сон, кошмар, от которого не спасает даже пробуждение.
«Я погубил Город! Свой народ!» — в порыве самоистязания Константину хотелось кричать во все горло.
Имел ли он право упрекать кого-либо за малодушие, если он сам, император и верховный военачальник, в ответственейший час покинул поле боя? Чем он лучше Лонга? Тот хоть, спасая собственную жизнь, позаботился вывести из-под удара своих людей. А он, василевс? Что делал в это время он? Пытался жалкими словами помочь делу там, где требовалась вся сила духа и собранная в кулак решимость побеждать наперекор судьбе.
С далеких башен насмешливо ухмылялись лоскутки чужих знамен.
Нет, еще не всё потеряно! Он успеет, он не может не успеть! Заткнет своим телом брешь, опрокинет и погонит вспять вражеские полчища!
Рядом с ним возник верховой в изрубленных, окровавленных доспехах. Он чуть не валится с седла от ран и от усталости, его конь храпит и роняет изо рта хлопья белой пены. Что кричит этот человек? Константин натянул поводья и прислушался. Он доносит, что стратег во главе своей дружины ведет бой неподалеку от цистерны Аспара; что большинство горожан окружено и заперто в своих башнях; что итальянские союзники, не в силах сдержать натиска, отступают по всей линии укреплений; что протостратор, пытаясь отбить у турок захваченные ими Адрианопольские ворота, бросился в самую гущу вражеских солдат и пропал среди них. Гвардейцы поспешили за ним, но были вынуждены отступить перед бесчисленным противником.
Константин резко осадил коня.
— Что с Феофилом? — срывающимся от горя голосом закричал он.
Всадник мотнул головой и от этого движения едва не полетел на землю. Вцепившись в гриву коня, он удержал равновесие и через силу выговорил:
— Прости, государь, но последнее, что мы слышали от протостратора — его крик: «Не отступать! Победа или смерть!» Потом голос смолк и никто из нас больше не видел командира.
Слезы чуть не брызнули из глаз императора.
— Погиб как герой, — прошептал Константин и прикрыл лицо ладонью.
Смерть ближайшего соратника и друга потрясла его до глубины души. Но усилием воли он сумел овладеть собой, вернуть себе выдержку, способность быстро и здраво рассуждать, поступать сообразно обстоятельствам.
Повернувшись к свите, Константин приказал:
— Отправляйтесь на все участки! Скликайте людей к обители Святого Иоанна. Я назначаю там место всеобщего сбора.
Он сглотнул ком в горле и продолжил:
— Враг прорвался за укрепления, но битва еще не проиграна. Мы дадим бой мусульманам здесь, в сердце святыни нашей и больше не отступим ни шагу. Спешите, друзья, время не ждет!
Более десятка всадников помчались в разные стороны.
Константин похлопал по шее коня и распрямился. Нет, он не лгал и не кривил душой. Он действительно рассчитывал отразить врага. Многолетний опыт подсказывал ему наиболее верное в данной ситуации решение — собрать воедино разрозненные отряды защитников и маневрировать, уходя от основных сил неприятеля и нанося удары по отколовшимся от них группам солдат. Обширное многомильное пространство города должно было облегчить ему эту задачу. Османским войскам предстояли упорные, изматывающие уличные бои, осада дворцов и хорошо укрепленных поместий знати. Силы неприятеля неизбежно распылятся, большинство воинов займется грабежами и по возможности будет избегать кровопролитных стычек. Каждый квартал будет многократно переходить из рук в руки. C наступлением ночи мародеры, отягощенные награбленной добычей, повалят обратно и тогда появится реальная возможность отбить у врага утерянные ранее ключевые участки укреплений. И трудно вообразить себе силу, способную поутру вновь поднять османскую армию на штурм, заставить сорвавших куш солдат заново начинать изнурительное сражение.
С точки зрения тактики план Константина был достаточно хорош и подтверждался опытом многих именитых полководцев. Но в нем не учитывалось то, против чего оказывались бесполезными всевозможные расчеты и ухищрения — огромная, несоразмерная с силами защитников, численность вражеской армии.
Время шло, ожидание начинало затягиваться. Становилось ясно, что благоприятный момент может быть упущен. К монастырю явилось лишь около сотни генуэзцев Каттанео, несколько десятков гвардейцев и разрозненные отряды ополченцев с примкнувшими к ним остатками воинов венецианца Контарини. Остальные отряды были рассеяны врагом или не могли отступить и продолжали сражаться, запертые в башнях или на крепостных стенах. Последним прибыл сильно поредевший полк Кантакузина.
— Все кончено, государь, — отдышавшись, прохрипел стратег. — Турок не сдержать, их слишком много.
— Стыдись, Димитрий! — упрекнул василевс. — Война — эта длинная череда случайностей. Туркам удалось прорваться за стены, но смогут ли они закрепить свой успех? От нас и ни от кого более зависит помешать им в этом.
Он хотел было продолжить, обращаясь на этот раз ко всем воинам, но смолк на полуслове. Все повернули головы и замерли: по Месе от центра города к монастырю под звуки церковного песнопения шел крестный ход. Шли женщины и дети; шли раненые, увечные, больные, незрячие, хромые и юродивые; шли старики и подростки, отягощенные оружием и слишком громоздкой для их слабых тел воинской броней; шли престарелые схимники (молодых уже успела поглотить война) и высохшие от долгих лет добровольного затворничества монахини и послушницы. Многочисленные голоса слажено и торжественно выводили чарующую мелодию литургии, тренированными басами вплеталось в нее пение священников и подьячих. Золотом и серебром блестели на солнце облачения, сверкали святые дароносицы и раки с кусочками бесценных реликвий. Кадила источали белый дым, церковные хоругви мягко реяли над головами, с полотнищ и икон смотрели на людей огромные и пронзительные, застывшие в безмолвном страдании глаза Христа Спасителя.
Константин приподнялся на стременах.
— Воины мои! — загремел его голос. — Сама Родина провожает нас! Она зовет в бой, приказывает нам умереть за нее!
Он вытащил меч из ножен.
— До последней капли крови! — крикнул он, напоминая клятву.
Золотые шпоры вонзились в круп коня.
— Вперед, христиане! С нами Бог и Крестная сила!
ГЛАВА XLVI
Анатолийцы, овладев примыкающими к Влахернам кварталами, устремились вдоль Месы к центру города. Однако вскоре в передовых рядах поднялось смятение; джебели остановились и даже попятились: навстречу им во весь опор мчался конный отряд неприятеля. Мало кто из турок предполагал отпор, большинство было уверено, что с христианами покончено еще на стенах. Растерянность сменилась тревогой — а что, если у неверных в резерве десятки тысяч ратников? Пехота хотя и приняла копья наперевес, но стала невольно отступать. В поисках подмоги оробевшие с надеждой поглядывали назад, более смелые и решительные упирали тупые концы копий в землю, чтобы выстоять при натиске закованных в броню византийцев.
Маленький отряд с ужасающим треском врубился в гущу османских солдат. Вверх взлетели обрывки тканей, куски щитов, копий и человеческой плоти. Напор конницы был настолько силен, что толпа анатолийцев раздалась в стороны, как вода под ударом дубины. Некоторое время турки еще сопротивлялись, уповая на свой численный перевес, но убедившись, что попытки выстоять напрасны, а длинные мечи горожан разят без промаха, они отступили, внося сумятицу в задние ряды и принуждая остальных к беспорядочному бегству. Византийцы с победным кличем устремились вдогонку, опрокидывая и втаптывая в землю замешкавшихся.
Отступление джебелей продолжалось до самых городских ворот. Прознав об этом, Исхак-паша вне себя от бешенства с полутора тысячами конников бросился наперерез воинам императора. И вовремя — защитники уже выдавливали остатки пехотинцев за ворота Константинополя.
Франциск Толедский первым заметил опасность. С криком: «Государь! Справа!», он развернул коня и выставив вперед тяжелое копьё, помчался навстречу тимариотам. Вслед за ним, отрезвев от успеха быстрой победы, устремились и другие византийцы.
Облако пыли повисло над схваткой. Конные воины перемешались с пешими, пестрые одежды турецких всадников — со стальной броней защитников. Над головами бойцов мелькали сабли, мечи, шестопёры; обезумевшие лошади дико храпели и поднимались на дыбы, роняя из оскаленных пастей густые хлопья пены.
Кажущийся неправдоподобно огромным, с головы до ног забрызганный кровью, Исхак-паша носился в гуще битвы подобно богу войны, легкими отмашками палицы выбивал из седел наскакивающих на него неприятельских воинов. Время от времени он приподнимался на стременах и кричал во всю мощь своей богатырской глотки:
— Царь Константин! Где ты? Я, бейлер-бей, желаю сразиться с тобой!
Но его призыв тонул среди криков, ржания лошадей и лязга оружия. Паша не отчаивался.
— Я здесь! Я ищу тебя! Ты боишься? Откликнись, царь Константин!
Василевс услышал крик паши. Ударом в шею сразив пробившегося к нему тимариота, левой рукой он сорвал с перевязи рог и поднес его к губам. Длинный переливчатый звук перекрыл на мгновение шум битвы. Бей рванул голову в сторону трубного пения рога, привстал на стременах и поднял коня на дыбы. Среди леса голов, шлемов и копий он увидел всадника в серебристых с золотой насечкой латах и с изогнутым рогом в руке.
— Поединок! — вновь раздался его рев.
— Я вызываю царя на поединок!
Турецкие и греческие слова вперемежку сыпались с его губ.
— Всем расступиться! Поединок!!
К императору с обеих сторон приблизились Кантакузин и Франциск Толедский.
— Государь! — задыхаясь, проговорил стратег. — Я должен сразиться с пашой!
— Да, да, — горячо вторил ему кастильский гранд. — Недопустимо для императора унижать свой сан, сражаясь с низшим по роду и по рангу противником. Если восточный князь желает поединка, то я, как граф и как потомок императорской династии, готов скрестить с ним оружие.
Константин отрицательно покачал головой.
— Нет, друзья мои. Бей желает поединка с императором. Пусть будет так.
— Молчи! — он жестом руки остановил готового возразить стратега. — В другое время я отверг бы вызов, но сейчас на карту поставлено многое.
Шум битвы быстро стихал. Смолкали крики, опускались занесенные было для ударов топоры, палицы и сабли. Тяжело дыша, как после долгого бега, утирая с лиц пот и кровь, воины расходились по сторонам, очищая место для схватки предводителей.
Исхак-паша отбросил в сторону булаву и обнажил огромный пал[16]. Он не торопился. Оценив наметанным взглядом крепко сбитую фигуру противника, бей уже не был склонен к излишней самоуверенности. Он не сомневался в своей победе, но все же напомнил себе о необходимых каждому опытному бойцу качествах — выдержке и осторожности. Пустив коня шагом, он медленно приближался к василевсу, перебирая в уме уже отчасти позабытые за давностью лет опробованные методы ведения единоборств.
С мечом в опущенной руке, Константин молча ожидал его, своей неподвижностью наводя на память вытесанную из камня конную статую. Паша гикнул и пришпорил коня. Послушное воле седока животное понеслось вскачь, чутко отзываясь на каждое прикосновение стремян. Бей растянул губы в недоброй усмешке и занес меч для удара наотмашь. Константин дернул коня под уздцы и тоже приподнялся на стременах. Солнечные блики на клинках метнулись вниз; железо встретилось в полете и отозвалось чистым звоном.
Воины обеих сторон дружными криками приветствовал начало поединка и позабыв на время о смертельной вражде, теснее сомкнули кольцо вокруг сражающихся.
Бейлер-бей был почти на голову выше своего противника и потому всецело полагался на преимущество в росте, на длину и мощь своих массивных рук. Однако Константин не уступал ему в боевом мастерстве и сильный, хотя отчасти смягченный шлемом удар по макушке вновь напомнил турецкому паше о необходимости зорко следить за каждым движением неприятеля. Забыв о первоначальной ярости, Исхак-паша овладел собой и стал держать себя подобно расчетливому игроку за шахматной доской.
Поединок продолжался под громкие возгласы одобрения и восторга. Всадники разъезжались в стороны и поворотив коней, вновь неслись навстречу друг другу, чтобы сблизившись, за счет скорости и веса лошади с седоком усилить мощь наносимого удара. Железо мечей лязгало звонко, как в кузнице; глубокие вмятины покрыли некогда блестящую поверхность лат. Копыта лошадей выбивали из сухой земли облака пыли, ветер рвал их в клочья и тут же относил в сторону.
Внезапно над толпой воинов пронесся полувскрик-полувздох: после очередного сильного удара шлем соскочил с головы бея и мелькнув напоследок венчиком белых перьев, покатился по камням, дребезжа подобно пустому котелку. Стальная полоса для защиты переносицы сорвала при падении кожу с левой брови и кровь густой струей стала заливать глаз Исхак-паши. От ярости богатырь обезумел, потерял остатки осторожности. Полуослепленный, он уже не глядя размахивал мечом, стараясь дотянуться до противника. Тщетно! Константин без труда парировал удары. Улучив момент, он сделал резкий выпад и острием меча разорвал кольчугу на боку у бея. Тот непроизвольно отпрянул, попытался ухватить вражескую руку, но промахнулся. Краешком здорового глаза он увидел занесенный над собой клинок, но ни увернуться, ни отразить удар уже не успел. Как подрубленный дуб богатырь дрогнул, зашатался в седле и схватившись за рассеченное темя, вниз головой полетел на землю.
Взрыв ликования раздался среди византийских воинов. С удвоенной энергией они набросились на врага, хотя турки, сраженные гибелью своего предводителя, более не помышляли о сопротивлении. В полном беспорядке тимариоты и джебели отступили к крепостной стене. У самых ворот бегство приостановилось: через разбитые створы в город вливались новые полчища османских солдат, ведомые на этот раз Караджа-беем.
После того, как выяснилось, что человеку, опорожнившему три полных кубка вина, трудно удержать равновесие в седле, Мехмед позволил пересадить себя в кресло. С вершины холма были видны развевающиеся на нескольких башнях Константинополя турецкие знамена. Мехмед смотрел на них осоловевшими глазами и ему хотелось пить еще и еще.
Пусть вино запретно для правоверных, но кто сказал, что победа не заслуживает возлияний? Кто посмел!? Мехмед обвел сановников подозрительным взглядом. Нет, эти не могли. Слишком много почтения на их угодливых лицах. Разве что визирь…. Ну, с этим вредным старикашкой предстоит долгий разговор, может быть даже в застенке и с палачом. У остальных же подобострастие прямо сочится из глаз. Правильно! Так и должно быть! Страх и восторг не могут не жить в людях, созерцающих стремительное возвышение нового победоносного полководца. Царь Александр Великий? Мехмед громко икнул. Он утрет нос этому древнему воителю, отберет у него часть его неувядаемой славы. Основа положена неплохая: великий город, упрямство жителей которого способно вывести из терпения даже каменного истукана, уже лежит у ног молодого завоевателя. И это только начало пути! Мехмед зажмурился, почти физически осязая, как ореол величия окутывает его с ног до головы.
— Ты — моя первая добыча! — заплетающимся языком проговорил он, тыча пальцем в сторону Константинополя.
Затем протянул руку к виночерпию, требуя нового кубка. Еще не допив, он отбросил чашу и сделал знак пажу с ведерком в руках. Пока он мочился, в рядах стражи, плотным кольцом окружающей султана и его свиту, возникло какое-то движение.
— Что там происходит? — Мехмед покачнулся и вперил взгляд в Улуг-бея.
Начальник охраны низко поклонился.
— Саган-паша с одним из своих приближенных просит соизволения предстать перед глазами великого султана.
— Пусть предстают, — Мехмед милостиво кивнул головой и поддерживаемый под руки, вновь опустился в кресло.
— Говори, — бросил он своему зятю.
— Повелитель! — начал Саган-паша. — Я привел к тебе человека, который пользуясь моими указаниями прорвал оборону неверных. Он же собственноручно водрузил на башнях города флаги, свидетельство твоей победы.
— Этот человек — санджак-бей? — осведомился султан.
— Нет, повелитель. Я держал его при себе в сане начальника охраны.
— С сегодняшнего дня он — санджак-бей! — заявил Мехмед, даже не взглянув в лицо молодцеватого тысяцкого.
— Мой господин! — Ибгагим прижался лбом к земле. — Щедрость твоя беспредельна! Я молю Аллаха о долгих годах службы под твоим началом.
Мехмед поморщился.
— Уберите его. Он мешает моим мыслям.
— Но мой человек принес важные вести, — возразил Саган-паша.
— Пусть говорит быстрее и проваливает.
— Мой повелитель, — начал Ибрагим, — я принес тебе две вести. Хорошую и плохую. С какой мне начать?
— Начни с хорошей. Тогда я может и не посажу тебя на кол.
Новоиспеченный санджак-бей опешил. На кол ему хотелось меньше всего. Прижав руку к груди, он заговорил, пытаясь скрыть дрожь в голосе:
— Отважный Караджа-бей потеснил гяуров и ведет твои полки вглубь города!
Мехмед довольно ухмыльнулся и протянул руку за новой чашей.
— Где же другой бейлер-бей? Почему от него нет вестей?
— Прости, о повелитель, — Ибрагим в знак скорби опустил голову.
— Отважный Исхак-паша пал в битве с неверными.
Не сразу до сознания Мехмеда дошла эта новость. Он подскочил в кресле, хмель быстро вылетел у него из головы.
— Что?! Что ты сказал, несчастный?
Он швырнул в тысяцкого полной чашей.
— Это правда, мой повелитель, — Ибрагим не смел утереть мокрое лицо.
— Бейлер-бей вызвал на поединок царя ромеев и был сражен его рукой.
Лицо Мехмеда посерело. Подобно многим малорослым и слабым от рождения людям его невольно влекло к тем, кого природа наделила могучим телосложением. К тому же он помнил, как предан был Исхак-паша его отцу, Мураду II, как пестовал паша молодого наследника, оберегал его от дворцовых интриг, содействовал в дни бунта янычар. И теперь этот человек убит всего за час до окончательной победы? Дикая, ни с чем не сравнимая ярость обуяла Мехмеда.
— Все в город! — завопил он, потрясая кулаками.
— Доставьте мне Константина живым или мертвым! Он, дерзновенный, осмелился поднять руку на моего ближайшего сатрапа. На одного из тех, чьими жизнями могу распоряжаться только я!
Он несколько раз рубанул рукой воздух, как бы отсекая голову невидимому врагу.
— Я отомщу, Аллах свидетель! Я страшно отомщу! Всей крови городских христиан не хватит искупить эту смерть!
Он бросился в кресло и забормотал проклятия.
Саган-паша жестом подозвал к себе Ибрагима.
— Возьмешь с собой три сотни солдат, — зашептал он ему почти в самое ухо, — и отправляйся в город.
Он указал на худого горбоносого человека в потрепанной одежде.
— Этот перебежчик укажет тебе дорогу к пороховому складу греков. Захватишь склад невредимым — получишь от меня два кошеля золотых. Ты понял?
— Да, мой господин! — Ибрагим даже если бы захотел, не смог бы скрыть своей радости. — Я спешу выполнить твой приказ!
— Спеши, — паша милостиво качнул головой.
Сквозь приспущенные веки великий визирь молча смотрел на клубы черного дыма за стенами Константинополя. Убеленное сединой благообразное лицо старика выражало скорбь и усталость от жизни. Падение города не только лишило его Исхак-паши, ближайшего друга и единомышленника, могучего союзника в борьбе за власть в бесконечных дворцовых интригах — оно напрочь перечеркнуло будущее Халиль-паши как советника султана и в недалеком времени вполне способно привести его на плаху.
Лошадь была убита под императором. Высвободив ногу, прижатую седлом к земле, он распрямился, одновременно отбиваясь от обступивших его янычар. Поток чужеземных воинов захлестывал его. Константин медленно, шаг за шагом, отступал, с каждым ударом опрокидывая на землю по человеку.
На глазах императора, один за другим, гибли его верные соратники. После удара палицей из-за спины поник в седле могучий Кантакузин; в куски был изрублен потомок славного рода Комнинов Франциск Толедский, при первом же тревожном известии поспешивший через моря на помощь своему народу. Был поднят на копья Иоанн Далматинец, чья исступленная ненависть к мусульманам отлетела лишь вместе с его душой. Еще ранее, пытаясь задержать прорвавшегося в город врага, погиб Феофил Палеолог, человек, сочетавший в себе мудрость ученого мужа с беззаветной отвагой воина. Никогда больше не увидеть Константину его дружеской улыбки и темно-карих глаз, прячущих в себе сочувствие и понимание нелегкой участи правителя гибнущей страны. Смерть брата по крови и по духу больнее всего ударила по Константину, затмила рассудок слепящей жаждой мести. Он бросился в бой и был побежден. Он не в силах был одолеть врага, сколько бы смертей не таилось на лезвии его меча. Подобно древнему герою, ему на долю выпало сражаться с чудовищем, на месте отсеченной головы которого тут же вырастало десять новых.
Не выдержав множества сабельных ударов, шлем на голове императора треснул и соскочил. Константин рывком нагнулся, подобрал кем-то обороненный щит и отразив наскок очередного янычара, бегло оглянулся. Вокруг него уже не осталось христианских бойцов, все они или были посечены турками, или, не выдержав натиска, отступили вглубь города.
Константин обеими руками взялся за рукоять меча. Щит он вскоре отбросил: множество застрявших в нем дротиков и стрел почти удваивало вес, тянуло руку к земле. От бесчисленных ран император почти полностью истёк кровью и по охватившей его необычайной слабости и ознобу понял, что час кончины уже недалек. Превозмогая головокружение, он бросился вперед, с криком: «За веру Христову!» развалил надвое ближайшего янычара, снес голову другому, но в то же мгновение ощутил резкую боль под левой лопаткой, в уязвимом месте между сочлениями доспеха. Молниеносно развернувшись, он раскроил череп подкравшемуся сзади турку и даже успел замахнуться еще. Но тут свет померк в его глазах и на подкосившихся ногах, император мягко опустился на груду сраженных им вражеских воинов.
Смуглолицый солдат подскочил к бездыханному телу, наотмашь рубанул саблей по лицу упавшего и, удостоверившись таким образом в его смерти, помчался дальше, вперед, навстречу ожидающему его богатству — золоту, ценностям, рабам.
Так, или почти так, окончил свои дни последний император Византии.
Наследник царской династии Палеологов, один из наиболее мужественных и несгибаемых венценосцев в истории Империи, Константин XI всю свою жизнь посвятил борьбе с османскими завоевателями. На протяжении многих лет он безуспешно пытался сплотить вокруг себя тех, кто в силу собственного малодушия не мог или не желал понять опасность тактики выжидания, терпимости к врагу, разрушающего, подминающего под себя основы прежнего жизненного уклада. Человек незаурядного ума, энергии и способностей, он делал все, что было в его силах. Но пробудить совесть, накрепко уснувшую в людях, так и не сумел.
В день решающей битвы, преграждая путь прорвавшимся в город полчищам врага, он погиб, как и подобает воину-государю, правителю древнего и славного своей историей народа.
ГЛАВА XLVII
Клубы серо-черного дыма поднялись и зависли над западной границей города. Медленно раздаваясь вширь, они ползли, гонимые ветром, на еще не охваченные пожарами кварталы столицы. Ужас и смятение овладели жителями Константинополя. Тревожные вести летели со скоростью молнии. Взывая к небесам, гулко и беспомощно звонили церковные колокола, в тщетной надежде моля Всевышнего о защите. Но Бог в те дни позабыл о милосердии.
Обычно затихавшие на время штурма городские улицы ожили и наполнились тревожным гулом. Неспокойно ржали и брыкались запрягаемые лошади и мулы, блеяли позабытые в скотных дворах овцы и козы. Слышался перестук дверей и ставен окон, тоскливо выли псы, женщины бестолково метались из стороны в сторону, причитая на все голоса и таская за собой испуганно ревущих детей. Те, кому посчастливилось достать подводу с лошадьми, сбивались с ног, вынося из жилищ свои немудреные пожитки; другие на тачках или на своих спинах волокли к пристани всё, что только можно было унести.
Людские ручейки вытекали из улиц и переулков, сливались на площадях в единый поток и обегая препятствия и заторы, вновь дробились на части, стремясь как можно скорее добраться до спасительной гавани.
В невообразимой суматохе муж терял жену, а мать — детей. Несмолкаемый гомон стоял над толпой, панический страх превращал людей в полуживотное стадо. Стараясь не отстать от молодых, проворно ковыляли старики и калеки; двое отроков, кряхтя от натуги, несли на руках престарелую мать; простоволосая девица металась в толпе и заглядывая встречным в лица, громко звала по имени малолетнего брата. Полусвихнувшийся проповедник с ногами взобрался на каменную тумбу и вещал с нее, как с амвона, о скором пришествии Судного дня. Неподалеку от него жалобно хныкала потерявшаяся девчушка лет шести, одной рукой вцепившаяся в тряпичную куклу, другой — размазывающая по щекам слезы вперемежку с грязью. Мимо них, не останавливаясь, шли, брели, бежали люди, на чьих лицах уже застыла маска страха и тупого отчаяния.
Всё живое бежало от смерти и несмотря на безысходность, упорно не желало умирать.
Но Город еще жил и продолжал сражаться. Несмотря на бегство малодушных, немалая часть простолюдья столицы готова была драться насмерть. Улицы Константинополя быстро заполнялись людьми. Влив в себя отступающие от крепостных стен отряды ополченцев, остатки горожан преградили путь врагу. Разгорелась беспощадная битва, в которой обе стороны далеко шагнули за грань человечности. Каждая улица, переулок, дом, доставались врагу лишь после долгой и ожесточенной борьбы. Горожане, не имеющие под рукой боевого оружия, дрались чем придется; метали во врага кухонные ножи, топоры, вертела; забрасывали турок вывернутым из мостовой булыжником; обрушивали с крыш тяжелые балки, поленья, черепицу; лили из окон кипящую воду и нечистоты. Укрывшиеся в городе селяне вооружились вилами, цепами и распрямленными косами; безоружные выдергивали дреколье из оград и наскоро заострив концы, присоединялись к товарищам. Прославленные, наводящие ужас на весь цивилизованный мир османские воины, с неимоверными усилиями овладевшие стенами Константинополя, гибли теперь под натиском разъяренных горожан, бесстрашно бросающихся на защиту своих жилищ.
Продвижение турок заметно приостановилось, а кое-где и повернуло вспять: мало кому была привлекательна резня с отчаявшимися, доведенными до крайней степени исступления людьми, сознающими к тому же, что настал их смертный час. Что может быть горше и позорнее для ратников Аллаха, чем пасть в самом конце сражения от рук презренного «живого товара», среди которого, к тому же, немалую часть составляли женщины и неокрепшие подростки?
Рукопашная битва разрасталась, охватывая районы Ливадии и Аврелианы. И может еще можно было отразить врага, если бы разбитые ворота не впитывали в себя подобно губке все новые и новые полчища аккынджи.
Кантакузин застонал и приоткрыл веки. Прямо перед глазами высилась неровная, покрытая растрескавшимся слоем штукатурки, белёная стена жилого дома. Он перевел взгляд вверх: сквозь застилающую небо черную пелену дыма тускло светил медно-красный диск солнца.
«Где я? Куда подевались остальные? «- стратег многое бы отдал за ответ на эти два простых вопроса.
Он попытался было встать, но тут же скрючился от острой боли в бедре. Схватившись за пояс, он с облегчением нащупал рукоять запасного меча и обнажив его, опираясь на клинок, как на костыль, с трудом поднялся во весь рост. Бросив взгляд по сторонам, он понял, что находится на незнакомой узкой улице, совершенно безлюдной, окна домов на которой были наглухо закрыты деревянными ставнями.
Димитрий прислушался. Откуда-то издалека доносились крики и шум сражения.
Стальной обод шлема подобно тискам сдавливал голову. Стратег расстегнул кожаный ремешок, сорвал с себя шлем и бегло осмотрел его. Вся левая сторона была смята и вогнута вовнутрь, по-видимому от сильного удара палицей или секирой: меч не мог оставить такого следа. Один из защитных рогов был отрублен напрочь, другой — зазубрен и свернут в сторону.
Скорее всего, оглушенный сыплющимися отовсюду ударами, Кантакузин на какое-то время потерял сознание и перепуганный конь вынес обмякшего на его спине всадника из гущи схватки, сбросил наземь на одной из дальних улочек города.
Боль в ноге не отпускала его. Стратег взглянул на бедро и досадливо поморщился: одна из стальных защитных полос на кожаной брючине сорвалась от скользящего удара сабли и именно в это уязвимое место врезался второй удар вражеского клинка. Кантакузин задрал кольчугу, оторвал лоскут от нательной рубахи, скомкал его и просунул под рассеченную как бритвой брючину. Похоже, кровотечение удалось на время приостановить и он, с трудом переставляя ноги и опираясь на меч, медленно побрел вдоль улицы.
Дойдя до перекрестка, стратег остановился: в сотне шагов от него возвышалось мрачное здание Арсенала. Оно еще не было захвачено врагом: у открытой двери в створе ворот стояло несколько ромейских стражников. Сжимая в руках алебарды, они тревожно озирались, прислушиваясь к звукам надвигающегося сражения. Признав в приближающемся к ним человеке Кантакузина, двое из них подбежали к стратегу и заботливо подхватив его под руки, почти понесли его на себе к воротам.
— Что происходит в городе, мастер?
— Где турки? Далеко ли они?
— Жив ли василевс? Где он?
Но стратег на все вопросы отвечал молчанием. Те же самые мысли мучили его не меньше, чем стражей.
Неожиданно дальние крики усилились и стали быстро приближаться. Солдаты повернули головы и обмерли: с другого конца улицы широким потоком неслись к ним мусульманские воины в блестящих кольчугах.
— Ну-ка, живее! — заорал стратег во весь голос. — Всем войти в ворота!
Он задержался у входа, проталкивая вовнутрь здания растерявшихся солдат. Массивная дверца уже захлопывалась, когда последний из воинов подпрыгнул и переломившись надвое, рухнул прямо между створами. Его судорожно сведенные пальцы заскребли спину, пытаясь дотянутся до стрелы, глубоко засевшей в позвоночнике.
— Втащите его и заприте ворота!
Но было уже поздно. Десятки рук с обратной стороны вцепились в дверь и стали рвать и тянуть ее на себя. Дверца немного подалась и замерла: один из стражников успел набросить цепь на вбитый в стену крюк. Под напором многих тел ворота дрогнули и затрещали, послышался грохот забарабанивших в доски кулаков.
— Открывай, собаки! — кричали снаружи на ломанном греческом языке.
В образовавшуюся щель между незапертой дверцей и воротами стали ломиться турки и даже не успев взмахнуть оружием, падали под ударами мечей, загромождая собой и без того узкий проход. Убитых вытаскивали за ноги и тут же новые янычары занимали их места.
Отбросив бесполезные алебарды, стражники во всю мочь, подобно дровосекам на лесоповале, рубили мечами наотмашь, но долго так продолжаться не могло.
— Держитесь, ромеи! — прохрипел Кантакузин, выдергивая меч из груди неприятельского воина.
Но поняв, что турок уже не остановить, отступил к стене и тяжело дыша, облокотился на нее. Почти сразу же вслед за этим крепежный крюк выскочил из гнезда и, распахнув настежь дверь, янычары прорвались вовнутрь. Стратег выхватил из ниши пылающий факел и бросился вглубь здания, к спиральной лестнице, ведущей к пороховым погребам.
Ибрагим, одним из первых ворвавшийся в здание Арсенала, заметил бегство византийца.
— Эй-ей! — завопил он, размахивая саблей. — Убейте грека, он хочет поджечь склад!
Сметая поредевших защитников, янычары толпой устремились вдогонку. Димитрий огромными скачками несся вниз по лестнице. Сердце едва не выпрыгивало из груди, боль от раны жгла ногу огнем, легкие спирало от бега, а сзади все громче доносился топот настигающих турок.
— Гяур, почему ты убегаешь? — насмешливо кричал из-за спины тысяцкий. — Вспомни, ты же обещал убить меня. Остановись, если ты мужчина!
Но стратег не слышал Ибрагима.
«Надо успеть….. надо успеть….!» — эта мысль подобно толчкам крови оглушительно пульсировала в голове.
Добежав до конца, Кантакузин бросился вдоль тускло освещаемого масляными фонарями коридора.
«Только бы успеть!» — сейчас это стало единственным смыслом его жизни.
Можно остановиться и принять смерть под ударами ятаганов. Но коли уж суждено умереть, долг воина — захватить с собой как можно большее число врагов. Эта простая истина с малых лет вжилась в душу и плоть Кантакузина.
Топот ног за спиной становился все ближе. Лезвие сабли лязгнуло о стальной наплечник и соскочило вниз. Стратег на мгновение остановился и с плеча нанес удар по белеющему в полутьме коридора лицу.
— Умри, собака!
Ибрагим рухнул вниз с разрубленной головой. Двое янычар тут же споткнулись о тело упавшего командира и вокруг них на какое-то время возник небольшой завал. Пока враги, оглушая себя бранью и криками, пытались выбраться из образовавшейся свалки, стратег, воспользовавшись передышкой, прихрамывая, поспешил дальше. Выставив вперед алебарду, из-за угла на шум голосов испуганно выглянул часовой.
— Задержи их! — крикнул Димитрий и резко свернув влево, всем телом навалился на железную дверь.
Дверь поддалась с протяжным скрипом. За спиной вновь послышались крики, кто-то застонал, громко треснуло древко алебарды.
Покачиваясь на каждом шаге, еле удерживая равновесие, стратег приблизился к длинному ряду больших, в два обхвата, дубовых бочек, вкопанных в землю на треть своей высоты. Выбив кулаком крышку одной из них, Димитрий уселся на нее и тяжело вздохнул. Теперь, пожалуй, можно и расслабиться.
Дверь распахнулась шире, пропуская толпу турецких солдат. Передние ряды замерли и прянули назад, в ужасе глядя на человека, сидящего верхом на бочке с порохом. Задние же, не подозревая об опасности, продолжали напирать, проталкивая стоящих спереди на середину залы.
Кантакузин недобро рассмеялся.
— Что, шелудивые, пороху захотели? Сейчас вы его вдоволь отведаете!
С этими словами он бросил факел в бочку. И прежде чем его тело разметало в пыль, Димитрий успел увидеть рванувшуюся из-под него ослепительно-яркую, как луч восходящего солнца, вспышку розового огня.
Земля содрогнулась от сильного толчка. Башенноподобное здание на какой-то неуловимо краткий миг мелко завибрировало, затем с ужасающим грохотом лопнуло, извергая из себя обломки деревянных балок, железные двери, камни, решетки и даже целые куски внутренних колонн. Взрывная волна ураганом пронеслась по городу, вырывая с корнями деревья, срывая крыши с домов, опрокидывая на землю людей и животных.
Орхан бежал, мчался во весь дух, не разбирая дороги. Забылось всё — и честь, и клятва императору; брошены на произвол судьбы отряд его воинов и вся придворная свита. Инстинкт самосохранения властно довлел над принцем, гнал его прочь от разыгравшейся вакханалии смерти. Трудно было не посочувствовать ему: впервые за все эти годы смерть предстала перед ним во всем своем неприглядном, отвратительном обличие.
Как разъяренные павианы, османские турки с криками карабкались на гребни высоких стен. С не меньшей яростью турецкие воины из числа городских ополченцев и свиты принца бросались навстречу своим соплеменником и единоверцам и в свирепой, остервенелой резне эти злые бесы в человеческой личине уничтожали друг друга так, что плоть ошметками летела из их тел. А греческие монахи? Как дьявол сумел так ловко проникнуть в их души, что они, еще недавно посвятившие свои жизни кротости и смирению, состраданию к ближнему, оказались способны лить на людей кипящую смолу и растопленный свинец?
Ужас происходящего едва не помутил рассудок принца. Он отступил в сторону, бормоча под нос молитву, затем отступил еще и еще. И когда передний рубеж обороны стал напоминать своим видом лавку мясника, он не выдержал и побежал прочь. Его изнеженное тело хотело только одного — жить, жить любой ценой, жить во что бы то ни стало и несмотря ни на что.
Замшелым шахматным узором мелькала мимо него темная от времени кладка Морских стен и башен; проносились отдельные воины, спешащие неведомо куда и зачем; в негустой толпе у подножия стен виднелись женские лица, с болью и тревогой обращенные к площадкам стен, откуда по-прежнему неслись выстрелы и крики.
Принц остановился, с трудом переводя дыхание. Куда бежать? С какой стороны нагрянет враг? Рядом с ним, почти коснувшись его бортом, вихрем пронеслась запряженная лошадью дряхлая колымага; грохот ее разбитых колес едва не оглушил Орхана.
— Что мне делать?! — от беспомощности он готов был завопить во весь голос.
— Быстрее! Поторапливайтесь! — как бы в ответ на этот немой крик послышалась резкая команда.
Принц оглянулся. В полусотне шагов от него стремительно вышагивал Лука Нотар в окружении десятка своих воинов. Теплая радость узнавания захлестнула Орхана. Он сорвался с места и подбежал к мегадуке.
— Мастер Нотар! — окликнул он его.
Мегадука замер, как вкопанный и быстро повернулся к Орхану.
— Принц?! Что ты здесь делаешь?
От удивления, звучавшего в голосе димарха, Орхан растерялся еще больше.
— Я? Я не знаю….
Нотар нахмурился.
— Надо уходить, принц. Враг уже в городе.
Его лицо потемнело от горечи и гнева.
— Турки прорвались со стороны участка Лонга, когда этот предатель позорно бежал на своем корабле. Никакими силами их уже не остановить. Беги и ты, спасай свою царственную голову!
— Но я не знаю, куда мне идти. Возьми меня с собой, мегадука!
Нотар быстро переглянулся с ближайшими из соратников.
— Это будет неблагоразумно, принц. Мы возвращаемся в город, чтобы попытаться спасти наши семьи. Тебе опасно даже появляться там. Ты знаешь, твоя голова высоко оценена и ищейки султана рады будут ее заполучить.
Он на мгновение задумался. Орхану показалось, что прошла целая вечность.
— Я дам тебе добрый совет, — наконец сказал мегадука. — Ступай к Влахернскому причалу, спроси там галеру под названием «Наксос». Когда же поднимешься на борт, назови мое имя капитану.
— Он поможет мне?
— Это мой преданный друг и он никогда не пойдет против моей воли. Он должен ждать меня с моей семьей, так что время у тебя пока еще есть. Запомнил, принц? Влахернская пристань, галера «Наксос».
Он чуть заметно усмехнулся в бороду и добавил:
— Та самая галера, которая три недели назад должна была везти тебя к престолу османских владык. Но ты своего Рубикона перейти не пожелал.
Выпустив напоследок отравленную стрелу, мегадука поспешил к центру Константинополя. Его охрана щитами отбрасывала с дороги бегущих навстречу обезумевших, объятых паникой людей.
— Торопись! Время уходит! — донесся издалека его крик.
Принц медленно пятился назад, расталкивая груженных свертками и узлами беженцев. Затем повернулся, влился в толпу и почти бегом устремился к Золотому Рогу.
За прошедший недолгий срок турки почти полностью успели овладеть укреплениями. И теперь, стуча сапогами по ступеням лестниц, они наперегонки спешили вниз, к своей добыче.
Горестный стон завис над толпой. Со стороны непосвященному зрителю могло показаться, что люди на пристани увлечены какой-то странной игрой. Они с криками гонялись друг за другом, уворачивались от ударов, валились с ног, клубками катались по земле, рвали из чужих рук увесистые свертки или детей. Некоторые из вконец отчаявшихся горожан бросались в море и захлебываясь в волнах, из последних сил плыли к стоящим не ближе ста саженей от берега кораблям. На галерах спешно распускались паруса, моряки выбирали якоря и рассаживаясь за весла, начинали грести, одни — поближе к берегу, чтобы взять на борт как можно большее количество несчастных, другие — выруливали прочь, малодушно спасая только собственные жизни.
Однако Орхан всего этого не замечал. Все его помыслы были направлены на то, чтобы раствориться в толпе, стать одним из многих и не признанным никем, добраться до Влахерн. Медлить было нельзя, и он помчался вдоль стен, на ходу срывая с себя шитый золотом халат и шелковый белоснежный тюрбан.
Не успев сделать несколько шагов, он резко, так, что заскрипели подошвы на песке, прянул назад: прямо на него выскочил рослый, обнаженный до пояса турок с закатанными до самых колен широчайшими шароварами. Свирепо оскалив зубы, воин с лающим звуком вобрал в себя воздух и во всё плечо замахнулся саблей. У принца потемнело в глазах. Еще мгновение — и он бы потерял сознание, но в каком-то спасительном озарении некая часть его «Я» громко вскричала:
— Остановись, грязный скот! Ты поднял руку на правоверного!
Услышав турецкую речь, воин растерялся. Он перетрусил еще больше, когда разглядел стоящего перед ним человека: по богатству одежд тот не уступал по меньшей мере санджак-бею, а надменный голос безошибочно выдавал в нем вельможу. Турок задрожал, выпустил саблю из рук и опустился на колени.
— Прости меня, господин. Разум помутился во мне. Я не знаю, как смог поднять на тебя оружие.
— Это был восторг победы, — принц шевелил губами, как во сне.
— Да, да, — обрадовался турок. — Отпусти меня, господин, не трать свой гнев понапрасну.
— Встань! — приказал Орхан.
Воин поднялся с колен и дернувшись, с немым удивлением уставился на свою грудь. Глаза его испуганно расширились, из прокушенной губы потянулась красная струйка. Орхан последовал за его взглядом и попятился, увидев между ребер турка свой собственный кинжал. Несколько мгновений они оба непонимающе смотрели на лезвие, по желобку которого медленно стекала кровь, затем турок хрипло вскрикнул и вцепился в одежду Орхана. Принц с усилием оттолкнул его и перескочив через завалившееся набок тело, бросился бежать.
Свернув за угол башни, он замер, отпрянул в сторону и вжался в спасительную тень. В глазах зарябило от множества османских солдат, часть из которых обступила группу отчаянно отбивающихся воинов-византийцев, в то время как остальные озабоченно бегали вокруг, хватая, разглядывая и вороша валяющиеся на земле пожитки горожан.
«Всё кончено!» — пронзительно зазвенело в ушах у принца.
Глубокое безразличие овладело им. К чему метаться из стороны в сторону, пытаясь спасти свою никому не нужную жизнь? Император пленен или убит, наемники разбежались, каждый думает только о своем спасении и никому, абсолютно никому нет дела до затравленного, загнанного в угол незадачливого принца.
Крики быстро приближались. Прямо у ног Орхана свалился со стены и забился в судорогах раненный ополченец. Отпрянув от умирающего, принц бросился вовнутрь башни, распахнутая дверь которой навела его на мысль об убежище. Минутная слабость прошла, жажда жизни вновь властно заговорила в нем. Чуть не сбив принца с ног, на него налетел византийский монах в черной, волочащейся почти по самой земле сутане. Увидев человека в восточных одеждах, он испуганно заверещал и метнувшись в сторону, замер там, торопливо бормоча молитву.
Спасительная мысль осенила Орхана. Он бросился к монаху, схватил его за шиворот и вытащил из укрытия. До смерти перепуганный инок хватал принца за ноги, молил о пощаде.
— Замолкни! — рявкнул Орхан, прислушиваясь к доносящимся снаружи голосам.
— Снимай одежду, монах, не то я сдеру ее вместе с твоей шкурой!
Инок оцепенело смотрел на перекошенное лицо турка. После удара по уху он опомнился и принялся торопливо срывать с себя рясу.
— Быстрее, быстрее, — подгонял Орхан, тревожно оглядываясь на светлеющий проем двери.
Выхватив из рук монаха одежду, он принялся торопливо и неумело натягивать на себя черное облачение. Кое-что уразумевший инок по мере сил помогал ему, кося глазами на отделанный золотой пряжей пояс принца. Орхан заметил его взгляд, усмехнулся, отстегнул пояс и швырнул его под ноги иноку.
— Бери себе, — с горечью проговорил он, — если думаешь, что он послужит тебе выкупом.
Сорвав с головы монаха клобук, принц напялил его почти до самых глаз и осторожно выглянул из двери.
Дорога казалось уже очистилась от солдат и он, подобрав длинные полы сутаны, со всех ног бросился бежать в сторону пристани. Почти сразу же его заметили и устремились вдогонку.
Орхан нёсся со всей прытью, на которую способны были его длинные ноги, но преследователи постепенно настигали его. Добежав до следующей башни, он заскочил вовнутрь и легко перепрыгнув через тела двух мертвецов, стремглав помчался вверх по железной, оглушительно громыхающей лестнице. Просторная и тяжелая ряса мало подходила для бега по крутым ступеням: очень скоро за спиной послышался настигающий топот ног. В отчаянии принц схватил валяющийся на площадке шестопёр и с размаху запустил его в преследователей. Громкий болезненный вскрик только подстегнул беглеца, но навстречу уже спускались люди, в чьих голосах без труда различались знакомые с детства слова.
Орхан метнулся вдоль узкого коридора, проскочил в открытую дверь, захлопнул ее за собой и быстро задвинул засов. В дверь тут же застучали кулаки врагов. Вскоре грохот стих, послышались приглушенные железом возбужденные голоса. Похоже, монах успел выдать его.
Принц затравленно оглянулся. Комната, в которой он оказался, была маленькой и тесной. В углу лежала куча соломы, помятый шлем, две алебарды и заплесневелые ломти хлеба, оставленные по-видимому отдыхающей сменой стражи. На противоположной от двери стене зиял проем, большой, в половину человеческого роста бойницы, забранной тяжелой железной решеткой. Принц приблизился к амбразуре, откинул засов решетки и распахнул ее.
С головокружительной высоты перед ним предстала скорбная картина. Весь берег был окутан дымом. Маленькие, словно игрушечные, галеры быстро плыли вдоль залива, а на пристани и на берегу метались фигурки людей, в жестах отчаяния протягивающие руки к удаляющимся кораблям.
Орхану на какое-то мгновение привиделась на борту одной из галер сутулая фигура мегадуки, тревожно вглядывающегося в толпу в поисках затерявшегося там принца. Но нет, то был, конечно же, всего лишь обман зрения.
Удары в дверь послышались реже, но сильнее. По-видимому, турки принялись сокрушать преграду чем-то тяжелым, молотом или булавой. Орхан продолжал стоять у бойницы, полной грудью вдыхая свежий морской воздух. Его взгляд бездумно скользил по густым, удивительно белым и пушистым облакам, неторопливо плывущим в безбрежно-голубом пространстве неба.
— Птицы…., - прошептал он вдруг, увидев стремительно несущуюся в высоте крикливую стаю чижей.
— Возьмите, возьмите меня с собой…. Я хочу быть как вы…. улететь, унестись прочь от этого дикого злобного мира…., - бормотал Орхан, раскачиваясь из стороны в сторону.
И в мгновение, когда дверь просела под ударами извне, он сделал быстрое движение и перекинул ноги за край амбразуры.
— Я — птица….! — во всю мочь легких выкрикнул он и взмахнув руками, выбросился наружу.
— Я лечу-у-….! — ликующе звенело него в ушах, когда он с распахнутыми, развевающимися полами сутаны, похожий на огромного подстреленного ворона, камнем падал вниз, на скалистые уступы подножия башни.
ГЛАВА XLVIII
На протяжении всего дня участок Морских стен, прикрывающий подступы к заградительной цепи через залив, подвергался особо ожесточенному натиску. Османскому флоту во что бы то ни стало требовалось прорваться в гавань, к удобным для швартовки и высадке солдат причалам. Но овладеть башней Кентария, на которой крепился подвижный конец Цепи, равно как и прилегающими к ней стенами, было непросто. Все попытки штурма кончались безрезультатно.
Не успевали турецкие феллуки приблизится к берегу, как из катапульт с башенных площадок летел в неприятеля меткий град камней и снарядов с зажигательной смесью. Потеряв несколько кораблей, Хамза-бей изменил тактику. Феллуки, собранные со всей акватории прибрежной части моря, загружались с бортов галер пехотинцами и моряками и спешили, несмотря на жестокий обстрел, к стенам города. Иногда, от чрезмерного количества принятых на борт людей, плоскодонки захлестывало водой, переворачивало от близкого попадания метательных снарядов.
В три погибели скорчившись на днищах лодок, воины испуганно блестели глазами и сбивчивым шепотом возносили молитвы к Аллаху. Да, смерть в бою почетна, но с полным ртом воды кормить собою рыб на дне моря? За это шейхи загробного блаженства не обещали.
Чем ближе феллуки подплывали к берегу, тем негостеприимнее становилась встреча. Не успевали воины со вздохом облегчения ощутить под ногами земную твердь, как с высоты стен и башен на них обрушивались увесистые камни, летели стрелы и копья, а железные трубы в прорезях бойниц извергали из себя целые потоки огня и раскаленного песка. Турки метались вдоль узкой прибрежной полосы, пытаясь защититься от стрел горожан щитами, а кое-кто — и телами погибших товарищей; вконец отчаявшись, искали спасения в воде или у подножия башен. Штурмовать стены без осадных приспособлений было невозможно и они гибли почем зря, без пользы и без счета, пополняя собой ряды счастливцев в райских кущах. Лишь когда к берегу на двух галерах сумели доставить осадные лестницы, мусульмане перешли в наступление.
Во второй половине дня, завалив своими телами подступы к стенам, турки были вынуждены ослабить натиск: некоторые из лестниц были попорчены или изрублены в щепы византийцами, другие — оказались непрочны и ломались под тяжестью облепивших их воинов. Но почти в то же время весть о прорыве врага на сухопутных стенах заставила многих горожан покинуть укрепления. Оставив посты, они поспешили по домам, надеясь спасти свои семьи.
Оказавшийся в одиночестве отряд критских моряков численностью менее сотни, еще в течении двух часов сдерживал врага, до тех пор, пока у него в тылу не появились первые группы воинов Саган-паши, движущиеся с верховий залива. Привлеченные шумом сражения, они с громкими криками набросились на моряков. Критяне, зажатые с двух сторон, отступили со стен и заперлись в башнях Алексия, Льва и Василия.
Попытки выбить их оттуда успехом не увенчались.
Время шло и даже командиры сотен начинали роптать. Саган-паша, кипя от бессильного гнева, то и дело мерил башни взглядом, прикидывая успех новой атаки. Посылать людей на штурм, заранее обреченный на провал, паша не хотел. Выставлять себя в смешном свете, в уже захваченном городе осаждая три башни с запершимися там христианами? Забыть бы про них, послать к сатане ту горстку упрямцев, но как знать, что может вдруг взбрести в головы этим безумцам.
В то же время он понимал, что терпение его солдат быстро истощается. Многие с неприкрытой завистью посматривают в сторону города, где их собратья по оружию упоенно предаются разбою. Послать их вновь на штурм? В любом случае задача не из легких и без принуждения уже не обойтись. Кому же захочется погибать в самом конце сражения, увеличив своей смертью долю остальных?
Саган-паша решился на переговоры. Кивком подозвав к себе переводчика, коротконого грека-ренегата, он сквозь зубы бросил ему:
— Пойдешь к гяурам и скажешь им: паша предлагает вам жизнь в обмен на оружие. Они — моряки, и должны знать, что лучше невольниками ворочать весла на галерах султана, чем через час усесться на кол верхом.
Грек поклонился, размотал свой тюрбан и размахивая белой материей как флагом, боязливо двинулся к ближайшей башне.
— Поторапливайся! — рявкнул паша, глядя, как парламентер осторожно переступает через мертвых и умирающих.
Железная дверь у основания башни чуть приоткрылась и грек быстро прошмыгнул в образовавшуюся щель.
Паша нетерпеливо тронул плетью коня и рысью проехал перед рядами своих солдат. Боевой азарт уже сошел с их лиц, сменяясь усталостью и раздражением на досадную помеху.
Вскоре от верхней площадки башни послышался окрик. Темная фигура, описав дугу, звучно шлепнулась об землю. Паша приблизился к распластанному на камнях телу парламентера, бегло взглянул в широко открытые, полные ужаса глаза мертвеца и перевел взгляд на записку, приколотую ножом к его груди.
— Прочти, — кивнул головой он Исмаилу.
Вельможа спешился, выдернул нож и приблизил записку к глазам.
— Условие принято. Оружия много. На каждом клинке — ваша жизнь, — вслух читал юноша.
— И это всё?
— Да, светлейший. Написано кровью, — Исмаил отбросил записку и вытер руки об халат.
Саган-паша помолчал.
— Теперь пойдешь ты, — бросил он своему приближенному.
— И скажешь им следущее…..
Сотник Даниил неприязненно смотрел на стоящего перед ним турецкого сановника.
— Мы уже дали ответ Саганосу…. или как там его? Похоже, ему требуется подтверждение? — хмуро спросил он.
— Не торопись, о отважный, — Исмаил говорил на хорошем греческом языке.
— Мой господин умеет ценить мужество, даже если это мужество врага. Он счел нужным изменить свое первоначальное предложение. Но перед тем, как огласить новое, дозвольте мне сказать вам несколько слов от самого себя.
Он облизал пересохшие губы и повел глазами по сторонам. Вокруг стояли воины в изрубленных и окровавленных латах. Многие из них были ранены, но и те, кто еле держался на ногах, не выпускали из рук оружие.
Исмаил повысил голос, зная, что его слушают все, даже наблюдатели у бойниц, зорко следящие за каждым движением врага у подножия башни.
— Оглянитесь вокруг, христиане! Вы увидите то, что очевидно уже всем. Город взят армией султана, корабли ваших единоверцев во всю мочь спешат в свои дальние страны. Войска ваши разбиты, император взят в плен и скоро будет казнен. Ответьте, храбрецы, кого вы собираетесь защищать? Во имя чего бросаться вам в объятия смерти? Войско султана несметно и вы продержитесь не более нескольких часов, пока все три башни не обложат бочками с порохом и не взорвут вместе с запершимися в них людьми.
— Ты что это, нечестивый, пугать нас вздумал? — взревел один из моряков и с поднятыми кулаками бросился на турка.
Даниил тычком возвратил его на место.
— Говори короче, — потребовал он.
— Светлейший паша предлагает вам вернуться на свои корабли и с почетом уплыть к берегам своей страны. Препятствий вам чиниться не будет. Вы можете забрать с собой всех раненых и оружие.
Он говорил страстно, пытаясь пробить глухую стену недоверия.
— Никто из подданных султана не посмеет преградить вам дорогу. Да и зачем? Поверьте, мы тоже устали от крови.
— Это вы-то? Устали от крови? Ну ты шутник…! — боец с перевязанной головой вознамерился метнуть в турка топор, но был остановлен рукой товарища.
Сотник колебался. Условия были настолько почетны, что невольно вызывали подозрение.
— Вам также дозволяется свободно сноситься со своими земляками в двух соседних башнях и даже дается время для раздумий…., - продолжал Исмаил.
— Не верьте ему, это обман! — закричал кто-то.
— Мусульмане готовят ловушку!
— Император взят в плен? Где свидетели?
— Лжет, вражья душа!
— Попридержите языки! — рявкнул Даниил.
— Жив император или нет, подмоги нам не видать, усвойте это прочно. Идти на соединение с другими отрядами? Нас слишком мало, чтобы пробивать себе оружием дорогу. Да и в какую сторону податься, кто может ответить?
Он обвел взглядом притихших солдат, затем вновь повернулся к османскому сановнику.
— Как мы можем знать, сдержит ли твой хозян слово?
Исмаил утёр платком мокрый от пота лоб.
— Саган-паша предусмотрел всё. Он дает вам в заложники своего племянника.
Он на мгновение запнулся.
— И меня, сына синопского воеводы. Это должно убедить самых недоверчивых из вас. Впрочем, выбор у вас невелик. Решайте сами.
Обсуждение условий, выдвинутых Саган-пашой было жарким, но непродолжительным. Сомневающихся или упрямцев сломили быстро — выбор был и впрямь невелик. Умирать же без цели и без смысла не желал никто.
Через некоторое время, все критяне, выстроившись в боевой порядок, с оружием в руках, неся на самодельных носилках раненых, молча покидали захваченный город. Оцепленные по бокам рядами азапов, они направлялись к пристани, к своим кораблям, стоящим на якорях у причала.
Лишь когда все воины поднялись на борта галер и последняя шлюпка была готова отчалить от берега, Даниил дал знак отпустить обоих заложников. Лодка, гребцы на которой не жалели сил, поспешила к одной из галер. Выбрав якоря, моряки налегли на весла и два небольших судна медленно поплыли прочь от гибнущего города.
Приплясывая и испуская гортанные выкрики, Ангел быстро пробирался по захваченным неприятелям улицам Константинополя.
Штурм укреплений не в первый раз заставал лазутчика за пределами укреплений, но прорыв врага в город оказался для него, как и для многих прочих, полной неожиданностью. Кляня себя за оплошность, он влился в толпу анатолийцев и вместе с ними проник через разбитые ворота.
Он спешил, почти бежал по знакомым кварталам, не замечая разгула опьяненной победой солдатни. Что ему до неравных стычек горожан с захватчиками, до начавшихся повальных грабежей? Когда в доме пожар, спасают самое ценное. Его цель — старинный особняк на тихой неприметной улочке. Даже смертельно раненный, с переломанными ногами и истекающий кровью, он полз бы к старцу, затмившему в его глазах и в сердце всех созданных когда-либо человечеством богов.
Ангел знал, что Феофан никогда не покинет Города, частью которого он стал, с которым слился и плотью и душой. И потому он упрямо прокладывал себе путь сквозь возбужденные толпы грабителей, чтобы в последний раз припасть к ногам старика, ощутить у себя на лбу руку божества, почти невесомую от множества прожитых лет. К чему ненужные слова? Смерть прекрасна, если она — смерть верного пса, до последнего вздоха своим телом защищающего хозяина.
Трескучее, злое пламя пожаров выбивалось из почерневших проемов дверей и окон, лизало кроны деревьев, поднималось выше черепичных крыш. Удушливо-едкий дым клубами полз вдоль улиц, разъедая глаза и обжигая при дыхании грудь. Вымазанные в грязи и копоти чужеземцы ползали среди груд выброшенного из домов имущества горожан, щупая и проверяя вещи на прочность. Иногда, не поделив между собой что-либо, они рвали добычу из чужих рук, ссорились, дрались, клубками катались по земле, вопя и осыпая друг друга ударами кулаков.
Ангел досадливо поморщился: прямо перед ним, у крыльца двухэтажного особняка возник и закрутился небольшой людской водоворот. Не останавливаясь, он проскочил мимо оживленно гомонящей толпы, но после трех десятков шагов какое-то непонятное чувство заставило его остановиться и повернуть голову назад.
Кольцо полуголых тел на мгновение раздалось и он увидел, как двое захватчиков, под дружный гогот своих соплеменников, старались распластать на мостовой рвущуюся из их рук женщину. Она билась на камнях подобно рыбе, выброшенной из воды, жалобно кричала и захлебывалась от рыданий. Светлые, почти золотистые волосы скрывали ее лицо и плечи, сквозь разорванную ткань одежды молочно белела обнаженная грудь. Рослый плешивый турок выкручивал ей руки, в то время как приземистый сипах, спустив шаровары, уже стоял на коленях, раздвигая женщине ноги в стороны.
Ангел вздрогнул так, что едва устоял на ногах; по телу волнами, одна за другой, побежали сильные судороги. Лоб мгновенно покрылся испариной, сердце взорвалось болью, как бы стиснутое стальной шипастой перчаткой.
……обезумевшая женщина…..звериный лающий хохот….. полузадушенные стоны….. пронзительный детский крик: «Ма-ама-а-а….!»……
Неведомая сила швырнула его вперед. Гигантскими скачками он мчался сквозь время, сквозь годы, назад, в свое прошлое, и только смерть, мгновенная смерть могла остановить его бег. Он бежал, наливаясь холодной яростью и страхом не успеть; лишь ветер свистел в ушах и трепал полы его дранных лохмотьев.
Прыжок — и живым снарядом пробив толпу, Ангел с размаху упал на плечи стоящему на коленях сипаху. Стальное жало, сверкнув напоследок полированными гранями, с тихим хрустом погрузилось в выбритый затылок. Плешивый, ошеломленно наблюдавший смерть товарища, резво вскочил на ноги, но — взмах руки — и крик застрял в его глотке вместе с лезвием кинжала.
В следующее мгновение Ангел в куски был изрублен озверелой толпой. Вместе с ним погибла и неизвестная ему женщина, в недобрый час напомнившая ему мать.
Пятеро всадников во весь опор мчались по еще не захваченному турками кварталу Арториана.
— Здесь! — Альвизо Диедо осадил коня рядом с приземистым, мрачноватого вида особняком.
Ворота распахнулись после первого же стука.
— За мной, быстрее! — капитан сделал знак остальным и первым проехал вовнутрь.
В глубине небольшого патио исходила лаем свора огромных волкодавов. Псов удерживали цепи на ошейниках, иначе они вмиг растерзали бы пришельцев вместе с их лошадьми.
— Придержи пасти своим собакам! — спешиваясь, крикнул венецианец одноногому привратнику.
— Где хозяин?
— В своем кабинете, на втором этаже, — ответил калека, поудобнее устраиваясь на скамеечке, рядом с беснующимися псами.
Диедо махнул рукой и внецианцы, за исключением одного, оставшегося с лошадьми, быстро направились к лестнице. Там их уже поджидал здоровенный детина с перебинтованным лбом, способный, судя по его виду, одним ударом кулака свалить быка наземь.
— Мастер ждет вас, — объявил он и повел гостей вверх по лестнице.
— Долгих вам лет, синьор! — итальянцы цепочкой, один за другим, зашли в комнату Феофана.
— Мы пришли, как и было условлено.
Кресло-каталка советника императора была придвинута к самому окну; старик, опустив руки на подлокотники кресла, немигающe смотрел на дымовую завесу, окутывающую дальние районы города.
Услышав приветствие, он с усилием оторвал взгляд от окна и повернул голову к входящим.
— Я вас ждал, синьоры.
И чуть помедлив, спросил:
— Что происходит в городе?
— Мы глубоко сожалеем, синьор. Город пал, — ответил за всех Альвизо.
— Что с императором?
— Никому ничего не известно, синьор. Вероятнее всего, он погиб в сражении, когда преграждал путь прорвавшимся за стены отрядам.
Феофан надолго замолчал.
— Где димархи? — спросил он наконец.
— Трудно ответить. Или погибли, или пленены, или спешат спастись на кораблях.
— Последнее маловероятно, — покачал головой старик.
— Зачем вы пришли? — вдруг резко задал он вопрос.
Диедо растерялся от неожиданности.
— Как же так, синьор? Ведь было условлено…..
— Да, — заговорил Феофан, на руках чуть приподнимаясь с кресла.
В его голосе впервые за многие десятилетия прорезались злые, визгливые нотки.
— Вы пришли, как и было условлено, за бумагами, обещанными мною Сенату Венеции. Но выполнил ли Сенат обещанное императору?
— Синьор, но Республика выслала флот!
— Где же он?
— Не знаю, что ответить. Возможно, задержался вблизи островов Мореи, — Альвизо промокнул шейным платком обильно струящийся по лбу пот.
— Кто же мог предположить, что сопротивление хорошо укрепленного города будет сломлено так быстро?
«Будь прокляты и Сенат и адмирал оредано с их тайными играми и расчетами», — со злостью думал капитан. — «Почему я должен стоять и как незадачливый школяр, держать ответ за чужие грехи?»
Старик помолчал, затем заговорил другим, более спокойным голосом.
— Прошу уважаемых гостей простить меня за резкий тон: смерть горячо любимого мною василевса вывела меня из душевного равновесия. Я обещал Сенату республики некоторые, представляющие значительную ценность документы, имеющие прямое отношение к сановитым вельможам Османской империи. Обещал в обмен на прибытие в Константинополь военных кораблей с грузом пехотинцев. Флот, как известно, не прибыл, затерялся где-то в просторах Средиземного моря. Таким образом, я могу считать свободным от встречных обязательств.
— Но синьор….,- Диедо прикусил язык.
На какое-то мгновение у него промелькнула мысль забрать документы силой. Он и его товарищи набросятся на стоящего чуть поотдаль здоровяка с булавой у пояса, прикончат его, убьют и второго охранника, вертлявого парня с глазами и повадками наемного убийцы. Затем извлекут из хранилища все ценные бумаги, погрузят их на первую попавшуюся подводу. Нет…. Альвизо внутренне покачал головой. Шансы на успех весьма невелики: эти двое наверняка окажут нешуточное сопротивление. Да и где уверенность, что хранилище отыщется быстро и среди вороха бумаг они успеют отобрать необходимое? Турки уже на подходе, с минуты на минуту они могут не только отрезать пути, ведущие в гавань, но и заполонить всю улицу. А если еще вспомнить одноногого привратника с его осатаневшими от злобы псами! Нет, риск хорош лишь тогда, когда есть хоть малейшая надежда на успех.
С другой стороны, стоять перед дожем и Сенатом и сбивчиво бормотать оправдания?
Голос Феофана вывел его из задумчивости.
— И все-же, — говорил византиец, — несмотря на двоедушие твоих хозяев, я передам тебе обещанные документы.
Сердце Диедо ёкнуло от радости.
— Но делаю это не из-за верности по обязательствам, нарушенным партнером. Только мой долг перед попранной, загубленной страной, ненависть к ее врагам, заставляют меня принять такое решение.
— Юстин, — обратился он к вертлявому телохранителю. — Вынеси из моей библиотеки две заготовленные шкатулки и передай их венецианцам.
Охранник поклонился и вышел. Диедо понял, что пробил его час.
— Синьор! — он приблизился к старцу, опустился на одно колено и взял в руки его худую кисть.
— Документы не самое важное — они не стоят и унции вашего мозга! Нас ждет Венеция! В гавани наготове стоит быстроходный корабль и через пять дней вы с почетом ступите на землю Республики. Вы окажетесь в окружении расторопных, надежных людей и сможете продолжать борьбу, которой посвятили всю свою жизнь. Только с помощью Венеции вы можете отомстить врагу, вернуть своему народу землю, вдохнуть жизнь….
Он осекся и повернул голову на стук: охранник опустил на пол два больших, крепко сколоченных ларца. Феофан медленно отнял свою руку.
— Там, как я уже говорил, находятся документы, весьма полезные для борьбы с османскими завоевателями. Из-за нехватки времени и средств я не сумел должным образом распорядиться ими. А может, стал просто стар для подобных дел. Удача, как известно, любит молодых. Надеюсь, богатая и энергичная Венеция найдет им лучшее применение.
— Синьор, не отказывайте! — молил Диедо.
— Нет, венецианец, не трать наше время попусту. В этом городе я родился, вырос, отдал ему всю жизнь и коли уж суждено в ближайшее время умереть, я умру здесь, на родине своих предков.
— И вместе с ней, — добавил он чуть слышно.
Диедо поднялся с колена.
— Мне очень жаль, синьор, — искренне сказал он.
— Мне тоже, сын мой. Юстин, проводи гостей.
У самых дверей Диедо остановился.
— Прощайте, синьор. Да хранит вас Бог!
— Прощай, сын мой.
Венецианец отвесил глубокий поклон и скрылся за дверью. Феофан опустил руки на подлокотники кресла и вновь повернулся к окну. Вдали стихал топот лошадей, уносящих венецианцев и драгоценные ларцы к спасительной пристани.
— Дементий! — окликнул он охранника с перевязанной головой. — Принеси чашу, стоящую на моем рабочем столе.
Слуга повиновался.
— Слушай меня внимательно, — старик взял его за руку.
— Когда я усну, отсчитай до ста и приложи ухо к моей груди. Хотя нет, последнее излишне. Аптекарь клятвенно заверил меня, что его питье действует быстро. А я склонен ему верить. Потом пойди в библиотеку, отопри дверь, ведущую в семейный архив. В углу найдешь большой бидон с горючей смесью. Залей ею все шкафы, сундуки, столы. Точно так же поступишь с каждой комнатой, включая эту. Затем, убедившись, что в доме не осталось никого живого, поднесешь пламя к этой смеси.
— А ты, мастер?
— Я останусь здесь.
Дементий отпрянул.
— Но ведь это великий грех, мастер!
— Перед кем? Перед Богом? Нет, сын мой, каждый носит Бога в сердце своем и потому всегда должен следовать его зову. Ступай!
Оставшись один, Феофан повернулся к окну. Лучи предзакатного солнца, затемненного клубами черного дыма, наполняли комнату мертвенным, багряно-красным свечением. Или то были отблески начинающегося грандиозного пожара?
Феофан поднял чашу и припал губами к ее золотому краю. Едкая жидкость обожгла и высушила горло. Старик кашлянул, откинулся на спинку кресла и молча, сквозь навернувшиеся слезы, с нечеловеческой тоской и болью стал смотреть на зачинающиеся огнем крыши зданий гибнущего города.
ГЛАВА XLIX
С незапамятных времен стены храмов являлись для людей Убежищем. Эти желанные островки среди морей житейских невзгод служили символами Веры, Надежды и Любви, источниками мудрости, вдохновения и Высшей справедливости. Они манили свободой от мирских волнений, святостью, таинством обрядов, покоем души перед Богом. Они укрывали от разгула природных стихий, людских страстей, жестокости правителей. Подобно губке впитывали они в себя страдание, усталость духа, печаль и разочарование и отдавали обратно в виде утешения, доброты и умиротворения перед Вечностью.
Внутри святых стен кончалось человеческое правосудие: перед Богом равны и царь и пастух. Даже преступники, изгои общества, приговоренные к казни, находили в стенах храма спасение. Там они были освящены и недоступны для людских законов, но лишь до тех пор, пока не покидали своего укрытия.
Излишне говорить, что кровопролитие в Божьем храме считалось тягчайшим грехом, даже пронос оружия вовнутрь святых стен был кощунственен и недопустим.
И нет ничего удивительного в том, что в день падения Константинополя тысячи и тысячи людей со всех окраин города устремились к своей наиглавнейшей святыне, к храму Святой Премудрости, четырехгранным каменным холмом возносящего в небеса свой огромный, осенённый крестом золотой купол.
Чуть ли не впервые за всю историю своего почти тысячелетнего существования, храм оказался тесен для великого множества горожан, сбежавшихся под защиту его стен. Огромные ворота с гулом затворились, отрезав на время молящихся от ужасов, творящихся снаружи. Но беда, подобно лесному пожару ползущая по городу, вскоре застучала в двери и, увы, отнюдь не в фигуральном смысле.
Вытянувшись в напряженном ожидании, люди стояли почти вплотную друг к друга, пугливо вздрагивая при каждом ударе тарана. На хорах, где было чуть просторнее, многие стояли на коленях, с надеждой и верой обращая взгляды к алтарю.
Тёмные, аскетически изнуренные, преисполненные неземной одухотворенностью лики святых с настенных росписей смотрели на людей огромными, полными скорби глазами. Застывшие фигуры апостолов склонялись перед грозным величием Христа — Вседержителя, восседающего на троне небесном, с безмолвной мольбой тянули к нему руки. Образ Богоматери с младенцем на руках излучал страдание и муку, налёт обреченности застыл на прекрасном и утонченном ее лице.
Мерно, подобно поступи Рока, грохотали ворота под натиском тарана. При каждом ударе массивные и прочные, обитые медью створы стонали как живые, скрипели, трещали, но не поддавались.
Тихо, подобно шелесту листьев на ветру, разносился по храму шепот молитв.
— Господи, спаси и помилуй….!
— Великий Боже, даруй нам избавление…..
— Прости нас, Всевышний! Прости и не гневись….
— Яви свою милость, Отче наш! Отрази врага от стен обители, не дай свершиться неправедному делу…..!
— Спаси наши семьи, детей наших! Не дай погибнуть им смертью лютой….
Ворота затрещали громче; чувствовалось, что прочность запоров на исходе. Несколько мальчиков-служек срывающимися от страха голосами вразнобой, надрывно и тонко, затянули торжественных гимн литургии. Но их не слушал и не слышал никто. Под мощными ударами ворота грохотали так, что, казалось, сотрясаются сами стены древнего храма, от верхушки купола до самого основания.
— Трубы архангелов возвещают о Судном дне! — вопил на хорах какой-то безумец и рискуя свалиться вниз, далеко вытягивал руку в сторону ворот.
— Молитесь, братья во Христе, молитесь и кайтесь! Благими помыслами искупайте грехи ваши!
Ворота треснули и стали растворяться.
— Всемилостивейший Боже….!…!
Толпа орущих от вожделения чужеземцев ворвалась в храм. Немногочисленные защитники, с оружием в руках пытавшиеся преградить им путь, были истреблены в одно мгновение. Спрессованная людская масса заволновалась и раздалась в стороны. Началось чудовищное столпотворение. Как-будто ожили и воплотились в явь порожденные долгим постом и самоистязанием отшельников отвратительные видения загробных мук грешников.
Гигантские люстры раскачивались, как маятники, поливая горячим маслом копошащееся под ними месиво из человеческих тел, освещали подрагивающим сиянием огоньков картину чудовищного избиения. Воистину могло показаться, что все дьяволы преисподни вырвались на свободу, чтобы возвестить собой всему миру о начавшемся светопредставлении.
Чужеземцы набрасывались на людей, как волки на овец; повисали на них, хватали, рвали, тянули в свою сторону. Множество несчастных было раздавлено или задохнулось в свалке. Некоторые, с изломанными суставами и продавленной грудной клеткой, умирали стоя и еще долго колыхались в обезумевшей массе, мотая из стороны в сторону поникшей головой и поводя вокруг потухшим взором. Сбитые с ног цеплялись за одежду соседа, валили друг друга на пол, топтали лежащих внизу. Выброшенные с хоров падали, нелепо размахивая руками, прямо в толпу; живые ползали по мертвым, мертвые погребали под собой живых.
Люди стонали, плакали, рыдали. Матери закрывали своими телами детей, мужья рвали из чужих цепких рук своих жен. Рассвирепев от криков и сопротивления, захватчики в ущерб себе замахали саблями.
Дикий животный рев повис под высокими сводами храма. Вид крови еще более возбуждал остервеневшую от собственной жестокости солдатню и наскоро растерев немеющие от усталости руки, они начинали вновь рубить безоружную массу горожан, вымещая на них всю злость от неудач двухмесячной осады.
Уже не ручейки, а целые потоки крови вытекали из разломанных ворот храма и журча на ступенях, разбегались вдоль булыжных мостовых.
Некий полоумный дервиш поскользнулся в луже крови, упал и поводя мутным взглядом по сторонам, полоскал в ней руки, смеясь как дитя и вознося хвалу Небесам.
Подобно всему живому, город умирал в мучениях.
Как проказа, пожирающая гнилью плоть человека, пожары двигались к югу, вслед за ордами завоевателей.
Бережно сохраняемые сокровища тысячелетней культуры разграблялись вмиг, под хохот и радостные крики чужеземцев. И если бы только разграблялись! Многое уничтожалось просто так, по прихоти, из-за тщеславия или жажды разрушения, зачастую и из-за желания похвалиться удалью перед собратом по оружию.
Бесценные шедевры дробились на куски, сминались в безобразные лепешки и комки металла, чтобы быть затем припрятанными в узлы и мешки и немного погодя оказаться в цепких руках скупщиков награбленного.
Хмельной разгул бушевал на улицах, как вода в половодье. Одни, кряхтя от натуги, волокли в своих торбах покореженные, сплющенные (чтобы не занимали много места) священные сосуды и дароносицы, обломки крестов, скрученные в тугие жгуты дорогие ткани, одежды, покрывала. Другие — усердно выламывали из дверей золоченные и серебрянные ручки, петли, резные наличники; выбивали из окон цветные витражи и принимая их за драгоценные камни, бережно опускали осколки стекла в свои бездонные мешки. Приметив на их взгляд нечто более ценное, мародеры без сожаления опорожняли битком набитые сумы и тут же вновь принимались заполнять их свежей добычей.
Не менее прочего захватчиков привлекал и «живой товар». Набрасываясь на отчаявшихся в спасении горожан, они, невзирая на сопротивление, выискивали для себя наиболее красивых женщин и детей, оттаскивали их в сторону, валили с ног и связав попарно (спиной к спине, чтобы не могли убежать), вновь бросались за следующей жертвой. Так служанка оказывалась скрученной веревками с госпожой, номарх с конюхом, архимандрит с привратником, юноши с девицами.
Часто между грабителями разгорались стычки из-за добычи: из-за пленников, собак, лошадей или прочих ценностей. Сильный и более злой отбирал у слабого его поживу и тот, наскоро утерев разбитое в драке лицо, вновь пускался на поиски чего-либо подходящего.
Другие развлекались как могли. Группа янычар, окружив монастырь Белых Сестер, с гоготом ринулась на штурм двухсаженной глиняной ограды. Стены святой обители оказались в значительной мере безвреднее стен Константинополя: первый же приступ без потерь увенчался успехом. Напрасно женщины, посвятившие свои жизни Богу, пытались укрыться за дверьми тесных келий. Еще недавно безопасные, охраняемые святостью жилиц убежища перестали быть таковыми. Охотничий инстинкт безошибочно направлял чужеземцев: очень скоро почти все монахини насильно, за волосы, были извлечены из келий, погребов и чуланов и выставлены на обозрение. Затем янычары, сбив пленниц в толпу, принялись поочередно срывать с них одеяния: надо было отобрать среди несчастных тех, кто был годен к продаже — еще достаточно молодых и пригожих, способных к тяжелой грязной работе и деторождению. А для бесполезных, дряхлых старух не жаль и доброго удара клинка….
Икона Пречистой Богоматери, чей потемневший от времени лик был умело оттенен золотым и серебряным окладом и украшен россыпью драгоценных каменьев, заворожил взгляды трех янычар. Они одновременно подбежали к алтарю, вцепились в края иконы и осыпая друг друга руганью и пинками, принялись рвать и тянуть ее каждый на себя. Убедившись в бесплодности такого рода дележки, они похватались за сабли, горя желанием разрешить спор одним из древнейших способов. От неугодного Аллаху кровопролития гвардейцев султана спас их собственный десятник, который ударами топора ловко разрубил сокровище на четыре равные части и предложил каждому жребием избрать себе долю. Ворча, как рассерженные медведи, янычары все-таки подчинились старшему по званию и получив по куску оклада, вновь разбрелись по сторонам, бросая вокруг хищные взгляды.
Но не везде тяга к грабежам удовлетворялась столь же просто и легко. В приморских кварталах Константинополя, куда отступила основная часть защитников, до самого вечера не утихала яростная сеча.
Запершись в домах, горожане отражали каждую попытку неприятеля прорваться вовнутрь. Чтобы выкурить врага из их убежищ, турки замыкали кольцо вокруг зданий, затем поджигали их, предоставляя огню творить свое страшное дело. Сами же подкарауливали с саблями наголо спасающихся от пламени и дыма жителей возле дверей и окон домов. Там, где теснота строений позволяла это, они перекидывали доски и бревна с одной крыши на другую и перебегая по этим шатким мосткам на соседний дом, с дикими криками набрасывались на христиан.
На улицах, на крышах и внутри зданий кипела свирепая резня. Пощады не ждал и не просил никто. Бойцы обеих сторон гибли бессчетно в рукопашных схватках. Упавшие или сброшенные с крыш валялись на земле мешками из плоти и переломанных костей; тела многих еще дергались в агонии. Те из несчастных, кто еще силился подняться на ноги, вскоре затихали, насмерть затоптанные людьми или копытами лошадей.
Пламя пожаров перекидывалось с дома на дом, в треске и гудении огня тонули крики заживо сгораемых людей. Для того, чтобы преградить путь врагу и огню, или же наоборот, чтобы расширить проходы, сражающиеся, навалившись разом, обрушивали стены зданий. На улицы из домов, вместе с обломками и нехитрым скарбом, вываливались старики, женщины и дети, надеявшиеся найти в родных стенах спасение от смерти.
Чудовищный грохот гибнущих строений оглушал не менее пушечных залпов. Густые пылевые облака мешались с дымными, из пламени, как из-под точильного круга вырывались снопы раскаленных искр и светящимся хороводом уносились высоко в небо.
Человеческие тела словно мусор наполняли ямы и сточные канавы; из-под груд обломков виднелись останки людей, погребенных под камнями и кусками балок. Раненые, покалеченные и обожженные ползали в пыли, кричали надсадными голосами, пытались укрыться, спрятаться среди мертвых тел и развалин. Те, кто был еще в состоянии сражаться, беспорядочно бегали вдоль улиц, сзывая своих, сбивались группы и отряды и вновь нападали на врага.
Сумерки над городом, застланном плотной пеленой копоти и дыма, сгущались быстро. С наступлением темноты бои понемногу стали утихать. Из разломанных крепостных ворот потянулись обратно в город длинные вереницы султанских солдат. Они шли медленно, отягощенные всевозможным награбленным добром; добыча для многих была поистине сказочной. Сразу же за городскими воротами, рядом с еще неостывшими телами своих погибших единоверцев, захватчиками было устроено торжище, на котором продавалось, покупалось, выменивалось или отдавалось за бесценок всё то, что было добыто в тот день ценой немалого количества пролитой крови. Кто не мог на своих плечах унести тяжелые тюки и мешки, тут же, не сходя с места, приобретали себе невольников, лошадей или ослов для переправки груза. Другие, обливаясь потом под тяжестью напяленных на себя в несколько слоев мирских одежд или церковных облачений, громко выкрикивали цену, держа напоказ на вытянутых руках отобранное у горожан имущество. Третьи, преисполненные внезапно обретенной важностью, волокли за собой вдоль импровизированных торговых рядов вереницы невольников с веревками на шеях, заарканенных лошадей и мулов или привязанных к поясам скулящих, рвущихся с поводков породистых псов. Кое-где спешно резали баранов, умело разделывали туши на куски и разводя из обломков копий костры, готовились жарить мясо на угольях.
Некоторые воины, уединившись по одному или парами, постреливая по сторонам осторожными взглядами, извлекали из переметных сум вместительные фляги, доверху заполненные похищенными церковным вином для причастий и торопливо праздновали победу, утирая рукавами влажно блестящие рты.
Несмотря на поздний час, позабыв об отдыхе после кровопролитнейшего боя, недавние победители продолжали спорить между собой, ругаться, орать до хрипоты и в упоении меновой торговли выхватывать друг у друга из рук едва различимые при свете факелов предметы обихода горожан.
С приходом ночи разрозненные отряды защитников объединились и попытались отбить частично опустевший город. Вопреки их малому числу, попытка могла оказаться успешной, если бы во главе христиан встал опытный командир, способный в кратчайший срок составить и воплотить в жизнь правильный план атаки. Но такого человека не нашлось — все мало-мальски сведущие военачальники были повыбиты в ходе уличных боев.
Тогда горожане предприняли неслыханный до тех пор по дерзости шаг: скрытно приблизившись к городским воротам, они перебили стоящую на часах стражу и вышли за пределы Константинополя. Нескольким слитым воедино отрядам, обремененным женщинами, стариками и детьми, удалось, ощетинившись копьями, пересечь весь турецкий лагерь и уйти почти беспрепятственно. Хотя прорыв горожан происходил на глазах у многих, никто не пытался им помешать или снарядить погоню: воины султана, пресыщенные добычей, не собирались ценой своей жизни преграждать путь готовым на смерть ради спасения христианам.
Уходя скорым шагом на запад, горожане то и дело оборачивались, со стонами и плачем протягивали руки в сторону Константинополя. Зарево от пожаров подобно мученическому венцу озаряло покинутый, гибнущий город.
Хотя в памяти многих тысяч людей та страшная ночь навсегда осталась бесконечной, рассвет, по неизменным законам мироздания, неспешно вступал в свои права.
Тягостное безмолвие, в котором каждый звук казался неестественно громким, разливалось в прохладной утренней дымке тумана. Солнце медленно вставало над горизонтом. Восточная часть небосвода, затянутая облачной пеленой, окрасилась первыми, еще невидимыми лучами в мутные и тусклые, кроваво-красные тона.
Тяжелые волны мерно плескали водой о скалистые берега, оставляя на камнях большие пузыри светло-розового цвета. Казалось, море не желало принимать в себя щедро пролитую накануне человеческую кровь и силилось с прибоем вернуть ее земле. Но и земля не хотела впитать ее обратно — подобно морским волнам, она была тоже пресыщена кровью.
Уже не потоки, но слабые ручейки розово-красной стынущей жидкости все еще продолжали течь из труб и канавок для сброса дождевой воды.
ГЛАВА L
Лишь утром второго дня султан, в окружении своих сатрапов, въехал в Константинополь. Медленно и величаво, как подобает избраннику Аллаха, он проезжал мимо разграбленных и обгоревших, частично порушенных, с темными провалами выбитых окон, но все еще удивительно красивых и гармоничных строений древнего горда.
Главный проспект Константинополя, Меса, вымощенный почти до блеска отполированным пешеходами камнем, вел вдоль залива Золотого Рога к восточной оконечности города, спускающейся прямо к морю своими теперь уже бесполезными стенами и башнями укреплений.
Не менее двух сотен рабов поспешали впереди пышной кавалькады, очищая путь следования султана от завалов из камней, ломаного дерева и непогребенных тел погибших. Где было возможно, они тушили пожары, продолжающие уничтожать постройки, с вечера прошлого дня перешедшие в собственность казны. Двойное кольцо янычар опоясывало торжественный кортеж, отгоняло прочь от взглядов пашей шайки бесчинствующих мародеров.
Порывы ветры доносили шум и крики, едкую вонь горелого тряпья и древесины: с наступлением утра солдаты вновь принялись за грабежи, стараясь наверстать упущенное ночью. На их долю в этот день пришлось немало добра, хотя основные ценности были расхищены еще вчера — даже разграбленный, во многих местах разрушенный и сожженный город продолжал поражать иноземцев своей роскошью и богатством.
Султан со своей свитой неторопливо проезжал мимо опустевшего храма Святых Апостолов, кресты на куполах которого густо облепило крикливое воронье. По левую руку оставался монастырь Пантократора, чьи стены были обвалены во многих местах, а вокруг во множестве лежали истерзанные, втоптанные в землю людские тела в черных монашеских одеяниях. Подковообразная, частично стертая временем громада Ипподрома надолго привлекла внимание пашей. Восхищенно прищелкивая языками, они рассматривали этот переживший века отголосок эллинизма и горячо обсуждали возможность проведения в древнем ристалище конных состязаний.
Мехмед, еле сдерживая нетерпение, рвался вперед. Более всего его манил храм Святой Софии, о котором он был немало наслышан. Даже издалека был виден этот рукотворный холм из темного камня, увенчанный полусферой, горячим золотом блестящей на солнце. Стараясь не сбиться на быструю рысь, Мехмед возбужденно сжимал коленями бока жеребца, пока конь беспокойно не захрапел и не начал вскидываться на дыбы. Еще один поворот — и обогнув стены Ипподрома, они оказались на площади перед церковью. Вид колоссального строения был в диковину для всех и даже разговорчивая османская знать на некоторое время попритихла. Храм подавлял своим величием, высился над окружающей местностью и постройками, вызывая своими размерами в в людях невольное благоговение и чувство собственной ничтожности.
Мехмед жестом подозвал к себе переводчика.
— Кто и когда создал это чудо?
— Храм был выстроен византийским царем Юстинианом девять веков назад. Он является главной святыней греков…..
— Теперь он мой! — отрезал султан.
Тронув коня плетью, он вплотную подъехал к ступеням. Взгляд его упал на полуголого аккынджи, усердно дробящего булавой на куски резной барельеф ограждения. Услышав цокот копыт за спиной, воин оставил свое занятие и повернул к султану вымазанное в копоти лицо.
— Зачем ты это делаешь, раб? — задыхаясь от ярости, спросил Мехмед.
— Веры ради, господин! — радостно вскричал аккынджи и расплылся в довольной ухмылке.
Солнечный блик сверкнул и погас на блестящем клинке. Голова, глухо постукивая, запрыгала по ступеням; обезглавленное туловище рухнуло и забилось в судорогах.
— Я дал вам всё: и пленников, и сокровища! — в бешенстве кричал Мехмед, потрясая окровавленным клинком. — Вам этого мало? Хочется еще? Запомните, если дорожите своими головами: постройки и здания города принадлежат мне и только мне! Пусть глашатаи донесут это до ушей каждого дикаря. Любой, посягнувший на них будет обвинен в умышленной порче имущества султана!
Дернув коня под уздцы, он направился к храму, дорогу к которому уже успели очистить от трупов. Миновав разбитые, бессильно повисшие в петлях ворота, он въехал вовнутрь строения и быстро осмотрелся. В груди захолонуло от подступившего восторга.
Колоссальные своды уносились ввысь, подобно окаменелым звукам церковного хорала и оттуда, с немыслимой высоты, на толстых цепях свисали светильники, поражающие глаз своей затейливой формой и узорами. Бесчисленные фрески и мозаики на стенах светились яркими красками; могучие колонны врастали в землю подобно вековым дубам, неся на себе невообразимую тяжесть купола. Из множества окон струился солнечный свет и из-за встречных лучистых потоков казалось, что огромная полусфера парит в воздухе без опор, удерживаемая лишь незримо царящей в храме сверхъестественной силой.
— Велик должно быть Бог христиан! — довольно внятно вымолвил кто-то.
— Велик Аллах, который предал нам в руки капище лживого бога, — не оборачиваясь, возразил Мехмед.
Лошадь под ним пятилась и храпела, испуганно кося взглядом на лежащие вокруг мертвые тела. Одинокая ласточка металась под сводами и эхо от ее крика, многократно отраженное стенами, звучало как скорбный плач по невинно загубленным людям.
Мехмед поворотил коня и выехал из храма.
— Убрать мертвецов, вымыть полы, починить и запереть ворота, — жестко и властно заговорил он. — Выставить подле них круглосуточную стражу. Ни одна человеческая нечисть не должна проникнуть в эти стены без моего ведома.
Он помолчал и с улыбкой на лице добавил:
— Я сотворю из этого храма величайшую мечеть для всех мусульман мира! И да поможет мне в этом Аллах!
— Аллах велик! — закивали головами придворные.
Сквозь толпу к нему пробился Саган-паша.
— Мой повелитель, я выполнил твой приказ! Мои люди разыскали царя Константина!
Мехмед долго стоял перед телом последнего из василевсов.
Константин полусидел, полулежал на груде сраженных им воинов; остекленевшие, широко раскрытые глаза с немым вопросом были устремлены в небо. Правая рука по-прежнему крепко сжимала рукоять меча, левая — была уперта в землю, как если бы мертвый император еще силился подняться на ноги. Когда-то по-мужски красивое лицо обезобразилось от скользящего удара сабли; на скуле, сквозь бурую маску запекшейся крови, сахарно блестел кончик раздробленной кости.
Мстительное чувство, как и облегчение при виде мертвого и более не опасного врага улетучилось быстро. Мехмед стиснул зубы и отвернул взгляд в сторону. Над кем ему торжествовать? Над этим неподвижным, изуродованным телом, пустой оболочкой непримиримого воителя? Разочарование больно кольнуло его. Мехмед вдруг отчетливо понял, что противник перехитрил его, ускользнул от расплаты, не дал победителю в полной мере насладиться триумфом. Он не дрогнул, не согнулся и не отступил перед силой. Грудью встретил неприятеля и до последнего вздоха защищал свой народ, свое государство. Смерть, достойная восхищения и зависти, способствующая возникновению преданий и легенд.
Мехмед еще раз взглянул на распростертое тело и еле сдерживая досаду, крикнул:
— Я не вижу царских регалий! С чего вы взяли, дурачьё, что этот мертвец и есть император?
— Его сапоги, повелитель! — подал голос Саган-паша. — Горожане, которых я самолично во множестве допрашивал, в один голос утверждали, что обувь пурпурного цвета с вышитыми на ней золотыми орлами мог носить только византийский царь и никто более.
Мехмед раздражался все сильнее. Он готов был завопить во весь голос, что их пытаются обмануть, что настоящий император бежит сейчас без оглядки на первом же попавшемся корабле, а этот человек — простой солдат, которому для отвода глаз приказали натянуть царские сапоги. Но он смолчал. Не в его интересах было творить невыгодную для себя и опасную в дальнейшем легенду.
Мехмед ограничился лишь тем, что насмешливо бросил:
— Странно, что мои доблестные и очень жадные до добычи воины не польстились на эти сапоги.
На лицах сановников засветились подобострастные ухмылки.
— Что прикажешь делать с телом убитого, повелитель? — Саган-паша чувствовал себя героем дня.
Мехмед попытался было придать своему лицу суровое выражение, но усталость и безразличие одержали верх.
— Отрубите голову, насадите на шест и пронесите по всем главным улицам в надзирание остальным, — хмуро бросил он и отвернулся в сторону.
Но не успел его конь сделать и несколько шагов, как султан резко натянул поводья и оглянулся. К телу императора уже приближался широкоплечий янычар-онбаши, растягивая губы в ухмылке. Вот он подошел вплотную, расставил ноги, наотмашь замахнулся ятаганом…..
— Останови свою руку, ничтожный! — со сверхъестественной силой загремел чей-то голос.
Окружающие вздрогнули от неожиданности и попятились; онбаши испуганно подпрыгнул и выронил оружие. И потому, как все взгляды устремились на Мехмеда, султан понял, что эти слова сорвались с его языка.
«Это не я! нет, не я…..Высшие силы вещают моими устами!» — с суеверным ужасом подумал он и пересилив себя, стараясь сдержать дрожь в голосе, отрывисто заговорил:
— Я передумал. Зовите сюда греческих священников. Пусть подберут тело и похоронят его по своим обрядам.
Резко вытянув коня плетью, он помчался прочь от этого места.
Мегадука был схвачен почти у самых дверей своего дома. К тому времени из десятка воинов, вместе с ним пробивавшихся в город, осталось только трое — прочие затерялись в объятой паникой толпе. Но эти трое были верны до конца: когда им путь преградили турецкие пехотинцы, они не обратились в бегство и отчаянно защищались до тех пор, пока все не полегли у ног мегадуки.
— Сдавайся, гяур! — завопил рыжебородый десятник, замахиваясь саблей.
Нотар поколебался, оглянулся по сторонам, безнадежно пожал плечами и бросил меч на землю. К нему тут же подскочили, заломили руки за спину и принялись срывать с димарха плащ с вышитым на материи родовым гербом и пурпурной каймой по краям — знак высокого положения его владельца.
— Аллах милостив к нам! — самодовольно заявил онбаши, примеряя на себя похищенный плащ. — Нам в руки попался какой-то знатный гяурский бей! Ведите его к остальным и не спускайте глаз. За этого старика султан отвалит нам много золотых монет.
Остаток вечера и всю последующую ночь Нотар провел на охапке соломы в душном и тесном, пропитанном испарениями человеческих тел подземелье. Угольный подвал, превращенный в темницу, был до отказа забит пленными горожанами; среди них было немало раненых и умирающих.
До самого утра мегадука не мог сомкнуть глаз. Не стоны, не жалобы и не причитания, не надрывно-захлебывающийся детский плач мешали ему хоть на мгновение забыться сном. Потрясение едва не лишило его рассудка. Сильнейшее возбуждение то охватывало его, то сменялось апатией; он беспрерывно бормотал себе что-то под нос, время от времени вскакивал с места, сжимал голову руками и вновь опускался на свое убогое ложе. Он не понимал, не мог придти в себя от горестного изумления: как быстро изменилась жизнь, в какой непостижимо краткий миг безвозвратно схлынуло в прошлое всё то, что еще не так давно являло собой весь смысл его существования!
Еще вчера влиятельный сановник, один из богатейших людей Империи, ведущий свое происхождение от знатного и древнего аристократического рода, сегодня он оказался низведен до уровня простой скотины, раба, вместе со всеми прочими ждущего своей продажи. В отличие от многих, Нотар не тешил себя пустыми иллюзиями. В глазах всего мира и, прежде всего в своих собственных, он — никто, мертвец, забытое имя на могильном камне. И если с этим еще можно было смириться, то мысли о семье приводили его на грань исступления. Беспомощная жена, сраженная давним и неизлечимым недугом, малолетний сын, его плоть и кровь, что станется с ними? Почему все напасти выпадают на долю беззащитных? Как может быть так несправедлив Господь?
Ведь он, Нотар, изо дня в день остерегал, предупреждал, втолковывал и без того всем очевидные вещи. Ему, как и другим, не чужды человеческие чувства, он может понять и принять идею самопожертвования. Но ставить на карту жизни своих близких? Можно ли назвать героем человека, грудью пытающегося остановить полет пушечного ядра? Опьяненные собственной удалью византийцы, презрев благоразумие, вознамерились воспрепятствовать Року и полегли все разом, в один день, стертые с пылью веков его неотвратимой властью.
Он же, Лука Нотар, сорвал себе голос, втолковывая истину глухим и беспечным. Но те отмахивались от него, как от унылой и назойливой Кассандры, смеялись над ним и чуть ли не в глаза называли предателем. За что же ему при жизни терпеть адские муки? В чём провинился он перед Богом?
Зябко ёжась от сырости каменных стен, мегадука бормотал молитвы вперемежку с проклятиями.
На следующий день, с наступлением утра, послышался тягучий скрип отворяемой двери. Узники ожили, зашевелились и подались в стороны, дети испуганно заплакали и стали искать спасения на груди матерей. Двое турецких солдат во главе с десятником, шаря по лицам взглядами и пинками отшвыривая в сторону тех, кто не успевал уступить дорогу, приблизились к углу, где сидел мегадука.
— Этот? — спросил у онбаши круглолицый сипах.
И получив утвердительный кивок, схватил Нотара за ворот кафтана.
— Пошли, гяур. Предстанешь перед султаном, — он сопроводил свои слова увесистым пинком.
В душе мегадуки пробудилось чувство оскорбленного достоинства. Волочимый за шиворот, он попытался воспротивиться и даже пару раз лягнул сипаха в ногу. В ответ посыпался град оплеух.
— Или ты пойдешь сам, или я привяжу тебя к хвосту своей кобылицы! — орал онбаши, с силой дергая старика за седую бороду.
— Я — ромейский димарх, — с натугой выговорил Лука: перекрученный ворот мешал ему произносить слова.
— Вас покарают за такое обращение со мной!
Это заявление развеселило турок. В знак презрения к словам гяура несколько смачных плевков угодило в лицо Нотара. Затем ему вывернули руки и поволокли вперед, время от времени поторапливая крепкими пинками и тычками в спину.
Нотар безвольно перебирал ногами, в голове гудело от ударов, из разбитой губы тоненькой струйкой сочилась кровь. Его отрешенный взгляд безучастно скользил по дымящимся развалинам зданий, по неприбранным трупам людей и животных, в изобилии устилающим улицы города. Его мучители таскали пленника из стороны в сторону, останавливались, бранились, о чем-то спрашивали на своем наречии других солдат, запальчиво спорили между собой и вновь бросались на поиски султана.
Через полуопущенные веки Нотар смотрел на знакомые сызмальства улицы и площади Константинополя и не узнавал их. Чужие люди, чужой говор заполонили всё вокруг, остальное было скрыто удушливым и едким, серо-черным ядовитым туманом. Из глаз старика медленно текли слезы, потемневшая от гари седая борода слабо раздувалась ветром. Порывы горячего воздуха с пожарищ опаляли дыхание, грудь сводило в мучительном кашле.
Лишь когда его конвоиры остановились и швырнув его лицом в землю, сами рядом опустились на колени, Нотар понял, что его блуждание по кругам ада на время приостановилось. С трудом подняв голову от земли, он увидел прямо перед собой, в двадцати шагах, восседающего на белом жеребце султана. От плотного кольца свиты оторвался всадник и подскакав почти вплотную, резко осадил коня.
— Зачем вы приволокли сюда эту падаль? — мегадука с трудом улавливал смысл слов малознакомого языка.
— Помилуй, господин! — в ответ завопил онбаши. — Этот неверный сказал нам, что он военачальник знатного рода.
— Знатного рода? — презрительно переспросил всадник. — Этого не скажешь по его виду.
Затем, слегка поколебавшись, разрешающе махнул рукой.
— Ладно, тащите его к повелителю. Но если он обманул вас, вам не сдобровать!
Несколько мгновений спустя мегадука стоял перед лицом султана.
— Кто ты такой? — спросил Мехмед через своего толмача.
— Мегадука Лука Нотар, — димарх утер рукавом разбитую губу. — Командующий императорским флотом.
— Как, как? — переспросил Мехмед, приставив левую руку к уху. — Командующий? Чем? Ведь империи больше нет, как нет ее армии и флота. Нет и никогда больше не будет!
Он откинул голову и залился мелким рассыпчатым смехом. Сановники громко вторили ему.
— Византия сгинула и больше не воскреснет!
— Ох-хо-хо!
— Доблестный Саган-паша! Полюбуйся на человека, преемником которого ты стал!
— От такого, пожалуй, не зазорно будет принять отчет о состоянии перешедшего к султану флота!
— Ха-ха! Хи-хи!
Град насмешек, подобно ушату помоев, обрушился на голову мегадуки. Нотар не дрогнул, он был полон решимости до последнего бороться за свою жизнь.
— Я прошу великого султана…, - начал он.
— Если просишь, падай на колени, червь! — вскричал Саган-паша, замахиваясь плетью.
Былая гордость всколыхнулась в душе димарха. Он откинул голову назад, расправил плечи и был готов уже бросить в лицо глумящимся над ним язычникам и варварам оскорбительные и правдивые слова. Но уже через мгновение порыв угас и он покорно опустился на колени.
— Я прошу великого султана, — вновь заговорил он, — не за себя, а за свою больную жену и маленьких детей. Они ни в чем не провинились перед ним и потому пощады заслуживают больше, чем наказания. Взамен я вручаю великому султану все свои ценности, из поколения в поколение переходящие в нашем роду.
— Этого мало! — расхохотался зять султана. — Это мы можем взять и сами!
— Кроме того, хочу сказать, — продолжал Нотар, — что я всегда был вашим сторонником. Едва ли не каждый день я советовал императору сдать Константинополь и неохотно, по принуждению, воевал с вами.
Хохот и насмешки стихли. Султан тронул плетью коня и подъехал поближе.
— Ты можешь доказать свои слова?
— Потребуй расспросить людей, великий султан. Они скажут тебе то же самое.
— Почему же император не внял твоим советам?
— Василевс Константин был тверд и неуступчив, как скала. Только смерть могла сломить его.
— И она не замедлила сделать это, — небрежно кинул Караджа-бей.
Нотар вздрогнул, с трудом поднялся с колен и отвернулся, чтобы скрыть от врагов свои чувства. Султан молчал, кривя скуластое лицо в гримасе недоверия.
— Что мешало тебе тайно помогать нам? — наконец спросил он.
Мегадука сглотнул застрявший в горле ком.
— Его приближенные зорко следили за мной. Каждый мой шаг подвергался контролю. Один неосторожный поступок — и мое тело оказалось бы на дне моря.
— Значит, только страх помешал тебе предать своего господина? — сурово спросил визирь.
Нотар в упор взглянул на первого советника. В его глазах зажглись недобрые огоньки. Но Мехмед не дал ему раскрыть рта.
— Ты готов вручить мне утаённые тобой сокровища? — закричал он. — Так ты, собака, служишь своему государю? Владея богатством, ты не помог ему в дни испытаний, теперь же малодушно предаешь его память. Прочь с глаз моих, ты мне противен! Я не желаю больше видеть тебя.
Свита султана начала надвигаться на димарха, понося его и выкрикивая оскорбления. От ярости и унижения Нотар обезумел.
— Вот как? Для вас я — трусливый и грязный предатель? Да кто вы такие, чтобы судить меня? Возвысившиеся из грязи потомки пастухов! Да-да, пастухов, погонщиков скота! Видит Бог, в душе я не всегда был согласен с василевсом и не раз противоречил ему на словах. Но я служил ему верой и правдой. И не было в государстве меча, надежнее моего!
Его свело в мучительном и долгом приступе кашля.
— Вот сейчас он говорит правду, — шепнул на ухо султану Саган-паша. — Морские укрепления, бывшие под его началом, сдались последними.
Взгляд Мехмеда потемнел.
— Ты же, султан, — отдышавшись, заговорил мегадука, — даже не подозреваешь, каким количеством предателей ты окружен.
Султан всем телом подался вперед.
— Ты что-то знаешь? Почему ты смолк? Говори!
Нотар мстительно взглянул на визиря. Слова этого человека больнее всего ударили по самолюбию димарха, дали сигнал к его травле остальными вельможами султана. С обостренной от страданий наблюдательностью, он успел заприметить на пальце Халиль-паши хорошо знакомый ему перстень с крупным, голубоватого отлива бриллиантом, фамильной драгоценностью Феофана. Перстень, которого не было на руке старика во время их последней беседы. Вывод напрашивался сам собой. Кроме того, для мегадуки не была секретом роль, сыгранная визирем в отмене предполагаемого джихада. Того самого джихада, который помог бы османской армии саморазвалиться, отвести угрозу от Константинополя. Что ж, настало время нанести врагу удар, который не захотел, а может быть и отверг по каким-то личным мотивам Феофан. Это будет справедливым возмездием за утративший свою родину народ.
— Прикажи осмотреть алмазное кольцо на безымянном пальце правой руки своего ближайшего советника.
Халиль-паша побледнел, как полотно.
— Затем спроси, откуда он взял это сокровище и что означает знак, изображенный на обратной стороне камня, — продолжал Нотар.
— А-а! — завопил Саган-паша. — Что я говорил? Визирь вступал в сговор с греками, это же ясно, как утренняя заря!
— Молчать! — взревел Мехмед.
Затем повернулся к первому министру.
— Халиль-паша! — произнес он с преувеличенной любезностью. — Передай мне кольцо с пальца правой руки.
Визирь повиновался без единого слова оправдания. Мехмед принял протянутый перстень, бегло осмотрел его, спрятал на поясе своего халата и вновь обратился к византийцу.
— Что тебе еще известно? Говори!
Злое торжество играло на лице Нотара. В его больном, полубредовом сознании мелькнула странная мысль и он уцепился за нее со всей силой отчаявшегося человека. Он вдруг понял, в чем состоит его долг, долг последнего ромея. Он должен продолжить дело Феофана Никейского, стравить захватчиков между собой и на их костях возродить Империю.
— Я многое знаю о многих, — медленно произнес он.
— Хорошо! — так же медленно выговорил султан. — Я дам тебе надежную охрану. Отправляйся в свой дом, к жене и детям. В ближайшие дни я призову тебя к себе.
Он подозрительно осмотрел своих сановников.
— Нам с тобой предстоит не одна обстоятельная беседа.
Вечером того же дня Халиль-паша был заключен под стражу.
Всерьез обеспокоенные высшие чины Османской империи, несмотря на взаимную неприязнь, собрались в шатре Караджа-бея.
— Нам всем грозит опасность, — удрученный бейлер-бей выражался напрямик.
— Кому не известны глубокий ум и патриотизм великого визиря? Но если даже он попал под подозрение в связях с врагом…..
Он скорбно покачал головой.
— Человек слаб душой и телом, в каждом можно отыскать чувствительную струну. Все мы не раз оказывали мелкие услуги друзьям и принимали в знак благодарности от них подношения. Но что поделаешь, если вскоре по воле Аллаха друзья оказывались в стане врагов?
— За каждый подарок подставлять шею палачу? — кадиаскер недоуменно покрутил головой, как бы дивясь тому, что она еще держится на плечах.
— Надо заставить этого гяура прикусить язык! — прошипел Хамза-бей, вопросительно поглядывая на своего начальника, Саган-пашу.
— Мне не в чем виниться перед своим господином, — с достоинством произнес тот, — но эта змея способна оклеветать и самого Пророка!
— Все мы невиновны, — возразил бейлер-бей. — И даже вина Халиль-паши недостаточно доказана. Может этот злосчастный перстень был подарен ему много лет назад.
— Да, да, — подтвердил кадиаскер. — Предстоит долгое судебное разбирательство. Если к тому времени……
Он изобразил в воздухе веревочную петлю.
— Я думаю, ромейский клеветник должен замолчать, — твердо заявил дефтердар.
— Но как это сделать? — Махмуд-бей изобразил на лице глубокое недоумение и для наглядности несколько раз пожал плечами. — Его дом днем и ночью охраняют янычары.
Караджа-бей оглядел собравшихся.
— Есть только один выход. Коль скоро мы сами, не вызывая подозрений, не можем расправиться с провокатором, сделать это должен кто-то значительно выше нас. Врага надо бить его оружием. Я предлагаю вот что: завтра наш повелитель устраивает пир в честь своей блистательной победы. На этом торжестве, когда все отдадут должное еде и напиткам, вскоре после обильного возлияния…..
Он сделал многозначительную паузу.
— ….которое обычно приводит нашего повелителя в хорошее настроение, мы должны всеми силами, всем дарованным нам Аллахом даром убеждения, склонить владыку к казни византийца.
— Я знаю, что надо делать! — вдруг заявил Саган-паша.
Он помолчал, хитро постреливая взглядом по сторонам.
— Слушайте меня, беи!
Наслаждаясь общим нетерпением, он не спеша приподнял свою чашу с вином и омочил в ней губы.
— Этот грязный гяур, порочащий своим званием мою высокую должность, много говорил нам о своей горячей любви к семье. А ведь его дети, как я успел узнать — это два смазливых мальчугана!
Он сделал внушительную паузу.
— Когда наш повелитель отчасти захмелеет, я приближусь к нему и тихо шепну о этом нетронутом и потому вдвойне лакомом кусочке.
Махмуд-бей взревел от удовольствия, хотя ничего не понял из замысла своего покровителя.
— И что с того? — недоброжелательно заметил Караджа-бей. — Наш повелитель весьма искушен в вопросах любви и, без сомнения, просветит в том обоих мальчишек, по одному или сразу. Но нам-то что за облегчение?
— А то, что стоит их отцу, византийцу Нотару, вскинуться на дыбы, как он тотчас же лишится жизни!
Сановники недоверчиво переглянулись.
— Кто же станет возражать, если его сыновей приблизят ко двору султана? — спросил кадиаскер.
— Верьте мне, я знаком с этой вельможной породой! Вы все слышали сегодня бред, который нёс этот вывалянный в грязи аристократишка. Теперь, судите сами, согласится ли он, чтобы его отпрыски были приближены к сословию победителей, которых он, несмотря на свой позор, глубоко презирает.
— Какое глубокое знание людей! — восхитился дефтердар.
— Я вижу нового советника у трона повелителя! — Хамза-бей низко склонился перед флотоводцем.
— А мальчишки действительно хороши? — осторожно осведомился кадиаскер.
— Хо-хо! Я сам отрублю гадюке голову! — шумел Махмуд-бей, выражая восторг бурной жестикуляцией рук.
Даже обычно осторожный в оценках Караджа-бей не мог сдержать своего удовлетворения. Он поднял чашу и громко провозгласил здравицу в честь светлой головы султанского зятя.
ГЛАВА LI
Положив руку на плечо сына, мегадука сидел у изголовья недужной жены.
Дверь в комнату больной чуть приоткрылась и в образовавшуюся щель протиснулся слуга, с лицом белее мела.
— Господин! — еле выговорил он.
— Тише! — Нотар сделал предостерегающий жест и потрепав сына по волосам, подошел к дверям.
— Что стряслось, Артемий?
— Там, у входа, посланник султана. Он требует принять его, мастер. Требует принять немедленно! — от страха у слуги заплетался язык.
— Лука! Лука! — позвала от кровати жена.
— Я скоро вернусь, — он приблизился к ней, приложился губами к ее горячему лбу и вновь направился к выходу.
В гостиной зале его уже поджидал Шахаббедин.
— Ты и есть бывший флотоводец царя Константина? — вкрадчиво спросил он.
— Да, — чуть качнул головой Нотар. — А ты кем являешься?
В маленьких глазках евнуха промелькнул злой огонек.
— Не надо говорить со мной столь дерзко, христианин. Это может дорого обойтись тебе.
Затем тут же, без перехода, он сменил угрожающий тон на елейный.
— Наш повелитель послал меня, главного смотрителя гарема, за твоими сыновьями.
— Зачем ему дети? Что он задумал? — одними губами спросил Нотар.
— Это ведомо лишь Аллаху и самому султану. Вели поскорее звать их сюда. Зови и слуг, чтобы они помогли этим достойным юношам поскорее облачиться в свои лучшие одежды. Наш господин желает лицезреть детей своего сатрапа на пиру, который он устроил в честь своей великой победы.
Кровь до единой капли отхлынула от лица Нотара. Стены залы пошатнулись в его глазах, в ушах зазвенело погребальным звоном. И все же, почти теряя сознание от чудовищности услышанного, он нашел в себе силы спокойным голосом возразить:
— Мой сын еще слишком мал для времяпровождения в кругу взрослых мужей.
— Твой сын? Разве их у тебя не двое?
— Нет, смотритель. У меня было трое сыновей. Двое старших погибли в битвах с врагом. То есть, с вами.
Евнух сокрушенно покачал головой и в знак соболезнования несколько раз прищелкнул языком.
— На все воля Аллаха! Сыновья рождаются, взрослеют и мужают, чтобы погибнуть потом в сражениях, своей смертью возвеличивая славу рода. Но ответь мне, кто же тогда тот замеченный многими второй прекрасноликий юнец?
— Сын великого доместика. Перед смертью отец поручил его моей опеке.
Шахаббедин надул свои дряблые жирные щеки.
— Все мы чадолюбивы и готовы принять под свое покровительство детей друзей наших и родичей. Но никто не может сравниться в полноте подобных чувств со всемилостивейшим султаном нашим, Мехмедом Завоевателем! И потому наш господин желает незамедлительно видеть подле себя эти два прекрасных и юных цветка.
Нотар покачнулся как от удара, сделал шаг в сторону и чтобы не упасть, уцепился за высокую спинку кресла.
"Нет!» — кричало в нем всё. — «Этого не может быть! Это просто дурной сон. Надо сделать усилие и поскорее пробудиться от этого кошмара.»
Но как он не тряс головой, круглая безобразная фигура евнуха исчезать не торопилась.
— Что же ты медлишь, счастливец? Почему не зовешь юношей, чтобы порадовать их этой вестью?
— Да, я счастлив. Я очень счастлив, — глухо бормотал Нотар.
Ему была настолько худо, что, казалось, еще мгновение — и его вывернет наизнанку, прямо на глянцевый мраморный пол.
— У меня отобрали всё, — он задыхался, как при приступе астмы. — Фамильное достояние, честь, имя, Родину, государя. Но вам всего этого мало! Теперь вы покушаетесь на самое святое, что осталось у меня — на моего последнего из сыновей, продолжателя рода Нотаров! Я не отдам его вам! Ты слышишь, грязная свинья? Не отдам!!
Шахаббедина непросто было вывести из душевного равновесия.
— Не торопись со словами, димарх! Никто и не думает отбирать у тебя сына. Он просто приглашен ко двору султана на торжественный пир, только и всего.
— Только и всего?! — заорал мегадука, потрясая кулаками над головой посланника.
— А честь отца? Честь незатронутого жизненной грязью ребенка? Неужели этому похотливому животному, твоему хозяину, недостаточно своего необъятного гарема, слуг, виночерпиев, чесальщиков пяток? Пусть отправляется в конюшни и там сношается с лошадьми и мулами. Пусть делает все, что ему вздумается, но никогда…. Ты слышишь? Никогда….! Сына своего я на поругание не отдам!
Лицо главного евнуха посуровело.
— Остерегись своих гневных слов, христианин. Тебе оказана великая милость и не стоит опрометчиво отвергать ее. Может, по вашим варварским обычаям и оскорбительно для отцовских чувств приближать детей к любовным утехам правителей, но не следует забывать, что расплатой за строптивость у всех царей и во все времена являлась казнь упрямца. Подумай над этим, прежде чем вынести окончательное решение.
Нотар рухнул в кресло, как подрубленный в коленях.
— Мне нечего обдумывать. Лучше смерть, чем позор на все века. Скорее мне отрежут руки, чем я ввергну ими свое дитя на осквернение.
— Ты говоришь лишь об одном, тогда как второй….? — смотритель прищурил заплывшие жиром глаза.
Мегадука отмахнулся от него, как от назойливого слепня.
— Это твое последнее слово, димарх?
— Да! Ты — евнух, тебе не понять чувств отца.
Лицо Шахабеддина сморщилось и опало, как проколотый колючкой бычий пузырь.
— Я старался во имя твоего блага, грязный гяур. Но ты счел возможным оскорбить меня. Не знаю, как поступит с тобою султан, но от меня ты больше пощады не жди.
— Вон из моего дома! — заорал Нотар, вскакивая на ноги.
Шахаббедин медленно удалялся к выходу.
— Пока что из твоего! — бросил он напоследок.
Пиршество завоевателей началось во второй половине дня и продолжалось далеко за полночь.
Огни сотен факелов разгоняли ночную мглу; искры с треском вылетали из чадящего пламени, вились в воздухе хороводом огненных мушек, посыпая землю серым, почти невесомым пеплом. На стенах домов, окружающих площадь, плясали уродливые тени, то уменьшаясь в размерах, то вытягиваясь до пугающей величины. В огромных котлах варилось мясо; запахи крутого, щедро сдобренного пряностями бульона вызывал слюнотечение у проголодавшейся стражи, двойным кольцом оцепившей подходы к площади. Чуть поодаль забивали скот; жалобное блеяние овец и рев быков, предназначенных для заклания, эхом разносились вдоль пустынных, вымерших улиц.
Столы для участников пира были расставлены широким полукругом — с одного конца едва можно было разобрать, что происходит на другом. Хотя приглашенные сидели плотно, локоть к локтю по обеим сторонам столов, места для всех не хватило: более трети из числа гостей устроилось по-привычному — на коврах, развернутых прямо на земле.
Изначальный цвет и узоры шелковых тканей, растеленных вместо скатертей на столах, трудно было разобрать под горами всевозможной утвари, объедков и отвергнутой желудками пищи. На серебряных и золоченых блюдах, набранных из дворцов, церквей и поместий городской знати, плавали в полузастывшем жиру толстые куски баранины, лежали развороченными горками шарики из варенного мясного фарша и сухого, твердого как камень, овечьего сыра. Тонкие, почти прозрачные хлебные лепешки валялись вокруг блюд подобно скомканным салфеткам, мокли в лужицах вина и кислого молока из опрокинутых чаш. Кое-где из-под груд овощей и фруктов, вперемежку с давленной яичной скорлупой торчали полуобглоданные рыбьи хребты и бараньи ребра.
Подносящие угощение слуги ходили по двое: пока один держал в руках новое блюдо, другой лопаточкой спешно высвобождал для него место на столе, отгребая в сторону уже попользованные кушания.
Несмотря на поздний час, празднество шло своим чередом. Было дозволено многое из того, что воспрещалось прежде.
Изрядно захмелевшие бражники продолжали веселье; некоторые сонно и непонимающе хлопали глазами, другие мирно спали, опустив головы прямо на груды объедков. Желая облегчить перегруженные желудки, те, в ком вид расставленной снеди все еще вызывал алчность, а винные пары в недостаточной мере замутили рассудок, не сходя с места вызывали у себя с помощью нехитрых средств рвоту, а затем вновь принимались за обжорство. Вконец утомившиеся спали тут же, неподалеку, рядом с псами, грызущими отброшенные на землю кости.
Перед мутными взорами пирующих, под стук бубнов и монотонный посвист флейт устало кружились танцовщицы. Сквозь тонкие муслиновые ткани просвечивали гибкие женские талии, полные груди и бедра; на покрытых толстым слоем румян и белил лицах застыли заученные и жалкие, похожие на гримасы улыбки.
Звуки музыки заглушались хмельными голосами, выкриками, хохотом. Наиболее неугомонные вскакивали с мест, хватали подвернувшихся под руку прислужниц, танцовщиц, или мальчиков-виночерпиев, валили на землю, рвали на них одежду и под гогот и одобрительные выкрики зрителей бесстыдно совокуплялись с ними.
Мехмед пил мало. Но когда все же хмель и усталость начинали брать свое, опытный слуга подносил ему маленькую золотую чашу с буро-зеленым, терпким на вкус снадобьем. Этот напиток из трав и плодов готовился по рецепту и под личным наблюдением опытного придворного лекаря, бывшего личного врача Мурада II, отца Мехмеда. Он разгонял сонливость и утомление, возбуждал аппетит и придавал ясность мысли. Новый султан ценил искусство доставшегося ему по наследству врачевателя.
Мехмед смотрел прямо перед собой и его широкоскулое лицо расплывалось в довольной улыбке. Он — победитель! Этим сказано всё! Он победил своим разумом, упорством, верой в успех. Не уступил даже тогда, когда сатрапы наперебой уговаривали его снять осаду. Пусть недруги и завистники шепчутся теперь по углам, что, дескать, он, султан, лишь ополовинив свою несметную армию, сумел одолеть византийцев, сравнял горы трупов своих солдат с крепостными стенами Константинополя. Тому, кто богат и высокороден, нет нужды задумываться о цене. Он берет себе приглянувшееся, только и всего! И вот теперь этот город, величайший и красивейший из городов мира, лежит у его ног. Враги повержены во прах; сбежавшие от расплаты во всю мочь спешат разнести по всем дальним странам весть о первом, но значительном успехе молодого завоевателя.
Мехмед чуть скосил глаза в сторону. За спиной, на длинных шестах уныло торчат отсеченные головы двух его заклятых врагов — принца Орхана и византийского царя Константина. Нет, одернул он сам себя, конечно же, на шесте — не голова императора. Голос свыше (а может то было веление сердца?) приказал ему похоронить тело Константина вместе с головой. Но разве мало было в тот день других отрубленных голов? Кто осмелится признать в обезображенных смертью чертах лицо какого-то безвестного воина? Кто посмеет усомниться?
Зато голова Орхана, набитая соломой и мякиной, со вставленными угольками вместо глаз — настоящая. Мехмед сам внимательно осмотрел ее и дал убедиться в подлинности трофея людям, лично знавшим принца. Все они, как один, подтвердили: ошибки или злого умысла нет, перед ними действительно то, что осталось от некогда опасного претендента на престол.
Мехмед усмехнулся и пожал плечами. Глупец выбросился на скалу с самой верхушки башни. Зачем? Ведь султан даровал бы ему менее ужасную смерть. А может даже великодушно сохранил бы жизнь, предварительно ослепив и оскопив его, с тем, чтобы мятежный принц доживал бы остатки своих дней в глухом застенке. Но к чему сейчас о том размышлять? Каждый волен сам выбирать свою участь. Головы были торжественно пронесены в надзирание всем по главным улицам и площадям Константинополя и закончили свой путь там, где уже готовили столы к праздничной трапезе.
Мехмед перевел взгляд дальше. По правую руку от него нанизаны на колья около полутора десятков псов-латинян. Один из главарей городских венецианцев, двое из примкнувших к ним капитанов судов, вождь каталонских разбойников с шестью своими приспешниками и кое-кто еще — этих-то никто не заставлял вдали от родины сражаться за награду. Так пусть же своими мучениями искупают вину за пролитую ими кровь правоверных! Они еще не все издохли, некоторые продолжают жить, хотя заостренное дерево уже наполовину погрузилось в их плоть. Они корчатся, извиваются в смертных муках, по телам же остальных, немного притихших, волнами бегают судороги. Руки казнимых спутаны за спиной, со спин же и с груди умело содрана вся кожа. Рты забиты кляпами — ни к чему отвлекать пирующих своими криками и стенанием.
По левую руку от султана точно так же мучаются на кольях городские турки, перешедшие на службу к императору. Для этих подобная казнь даже лишком милосердна: ведь они совершили двойное преступление — подняли оружие против братьев и по вере и по крови. Им поначалу собирались вырвать глаза, языки и зубы, отрезать пальцы, уши, подошвы ног и половые органы, вывернуть суставы, переломать все кости и только потом поджаривать на медленном огне — фантазия у добровольных истязателей работала безупречно и могла посрамить опыт профессиональных палачей. Но Мехмед отверг эти планы: он опасался, что столь жестокая пытка преждевременно сократит жизнь преступников.
Мехмед смотрел на посаженных на кол и улыбался. Какое острое наслаждение — созерцать чужую боль и муки! Теплая волна пробежала по телу, он почувствовал позыв плоти и повел глазами в поисках какого-либо миловидного юнца. Но тут же одернул себя. Нет, еще не время, успеется. Развлечения придется оставить на потом: слишком много пленников дожидаются решения своей участи.
— Улуг-бей! — громко позвал он.
— Доставь сюда всех принадлежащих мне новых рабов. Да побыстрее!
Вскоре в центр полукружья столов была пригнана большая толпа избитых, скрученных веревками людей, в растерзанных, превращенных в лохмотья одеждах. Здесь были представлены члены почти всех знатных семейств Византии. Доверенные лица султана в течении двух полных дней выискивали их среди прочих пленных и удостоверившись в родовитости, немедленно выкупали невольников у солдат.
Мехмед брезгливо рассматривал представших перед ним бывших врагов. Некоторые из них настолько ослабли, что ноги еле держат их; другие, хотя и обмотаны окровавленными тряпками, пытаются стоять прямо; третьих притащили сюда на носилках.
Мехмед с отвращением сморщил нос. От них же воняет! Несет смрадом пота, гноя и нечистот. Человеческое стадо! Подумать только, и этот сброд отказывался признавать в нем своего господина!
— Почему среди них так мало взрослых мужчин? — спросил он.
Саган-паша сорвался с места и подбежал к султану.
— Мой повелитель, из всего числа захваченных в плен горожан, а это около двадцати тысяч голов, воинами могли быть лишь менее пяти сотен человек.
— Где же остальные? Бежали?
— Да, повелитель…..
— Хотя, нет! — тут же поправился паша. — Твой флот потопил или пленил все корабли христиан.
Паша кривил душой и это было понятно: когда, несмотря на все приказы и уговоры, команды турецких галер устремились грабить город, основной части византийских судов и их итальянским союзникам удалось прорваться из залива в открытое море.
Мехмед мрачно взглянул на своего зятя.
— И эти пять сотен человек удерживали всю мою армию? — грозно спросил он.
Саган-паша на мгновение растерялся, но быстро нашелся с ответом:
— Нет, повелитель. Их было больше, гораздо больше. Но мы не знали, сколько воинов находится в городе и потому уничтожали всех.
Мехмед все больше темнел в лице.
— Так сколько же их было?! — завопил он. — Двадцать тысяч? Или пятьдесят?
— Их было много, — паша уже раскаивался, что вызвался с ответом.
— На двадцать тысяч прочих пленников, женщин, стариков и детей — пятьдесят тысяч воинов?! Ты что, смеяться надо мной вздумал, червь?
Султан с размаху запустил чашей в своего приближенного. Саган-паша вздрогнул от удара, но с места не сдвинулся.
— Греки — хорошие солдаты, — Мехмед задумчиво качал головой, — но их упрямство заслуживает кары.
— Сколько там всего человек, — спросил он у Улуг-бея, вытягивая палец в сторону толпы.
— При последнем пересчете — девятьсот сорок семь голов, повелитель, — без запинки отвечал начальник охраны.
— Писца! — потребовал султан.
— Правителю Египта, возлюбленному брату нашему, — диктовал Мехмед, — послать в подарок двести девочек и мальчиков. Эмиру Гранады — сто. Эмиру Туниса — тоже сто.
— Если не наберете нужное количество из этих, — добавил он, махнув рукой в сторону плененных людей, — возьмёте из числа христиан, захваченных в Морее и в Болгарии. Я думаю, мои царственные собратья не будут глубоко копаться в их родословной.
Он отпил из чаши бодрящего напитка.
— Наикрасивейших юношей и девушек, не достигших зрелых лет, отправить в мой сераль. Стариков и матерей семейств — разогнать по домам. Мужчин, а также юношей старше восемнадцати лет — отвести в сторону и предложить им принять учение ислама. Давшим согласие будет присвоено звание сотника моего войска, отказавшимся суждена участь гребцов на галерах флота.
Утомленный, он откинулся на спинку сидения.
— Приведите сюда визиря, — он помахал в воздухе рукой с растопыренными пальцами. — Пусть полюбуется на своих возлюбленных византийцев.
Улуг-бей поклонился, но остался стоять на месте.
— Ты что, не слышал моих слов?
— Прости, господин, — начальник охраны сильно заикался. — Я хотел было сказать тебе, но язык не поворачивается у меня во рту.
— Так говори же скорее, пока я не приказал его тебе вырвать! — заорал султан.
— Более трех часов назад визирь удавился в тюрьме, на поясе своего халата.
Мехмед вздрогнул всем телом, кожа его при свете факелов приняла землисто-серый оттенок.
— Почему его не остановили?
— Не гневайся, о повелитель. Стража считала, что Халиль-паша выполняет твое пожелание.
Долгое время султан молчал, пустыми глазами глядя перед собой. Затем медленно произнес:
— Да. Он выполнил мое пожелание. Сухие деревья надо вырубать без сожаления.
Он обвел взглядом сидящих возле него сатрапов.
— Караджа-бей! Ты ведь был его другом?
Бейлер-бей с трудом отвел глаза от стоящей перед ним полной чаши.
— Да, господин. Мне тяжко слышать эту весть. Я не могу знать точно, но считаю, что великий визирь был оклеветан.
— Кем же? — Мехмед притворился, что не знает ответа.
— Этим нечестивым гяурским флотоводцем! — утратив выдержку, бей вскочил и затряс над головой кулаками.
— Он возвел напраслину на одного из мудрейших и самых порядочных людей твоего государства!
— Не спеши, бей, — усмехнулся султан. — Ведь Нотар правильно угадал причину появления алмаза на пальце у визиря. И обещал еще многое раскрыть из заботливо скрываемых вами тайн.
— Но почему-то при этом пренебрег твоим приглашением, повелитель. Он побежден и полностью в твоей власти, но держит себя перед султаном, как равный с равным.
— Моим приглашением? Впрочем верно, я повелел его сыновьям присутcтвовать на пиру.
— Шахаббедин!
Евнух вскочил и быстро семеня, приблизился к Мехмеду.
— Где мальчишки?
— Не гневайся, повелитель! Я желал повременить с докладом, так как читал на твоем лице работу божественной мысли.
Евнух склонился к самому уху султана и зашептал:
— Когда я передал твое пожелание Нотару, он ответил….. О, нет! Мой язык отказывается повторить эти кощунственные и неслыханные по дерзости слова.
— Я приказываю, говори!
— Он сказал…. Прости, повелитель…. Он сказал, что если ты не в силах обуздать свою плоть, он желает тебе упражняться в любви со всеми ослами и верблюдицами твоего войска.
От страшного оскорбления Мехмед онемел. Лицо его стало пунцовым, затем смертельно побледнело; лишь кончик крючковатого носа остался вишнево-красным.
— Тащите его сюда! — прохрипел он. — Вместе со всем его отродьем.
Лука Нотар бестрепетно смотрел в белые от бешенства глаза султана.
— Ты отказался от приглашения, равносильного приказу, — медленно говорил Мехмед. — Ты не только не послал своих сыновей на пир, но еще и осмеливался глумиться над величием султана, произнося слова, за которые я единоутробного брата лошадьми разорвал бы на части.
Мегадука пожал плечами и отвернулся.
— Я вижу, ты не боишься смерти.
— Я слишком устал от жизни, чтобы бояться ее конца, — ответил димарх.
— И ни о чем не сожалеешь? — Мехмед получал удовольствие от разговора с человеком, стоящим на пороге мучительной казни.
— Да, сожалею! — Нотар вскинул голову. — Я сожалею о том, когда я, в безумном своем ослеплении, призывал своих сограждан примириться с тобой, стать твоими вассалами. Каким же глупцом я был тогда! Ты — порождение Тьмы, Антихрист, исчадие Зла! Не будет людям счастья, пока теплится жизнь в твоем тщедушном теле.
— Говори! Говори еще! — Мехмед до хруста стискивал зубы.
— Что мне сказать? Радуйся, торжествуй! Великий город разрушен и опоганен тобой. Посреди сатанинского шабаша ты сидишь на костях, пируешь в лужах крови, окруженный страдальцами на кольях. Я грешен, виновен перед Богом и людьми и потому удостоен видеть этот ужас. Этот кошмар, который отказывается постичь мой разум. Я рад, что вскоре уйду из жизни. Негоже человеку жить рядом с подобием дьявола на земле!
— Ты так же рад, — Мехмед заранее смаковал удовольствие, — что твои сыновья уйдут из жизни вместе с тобой?
«Вот оно, вот!» — султан всем телом подался вперед. — «Ополоумевший старик дрогнул, покачнулся, прижал руку к сердцу. Сейчас грохнется на колени и начнет вымаливать пощаду. Значит здесь запрятана его слабая струна. Ну что ж, поиграем на ней, поиграем от души».
— А в награду за твои правдивые речи, — откинувшись на спинку сидения, Мехмед с удовольствием выговаривал каждое слово, — я позволю тебе перед смертью лицезреть казнь твоих детей.
Но мегадука уже оправился от удара.
«Пусть будет так!» — шептал он себе. — «Смерть лучше позора. Пусть души отроков избегнут скверны, чистыми вознесутся на небеса, к престолу Всевышнего».
Бормоча молитву, он смотрел остановившимися глазами, как к столу султана подтаскивали двух перепуганных подростков, как широкоплечий палач умело и точно опускал сабельный клинок на тоненькие, неокрепшие шейки, как дергались хрупкие тела, испуская из себя на землю черные при свете факелов потоки крови.
— Теперь твоя очередь! — донеся до него насмешливый голос.
Нотар не сопротивлялся, когда его схватили, вывернули назад руки и поставили на колени. До самого последнего мгновения, пока сабля не рассекла ему шейные позвонки, он горячо молился. Он молил Всевышнего обратить свой лик к земле, явить свою силу и гнев против творимых врагом злодеяний. Он молил о справедливости и возмездии….. Пустые мечты ослабших духом людей…..
Мехмед отпил вина и обвел глазами пространство давно притихшей площади. Взгляды сотрапезников пугливо уходили в сторону, страшась встретиться с горящим взором молодого владыки. Мехмед усмехнулся и перевел взгляд к небу. Там, в просвете между облаками, сонно мигали бледно-голубые звезды. Нет, он не искал среди них свое светило-покровителя. Он был чужд подобных суеверий. Но временами он чувствовал на себе устремленный из глубин Мироздания пристальный, всепроникающий взгляд Божества. В них, в этих глазах, султан видел свою мощь и силу, и до тех пор, пока он будет ощущать на себе этот взгляд, ничто не заставит его свернуть с предназначенного пути.
Мехмед очнулся от грез. К его плечу склонялся и что-то быстро шептал Саган-паша.
«А он проворен, этот лис, «- Мехмед хотя и смотрел в глаза зятю, но почти не слышал его слов. — «Еще не успел остыть труп великого визиря, как он уже метит на его место».
— Повтори! — резко бросил он.
Паша на мгновение смешался.
— Я говорил, повелитель, что никто из пленников не желает менять веру. Особенно упорствуют главы семейств. Все они занимали важные посты при дворе византийского императора. Многих из них пленили с оружием в руках.
— На что же они надеются?
— Они не признают себя твоими рабами. Они требуют свободы для себя и своих близких.
— Свободы?! — лицо Мехмеда поплыло пятнами. — Требуют?
Жажда крови, жажда убийства вновь пробудилась в нем, как в хищном звере.
— Палача сюда! — хрипло выкрикнул он.
Казнь, начавшаяся с обезглавливания Нотара и его двух сыновей, родного и приёмного, продолжалась до самого рассвета. В тот день многие знатные византийские семьи оказались вырублены под корень, а то немногое, что осталось от них, без следа растворилось в сералях султана, пашей и беев.
Джустиниани Лонг скончался на борту своей галеры. Умирал кондотьер медленно и мучительно. Но не полученная рана была тому виной — его убила собственная совесть.
Плоть вокруг простреленного места воспалилась и набухла гноем, нога отекла и приобрела синюшный оттенок. Подобные страдания были бы непомерно велики для любого человека, но Лонг почти не замечал их. Что значила для него презренная телесная боль по сравнению с невыносимыми муками души? Стыд, горечь и злость за свое невольное предательство сводили его с ума, жгли грудь горячим ворохом угольев.
"Ты отступил! Бежал…! Ничтожество и трус!» — погребальным звоном гудели в его ушах голоса.
Стремясь заглушить их, он сжимал себе голову так, что казалось — еще немного — и стенки черепа не выдержат давления, лопнут, выплескивая измученный мозг наружу. Но голоса, голоса погибших, проходя сквозь подушки, прижатые к ушам, звучали всё настойчивее: «Мы верили тебе…. Ты предал нас, обрек на смерть и муки….. Так будь же проклят на все времена!»
Но ужаснее всего были видения. Перед кондотьером, перед его горячечным, воспаленным взором, в отблесках багровых языков огня, медленно проходили друзья по оружию, все те, от кого он столь малодушно отступился: василевс Константин, Феофил Палеолог, Кантакузин, Франциск Толедский, Каттанео, Минотто и многие, многие прочие…. Они шли нескончаемой чередой, их лица были торжественны и печальны, глаза смотрели с невыразимым упреком.
И тогда он кричал. Выл глухо и протяжно, как запертый в клетке зверь. В исступлении рвал повязки на бедре, раздирая пальцами края раны. Часто наклонялся и нетерпеливо дрожа, вбирал в себя воздух, полный тошнотворного запаха начинающегося тлена.
— Скоро, уже скоро, — в полубреду бормотал он.
Бортовой капеллан и двое насмерть перепуганных лекарей не отваживались входить в каюту. Верный слуга, трясясь от страха, поднес умирающему чашу успокоительного напитка, но тут же рухнул без чувств с пробитой головой. После этого смельчаков приблизиться к кондотьеру более не находилось.
Три долгих дня могучее тело не желало расставаться с жизнью. Три дня объятые суеверным ужасом моряки прислушивались к чудовищному богохульству и проклятиям, сотрясающим стены каюты.
Шторм на море не утихал. Пенистые валы крушили обшивку судна, подобно щепке швыряли корабль из стороны в сторону. Сломанные почти у самого основания мачты были смыты водой за борт, палубу густо устилали куски дерева, спутанные канаты и обрывки веревочных лестниц.
Отошел Джустиниани спокойно. После долгого лихорадочного забытья его лицо вдруг налилось кровью, мышцы тела стянулись в сильнейшей судороге и из лопнувшей кожи губ засочились густые красные струйки. Затем лицо быстро посерело и Лонг скончался молча, не произнеся ни слова покаяния.
Вечером того же дня утих бушевавший третьи сутки шторм. После короткого отпевания тело кондотьера, зашитое в саван, согласно морским обычаям было погребено в воде. Судовой капеллан в насквозь промокшей сутане, одной рукой держась за брусья перил, другой долго осенял крестом свинцово-серые волны и беззвучно шептал слова молитвы.
ЭПИЛОГ
В тот памятный и трагический день, 29 мая 1453 года, навсегда прекратила свое существование Византия.
Так, после долгой и изнурительной осады, после ряда жесточайших штурмов, огромное войско османских завоевателей, сломив отчаянное сопротивление горстки защитников, овладело величественным и богатым, крупнейшим городом той эпохи — Константинополем.
С падением древней столицы навечно была стерта с лица земли некогда могущественная империя, средоточие высокой цивилизации, объединившая в себе, переработавшая и улучшившая многое из прежних достижений человечества.
Она растаяла, как горящая в ночи свеча, испуская в мрак средневековья неугасимый свет своей культуры — от высочайшего духовного взлета, устремленности к Прекрасному и Божественному, до обращения к человеку, к его страданиям и радостям бытия.
Оказавшись на пути проникновения Азии в Европу, Византия не смогла в одиночку выстоять там, где терпели крах могучие военные союзы. Сломленная многовековым напором варварства, она погибла в неравной схватке с неисчислимыми полчищами врагов. Погибла, став жертвой предательства, проклятого во все времена; погибла, отвергнутая всеми, брошенная в решающий час на произвол судьбы. Пала, ибо не было более сил человеческих удерживать ветхие стены ее последнего убежища.
Византия приняла смерть с оружием в руках, с достоинством и без смирения, поразив воображение современников безнадежной, но полной мужества и героизма борьбой за свое существование. Конец ее скорбного пути был усеян трупами и щедро орошен человеческой кровью. Величественные храмы были превращены в мечети, неповторимые в своей красоте дворцы и здания — в груды развалин. Население было порабощено, а культура жестоко угнеталась веками.
Гибель Византии ознаменовала рост могущества Османской державы. Падали один за другим отдельные города, теряли независимость острова, княжества, целые государства. Лишь кое-где неприступные цитадели, уповая на Бога, продолжали отражать захватчиков. Но ни с Небес, ни от людей помощи не приходило. Неверие в свои силы, дремучий страх перед неизбежным сковали волю к сопротивлению, обрекая население захваченных земель на беспросветное рабство.
В те времена над миром, в ночной темноте, зловеще-призрачно сияя, появилась и надолго зависла на звездном небосводе огромная, вселяющая ужас своей величиной комета с длинным, изогнутым наподобие турецкого ятагана хвостом.
КОНЕЦ
Примечания
1
протостратор — командующий сухопутными частями войск.
(обратно)2
мегадука — командующий военным флотом
(обратно)3
перпер — византийская золотая монета, около 1 грамма.
(обратно)4
трехъярусная система оборонительных сооружений, построенная в V веке императором Феодосием
(обратно)5
фашины — связки хвороста или прутьев для заполнения ям.
(обратно)6
протейхизма — первый ряд стен высотой не более пяти метров
(обратно)7
железная цепь, протянутая поперёк залива Золотого Рога и запирающая константинопольский порт; контролировала вход и выход кораблей в открытое море.
(обратно)8
Румелия — турецкое наименование западных, европейских областей Османской империи
(обратно)9
квестор — юридический советник императора
(обратно)10
стадия — около 150 метров
(обратно)11
мелкая медная монетка.
(обратно)12
казначей
(обратно)13
войсковой судья
(обратно)14
глава канцелярии
(обратно)15
государственный секретарь.
(обратно)16
кривой утяжеленный меч с одной рубящей поверхностью
(обратно)



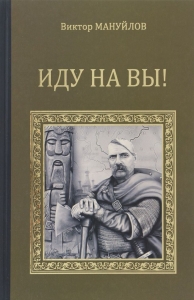
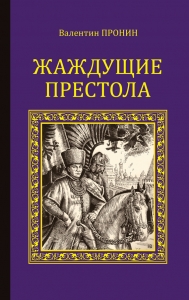
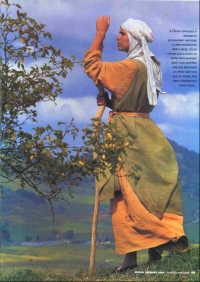
Комментарии к книге «Гибель Византии», Александр Владимирович Артищев
Всего 0 комментариев