Ёран Тунстрём
Ёран Тунстрём (1937–2000) — самая яркая фигура в шведской литературе последних десятилетий.
После его романов «Сияние» и «Рождественская оратория» издательство «Текст» вновь обращается к творчеству этого автора.
«Послание из пустыни» — роман о юности Иисуса Христа, времени, когда он только начинает ощущать в себе великое предназначение.
Книга издана при поддержке Шведского Института.
* * *
«Послание из пустыни» — шедевр, по прочтении которого становишься другим человеком. Этот роман обращается к самым потаенным уголкам нашей души.
«Гётеборгс-постен»ПОСЛАНИЕ ИЗ ПУСТЫНИ
Я в пустыне.
Ночь напролет я стучусь в тонкую перегородку, отделяющую меня от божественного. С той стороны вроде бы доносится ответ, но стоит мне прекратить стук, как там тоже воцаряется тишина.
Действие и бездействие. Сон и явь. По моему обращенному к небу липу струится звездный свет.
Когда-то оно было обращено книзу.
Я был еще дитем. Однажды, играя подле запретного колодезя, я углядел в самой его глубине белых рыбок. Никто мне не верил. «Не болтай глупостей, — отмахивались все. — Этот колодезь питается подземными водами». Но в одно прекрасное утро я проснулся ни свет ни заря и потихоньку выбрался наружу. Из молочного сумрака выплыл водочерпий со своими буйволами, который пришел запасти нам воды. «Там внизу рыбки», — сказал я. Он долго не сводил с меня пристального взгляда и только потом кивнул. «Достань хоть одну! А то мне не верят». Водочерпий улыбнулся и покачал головой: «Они никогда не попадают в мех». — «Тогда спусти в колодезь меня», — попросил я. Он снова покачал седовласой главой: опасно. «Ты можешь завязать меня в мехе. Тогда я точно не вывалюсь». И водочерпий послушался. Он посадил меня с поджатыми ногами в кожаный мех и накрепко завязал его, и буйвол стал неторопливо опускать мех вниз.
Колодезь был глубокий, в сто локтей. Летом вода из него была ледяная, а зимой — теплая. Так распорядился Господь.
Мех мягко покачивался от стенки к стенке. Скоро я перестал различать звезды вверху. Вокруг стояли мрак и тишина, в гулком пространстве раздавалось лишь биение моего сердца. Бум, бум, бум. Я был один в недрах земли, один в целом свете. Может быть, водочерпий уже накрыл колодезь крышкой, запечатал меня в нем, ушел, состарился и умер? Может быть, ветер шелестит уже другими деревами, веет в других городах, у других берегов?.. Бум, бум, бум — стучало сердце.
Наконец я добрался до воды, к которой давно стремился. Я выпростал руку из меха, опустил ее в воду, и туда тотчас заплыла рыбешка — ослепительно сиявшая во тьме серебристо-белая рыбешка. «Поймал, поймал!» — закричал я, и голос мой вознесся ввысь, как возносятся ввысь искры от костра…
И земля, оказывается, не обезлюдела. На поверхности кто-то остался, и этот кто-то услышал меня, между нами была связь.
Вскоре у меня над головой начал все яснее очерчиваться световой круг — небо словно озарила комета. В мире занимался рассвет. Меня вытаскивали наверх. Красное солнце уже простерло первые лучи над песчаной равниной за селением, подумал я.
И вдруг — почти на самом верху — я разглядел склонившиеся над колодезем лица родителей. Побледневшие, оцепеневшие от страха. Я выронил рыбку, и она, кружась, полетела вниз-вниз-вниз, а я закричал… и в тот же миг перевалился через край колодезя.
Крик и страх слились воедино, став моим самым ранним воспоминанием о них. А рыбку — серебристую колодезную рыбку — так никто и не увидел.
Я склоняюсь над светом своего прошлого, над искушениями и испытаниями тех ночей и дней. Свет этот мерцает глубоко внутри меня, то угасая, то разгораясь. Я вижу встречи и города, вижу испуг и радость, любовь и любопытство, вижу поражение за поражением.
Ночной воздух прозрачен и чист, и мои мысли видны как на ладони. Они кругом — в песке и воздухе пустыни. Они — шуршащие змеи, что уползают в темноту, они — цикады, что своим стрекотом распиливают ночь на части, но они же — и далекие огни земного Иерихона, и костер, брошенный догорать на том берегу Иордана Иоанном, который уже выполнил через меня свое обещание Господу.
Мысли эти охватывают не только мое прошлое, ибо никто и ничто не начинается с себя, с собственного рождения; они простираются вглубь и вдаль, в эпоху доавраамову и доадамову, когда не было еще формы и цвета, когда не было душ, а было собрание вод, в котором и воплощалось все сущее.
Мир ждет меня — как ждал всегда, даже когда я считал себя свободным от обязательств и твердил, что пуповина порвана. Даже тогда я был лишь одним из телец в кровеносной системе человечества… мечтой о лучшей жизни, воплощением эллинистической любознательности и страсти к открытиям. Я был кем и каким угодно, только не свободным.
Я подозревал об этом и во время своих странствий по свету: ходя кругами, я неизменно двигался в будущее. Я шел к нему через одного человека за другим, проникая сквозь фасад лиц в самую их глубь. Я воображал, что брожу среди извилин и потаенных уголков других людей, хотя на самом деле шел к обретению собственного лица.
У меня за плечами много пройденного, много встреченного, много несвершенного.
Я хотел сократить мир до пятачка и объять его целиком.
По крайней мере, мне довелось увидеть море. Я видел волны, лениво набегающие на берег. Видел горы со снежными вершинами, сверкающими на фоне ясного неба, видел хлебные поля с полновесными, тучными колосьями. Я видел мир и знал, что все это — творение Господа, даже горбатый из Тира или безногий из окрестностей Иерусалима. Я видел десницу Божию в траве и в глазу коршуна.
______________________
_____________
Они наведывались по утрам, каждый со своим тазиком для бритья, так что от восточной стены дома, где они выстраивались на песке, исходило золотое сияние. Закутавшись в свои плащи-милоти, они ждали восхода солнца. Не знаю, почему Бен-Юссеф, Гавриил Любитель Огурцов, хромой Бен-Шем и многие другие собирались к нам бриться и подстригать бороды, ухаживать за ногтями и умащивать головы зеленым елеем. Я с восторгом вспоминаю эти утра, когда павлины во всем своем великолепии клевали вылезшие за ночь ростки и далеко окрест разносилась песнь водочерпия:
Услышьте же наш мех с водой, Услышьте, как он полон И как свежа прохладная вода. Сюда, сюда, все женщины округи…И Бен-Юссеф, который, скрестив ноги, сидел на тростниковой подстилке, всплескивал руками и добродушным старушечьим голосом восклицал:
— Много же я отправил на тот свет римских воинов! Ох-ох-охоньки как много… — И довольно улыбался.
— Давненько это было! — вторил ему хромой Бен-Шем.
После такого напоминания о былых победах они умолкали, оставляя победы в прошлом. Теперь никто более не побеждал. Теперь наступила пора сетований, а главным плакальщиком был у нас Гавриил Любитель Огурцов.
— Что нам делать с этой засухой? — заводил он. — А виноваты в ней, между прочим, римляне. Не успели они сюда пожаловать, как стали опустошать наши колодези. У них и лошади, и верблюды, и бани. На эти бани вся вода и уходит. А нам, бывает, даже уста омочить нечем.
— Что правда, то правда.
— Слыхать, в Кесарии уже шесть бань понастроили! Когда воду надо беречь как зеницу ока, они в ней, вишь ли, купаются…
И опять тишина и ожидание. Старики потягивали горячее молоко, которым их угощала Мария, а потом читали тексты. Один из этих текстов я помню еще с первых лет в Назарете, когда над Римом взошло черное солнце по имени Тиверий и он правил через своих вассалов, а в народе лелеяли мечты о скором освобождении.
«Слово Господне, которое было к Осúи, сыну Беерúину, во дни Озúи, Иоафáма, Ахаза, Езекии, царей Иудейских, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского.
Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии: „иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа“.
И пошел он и взял Гомерь, дочь Дивлаима; и она зачала и родила ему сына»[1].
И Бен-Юссеф, этот старый разбойник пустыни, который сражался и предавал людей смерти, но после женитьбы уже только растил детей, со вздохом всплеснул руками:
— Не вышло из меня Осии, хоть и взял я за себя блудницу и детей беззаконных. Не стала жизнь моя указанием и предзнаменованием от Господа.
— Но ведь не Он велел тебе брать ее в жены…
— А я было решил, что Он, — отвечал Бен-Юссеф.
Старики явно благоволили друг к другу, поскольку каждый Божий день влачились сюда. Любо-дорого было смотреть на Бен-Юссефа, как он сидит со скрещенными ногами на подстилке и выстригает волоски из носа и ушей.
Умастив власа зеленым елеем, он снова вздохнул:
— Приими нас всех, день субботний.
И Бен-Юссеф поднял кроху сына навстречу солнцу, положил его перед собой навзничь и белой льняной тряпицей обмыл с пят до головы, растирая нежные икры, колени, ягодицы. Он намазал ему спину и плечики чистейшим маслом и произнес: «А теперь дай мне руки».
И когда малыш вытянул ручонки, отец заключил их в свои большие ладони, приговаривая: «Елей для пальчиков — бальзам для носа и для сердца!» А вокруг резвились козы, наскакивая на огромную корову, и тени были еще длинные, хотя солнце торопилось подняться ввысь.
— Пророков я на своем веку повидал множество, — молвил Бен-Юссеф, продолжая умащивать тело сынишки. — Когда-то пустыня ими кишмя кишела. Пророки бывают всякого разбора. Только ничего особенного в них нет.
— Они имеют общение с Господом! — сердито покачал головой Гавриил и плотнее запахнул плащ, как бы отмежевываясь от речей Бен-Юссефа.
— Подумаешь! — фыркнул тот. — Ходят голые и питаются полевою травою, дабы на них снизошло слово Божие. Подождите до вечера, и я вам тоже напророчу с три короба.
— К тому времени ты напьешься допьяна.
Гавриил с отвращением вперил взгляд в песок.
— Вот именно! — подхватили остальные. — Путь к Господу открыт всякому! А пророки издавна лишь путались у нас под ногами. От них не было никакого толку.
— Они хотя бы служили Божьим знамением для вас, разбойников.
— Как же, как же.
Это молоко по утрам замечательно согревало меня. Мария сидела у очага спиной к нам, подкладывая в огонь тростник: иногда напоить надо было скопище народу.
— Слишком много от тебя пустословия, — заметил Гавриил.
— От тебя было бы не меньше, если б тебе было о чем говорить. Но что ты делал всю свою жизнь? Ничего. А из ничего не рождается ни пустых слов, ни золотых.
Мне нравился запах Бен-Юссефа и его детей, до сих пор помню необычный аромат их тел. Этот елей он раздобыл давно, поведал Бен-Юссеф, — в караване, предназначенном для самой царицы Клеопатры. Он рассказывал много подобных небылиц — о благовониях и драгоценностях, о тонких блестящих тканях и мешках золота. Речи же Гавриила никогда не отличались блеском:
— Я хотя бы не делал ничего дурного.
— Но и доброго тоже. Все годы нашего знакомства ты только жаловался на несправедливость мира. Уши вянут от тебя.
— Радуйся, что нашелся человек вроде меня. Кто бы еще столько лет слушал твои враки?
Оставив Гаврииловы слова без внимания, Бен-Юссеф поднял сына с подстилки.
— Вот я и умастил тебя, сокровище ты мое ненаглядное от беглой матери, да пребудет с нею Господь.
Чуть погодя Бен-Юссефу захотелось продолжить перепалку: эти утренние стычки доставляли ему удовольствие.
— Да, я нечестив. Зато я даю Богу повод вмешаться, которому Он наверняка только рад, Гавриил! Ведь что Ему делать с тобой? Утром, когда Он простирает десницу Свою над землей и будит нас, ты уже проснулся и в гордом одиночестве сидишь на постели. «Ай-яй-яй! — вздыхает Спаситель. — Видать, не надеется Гавриил на Меня, коли хочет обойтись собственными силами. Зато этого презренного разбойника Бен-Юссефа вечно не добудишься. Крепок сон его от вина выпитого». Вот и приходится Богу встряхнуть меня, все какая-никакая забота… Мы с Ним досконально изучили друг друга. «Вставай и принимайся за дело, жалкий лентяй!» — повелевает Господь. А я Ему в ответ, тихонечко, чтобы не донеслось до твоего слуха: развяжи путы у Гаврииловых верблюдов, тогда он пошлет меня искать их в пустыне и появятся деньги на вино… и на еду моему сокровищу, да не оставит тебя Господь, малыш. Тебя же, Гавриил, Ему нечем соблазнить и не в чем упрекнуть. Должно быть, Он изнывает от скуки, когда Его лучи проникают в твое убогое жилище.
— Нет для тебя ничего святого, — сказал Гавриил, поднимаясь на ноги.
— Бояться всех и вся не значит почитать святыни. Да не уподобишься ты Гавриилу, о Нарцисс моего семени! Слышишь, малыш? — Он ткнул сына в живот, и тот заулыбался.
День за днем они обменивались по утрам дружескими уколами. День за днем перепалка кончалась тем, что Гавриил вставал и уходил по нужде в чисто поле; скоро он исчезал из виду, растворясь в потоке света, и никто не жалел о его уходе. И все же Гавриил был нашим соседом. Он жил с нами в Назарете, а мы там все бедняки и привыкли помогать друг другу.
— Несчастный, — сказал Бен-Юссеф. — У него даже нет жены.
— У тебя тоже, — отозвался Бен-Шем. — Хотя, может, оно и к лучшему… для нее.
— У меня есть мое сокровище, мой сынишка.
И он зарылся лицом в малыша, а тот принялся лохматить его седую голову.
— Откуда нам знать, что ниспослано Господом, а что нет? Как ты думаешь, Иосиф?
И все обернулись к Иосифу, который сидел на своей подстилке и остужал горячее молоко. Иосиф же, не зная, куда девать взгляд, только ниже склонил голову. Ответа от него так и не последовало.
* * *
А все потому, что Иосифу нелегко было говорить при посторонних.
Немногие слова, которым удавалось пробиться из его безмолвия, должны были пройти долгий путь от рук к устам… да еще убедиться, что попадут не куда-нибудь, а на простор. Иосиф жил трудом своих рук. И с окружающими вещами — деревом, стружкой, инструментом — разговаривали прежде всего его пальцы.
Суровым и согбенным шел он по жизни, высказывал лишь наболевшее, откликался на обращения, однако сам заводил беседу редко. Неудивительно, что он едва поднимал голову, если его о чем-то спрашивали, неудивительно, что он чаще всего уходил от прямого ответа, ограничиваясь привычной фразой:
— Да, это уж точно.
Выговаривался Иосиф лишь в пятницу, за вечерней трапезой накануне дня отдохновения, которой и начиналась Суббота. Когда зажигали светильник и ставили угощение — рыбу, хлеб и смоквы, когда Гавриил и Бен-Юссеф и прочие соседи уже возлежали за столом и Иосиф провозглашал неизменное: «Благословен Ты, Господь Бог наш, Царь Вселенной, даровавший нам святую Субботу…», когда он позволял себе лишний стакан вина и отворялись все запоры и затворы его уст… Так происходило каждую неделю. И слушатели перемигивались друг с другом и, поудобнее устроившись на подушках, давали Иосифу облегчить душу. Речи его были хлебом бедствия, который наши праотцы ели еще в земле Египетской. И звучал в них стыд за то, что сам Иосиф ничего не предпринял, когда сравнивали с землей город Сепфорис.
У всякого из нас есть в памяти пустые покои.
Когда легат Вар сжег Сепфорис, мне было два года, поэтому увидеть перед собой это событие я могу только благодаря рассказу Иосифа. Таких пустых покоев множество, и они обнаруживаются во сне и наяву, в грезах или на прогулке. Они открываются перед тобой, когда ты переступаешь порог дома или когда тебе на руку села бабочка-крапивница. Они возникают, когда ты утоляешь жажду, оборачиваешься на улице или произносишь чье-то имя. Пустое помещение, прохлада, тишина. И ты знаешь, что там таится нечто недоступное взгляду.
Вероятно, в тот день, о котором рассказывал Иосиф, такой покой выстроился и во мне. У него были крепкие стены — из ничего, надежная кровля — из ничего и пол — тоже из ничего, однако материал этот прочнее любого другого. Когда попадаешь туда, по твоему «я» словно проходит безжалостный смерч. Рука с бабочкой вздрагивает, ты оступаешься на пороге — и снова все спокойно. Никто даже не заметил происшедшего. Оно вне времени, оно из разряда хаоса и вечности. Перед нами и в нас самих расцветают и переживают упадок целые государства, а под смоковницею — тишь да гладь.
Мария рассказывала, что, играя с младшими братьями и сестрами, я мог посреди самой что ни на есть бурной игры схватить их за руки, заглянуть «словно бы в самое нутро» — и заплакать. А все потому, что я любил и люблю этот мир.
— Однажды вечером, — так всегда заводил свою историю Иосиф, — когда был, как сегодня, день приготовлений и зажгли светильник, к нам вдруг приполз пастух Гамаль. Он поднялся с карачек и что-то заверещал. Гамаль был человек особенный. Он пас овечьи стада на севере, в горах под Сепфорисом, ибо отец его, кожевник Симон, не желал видеть в Назарете одержимого. Гамаль жил скотом среди скотов, ползал на четвереньках промеж овец, серым ликом и платьем мало от них отличный. Речью он не владел, поскольку разговаривать ему ни с кем не доводилось. Он носился вкруг своих овец на манер собаки, и они всегда держались гуртом. Ходили слухи, будто он прикончил не одного рыскающего около гурта льва: сам кидался на хищника и перекусывал ему глотку. Не знаю, была ли в этих слухах доля истины, только ни одной овцы Гамаль не потерял, что правда, то правда. При встрече со случайным прохожим Гамаль всегда поднимался с карачек и, поворотившись к нему задом, щурил глаза на солнце или звезды, изображая нас, человеков; а когда прохожий уходил своей дорогою, снова опускался на четвереньки. Ребятишки, бывало, радостно глазели на него, дразнились и швырялись каменьями, сам же он никого не трогал. Гамаль прожил в горах много лет, не решаясь приблизиться ни к Назарету, ни к Сепфорису. В тот вечер он сделал это впервые на людской памяти.
По городским улицам за ним бежала стайка ребятни, так что о его приближении нас известили крики и смех. Не знаю, почему Гамаль выбрал не чей-нибудь дом, а наш с Марией. Как бы то ни было, он внезапно очутился у нас во дворе. Ноги его дрожали, язык свешивался на плечо, а глаза… эти почти не различимые на чумазом лице глаза сверкали яростью. Гамаль не прошел очищения, поэтому, когда он, прервав мой кидуш, хотел схватить меня за руку, я уклонился, а когда он стал гоняться за мной по двору, преследовавшие его сорванцы пробовали ставить ему подножку. Видимо, Гамаль уловил наш страх: он застыл в дальнем углу и у него из глаз покатились слезы. Он раскачивался из стороны в сторону и издавал нечленораздельные звуки, готовый снова упасть на четвереньки. И тут ему в глаза бросился светильник. Гамаль неуклюже схватил его и замахал руками, указывая на север.
— Ты совсем ополоумел, Гамаль, — сказал один из гостей.
Пастух покачал головой и опять принялся указывать на север. Мы были в растерянности. Помнится, я даже взял тебя за руку, Мария.
— Да, мы ведь ничего не знали.
— Верно, мы тогда ничего не знали. И все же я начал догадываться, в чем дело. Гамаль мычал так встревоженно, что я сообразил спросить, не случилось ли чего. Он закивал и стал жестами призывать нас идти с ним. Стояла кромешная тьма, и Гамаль описывал подле нас круги, словно теперь мы были его стадом. Мы вышли за городские ворота и двинулись в сторону виноградников и помидорного поля. Не было видно ни зги, мы тащились вдоль стены, сбивая ноги в кровь. В одном месте лежал павший осел… Помнишь, Мария?.. Ты споткнулась о него и выронила Иисуса… осел был еще теплый… ты вскрикнула, и Гамаль подхватил мальчика с земли и подал тебе.
— Было очень темно, — сказала Мария.
— Да, было очень темно. И мы шли долго-предолго…
— Ты забыл про шакалов…
— Я ничего не забыл. А ты помолчи, не мешай мне рассказывать. И мы залезли на гору и увидели полымя великое. «Это Сепфорис, Гамаль?» — спросил я. Он кивнул и развел руки в стороны, изображая распятого. «Там убивали?» Он снова кивнул. «Много?» Да, много народу погибло сразу, а многих распяли позднее, потому как было это вскоре после смерти Ирода, когда Иуда Галилеянин со своими отрядами разорил оружейный склад и имел намерение пройти по всей Галилее. Прознали о восстании и мы, и были у нас на Иуду большие надежды. Только легат Вар спуску никому не дал.
На этом месте рассказа Иосиф пригубливал вино, безуспешно пытаясь скрыть от нас волнение.
— К утру на горе собрался весь Назарет. За зрячими туда потянулись слепые, за слышащими — глухие, за здоровыми — прокаженные со своими колокольчиками. Все мы стояли безмолвно, потупив взоры в песок. Увы, Тот, Кого мы ждали, пока не явился. Иуда Галилеянин тоже оказался не Мессией. «Нам бы следовало…» — заговорил кто-то, когда солнце стало припекать. И опять воцарилось молчание. Я предложил было вернуться к работе, но вспомнил про Субботу. Женщины стали поить мужей водой, словно вдохновляя нас на какое-то предприятие; они чуть ли не силком вливали в нас эту воду, мы же едва осмеливались утирать бороды.
Я многажды слушал в тишине пятничной вечери это единственное Иосифово связное и пространное повествование. Теперь мне трудно отличить его рассказ от собственных воспоминаний. Да это и не важно. У меня перед глазами картина: мы стоим у Дороги и смотрим. Мы не стали избранными Его.
Прокаженные, хромые, увечные, многие грязные. Все были еле видны из-за ограды большой дороги.
Ближе к полудню на дороге появились уцелевшие жители Сепфориса. Целый караван, многие тысячи. Пустыня содрогнулась от их криков, от их кровоточащих уст. Скованные друг с другом, подгоняемые плетками легионеров, они тащились к рабству на галерах и в рудниках, а кое-кто и к смерти на кресте. Старики и дети.
— Как бы ужасающи ни были истории о муках, которым подвергают народ в дальних краях, они всегда касались чужих, безымянных людей, — продолжал Иосиф. — Теперь же многие узнавали друзей и знакомых, слышали голоса, более привычные в иной обстановке. Закованные в кандалы руки совсем недавно делились с тобой куском хлеба, милые губы — улыбались детским забавам.
Прежде Иосиф не уставал повторять, что во всем виновата тяга к свободе. Он говорил это сурово и жестко, подразумевая: занимайся хлебопашеством или кожевенным делом, не требуй большего — и будешь счастлив. Но когда он увидел безвинно страдающих по воле властителей друзей, ремесленников из Сепфориса, он понял, как был не прав. И отворотил голову, не в силах долее смотреть.
Мы стояли в тени смоковницы и наблюдали за происходящим из-за каменной ограды. И как только Иосиф отвернулся, я нашел в ограде дыру и вылез на ту сторону, к дороге.
— Первым заметил мальчика Гамаль. И тотчас пополз следом. Назаряне застыли от ужаса. Никто из нас, в том числе я сам, — говорил Иосиф, — не попытался ничего сделать…
И после слов «я сам» у него всегда появлялись на глазах слезы и он всегда тянул мозолистую руку вверх… прикрыть их, спрятать лицо.
— И тут проклятые легионеры — впрочем, клясть нужно не их, а самого себя — углядели, что Гамаль пытается добраться до Иисуса раньше, чем его заметят с дороги. Пастух, однако же, успел схватить малыша в охапку и доковылять до ограды, а мы успели втащить тебя, Иисус, обратно в тот миг, когда Гамаля пронзили сзади копьем… Он покатился по склону и остался лежать на обочине. Наплевав на него, солдаты погнали наших друзей дальше. А мы… мы так ничего и не предприняли. Не пошевелили и пальцем.
С этого рассказа неделю за неделей начиналась для нас Суббота.
* * *
Неисчислимы требования, предъявляемые человеком к человеку.
Теперь мне пора поведать об Иоанне, сыне Захарии и Елисаветы и моем двоюродном брате, которого называют Крестителем. Он стал суров и мрачен.
Но могло ли быть иначе?
Не знаю, да это и не важно: мы знакомы с младых ногтей и нераздельны, как ветер и парус, как топор и удар топора.
И все же — а может быть, именно поэтому — между нами постоянно происходила борьба, и в этой борьбе не могло быть ни победителя, ни побежденного. Служение его скоро свершится, сказал Иоанн в нашу последнюю встречу на том берегу Иордана. Недостает только смерти. Ему предстоит отдать лишь этот последний долг, сказал он… ибо наступило его время. Однако тут, в пустыне, где я склоняюсь над своим прошлым, которое есть мои искушения, время — понятие бессмысленное. Какое-нибудь сиюминутное событие вполне может отражать случившееся давным-давно… И наоборот. Я как будто попал внутрь призмы (не зря же я родился под искрящейся кометой!). Все заключено в нас самих. Время всадило тебе в душу свой топор — и он еще дрожит от удара.
Мое первое воспоминание об Иоанне: мы с Иосифом добирались туда на ослах, мимо персиковых рощ, о ту пору, когда деревья стоят в розовом цвету, а склоны по берегам Геннисаретского озера покрыты красным ковром анемонов. Иосиф прихватил меня в одну из своих поездок за материалом для плотницкого дела; Мария, по обыкновению, устала и была рада отослать меня.
— Да и тебе полезно будет провести несколько дней вдали от дома, — привычно находя оправдание, сказала она. — Пока Иосиф договаривается с друзьями, за тобой присмотрят Елисавета с Захарией. Только веди себя прилично: сам знаешь, они уже старенькие.
И все же я не думал, что они окажутся такими старыми. Мы свернули к их дому, и, как сейчас помню, мой осел скакнул вбок и уперся в персиковое дерево, и оно обсыпало нас цветом, он пристал к ослиной морде и к моим волосам. Мы застряли среди ветвей. Во дворе склонился над корзиной Иоанн, а в корзине сидела старушка Елисавета: она была легкая как перышко, вся седая и с такой прозрачной кожей, что боязно было дотронуться. Корзина стояла на скамье, с которой Иоанн и намеревался взвалить ее себе на спину. Он присел, завязал на голове повязку, со стоном напрягся и резко встал. Тут взгляд его обратился к нам.
— Смотри, отец, кто-то приехал.
Теперь я заметил и Захарию, высокого седобородого старца в лиловом плаще. Он сидел в лучах утреннего солнца на камне и намазывал елеем лепешки; отец с сыном явно собирались в путь.
Иосиф спешился и подошел к Захарии.
— Приветствую тебя, — смущенно произнес Иосиф.
Они были очень разные: низенький, сухощавый Иосиф, никогда не уверенный в том, какое производит впечатление, норовящий спрятаться за делами и поступками, — и Захария, даже в преклонных годах величественный и могучий, не утративший естественности, которая читалась и в живости взора, и в открытости характера.
— Погоди, Иоанн, поставь Елисавету обратно, — сказал Захария, неторопливо поднимаясь навстречу. — У нас гости.
— Неужто Иисус?! — обрадовалась Елисавета. — Сделай милость, сынок, подойди ближе, дай на тебя взглянуть. Совсем плоха я стала глазами.
Я подошел к ней, и она принялась гладить меня по лбу, по щекам, отчего я испытал мучительную боль во всем теле и отвернул голову в сторону, хотел даже вырваться и убежать… Елисавета сидела в своей корзине такая изящная, такая красивая с трепещущими на ветру жиденькими волосами, а когда она повернулась к Захарии и Иоанну и они обменялись взглядами, я прочел в этих взглядах что-то дотоле мне неведомое. Иоанн стоял, не зная, куда девать руки, и смотрел на меня. По виду я дал бы ему гораздо больше лет, чем себе; во всяком случае, он точно был сильнее.
— Здравствуй, — сказал он.
— Здравствуй, — отозвался я.
— Сходите-ка за молоком, ребятки! — попросила Елисавета. — Заодно и познакомитесь.
— Мы не хотели бы вам мешать, — сказал Иосиф. — Вы куда-то собирались…
— Всего-навсего прогуляться, — пояснила Елисавета. — Мои мужчины хотели показать мне горы. Они чувствуют, что я скоро умру.
Елисавета улыбнулась с такой нежностью, что мне опять пришлось отвернуться.
— А как там Мария?..
Спустя час Иосиф распрощался с нами и отбыл на север, в леса. Когда он исчез в висевшей над озером дымке, мы тоже тронулись в путь, на отложенную прогулку. Иоанн нес Елисавету в ивовой корзине. В гору он взбирался быстрым шагом, по-стариковски согбенный, с врезающейся в лоб повязкой. Лицо у него было напряженное, зубы стиснуты, взор устремлен в землю — только бы не поскользнуться.
Елисавета сияла от счастья. Мы с Захарией шли сзади, и она улыбалась нам. Чем выше над озером мы всходили, тем более она оживлялась.
— Я-то сижу, а бедный Иоанн надрывается. — Она помахала нам рукой. — Какой же у меня хороший сын!.. Посмотри, Захария, кто там рыбачит? А тут, посмотри, вроде бы детские одежки развешаны, не иначе как у Гавриила прибавление семейства. Вот и чудесно! — радостно выдохнула Елисавета.
Вверх по кручам, между обломками скал и благоухающими кустами шалфея, между яркими анемонами и колючей гаригой[2]. За Иоанном только сыпался щебень.
— Не надрывайся, сынок, — сказала Елисавета. — Если притомился, давай встанем здесь.
— Нет, пойдем дальше, — упорствовал Иоанн, хотя по щекам у него крупными каплями катился пот.
— А Мария не огорчилась, что ты уехал к нам? — прокричала Елисавета.
Голос ее звучал далеко вверху, Иоанн поднимался очень резво.
Я промолчал. Во мне нарастал поток слез. Сегодня все было слишком необычно, слишком красиво и… как бы это сказать?.. слишком откровенно. Между этими тремя людьми существовала близость. Они были искренни и естественны друг с другом. У нас в семье все обстояло иначе.
Я думал: как это, чувствовать так близко, спина к спине, собственную матерь? Наверное, Иоанну тепло и уютно? Я вспомнил ласковые руки, гладившие меня по лбу. Дома ни у кого не было таких рук.
Да и прогулок таких тоже не бывало. Мария с Иосифом никогда не кричали: «Гляди, какая красивая птица!»
В подобных случаях они просто затаивали дух. Они не могли прошептать, остановившись перед паутиной: «Тссс! Смотри, как плетет. Вот это красота!..»
Они не могли устроить привал на траве, как теперь Захария с Елисаветой и Иоанном.
И мне вдруг захотелось, чтобы Марии тоже было сто лет, чтобы она была легкой как перышко, а волосы ее блестели сединой, чтобы я мог посадить ее в корзину и носить к дальним виноградникам, а там — совать в рот спелые ягоды, приговаривая: «Ешь, матушка, ешь!» Но у меня ничего подобного не было.
Тем временем мы сели на лугу по-над Геннисаретским озером и преломили хлебы. Вокруг носились меж дерев ослы, с горчичных полей веяло медом, а вверху лазоревым солнышком кружил зимородок, самая прекрасная из всех тварей небесных.
— Эта птица — Божия посланница нам, — сказал Захария. — Вот почему она такая пугливая и держится на порядочном расстоянии. Видишь ее, Елисавета?
— Нет. Господь считает, я уже повидала все мне положенное.
В голосе ее, однако, звучала печаль. Тогда я встал и протянул руки к небу.
И птица села мне на палец, ухватилась коготками. Я поднес ее к Елисавете и, опустившись на корточки, сказал:
— Смотри, какие у нее перышки, и белая полоска на крыльях, и белая грудка… А клюв, ты только посмотри, какой у нее длинный красный клюв!
— И все-таки она красивее в полете.
Тогда я с вытянутым вперед пальцем побежал к обрыву и выпустил птицу над озером. Она взмыла ввысь, пронзительно щебеча и брильянтом сверкая на солнце. Когда я обернулся, все молчали.
— Я что, слишком рано отпустил ее? Позвать обратно?
Ответом мне было молчание.
* * *
Иоанн нес корзину с Елисаветой, но делал это стиснув зубы. Словно желая доказать родителям, что они не зря столько лет напрасно ждали сына. Словно считая своим долгом вырасти как можно скорей, дабы они успели по-настоящему увидеть его.
Он слишком остро воспринимал требования к себе и изнемогал под их тяжестью.
Я сразу отметил, что нас объединяет необычное рождение: и в том, и в другом случае оно вызвало переполох. Но Иоанн был Божьим даром престарелым супругам, поэтому над ним тряслись, ему уделяли особое внимание. Он рос в окружении заботы, а пожилые соседки с раннего детства нашептывали ему: «Помни, что у тебя старая матерь. Помни, что тебе надо печься о родителях. Докажи им, что ты уже большой!»
Сам не знаю, нравился ли мне Иоанн. Во всяком случае, он был рядом. Жизнь то и дело сталкивала нас, и бывали мгновения (увы, слишком краткие), когда мы вместе познавали мир и ничто не могло испортить этих впечатлений…
Однажды мы с ним сидели на берегу озера.
— Когда я стану большой, то обязательно поеду в Индию, — мечтательно произнес Иоанн. — Слыхал про нее? Слыхал про корабли, что ходят туда из Египта?
Я кивнул.
— У нас в деревне есть один купец оттуда. Можем как-нибудь зайти к нему. Он прожил в Индии чуть не всю жизнь, только умирать вернулся на родину. Говорит, там очень красиво. У него был огромный дворец со множеством слуг. И стоял этот дворец у тихой-претихой реки. Вечерами купец сидел на берегу и пил вино из серебряного кубка… А еще у него были слоны и три ручных леопарда — Сим, Хам и Иафет. Они следовали за ним по пятам, и он заслужил большое уважение. Представь себе: расхаживать в белых одеждах, под зонтом, чтобы кругом были источники и журчала вода…
— Как у римлян, да?
— Гм… — Иоанн вдруг помрачнел. — Я не их имел в виду. Уж будь уверен.
Он дотронулся до моей руки, словно прося извинения.
— Хорошо, можно жить и проще. В любом случае я пригласил бы тебя в гости. У нас был бы домик на берегу реки, в тени раскидистых деревьев. По крайней мере, у этого купца дом стоял на реке. Может, он и не был богат. Может, он все так расписывает, чтобы заинтересовать меня. Но вот прибывает твой корабль, и я встречаю тебя в порту, и мы идем на реку ловить рыбу. Рыбы там видимо-невидимо. Всех цветов радуги. А еще там есть крокодилы. Очень хочется походить по морю, побывать в дальних краях. Я обязательно уйду в море. Можно наняться писарем к какому-нибудь купцу. Заодно повидаешь свет… и выучишь разные языки…
Он смолк, устремив взгляд на воду. И с еще большим напором продолжил:
— Я выучу все языки, Иисус. Все, какие только бывают. Сколько их, по-твоему?
— Тебя определили в Храм, Иоанн, — сказал я. — Ты не сможешь уйти в море. Всё это пустые фантазии.
— Да, фантазии, — согласился он.
Наступила тишина. Гробовая тишина.
Иоанн подобрал камень и швырнул его в озеро.
— А что было… после твоего рождения?
Он задал этот вопрос с таким натянуто-безразличным видом, что я лишь пожал плечами. Тогда он оборотился ко мне.
— Что было после твоего рождения?! — сурово и жестко повторил он.
Я рассмеялся:
— Не помню, я был маленький.
Иоанн швырнул в озеро новый камень и долго смотрел на расходящиеся по воде круги.
— Отец говорит, ты родился под звездой…
— Мало ли что говорят, — отозвался я.
— А еще он говорит, посмотреть на тебя пришли издалека богачи. И он говорит, что Мария…
— Зачем ты меня пытаешь? Почему мы не можем быть просто друзьями?
— Мы вроде не враги.
Врагами мы действительно не были, но его расспросы вызывали досаду. Возможно, потому, что до меня доходили слухи, будто… Ну да ладно, не важно, какие слухи… во всяком случае, мне они не нравились.
Иоанн, однако, не унимался.
Когда мы, заигравшись, очутились под цветущими вишнями, где выстроились в ряд Захариевы улья, и я лег на траву посмотреть, как вьются у очка пчелы, Иоанн схватил охапку травы, которую мы нарвали для кроликов, но про которую забыли, и навис надо мной.
— Сотвори Чудо, — велел он. — Иначе брошу.
— И не подумаю.
Тогда он выпустил охапку из рук, и она упала мне прямо на лицо. Я лежал не шевелясь, вдыхая запах травы.
Сначала я чувствовал себя прекрасно. Потом оказалось, что до меня не доносится голос Иоанна, не доносится никаких звуков извне… и настроение мое переменилось. Я словно попал в отдельный мир. Оставшееся снаружи словно подчинялось иным законам, жило в ином времени. Я тут лежу неподвижно, а снаружи продолжает расти трава. Вот она уже выросла высокая, вот она увядает. Теперь там осень. Я представил себе, что Иоанн тоже вырос, состарился и умер. Умерли все, кого я знал. Селение пришло в упадок и разрушилось, на его месте выстроили новое. А я лежу. Лежу, неподвластный времени.
И все потому, что Иоанну взбрело в голову потребовать от меня Чуда. Единственное Чудо, о котором мечтал я сам, была способность летать. А летал я только во сне. До боли стиснув кулаки и напрягши все внимание, я в конце концов отрывался от земли. Приподнимался над ней, пусть даже невысоко. И тут мне обязательно хотелось показать другим, что я воспарил. Для этого надо было повернуть голову, но тогда внимание рассеивалось и я падал. Всегда, стоило кому-нибудь посмотреть на меня, как я уже снова стоял на земле. Это был неприятный сон, который к тому же снился мне довольно часто.
Я не хотел жить в отдельном мире. Меня и так смущали все эти толки обо мне, взгляды, которыми меня провожали на улицах, Иоанн с его неотвязностью.
— Что ты там делаешь? — прокричал он.
Я был далеко. Голос мешал мне.
— Думаю.
— О чем?
— О том, как мне замечательно.
Некоторое время Иоанн молчал, потом закричал снова:
— Теперь я лежу рядом!
— И тоже засыпан травой и ничего не видишь?
— Совсем ничего. Я хотел спросить…
— Что?
— Как по-твоему, когда придет спасение, на земле по-прежнему будут ночи?
— Да-а-а. Почему бы и нет?
— Уж очень бывает темно.
— Ты что, боишься темноты?
— Ночью неуютно. Днем куда лучше.
— А я люблю лежать в темноте и думать. В темноте заключено больше, чем в свете. Там скрываются наши желания… хотя можно повстречать и то, чего совсем не хочешь.
— Предположим, ты был бы Мессией. Я говорю «предположим». Что бы ты сделал?
— Во всяком случае, ночь я бы убирать не стал. Я бы вообще ничего не убирал. Впрочем… с людскими бедами пора кончать. И с голодом тоже.
— А с римлянами?
— Да. Римлян я бы убрал. Ну почему тебе обязательно надо болтать?
Теперь мне хотелось полежать в тишине и одиночестве. Но Иоанн уже выбрался из-под травы, и в следующий миг я почувствовал упершуюся мне в живот палку. Я тоже стряхнул с себя траву.
— Что ты затеял?
— Мессии положено сражаться, — сказал он. — Вот твой меч.
Кинув мне палку, Иоанн пошел в атаку.
Он воспринимал наш бой весьма серьезно, а у меня от лежания в темноте кружилась голова. Я пробовал смеяться, дабы умерить его пыл, однако ничего не добился.
Не знаю, долго ли продолжалось наше сражение, когда я заметил подле ульев Захарию. В привычном лиловом плаще, с бородой белее вишневого цвета. Захария помахал мне рукой, тогда как Иоанн, обернувшись и признав отца, вдруг напрягся.
— Мы просто играем, отец, — словно извиняясь, молвил он.
Извиняться было нечего. Кто-кто, а Захария был вовсе не строг. Он был добрый и веселый, хотя ноги его одряхлели, а лицо покрылось морщинами.
— Вижу, вижу. И во что вы играете?
— Сражаемся с сынами тьмы.
— Кто ж из вас тьма, а кто свет?
— Сыны тьмы — это я, отец.
Как он выпалил эти слова!
— В таком случае я — отец тьмы, — отозвался Захария.
— Нет-нет, я вовсе не это имел в виду…
— Разумеется. Время покажет, кто из нас кто. Вообще-то я хотел попросить вас сбегать за оливковым маслом. Скоро обедать.
И мы скрылись меж дерев. Но рядом с нами шло Время. Огромное, черное, холодное. Оно разделяло нас с Иоанном. Оно обламывало ветки вишен, топтало маки и лютики, рассекало надвое червей земных.
* * *
Мне хорошо жилось у стариков, да пребудет с ними Господь.
А когда Иосиф вернулся из северных лесов, Захария спросил у него, нельзя ли мне погостить у них еще чуток:
— Они с Иоанном замечательно играют. Обоим только полезно. Я вижу, им нравится вместе.
— Да пожалуйста, — сказал Иосиф. — Мария еще не отошла от последних родов. Если, конечно, Иисус вам не в тягость.
— С двумя не труднее, чем с одним.
— Во всяком случае, в их возрасте, — подтвердил Иосиф.
Елисавета выставила угощение — вино, сыр, хлеб.
— Как житье-бытье на севере?
— Не лучше нашего, — отвечал Иосиф. — Голодают. Уж больно налоги везде высокие.
За вином старики засиделись допоздна. Они сидели у костра под звездами и беседовали о римлянах. Вскоре Иосиф набрался достаточно для излюбленной истории про Сепфорис. Он говорил о своем грехе бездействия, грехе, в котором можно упрекнуть всех иудеев. «Мы слишком бездеятельны», — сказал он. Захария терпеливо слушал, но мнения придерживался иного:
— Кое-кто все же действует… или намерен действовать. Как сказано у Иезекииля: «А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые во время отступления сынов Израилевых от Меня постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог»[3].
И Захария поведал о chassidim risonim — людях действия, что живут в пещерах в пустыне Иудейской.
— Ибо спасение придет из пустыни. Там явит себя Спаситель наш. Я всегда испытывал тягу к этим людям, но остался жить в Иерусалиме ради Елисаветы… и ради себя. Иначе я бы поселился в Хирбет-Кумране.
— Значит, это я тебе помешала, Захария? — переспросила со своего ложа убеленная сединами Елисавета.
Он покачал головой:
— Я сам себе помешал. Все-таки в их учении много такого, чего я не принимал. Они казались мне слишком строгими. Если человек в субботний день упал в воду, его, видите ли, нельзя спасать… Еще чего… Они называют меня отступником. Ну и пусть. Они что-то делают, и да благословит Господь их труды.
У Захарии был красивый голос, отчего каждое его слово запечатлевалось в памяти. Рядом с этим человеком ты чувствовал себя в полной безопасности. Мне всегда хотелось, чтобы у Иосифа было много дел, чтобы его переговоры о покупке материалов затягивались и я оставался в гостях как можно дольше. Захария обучал нас не только священным текстам, но и писать на песке. И тогда на вздуваемом ветром песке, по которому шастали куры с петухами, появлялись крупные детские каракули. Он был хорошим наставником и во время этих уроков на берегу, под старой смоковницей, закладывал в наши потаенные уголки крупицы своего опыта. Мы с Иоанном не только подражали речам Захарии, но стремились к ответственности, которой, как нам казалось, было проникнуто его учение.
Однажды мы притворились молодыми людьми, задумавшими поступить в монастырь на берегу Мертвого моря. С посохами в руках, с котомками за плечами мы степенно взбирались на холм позади дома.
Будучи старшим, Иоанн взял на себя роль монастырского служителя.
— Шалом, милый юноша, и да пребудет с тобой Господь.
Он встал передо мной, широко расставив ноги и меряя меня суровым взглядом.
— Что понудило тебя проделать столь неблизкий путь, сын мой?
— Хочу присоединиться к вашей братии, — отвечал я, еле сдерживая смех от непривычных слов.
— И как ты это понимаешь?
— Пришли последние времена, отче, и я не могу долее терпеть греховный Иерусалим, хочу вступить в вашу покаянную общину и, пребывая среди избранных, сражаться с сынами тьмы.
— Достойные речи, сын мой. Но сначала тебе придется провести здесь год без вступления в монашеский орден, только исполняя заведенные у нас правила… Если ты докажешь, что поддаешься воспитанию, настоятель допустит тебя в общину. Имение свое ты должен передать нам.
Я подобрал с земли несколько камней, и Иоанн торжественно принял их от меня.
— Деньги пойдут в общую кассу. На них мы будем ковать оружие для окончательной победы над сынами тьмы. А теперь — на колени!
Я упал ниц. И тут налетел вихрь.
— Пойдем домой, Иоанн, — взмолился я. Мне не нравилось, что глаза засыпает песком.
— Ты смеешь обращаться ко мне на «ты», отступник? Напротив, мы удалимся в пустыню, дабы нас не смущали искушения мира.
Мне стало боязно, ведь он даже не улыбался.
— Ты говоришь, словно взаправдашний монах. Давай лучше кто дальше кинет камень, а? С трех попыток…
Он неспешно повернулся лицом к пустыне.
— Ты будешь кидать первый, — продолжал я. И испуганно прибавил: — Если, конечно, хочешь…
В ту пору я всегда старался держаться в виду деревьев. Теперь же мы настолько углубились в пустыню, что они казались совсем крохотными.
— Пожалуйста, давай не пойдем дальше.
— Никто не имеет права прерывать брата своего посередине речи.
— Иоанн!
Он лишь прибавил шагу, отчего мне не было видно его лица.
— Там львы!
— Они с нами не справятся.
— Постой, Иоанн! Куда мы?
— Искать уединения и приготавливать путь Господу!
Может быть, он шутил? Может быть, он любил играть еще больше моего? Тогда почему он ни разу не обернулся ко мне? Я едва ли не бегом бежал за ним и все же подобрал камень — на случай, если окажется, что Иоанн это понарошку. Чуть погодя камень сам собой выпал из руки. Ветер между тем крепчал. Я замотал лицо полой плаща, чтобы уберечь глаза от песка.
Через некоторое время я набрался храбрости спросить:
— Ты когда-нибудь заходил так далеко?
Нас окружали сплошные барханы. Нигде ни деревца, ни проблеска озера вдали.
— Всякий шаг бывает новым. Ты ведь хочешь стать своим среди людей действия, сын мой?
— Да, Иоанн, — пролепетал я, стараясь не отставать. Ноги мои оскальзывались, из носа текло, в глаза набился песок и принесенный ветром мусор, один я ни за что на свете не нашел бы дороги назад. Я получал истинное удовольствие на берегу озера, когда мы учились у Захарии, безмерно гордился тем, что не обманул его ожиданий. А теперь… Под этим меркнущим небосводом. С этим загадочным Иоанном. Ведь что я, собственно, знал о нем? Какие движения души, какие мысли разделял?
Мы заблудились и уже никогда не попадем домой.
И тут… посреди пустыни, неумолимо простиравшейся во все стороны до самого горизонта… Иоанн вдруг оборотился и предстал передо мной таким, каким я его еще не видывал.
— На колени! — строго приказал он. — Ты — новый Мессия!
Во мне что-то оборвалось.
Почему он так сказал? Я насупился, пытаясь уразуметь, что Иоанн имеет в виду. Мессия — это ведь не я! Мессия еще должен явиться. Из другой страны или с небес.
Какая глупая игра! Иоанн несет бред, лишь бы распоряжаться другими. Теперь я тебя раскусил, подумал я. Теперь мне не страшно.
Однако что за чудные он произнес слова… Словно Мессия может прийти изнутри. Вырасти, наподобие зародыша, в живом человеке.
Словно я был женщиной и мог выносить в своем чреве кого-то еще. Но я был мужчиной и без колебаний отмел эту мысль.
И вдруг на меня напал страх. Такого страха я не испытывал никогда прежде. Смерть. Это похоже на смерть. Смерть всегда касается других, а не тебя, пока…
Трепеща, я взглянул наверх и встретился с непримиримым взором Иоанна. В его глазах не было и тени игры.
— Пожалуйста, Иоанн…
— Тебе предстоит долгий и трудный путь. Вот почему тебе надо удаляться в пустыню и подолгу пребывать там…
— Иоанн…
— Клянись! — продолжал он, вешая мне на плечо свою котомку с провизией. — Клянись всегда почитать Господа и исполнять обязанности свои пред человечеством, клянись ненавидеть и обличать нечестивых. Клянись никогда не похваляться властью твоею…
Тут я разозлился и кинулся на Иоанна. Я повалил его на землю, сдавил ему шею, уселся на него верхом и диким голосом заорал:
— А ты, Иоанн, клянись никогда в жизни не заводить таких разговоров! Если я услышу от тебя еще хоть слово, я не знаю, что я с тобой сделаю!
— Но птица…
— Ты что, глухой?!
Вокруг завывала песчаная буря. Когда мы поднялись на ноги, то оба дрожали. Иоанн пришел в себя первым, хотя тоже не сразу, а так, как приходят в себя после дальнего путешествия.
— Ты здорово испугался, — сказал он. Глядя на меня, он словно смотрелся в зеркало.
В такое же зеркало смотрелся и я.
* * *
Однажды Иоанн разбудил меня спозаранку и предложил сходить на озеро.
Был час вожделенной прохлады и покоя, солнце подсвечивало гигантские паутины, раскинутые там и сям между кустами майорана. В одной из них сидел паук, и мне показалось, что он подмигнул мне, когда мы, дабы не порвать паутину, обошли ее стороной, по гадючьей траве. Уже выискивали червяков ибисы, а вдалеке можно было различить идущих к лодкам старых рыбаков. В зарослях тростника ныряла утка-поганка, и стоило задеть какое-нибудь растение, как нас обдавало раннеутренним благоуханием.
Тут проходили стези Иоанновы. Тут он все знал и во всем разбирался. Я хотел тоже познать внешний мир, столь прекрасный и обильный, научиться проникать в него, чтобы можно было покончить с опасной игрой. Более того, мне мнилось, будто я преуспел в этом; поначалу я даже не заметил, как стал делить мир на внутренний и внешний.
Один ли я разделяю его на части?
Или мир действительно двуедин?
В то утро, однако, я шагал по высокой траве следом за Иоанном, вдыхая терпкий запах фиговых листьев и видя в своем сверстнике то, что было насущно для меня. Я видел, как естественно он ведет себя с людьми, как по-взрослому говорит с ними (его манера была куда взрослее моей). Видел, как он бросается на помощь. Потому что это доставляет ему удовольствие. Потому что таким образом он познает мир.
Чтобы вскоре оставить его?
Мы вошли в воду и закинули сети. У меня без привычки не получалось, но Иоанн показал, как надо. Мягкий, расслабленный замах, бросок — и сеть полетит далеко и аккуратно опустится на воду. Я раз за разом промахивался, однако Иоанн не подчеркивал своего превосходства, а снова и снова повторял движения, пока и у меня наконец не вышло.
И все же крупную рыбину поймал сам Иоанн.
В его бредне вдруг что-то забилось, забултыхалось, и он спокойно, с улыбкой потянул сеть на себя. Когда он извлек рыбу на поверхность, перед нами словно засверкали тысячи крохотных солнц.
— Не будем жадничать и брать больше, чем сумеем съесть, — сказал он, и, хотя мне обидно было уходить ни с чем, мы вытащили сети и разложили их на берегу, отерли с ног налипшие водоросли и побрели к дому.
Рыбу Иоанн нес на руках, как младенца.
Он хотел сделать Елисавете сюрприз.
Счастливые и довольные, мы молча крались по траве. Вокруг был подлинный рай! Вот где я мечтал бы жить. Поставить на берегу мастерскую. Завести лодку, сети… Посадить смоковницу и сидеть под ней вечерами; сложить очаг, чтобы можно было разогревать молоко…
Все так же крадучись, мы приблизились к дому, где жили старики, и я приложил палец к губам.
— Тссс! — сказал я петуху на навозной куче.
— Тссс! — сказал я ослу в поле.
— Тссс! — сказал я воробьям, клевавшим зерно среди кур.
И они примолкли.
Елисавета еще спала. Она лежала на спине с полуоткрытым ртом, по лицу ее ползали мухи. Захария трудился в огороде за домом.
Она была очень красивая в своих преклонных летах, и, когда Иоанн нагнулся, чтобы положить ей на грудь рыбину, по мне пробежала дрожь: я вдруг представил себе, что эта рыба — я, а Елисавета — Мария.
Иоанн отвернул одеяло. Но стоило ему приложить рыбину к обнаженной груди матери, как та закричала, вскочила на постели и, в ужасе замахав руками, сбросила трепещущую рыбу на пол.
Елисавета дико озиралась по сторонам. Рыба билась на полу между бочкой с водой и масляным светильником, который тоже упал и разлетелся на куски. Елисавета пыталась что-то сказать, ворочала во рту языком, но не могла издать ни звука. Она все еще махала руками, и мы с Иоанном жались к стене.
— Прости, матушка, — наконец выговорил он. — Пожалуйста, прости. Я вовсе не хотел тебя испугать.
Когда Иоанн попробовал подойти к постели, Елисавета обрушилась на него с кулаками. Он уворачивался, пытаясь поймать ее взгляд.
Снова, и снова, и снова.
Елисавета не узнавала его. Она не видела в комнате никого, кроме рыбы. Словно сама родила не живого человека, а эту рыбину.
Словно ее жизнь прошла напрасно и Елисавета только что пробудилась от чудесного сна. И лишь там, во сне, сумела родить человека.
Достучаться до нее было невозможно.
— Матушка, милая! — взывал Иоанн. — Что я наделал?! Пожалуйста, откликнись!
Но она не откликалась.
Когда вернулся Захария, мы все еще стояли у стены. Он посмотрел сначала на сына, потом на меня. Увидел затихшую рыбину, к блестящей чешуе которой прилипли песок и пыль.
— Что случилось?
— Это я виноват, отец. Я ее напугал. Теперь она не узнаёт меня…
Тогда Захария подошел к постели и рухнул на колени, хотел погладить Елисавету по лбу. Она оттолкнула и его. Он взял жену за руки и крепко прижал к груди.
— Благодарю Тебя, Боже, что отпустил нам столь долгий срок вместе. Жизнь наша была исполнена радости. Забери и меня поскорее в пределы Твои, Господи.
Положив ладонь на голову Иоанна, Захария благословил его и вышел из комнаты.
Мы молчали. В дверь, бия крылами, забежала курица, однако тут же унеслась прочь.
— Елисавета скоро поправится, Иоанн, — сказал я, но он покачал головой:
— Нет, ей уже не выздороветь. Слышал, что сказал отец? Он в таких делах разбирается. А теперь пойдем отсюда, я больше не могу.
После комнатного мрака свет ослепил нас. Перед глазами запрыгали черные пятна. Иоанн шел, потупив взгляд в землю.
— Ты напрасно упрекаешь себя, Иоанн.
— Почему отец не захотел слушать? Это я виноват. Мой грех. Я… я убил ее.
— Ну что ты. Она жива.
— Жива. Разве это жизнь, Иисус? Сидит и никого не узнаёт. Может, даже ненавидит, а? Надо же, испугал человека до смерти. Как я это перенесу? Она забыла прошлое, забыла все, что придавало смысл ее жизни… она сама так говорила.
У меня на языке вертелись фразы, которыми принято утешать в подобных случаях. Она поправится. Она все вспомнит. Это чистая случайность. Но кому легче от таких фраз? И не мешают ли они истинной близости друг с другом?
— Почему отец не захотел наказать меня?
— Отец? Наказать? К наказаниям прибегают только трусы.
— Может, ты и прав. Захария не трус. Все равно это будет преследовать меня до конца моих дней.
Я не сказал, что это будет преследовать и меня. Ведь я был рыбой, сброшенной с ее груди.
У нас с Иоанном появилась общая тайна, которая повлияла на нас обоих. В то утро мы распростились со многим из своего детства. Нашим играм словно подрезали крылья. Мы более не пытались тянуться вовне, а обращали взор в землю или вовнутрь себя. Хотя тела наши проявляли законное желание высунуться наружу, мы не давали им воли. Мы были захвачены водоворотом мыслей, выразить которые нам не хватало слов. Над Геннисаретским озером тучей нависло чувство вины. Ветер, трепавший кроны деревьев, напоминал о ней же. Мы не замечали ползавших по ногам муравьев, не слышали доносившихся издали рыбацких разговоров; все, что прежде радовало нас, теперь представало в самом мрачном свете.
* * *
Мне было удивительно, что Елисавета никак не умирает.
Когда я появился у них спустя несколько месяцев, она по-прежнему сидела безучастная, с бессильно опущенными руками и застывшей на губах чудаковатой усмешкой.
— Сам видишь, она и не думает поправляться, — угрюмо глядя на меня, сказал от дверей Иоанн.
Захария стоял возле ложа и кормил жену, успокаивая ее помрачившийся рассудок ласковыми словами. Затем он подхватил Елисавету на руки и вынес в поле, помог справить нужду. Он вымыл ее, расчесал серебристые волосы, украсил поздними осенними цветами.
Иоанн даже не осмеливался подходить к матери.
Мне стало больно, когда я это заметил, но что я мог поделать?
Мы с Иоанном были схожи фигурой. Форма головы тоже совпадала, только волосы у него были жестче моих.
Однажды я намазал себе волосы салом, втер в них песок с хвоей и расчесал.
Иоанн и Захария пошли вечером в синагогу, а я остался дома. С наступлением сумерек я прокрался к Елисавете. Она спала. И лежала точно в такой позе, как в тот злосчастный день. Я долго колебался.
Наконец медленным шагом подошел к ее постели и осторожно положил голову Елисавете на грудь. Я затаил дыхание, но она словно не чувствовала тяжести и продолжала дышать, пусть даже едва слышно, ведь жизнь в Елисавете еле теплилась, хотя и умирать ей, видно, срок не пришел.
Чуть погодя я нащупал ее руку и провел ею по своей голове. Рука застыла на том месте, где я ее отпустил, — будто мертвая.
Не знаю, сколько времени это продолжалось — несколько мгновений или часов. Меня почему-то растревожило биение ее сердца, доходившее до моего слуха сквозь тонкие грудные оболочки. Внезапная мысль: я никогда не лежал так у материнской груди. И вообще ни с кем не был так близок. Бывает, достаточно одного мига, чтобы запомнить ощущение навсегда. Мы ведь живем от искры к искре, которые зачастую стоят многих дней и лет. Такой миг равноценен долгим странствиям по свету.
Наверное, я почти заснул, когда Елисавета вдруг дернулась… и погладила меня по голове. Потом замерла… и снова заворочалась, робко, опасливо.
— Иоанн?.. — прошептала она.
— Да.
— Значит, ты существуешь, Иоанн…
— Спи, матушка. Спи.
Она откинулась обратно на постель, ее руки обнимали меня в темноте.
Не знаю, что было наутро. Когда я увидел Иоанна, он сидел в лодке, болтая ногами и всплескивая воду. Я уже собрался позвать его домой и рассказать, что Елисавета снова признала его, как вдруг он стряхнул с себя привычную мрачность.
— Мы выходим в море.
Дул крепкий северный ветер, озеро было подернуто белыми барашками, над Моавитскими горами нависла туча.
Я понял, что Иоанн хочет бросить вызов северяку. Этому мальчишке вечно надо преодолевать сопротивление, он не ощущает жизнь во всей полноте, если с кем-то не борется. Я кивнул: до вечера далеко, расскажу за ужином.
Старик, которому принадлежала лодка, только посмеялся над Иоанном:
— Конечно, бери, хотя на улов при таком ветре можешь не рассчитывать.
— Это мы еще посмотрим! — прокричал Иоанн, ставя парус. Он словно надеялся силой затащить рыбу в лодку.
На всем озере вышли рыбачить одни мы. Берега стояли безлюдные и безмолвные. Лишь высоко в горах истошно орал ишак. И до нас долетал приторно-сладкий аромат смоковниц.
Я назарянин и не привык к большой воде. Стоило лодке накрениться, как я схватился за мачту; лицо и платье обдало брызгами.
— Мы перевернемся! — завопил я.
Иоанн не отвечал. Он неотрывно следил за волнами и, не обращая внимания на ветер и лезущие в глаза волосы, твердой рукой направлял лодку. Такого Иоанна я не видывал. Это был целеустремленный, движимый глухой решимостью взрослый. Получалось, мне тут нечего делать. Я испугался. Я был в лодке балластом. Иоанн не давал мне ни забрасывать лесу, ни держать крючки. Не давал втягивать улов в лодку, хотя сам вытаскивал одну рыбу за другой. Больших и маленьких, темных и серебристых.
Мне было обидно оставаться не у дел. Ну погоди, если только я выживу, ты у меня узнаешь…
И я представлял себе, как моя голова снова лежит на груди у Елисаветы. В темноте и тиши.
А Иоанн пускай еще денек подождет. Завтра, решил я. Завтра…
— Убедился? — отрывисто бросил он, когда мы уже повернули к берегу и заметили взволнованно машущего нам оттуда владельца лодки.
— Похоже, ты своего всегда добьешься.
Такие слова могут запомниться, могут открыть дорогу к новым отношениям. Впрочем, другие слова могут захлопнуть открывшуюся дверь.
— Возможно.
Пока мы чистили на берегу рыбу, старик бормотал:
— В жизни не видал ничего подобного. Давай я отдам лодку тебе. А улов будем делить пополам.
Иоанн поставил перед стариком полную корзину рыбы.
— Забирай всю себе, — велел тот.
— У нас дома никто ничего не ест, — покачал головой Иоанн.
— А ты должен есть, Иоанн. Чтобы всегда справляться с лодкой, нужно стать большим и сильным.
— Не хочу.
Тогда старик взял Иоанна за подбородок и повернул лицом к себе.
— Послушай, — сказал он. — Я знаю про Елисавету. Знаю, что ты ходишь и мучаешься. Захария мне рассказывал. Ты зря думаешь, что доставляешь удовольствие родителям, нарочно рискуя жизнью.
— Я не рискую.
— Ну, может, сегодня и не рисковал. А целое лето только этим и занимался! У тебя же все мысли на физиономии написаны.
Старик оборотился ко мне:
— Ты его друг! Пригляди, чтоб поел. Похоже, он уже давно этого не делал.
И всучил мне корзину:
— Поручаю Иоанна тебе! Лишнее можете раздать, но рыбу в него впихни… если потребуется, силком. Это ж черт знает что творится! — ворчал он. — Такой большой, крепкий парень — и пропадает ни за грош! А теперь — катитесь своей дорогой!
И все-таки вечером я опять лежал рядом с Елисаветой.
* * *
Прежде слова наши чирикающими воробьиными стайками перелетали с дерева на дерево, клевали все подряд, пугались, ссорились, бросались врассыпную и слетались обратно. Мир был полем, открытым для нашего любопытства, пашней нашего будущего. До сих пор мы, как это принято у мальчишек, делились друг с другом всем. В нас не было ни одного уголка, сокрытого от товарищеского взора.
Теперь у меня появилась темная комната с моим обманом, моим предательством.
Иоанн тоже ушел в себя.
Казалось, что взрослеть — значит осознавать свои тайные комнаты, закрывать их от посторонних.
Я так и не поговорил с ним, не сказал, что теперь он может пойти к матери и положить голову ей на грудь, может избавиться от чувства вины и дать Елисавете спокойно умереть; я перекладывал этот разговор со дня на день, восхищенно наблюдая, как Иоанн преодолевает свое чувство вины и мужает. Я так и не рассказал, что Елисавета обрела покой, а ходил вокруг да около, прислушиваясь к его самобичеванию, которое вело Иоанна от личного опыта вперед, к чему-то большему. С играми было покончено.
Мы лишь разговаривали.
И то иначе, чем прежде: я помалкивал о своей темной комнате. И эта комната словно затягивала в себя каждое словцо из тех, что раньше без запинки отскакивали у меня от зубов. Тайна и предательство. Чем ближе мы подходили к дому, тем упорней становилось мое молчание и колотьба в сердце, потому что в мыслях у меня было одно: как я буду лежать у нее на груди и выдавать себя за него. Я по-прежнему считал, что все зависит от обстоятельств и что я уже в следующий миг или на следующий день расскажу о содеянном, о том, как воспользовался нашим сходством, какой легкой поступью подкрадывался к Елисавете, чтобы не испугать ее.
— Жизнь моя, — шептала Елисавета. — Ты моя жизнь, Иоанн. Теперь я могу спокойно умереть.
Сначала, однако, предстояло умереть Захарии.
При всей несправедливости этого.
Бывают люди, которые распространяют вкруг себя сияние, создают прохладу и тень. К таким людям относился и Захария. Гостя в их доме, я каждый раз с радостью бежал за ним на берег, сидел рядом, пока он чинил неводы, помогал выбирать рыбу из запутанных сетей.
Он целиком отдавался всякому занятию, хотя держался не столь серьезно и сурово, как Иосиф. Захария всегда с улыбкой воспринимал себя и свое место в мире. Возможно, благодаря мягкой, но неизбывной любознательности, которая подсказывала ему, что все на свете относительно.
Захария был высок ростом и имел медвежью силу: он до последнего носил на руках Елисавету, как прежде носил камни и бревна. Он не только не злоупотреблял своею силой, но пользовался ею весьма осторожно. Руки его бережно прикасались к вещам, требовавшим бережного обращения. Лишь после его кончины я со всей очевидностью понял, какую огромную роль играл Захария для земли Геннисаретской, как сам я лишь благодаря ему познал радость и чувство сопричастности.
Умер он посреди трудов своих. Хотя рыбачить ходил теперь Иоанн, Захария много времени проводил возле лодки, где починял сети (как ни плохи стали его глаза, он не мог отказаться от этого занятия), а бывало, что и сам брался за весла и выгребал в озеро — ненадолго, по тихой воде, ближе к сумеркам. Он сидел в лодке, издали любуясь окрестностями. Словно хотел забрать в мир иной свои воспоминания, свои самые радостные минуты, дабы и там распространять кругом сияние. Он умер, держа в руке вынутую из сети крохотную трепещущую тварь — серебристую рыбку. Захария протянул ее мне на фоне солнечного диска… и вдруг рука его поникла, он упал наземь и преставился.
К нам подскочил Иоанн. В мгновение ока он стал взрослым, а я оказался непрошеным гостем у него в доме.
Нас обступили другие мужи, но Иоанн сам поднял отца и отнес его во двор, взглядом отстраняя всех, кто пытался помочь.
Теперь он остался один на один с Елисаветой, не признававшей ни его, ни себя. Теперь ему придется самому подходить к ней и предлагать помощь, тогда как он не ждет от матери ничего, кроме отчуждения и тумаков. Иоанн ведь не может вроде меня притвориться кем-то другим, правда?
Молчать долее было невыносимо.
Я отвел Иоанна в сторону.
— Ты веришь мне, Иоанн? Только, пожалуйста, никому не рассказывай…
Он кивнул.
— Елисавета обрела покой. Она снова узнаёт тебя, — продолжал я, дрожа от страха, что не сумею облечь мысли в слова. — Я вернул ее тебе.
Во взгляде Иоанна сквозило недоумение.
— Когда она спала, я положил голову ей на грудь и она приняла меня за тебя. Она до сих пор считает, что рядом с ней лежал ты. Она несколько раз заговаривала со мной, называла твоим именем. Не надо больше избегать ее. Взойди в комнату и сделай так же… Только лежи смирно.
Я умолчал о своих стараниях походить на него.
— Почему не сказал раньше?
— Это случилось вчера, — соврал я. — И мне помешали всякие события.
— Какие вчера были события?
— Расскажу в другой раз.
— Я боюсь.
Когда Иоанн исчез в дверях, во мне будто что оборвалось. Я разрыдался и убежал прочь — словно плач зависел от моего пребывания именно тут и я надеялся таким образом прекратить его.
Увы, у меня ничего не вышло. Спотыкаясь и распугивая змей и ящериц, я миновал пылающие на закатном солнце виноградники и через фруктовый сад промчался к пустыне, где в изнеможении рухнул на колени. Все это время я видел, как Иоанн занимает свое законное место, оттесняет с него непрошеного гостя, лишает меня чувства защищенности. Одна картинка сменяла другую, я лихорадочно разрывал песок, доставал из него камни и прикладывал их прохладным низом к глазам, пытаясь остановить слезы, — все было напрасно. Я трясся от холода и взывал к вечернему небу. Когда над головой засияли равнодушные звезды, ко мне незаметно подступил пастух.
— Что случилось, малыш?
Только теперь до меня донеслись треньканье овечьих колокольцев и напоминавший журчание ручейка дробный постук копыт.
— Тебе помочь?
Какая уж тут помощь? Я согрешил не перед Иоанном и тем более не перед кем другим, исключительно перед самим собой.
— Где ты живешь?
Я покачал головой. Я не жил нигде: с этой минуты мне стало ясно, что я не прииму даже Назарета, к которому всегда относился хорошо. Утратила привлекательность и моя летняя отрада — берега Геннисарета. Мария никогда не обнимала меня, впервые в жизни подумал я. Теперь до меня дошло, теперь я сообразил, чего мне так остро недоставало.
— Давай я отведу тебя домой, — сказал пастух.
Слова его пронзали меня иглами, доводили до сознания то, чего я не понимал раньше. Такое же просветление приносят слезы.
Когда пастух, не слушая моих возражений, взял меня за руку и заставил подняться с земли, я удивился собственной легкости, тому, что все еще наделен телом ребенка. Я слишком давно мыслил не по-детски, и мое детство казалось далеким и недосягаемым, как обратная сторона луны или солнца.
Ощущение легкости вернуло меня во внешний мир.
— Я замерз.
Пастух отдал мне свой плащ. Мы нескончаемо долго спускались с гор к Геннисаретскому озеру. Когда я успел уйти так далеко?
На подходах к дому Иоанна — теперь ведь хозяином там был он — я почувствовал себя лучше и уже мог радоваться тому, что Елисавета наконец признала его.
Иоанн стоял у ворот. При свете звезд. Я, успевший опять стать ребенком, со всех ног кинулся к нему. Он даже не пошевелился.
Я застыл как вкопанный, увидев, что он больше никогда не будет дитем.
— Этот дом закрыт для тебя, — сказал Иоанн. — Возвращайся к себе в Назарет.
Елисавета умерла.
* * *
Отныне у меня не стало дома.
Покойной чередой тянулись дни в плотницкой мастерской и под тенистым деревом в саду. Я внушал себе, что с удовольствием вдыхаю запах коры, стружки, живицы. Я внушал себе, что мне интересны взрослые разговоры. Когда в обед Мария приносила нам финики и свежеиспеченный хлеб, я брал его в руки и нюхал. Это хлеб, внушал я себе, но не был уверен даже в этом. У всякой вещи была оборотная сторона, во всяком слове таился мрак, всякий жест можно было истолковать двояко. Я слишком много понимал, я уже знал, какая тонкая перегородка отделяет нас от потустороннего мира. Мне кажется, у детей рано бывают такие прозрения.
Мне кажется, все увиденное и пережитое проникает в них и пускает там корни. Они еще не умеют отразить накопленный опыт в словах и поступках. Но со временем они повзрослеют, и это дерево расцветет пышным цветом.
В год, когда мне исполнилось двенадцать, несколько семейств собралось в Иерусалим. Едва ли такое предложение исходило от Иосифа. Сам он даже хотел остаться дома, однако Мария его уговорила. Надо было повидать Храм.
Чего только я не напридумывал себе об Иерусалиме! Это был Город с большой буквы!
По выходе из Назарета я сказал брату Иакову:
— У нас в Назарете скучища!
Я был исполнен презрения и гордости. Я направлялся туда, где буду чувствовать себя «на своем месте» — во всяком случае, гораздо больше, нежели среди приземистых хибар нашего селения. В Иерусалиме я познакомлюсь с людьми Захариевой стати.
И я подумал о том, как при виде огня, возжигаемого на окрестных холмах в знак новолуния, я каждый месяц напоминал себе, что костер, видный нам, назарянам, всего лишь блёклый отсвет иерусалимского костра. Вот чей огонь должен быть невероятно красив! Ведь от того грандиозного костра распространяется свет по всей стране. Когда-нибудь, думалось мне, наступит такой день, когда я сам буду стоять на горе Елеонской и зажигать первый костер.
Брат мой, обыкновенно меня боявшийся, усмотрел в моих словах повод для наскока:
— Не смей так говорить! Ты просто задаешься. А все потому, что ездил в Геннисарет!
— Тебе не понять, — отозвался я.
Иаков сидел на ишаке впереди меня. Наш осел шел в середине каравана.
— Почему ты никогда ничего не рассказываешь? Что вы делали с Иоанном?
— Рыбачили.
— На лодке?
— И на лодке, и с берега.
Я был не прав по отношению к брату, не прав, что закрылся от него и не делился событиями своей жизни. Но чтобы рассказать об одном, нужно было рассказать обо всем. А этого я не мог.
— Почему Иоанн никогда не приезжает к нам в гости?
— Не знаю.
— Он вроде тебя — чудной.
— Гм…
— Мне так показалось. Отец говорит, Иоанн теперь живет один. О нем больше некому заботиться. А еще отец говорит…
— Давай передохнем, — сказал я.
Когда мы спустя несколько дней въехали через Овчьи ворота в Иерусалим, Иосиф обронил уже ставшую привычной фразу:
— Только держитесь все вместе, иначе мы растеряем друг друга в этой суматохе!
— Я боюсь, — сказал Иаков.
— Ничего страшного не будет, — успокоил я брата, обнимая его. — Скоро доберемся до Храма.
— Только держитесь все вместе!
Иосиф ехал во главе нашего каравана сельских паломников и старался сохранять степенность и достоинство. Но стоило нам попасть в плотницкий квартал, как отец не мог долее смотреть лишь вперед и принялся зыркать глазами по сторонам. С каким замечательным деревом работают здешние ремесленники! Какой потрясающий инструмент выставлен подле их мастерских!
А какие кругом интересные люди! Похоже, сюда собрался народ со всего света. Гавриил был прав: это тебе не Назарет!
Я пришел в возбуждение. Не от роскоши, не от сверкающих драгоценностей, не от коротко стриженных и облаченных в одинаковое платье римских легионеров. Мне захотелось выявить пособника — человека, продавшего душу римлянам.
Я вообразил себе, что его можно будет определить по лицу. В толпе на тебя вдруг устремится недобрый взор. Этот пронзительный взор — предвестник беды!
Или взметнется вверх рука, при виде которой толпа затихнет и отпрянет!
Ничего подобного, однако, видно не было. Кругом лишь сутолока, крики, аромат пряностей из лавчонок и запахи из распивочных.
И мне вспомнились слова Захарии: «Не суди ближнего, коли не побывал на его месте!» Ведь римляне выбирали себе приспешников среди отцов многодетных семейств, самой легкой для них добычей были бедствующие. Римляне обещали работу и хлеб. Кто мог устоять против подобных соблазнов?
Наконец-то мы добрались до места! Даже двор Храма был колоссальных размеров. Сотни — если не тысячи — людей сидели там подле костерков, которые один за другим зажигались в наступающих сумерках. Горели светильники, пахло лепешками и овощами. По рядам колонн плясали тени. Тут было средоточие жизни! Отсюда исходили все указы, здесь начиналась всяческая молва, которая затем шла от селения к селению, от мастерской к мастерской. Здесь зарождались все мечты, отсюда они распространялись по степям и пустыням. Отсюда проистекала наша история, проистекали наши будни и праздники.
Я дрожал в предвкушении…
Мы попали в самое сердце, хотя еще нет, не совсем.
Иосиф обернулся к нам, протянул руку Иакову:
— Не потеряйся, дружок.
Он волок наши узлы и шнырял взглядом по сторонам, ища, где бы устроиться. Походка — нерешительная, запинающаяся — выдавала в нем провинциала. Он застрял среди толпы.
— Здесь уйма народу. Ты не видел Гавриила?
Я покачал головой.
— Нам надо держаться вместе.
Он хотел сказать: мы нужны друг другу. Места же кругом было много, так что односельчане вполне могли разминуться.
— Мы сядем тут, — сказал я.
— Но…
— Давай без «но»!
— А как же Гавриил? И остальные?
— Они нас разыщут.
Иосиф, однако, чувствовал себя неуверенно. Жуя и утирая рот, он не забывал вертеть головой и вглядываться в толпу. Марию смущала наша простая снедь: вдруг кто-нибудь приметит и станет насмехаться… Но мы сидели в окружении ровни. Таких же сельчан, как мы сами. Которые пришли сюда с теми же благочестивыми намерениями, с той же робостью. Здесь все ели, пили и ковыряли в зубах. И у всех свербело в голове одно: «Вот я и побывал в Храме. Теперь бы скорей попасть домой и рассказать об увиденном». Только никто не брал на себя труд по-настоящему увидеть.
Похоже, эти люди, возжелавшие полюбоваться здешней красой, не могли поднять голову, чтобы узреть роскошные одежды храмовых служителей, не говоря уже о том, чтобы задрать ее к золоту куполов. Глаза их ограничивались созерцанием того, что было у земли: подолов священнических одеяний.
— Может, походим, оглядимся? — спросил я после еды.
— Разве мы плохо сидим?
— Вы что, приехали сюда сидеть?..
— Иди пройдись, — сказал Иосиф. — Ты знаешь, где нас найти.
Святая Святых. Главный источник. Подпустят ли к нему близко?
Я встал и хотел ринуться одновременно во все стороны. Меня разрывало нетерпение. Хотелось сразу охватить всё и вся. Я блуждал по светлым и темным проходам Храма, пересекал его дворы, проходил мимо родников и купелей с отражающейся в воде луной.
Где же сокровенный источник? Источник познания?!
Когда я после долгих блужданий снова выбрался во внешний двор, хлынул ливень. Стояла темнота, портики были забиты лежащими вповалку, закутанными в покрывала людьми, отыскать среди которых Иосифа и Марию не представлялось возможным.
К тому же они могли укрыться на постоялом дворе, где мы привязали ослов. Я устремился за ворота, во мрак, но вскорости заплутал. Ноги сводило от холода, промокшее платье казалось неподъемным и тянуло к земле. Я бегал взад-вперед, пытаясь найти место, откуда мы вышли. Весь народ куда-то подевался, спросить дорогу было не у кого.
И все же я испытывал удивительное чувство свободы. Уж очень меня напугал Храм. Мне виделся в нем гигантский паук, опутавший своими сетями всю страну. Паук этот высасывал деньги из бедняков вроде Иосифа. Они тащились через горы и долы, чтобы вручить священникам свою лепту, а те, возможно, отдавали ее римлянам. Более того, паук и меня втянул во что-то темное и страшное.
Блуждая по храмовым проходам, я чувствовал, что могу сгинуть там. Могу утратить одно за другим все свои «я», оказаться раздетым донага, стать совсем беспомощным. И все же мне казалось, пребывание здесь позволит приблизиться к Господу. Казалось, стоит закрыть за собой бесчисленные двери — и ты будешь иначе смотреть на все вокруг от одного лишь благоухания ладана и смирны. Прошлое исчезнет. Воспоминания быстрой рекой утекут прочь. Мир перестанет быть теперешним нагромождением многотрудных, изменчивых судеб и превратится в обряд.
Сколько тут скрывалось властолюбия! Сколько интриг плелось под прикрытием имени Господа!
Как же ты обманул меня, Иерусалим!
Разумеется, Мария с Иосифом были правы, оставшись в переднем дворе.
Оттуда до Господа было ничуть не дальше.
Как бы то ни было, около полуночи я, отяжелевший и промокший до нитки, очутился на площади перед Храмом.
В одном окне брезжил огонек.
Я поспешил туда. В небольшом покое сидели священники. При виде меня они подняли головы: я прервал их тихую беседу.
— Что тебе надобно в столь поздний час, мальчик?
— Я знал Захарию, — отвечал я.
Они с улыбками поворотились ко мне:
— Мы скучаем без него. Заходи, заходи! Как поживает его сын? Кто о нем заботится?
— Иоанн справляется сам, — сказал я.
— А тебя как зовут?
— Иисус. Я из Назарета и потерял тут родителей. Но это ничего… если только вы разрешите мне посидеть у вас. Посидеть и послушать.
Уютно горел масляный светильник, мерцающий свет которого распространялся на всю комнату. Ноги утопали в мягких шерстяных коврах.
— Грамоте знаешь? Хочешь стать священником?
— Я хочу учиться.
— Такое желание есть у многих. А зачем?
— Можно мне высказаться?
Они переглянулись:
— Высказаться?! Значит, тебе есть что сказать? Однако ты парень не из робких. Заявляешься посередь ночи, вваливаешься, мокрый и грязный, чуть ли не в Святая Святых, а потом еще требуешь слова.
— Только что я мок под дождем, не зная, куда податься. Тем не менее я спокойно переносил холод и сырость, ведь они были мелочью по сравнению с другими вещами. Если вы теперь рассердитесь и выгоните меня, я просто вернусь на улицу. Но вы знали Захарию! И вы пустили меня сюда, хотя я всего лишь сын сельского ремесленника. Совсем недавно я презирал собственных родителей. Считал их наивными простолюдинами. Надеялся по приходе в Иерусалим найти более избранное общество, людей, с которыми можно беседовать. Не стану скрывать, Иосиф и Мария до сих пор раздражают меня, но…
— Сколько тебе лет, мальчуган?
— Двенадцать.
— И ты признаешься в своей ненависти?! Глубоко же ты заглянул в собственную душу…
— При чем тут ненависть? Я презирал их. Но теперь я познал и ненависть… только не к ним.
Я встал и направился к дверям:
— Если вы не позволите мне рассказать об этом, я не решусь додумать свои мысли до конца. А тогда пиши пропало… Я ненавижу Храм! Ненавижу здешних священников, потому что они стараются услужить римлянам. Ненавижу вас всех, потому что вы тянете последние соки из моих родителей и их друзей… ненавижу… ненавижу…
Я расплакался. И, споткнувшись о порог, вывалился в темноту. Уйти мне, однако, не дали. Самый молодой священнослужитель схватил меня за руку и силком втащил обратно в теплую, уютную комнату.
— Не бойся, — сказал кто-то. — Нас тебе бояться нечего. Мы ведь согласны с тобой. Пойми, есть еще внутренний храм, куда римлянам вход заказан. В том храме нет ни золота, ни ладана со смирной. Там нет дворов и стен, которые бы отгораживали его от мира. И все же уверяю тебя: проникнуть туда труднее, чем пройти по воде, аки посуху.
* * *
После дней, проведенных в Храме, у меня наметилась следующая цель, в достижении которой священники обещали мне споспешествовать. Я хотел, когда мне исполнится нужное число лет, поступить для обучения в монастырь на берегу Мертвого моря, в Хирбет-Кумране.
— Там ты будешь чувствовать себя лучше, нежели здесь, — сказали мне пастыри. — Там давно уяснили себе то, о чем говорил нам ты, да пребудет с тобой Господь.
А еще они отвели в сторонку моих родителей и объяснили им, что за меня можно не волноваться. Заверили Марию, что она напрасно испугалась моего исчезновения, и попросили извинить их, что приютили меня.
Не берусь сказать в точности, что наговорили ей священники, но с того дня Марию словно подменили.
— А ты, оказывается, умеешь постоять за себя, — повторяла она, окидывая меня гордым, хотя и невидящим взором. Она скорее замечала мою одежду, могла одернуть плащ, отчистить пятно на рукаве… И я не противился, поскольку знал, что это у нее от беспомощности, что так она пытается поддерживать со мной связь. На большее Марии не хватало. Да и меня не хватало на то, чтобы наладить с ней настоящий разговор. Всякое мое «истинное» слово казалось Марии опасным, тревожным. Впрочем, можно ли назвать мои речи истинными? Я был еще дитем и, возвращаясь из школы при синагоге, безмерно гордился тем, что меня кто-то слушает, гордился своей одаренностью.
И я не решался заговорить о стоявших на террасе цветочных горшках с мятой. Как я ни любил запах мяты, его постоянное присутствие стало претить мне.
Я не мог дождаться, когда между нами проляжет пустыня! Я грезил неведомым знаменитым монастырем. Там, за пустыней, я сумею наконец проявить все свои таланты. А уж потом, коли возникнет желание, можно будет вернуться и говорить с Марией о мяте, хлебе и чистом белье.
И вот настал день моего отправления в путь.
Разумеется, Марии было лестно, что ее сына берут в монастырь стараниями храмовых «сановников».
В то же время она боялась из-за учебы лишиться меня. Всякое знание — от лукавого. Это она усвоила твердо. Люди сведущие, с хорошо подвешенным языком, часто попадают в беду. Вокруг них неизменно возникает распря. А еще она прекрасно понимала, что я уйду вперед. И заранее испытывала страх перед тем человеком, каким я стану по возвращении.
Мать всегда тревожится за своих детей, и все ее речи, все ее поступки окрашены такой тревожностью, которую называют заботой. У женщины нет ничего, кроме ребенка. У нее нет мастерской. Нет любимого плуга, нет ящика с инструментом, нет меча, за который она могла бы взяться. Единственная ее мастерская — чрево, единственное творение — дитя, и желательно, чтобы с этими изделиями ее нутра все было в порядке, иначе сама женщина не стоит ломаного гроша. Укладывая в котомку провизию и платье, Мария всегда подсовывала мне что-нибудь лишнее, ненужное, бессмысленное.
На сей раз она подложила три вареных яйца. У меня уже было пятнадцать яиц — как раз столько, сколько требовалось в дорогу. Три яйца сверх этого были Марииным даром. Знаком того, что она меня любит. Проявлением нарочитой щедрости. Когда, углубившись в пустыню, я — не от голода, а просто ради удовольствия — захочу съесть лишние яйца, они у меня будут. И тогда я невольно вспомню про нее и скажу себе: «Обо всем-то она думает. Все-то понимает…»
Она одаривает тебя излишествами. В минуты усталости такой дар весьма ценен. Если же ты полон сил и чувства превосходства, он воспринимается как насмешка.
Я был ее плугом, ее ящиком с инструментом, ее мечом. Она чистила меня, холила и лелеяла, всячески обихаживала. А ведь я мог бы укрепить ее веру в себя, подвигнуть на жизнь не ради меня, а ради нее самой!
Она пошла со мной к Иосифу.
Тот даже не выпустил из рук плуга, над которым корпел. Лишь кивнул на скамью подле дверей и спросил:
— Что, в путь-дорогу?
Я, по обыкновению, тоже ответил кивком.
— Ты славно поработал у нас тут. Только когда вернешься… если, конечно, вернешься… то уже забудешь, как мастерят плуг. Хотя, может статься, выучишься чему иному. Хочешь получить за труды теперь или?..
— В монастыре не дозволено владеть имуществом.
— Ну что ж, на нет и суда нет.
Он провел ладонью по короткой, жесткой бороде.
— Тогда пускай вознаграждение подождет тебя здесь. Мне доставили партию замечательного кедра, хочешь посмотреть?
Мы вышли во двор, где были сложены бревна. От них пахло корой и камедью — такой запах бывает в тени дерев. Я погладил их…
— Поторопись, не то опоздаешь! — донесся от ворот голос Марии.
— Успеется, — проворчал Иосиф. — Погляди, какая прекрасная, ровная древесина.
— Не задерживай мальчика своими делами, — сказала Мария.
В пустыне деревья не растут, так что мне не скоро предстояло опять дотронуться до коры, ощутить под рукой смолу. Я разозлился, однако промолчал и только еще ниже склонился над бревнами, прослеживая пальцем годовые кольца, наслаждаясь восхитительным ароматом.
— Тебя ждут, — напомнила Мария.
Такая одинокая. Такая неподвластная красоте и мощи кедровых стволов. В одиночестве застывшая поодаль, в мрачной тени ворот. Она хотела докричаться до меня, отвлечь на что-то свое.
— И во сколько тебе обошелся этот материал, Иосиф? — спросил я, дабы показать, на чьей я стороне.
— В сорок пять монет.
— Теперь тебе хватит дерева на целый год, да еще с гаком, — заметил я. — Жалко, что не могу остаться на месяц-другой. Больно здорово они пахнут.
— Что-что, а дух от них крепкий, — подтвердил Иосиф. — Значит, стволы совсем свежие. Пилить будем не раньше чем через месяц.
— Да, — сказал я, и в голове у меня запели пилы, как всегда пели в этом дворе, под сенью граната. — Хорошо, братья мои никуда не уезжают, — с натянутой усмешкой прибавил я.
— Они работают хуже тебя.
— Научатся.
— Может быть.
— Давай будем рассчитывать на лучшее, Иосиф.
Он отвернулся и двинулся к колодцу. Спустил туда ведро, вытащил наверх, принес кружку ледяной водицы:
— Испей.
Я пил не торопясь, большими глотками.
— Ну же, Иисус!
Я вернул кружку Иосифу. Он опустил руку мне на плечо. Я уже направился к Марии, как вдруг, не сделав и двух шагов, завидел гранатовое яблоко. Тотчас подпрыгнул и сорвал его. Потом оборотился к Иосифу и бросил яблоко ему, он успел поймать его и кинуть назад. На губах плотника мелькнула улыбка. Я засмеялся и сделал вид, будто хочу бросить гранат Марии, но она испуганно отпрянула. Тогда плод опять полетел к Иосифу. Я снова и снова ловил в вытянутую руку возвращающееся ко мне яблоко… и опять пугал Марию, и опять она пыталась заслониться. Наконец я вгрызся зубами в кожуру и стал за милую душу уплетать гранат, а у ворот подхватил Марию и в обнимку потащил ее на улицу.
— Только не так, — сказала она, вырываясь.
— Именно так, — поддразнил я.
— Что скажут люди?
— Уж они найдут что сказать.
Мария одернула свое ничуть не задравшееся платье и вдруг заметила у меня на белой рубахе пятно от гранатового сока.
— Смотри, что ты натворил.
— Велика важность…
— Почему ты такой неряха?
— Да это ж последний фанат, который я ем дома!
Но она отказывалась понимать, какое это имеет отношение к пятну. Гранат был сочный и потрясающий на вкус.
— Вечно ты про какие-то мелочи…
Мария в жизни не сказала ничего смешного.
Всегда была крайне серьезна, исполнительна, верна долгу.
Я пытался развеять тяготившие Марию страхи прыжками и скачками около нее: я представлял себя козленком, который хочет боднуть мать в живот. Я строил рожи, стараясь во что бы то ни стало рассмешить Марию.
Если бы это удалось, нам всем стало бы легче. Стоявший в тени ворот Иосиф улыбался. Наконец он поднял на прощанье руку и вернулся к своему плугу.
А нас с Марией окружила ребятня со всей улицы. Одни смотрели молча, выжидающе, с беспокойством. Другие, по-видимому, с завистью. Ну конечно, мои ровесники, те, что закончили учебу в Назарете, но не пойдут учиться далее, молчали, испытывая понятную зависть, и я им от души сочувствовал. Малыши же со смехом дергали меня за одежду, хотя Мария была начеку и хлопала их по рукам.
Она почитала меня священным, неприкасаемым. Ее дело было отправить сына в большой мир чистым и опрятным, чтобы никто не мог ее упрекнуть. А уж что будет за пределами Назарета, за это пускай спрашивают не с нее.
Если бы она кинулась мне на шею и разрыдалась или истерически захохотала, всем стало бы легче. Если бы она сказала: долго же я буду помнить это пятно… Если бы она губами выхватила остатки фаната, дерзко торчавшие у меня изо рта, тогда бы я не раз лил в монастыре слезы и тосковал. Но таких воспоминаний по себе Мария не оставила. Чем ближе мы подходили к площади, тем тяжелее она передвигала ноги, тем больше отставала от меня.
Очутившись в последнем тесном проулке (ребятишки к этому времени начали отставать, словно давая нам возможность побыть наедине), я попытался в остатний раз вытащить Марию из тягостных раздумий:
— Ну-ка, матушка, кто скорей до площади?!
Она не ответила, и я, было ринувшись вперед, осадил себя.
— Почему ты никогда не играешь, Мария?
— Не играю?
Она заплакала.
Я остановился и погладил ее по щеке.
Спасибо, хоть позволила такую ласку.
Я-то представлял себе, как мы с Марией в обнимку идем через площадь и, когда я заберусь на осла, целуемся на прощанье. Она отняла эту возможность.
— У тебя даже в такую минуту на уме одни игры!
Она не понимала; увы, Мария была лишена дара понимать эдакие тонкости. Отсюда ее одиночество, в котором она пребудет до конца.
И вдруг — шум и гам! Площадь была заполонена толпой со всем ее разноцветьем, со всем ее гулом и безгласием, суетой и неподвижностью. Ослы, верблюды, собаки, кошки. Куры, цыплята, индюшки, блеющие овцы. Сверху нещадно палило солнце, подобие тени можно было обрести лишь под аркадой, но туда уже набилось уйма народу: кто-то собирался в путь с моим караваном, кто-то, вроде Марии, пришел ради бессмысленного прощания. Мешки с зерном, бурдюки с вином и маслом, кувшины воды, груды тканей, сумок, сбруи. Крики грузчиков и воров — посягающих на груз, но вынужденных отступать перед плетками римских воинов. Кучи навоза и слетевшиеся к ним крапивницы, капустницы, оводы. Кого и чего тут только не было! Плачущие и писающие дети, матери, кормящие грудью, несмотря на скопище мух у младенческих глаз и своих сосков. Гноящиеся раны на руках и лицах, потухшие взоры, вздувшиеся от голода животы, ослепшие без лечения глаза! Прокаженные со своими колокольчиками. Полоумные. Старики!
Это зрелище было вполне обычным для большого скопления народу: так выглядит мир. Но я был молод и носил белые одежды, я собирался в дальнее странствие, призванное сыграть решающую роль в моей жизни (такая роль отводится каждому шагу, который ты предпринимаешь в юные годы), и, видя скверное устройство мира, не задавался вопросом, почему он так устроен. Рядом находилась мать, и все мои помыслы были о ней: я хотел, чтобы она жила дальше своей жизнью, как я буду жить своей. Меня бесила мысль о том, что все эти годы она, скорее всего, будет днями напролет стоять перед воротами и смотреть в переулок, ведущий к площади, — только бы не пропустить моего возвращения.
Я крепко взял ее за руку и пробился сквозь толпу к равви Симону, который должен был стать моим провожатым и под опеку которого Мария согласилась передать меня. Я сам доложил о своем прибытии, и мне отвели место в караване. Пока я сгружал на землю вещи, Мария закидала равви Симона испуганными словесами. Это был отнюдь не первый его переход через пустыню, и он прекрасно знал, в какую минуту следует в очередной раз положить руку на материнское плечо. Он знал и многое другое, так что догадался рассказать про чудесные оазисы, через которые будет пролегать наш путь, и указать на воинов, которые будут сопровождать нас для защиты от разбойников. Он предусмотрел всё, но Марию это не успокоило.
Она уже чувствовала себя брошенной — вроде меня самого. Какие слова, какие поступки могли бы утешить ее, восполнить отсутствие радости по поводу предстоящего мне приключения?
Я был слишком молод, а потому не знал.
Я был слишком молод, а потому, когда караван потянулся из Назарета к пустыне, — в сопровождении женщин, детей, машущих вслед рук и платков, которые еще долго светлели на фоне серых крепостных стен и невыносимо медленно скрывались за холмами, — я с трудом заставлял себя смотреть назад, дабы выказать Марии положенное ей уважение. Наконец я повернул голову вперед, в сторону пустыни.
* * *
Постепенно и все остальные взоры обратились вперед. От расстилавшейся кругом пустыни меня охватило чувство необыкновенной свободы. Впервые в жизни я остался один, вне притяжения родителей, вне их влияния. Теперь я смогу разобраться в том, кто я такой. Я уже имел право надевать молитвенное покрывало, талит[4], но пока что понимал одно: я назарянин. Осознание этого пришло ко мне после посещения ужасного Иерусалима, где со мной, однако, произошло и кое-что хорошее.
Ехали мы молча. Мой край был прекрасен даже об эту осеннюю пору, с сухой, выжженной землей. Высокие мягкие барханы походили на женские груди, одинокие деревья напоминали о том, что жизнь возможна даже здесь, среди песков. Где есть дерево, есть вода. Мы проезжали через нищие деревушки, сливавшиеся с окрестной землей; оттуда высыпали женщины и дети — либо чтобы помахать нам, либо чтобы полюбоваться диковинным зрелищем, о котором можно будет рассказывать в дни, не отмеченные подобными событиями.
Ополудни было устроено богослужение и мы опустились на землю для молитвы. Не все в караване исповедовали иудейскую веру. Среди нас было много римлян и эллинов, много язычников и прочих идолопоклонников. Пока мы отправляли службу, они прохаживались по пустыне, беседовали, приглядывали за верблюдами и другими животными. Возможно, они и нас воспринимали как животных — как овец, уткнувшихся носами в землю…
Покосившись на праздношатающихся, я заметил рядом с собой мальчика примерно моего возраста.
Он тоже молился. И все же у меня создалось досадное ощущение, что он на протяжении всей службы наблюдает за мной. Когда на раввина напал кашель и тот вынужден был прервать чтение, мои подозрения подкрепились: я поймал на себе взгляд соседа, прежде чем он успел опустить глаза. Мальчишка был упитанный. Лицо гладкое и лоснящееся, губы тонкие, волосы реденькие! Платье на нем было куда богаче моего. Весь облик парня подсказывал, что он знатного происхождения. Как, впрочем, было большинство из следовавших в нашем караване.
Сразу после службы мальчишка растворился в толпе, и я до конца дня не вспоминал о нем. В караване было столько интересного, столько новых лиц… Бок о бок со мной ехал равви Симон.
— Куда все направляются?
— Кто куда, — отвечал он. — Некоторые доберутся до самой Индии. Это торговцы серебром и золотом, перцем и роскошными тканями. И едут они туда по велению римского императора.
— Не ближний свет.
— Да, я рад, что нам не надо дальше Иерихона. С меня хватит и этого. В юности я тоже хотел сесть в Египте на корабль и махнуть в Индию. А теперь что уж говорить? Господь пожелал, чтобы я вырос в этой местности. Значит, надо тут и оставаться.
— Но так человек ничему не учится.
— Учится, учится. Ты что, думаешь, в Индии люди ходят вверх ногами? Или умеют летать? Или им там не нужно отправлять естественные потребности? Жизнь везде одинаковая.
— Жизнь-то одинаковая. Только люди разные, и с ними интересно знакомиться.
— Скажешь тоже!
— И скажу! Я, например, никогда не путешествовал с раввином по имени Симон и не беседовал с ним об Индии.
— И что тут особенного?
— Если мальчик проявляет повышенную любознательность, а раввин — повышенное равнодушие, это наводит на мысли, которые еще не приходили мне в голову.
— Придержи язык, оголец! Господь свидетель, я не равнодушен. — Он наклонился ближе ко мне. — И, коль скоро тебя поручили моим заботам, дам один совет: не вздумай говорить в таком тоне с монастырскими старейшинами. Иначе тебе несдобровать.
Тут я обнаружил, что с другого бока раввина едет парнишка, которого я приметил на молении. Он слышал нашу перепалку и заискивающе хихикал.
— Ты Иисус из Назарета?
Я кивнул.
— Я так и думал, — продолжал он. — Значит, мы с тобой уже встречались.
Я попытался вспомнить, но память не подсказывала никого похожего на этого парня.
— В Иерусалимском храме! Год тому назад. Неужто не помнишь?
Я пристыженно молчал. Обычно я легко запоминаю лица.
— Это я помог твоим родителям найти тебя, — хвастливо произнес он.
— Ну и напрасно, — сказал я.
Он вздрогнул. И улыбнулся, хотя крайне натянуто. Вот мы и враги, подумал я.
Теперь я увидел перед собой Храм. Увидел Марию и мальчика, который привел ее в комнату, где я сидел со священнослужителями. Увидел, как он указывает на меня.
А еще я увидел, как он стоял с протянутой рукой, когда Мария уводила меня прочь. Похоже, клянчил милостыню.
— Но это, наверное, был не ты, а какой-нибудь нищий оборванец?..
Он окаменел.
— Видок у тебя был, прямо скажем, чудной!
Равви Симон переводил взгляд с меня на парнишку и обратно.
— Ты позволяешь себе слишком много вольностей, Иисус. Этот молодой человек — сын иерусалимского священника. С ним не положено так говорить. Впрочем, разбирайтесь сами. Моя голова и без вас идет кругом.
Он поскакал вперед и пристроился в то место каравана, где нам не было его видно.
Слова раввина явно ободрили парня.
— А твой отец… чем занимается он?
— Он плотник. Я тоже с ним плотничал.
— Оно и видно, — презрительно ухмыльнулся мальчишка. — А теперь куда держишь путь? Не иначе как за материалом для работы!
— Тогда бы я ехал в другую сторону.
Он сделал вид, будто не слышит. Теперь он был спокоен на мой счет и с довольным видом продолжил:
— А я еду учиться. В Кумранский монастырь. Туда принимают не всякого.
Конечно, лучше всего было бы отплатить парню за унижения молчанием, дабы вынудить его полнее раскрыть свою сущность, но молчать я не мог и тихо процедил:
— Значит, будем учиться вместе.
Он испугался. Если меня, назарянина, допустили в монастырь, значит, во мне есть что-то необыкновенное.
Малец проникся ко мне едва ли не отвратительным почтением. Тут же сменил тон и начал подлещиваться:
— Ах вот как… Замечательно! В таком случае мы и ехать можем вместе.
Он указал в начало каравана, где, очевидно, было его место, словно давая понять: поедем тут, в тамошней компании нам, молодым, делать нечего.
Я понятия не имел, что там за компания. Хотя был уверен, что нашел бы общий язык и с этими людьми. Нам ведь предстоял долгий путь.
— Так чей же ты сын? — Мне показалось, что я должен из вежливости задать этот вопрос.
— Равви Гавриила.
— Он тоже был моим наставником?
— Нет.
— Зато ты наверняка получил отменное образование…
Он оборотился в сторону пустыни и, сглотнув, торопливо пробормотал:
— Ну, кумекаю по-гречески и на латы…
Я вздрогнул. Неужели не все ученые мужи говорят отцу, который просит научить сына латыни, языку завоевателей: «Научить — дело нехитрое. Только наши мудрецы предписывают нам денно и нощно изучать Тору… Попробуй сыскать час, который не относится ко дню или ночи»?
Впрочем, как же я не сообразил? Эти языки звучали в Храме со всех сторон, так что парень вполне мог освоить их собственными силами. Его отец вовсе не обязательно вражеский пособник.
* * *
Это был час, когда земля покрыта тонким слоем благодатной росы из небесной кладовой. Я крадучись выбрался с места ночлега и прошел на ту сторону оазиса, где опять начинались пески. Мне хотелось посмотреть восход солнца над пустыней — и согреться, потому что за ночь я промерз до костей. Усевшись возле протекавшей через оазис речушки, я принялся завтракать яйцами, которые Мария сварила мне в дорогу. Неподалеку, на камнях, уже стирали белье женщины, рядом играли и месили грязь их дети. Под тамариском застыл в неподвижности осел, а еще ближе ко мне, под пляшущими тенями от финиковой пальмы, утолял жажду теленок.
Я тоже утолял жажду — свою жажду мира. С каждым шагом по направлению к монастырю, где мне предстояло провести ближайшие годы, мир вокруг казался все красочнее и оживленнее. Меня то и дело посещала мысль: здесь я мог бы поселиться и обрести счастье. Здесь я мог бы родиться заново. Сменить имя, завести другое платье, забыть прошлое. Здесь моя жизнь могла бы пойти иным путем, столь же неизведанным, как избранный мною теперь.
Вот над водой склонилась девушка, набрала в кувшин воды. Поставила кувшин на голову и побрела назад, к оазису. В воротах — я сидел всего в нескольких метрах от них — девушка внезапно обернулась, и наши глаза встретились.
Человек вроде бы видит далеко окрест. Но бывают мгновения, когда от одного взгляда мир вдруг ширится, становится вдвое, втрое, вдесятеро больше того, каким был только что. Перед тобой словно раскрываются пять новых материков.
Девушка оборотилась — и превратилась в женщину.
Превращение случилось в тот самый миг, когда ее взгляд встретился с моим, а губы раздвинулись, обнажив белые зубы и красный кончик языка.
Я испытал внутренний толчок. Земля вдруг заходила ходуном, ноги утратили опору, я потерял ощущение верха и низа. На меня снизошло внезапное озарение.
Она стояла на границе света и тьмы, там, куда дотягивались лучи восходящего солнца. Взметнувшийся из-под босых ног мелкий песок осел. Одной рукой девушка придерживала кувшин, отчего стан ее изогнулся дугой, образуя красивейшую, доселе неизвестную геометрическую фигуру.
Непонятно почему я еще раньше выложил на песок три яйца, которые Мария сунула мне в дар.
Теперь я взял одно из них, очистил, надкусил и, поднявшись, двинулся по направлению к девушке.
— Как тебя кличут? — вполголоса спросил я, чтобы меня не услышали стиравшие женщины.
— Амхара, дочь Гидеония-мельника.
Я протянул ей яйцо. Когда она брала его, наши пальцы на миг встретились. Она тоже откусила от яйца… и вернула его мне.
Затем пустилась бежать. Но не в город, а прочь от него, в рощу.
Прихватив яйца, я пошел следом. Девушка пряталась за деревьями, выглядывала из-за стволов. Она более не улыбалась, и ее взгляд тяготил меня, придавливал к земле, точно мешок с каменьями… я едва волочил ноги. Стоило мне хоть чуть-чуть нагнать ее, как она перебегала к следующему дереву. В отличие от меня она хорошо знала местность и легко находила броды в оросительных каналах, я же не замечал их и вынужден был идти дальше, преодолевая большие расстояния. Зачастую нас разделяли лишь канал и высокая насыпь, тем не менее я всегда оказывался на другой стороне от девушки. Я чуть не плакал от неимоверной тяжести ее взглядов.
— Меня зовут Иисус, — заплетающимся языком выговорил я.
Она не отвечала. Просто стояла по ту сторону канала. Но вот она села на берегу, и я последовал ее примеру. День явно не предназначался для слов, это был день землетрясений, день, когда произошло нечто из ряда вон выходящее, когда в мире установился новый порядок. Мы завели безмолвную беседу.
— Я люблю тебя, Амхара, — почти беззвучно сказал я.
— Я люблю тебя, Иисус, — беззвучно сказала она.
Слышалось лишь наше частое дыханье да шелест пальмовых листьев на утреннем ветерке.
— Я направляюсь в Кумран, — без слов сказал я. — Через час меня тут уже не будет.
— Я знаю, потому и расстроилась, — сказала она.
Безмолвная беседа обрела страстность:
— Но мы никогда не забудем друг друга!
— Конечно, нет. Мы с тобой останемся тайной от всех, но я буду часто приходить сюда одна.
— А я буду год за годом разбирать тексты, стану ученым, освою новый язык, которого будет бояться моя матушка, но тебя я не забуду до самой смерти.
— А я скоро выйду замуж, у меня есть жених, вчера он как раз приехал в город, чтобы подготовить нашу свадьбу. Я нарожаю ему кучу детей, и они будут кричать и плакать и смеяться, но тебя я не забуду до самой смерти.
— А я спасу свой народ от римлян, и ввяжусь в борьбу, и, возможно, погибну в этой борьбе, но тебя я не забуду до самой смерти.
Не отрывая от меня взгляда, она вытащила из волос булавку и вонзила ее в палец. Когда палец обагрился кровью, она перекинула булавку через канал. Я поймал ее, тоже проткнул себе палец и перебросил булавку обратно.
Мы были величавы, как кедры, устойчивы, как тяжелогруженые суда в шторм, и безмолвны, как пустыня в полуденный зной.
— Я потеряю все зубы, груди мои обвиснут, подошвы задубеют, но я все равно буду помнить тебя до самой смерти.
— Я переживу унижения, предательство и крах, но все равно буду помнить тебя до самой смерти.
Ломая ногти, я почистил второе яйцо, откусил, бросил оставшуюся половину девушке. Она лизнула гладкую кожицу и запихнула яйцо в рот.
Мы оба знали, что можем перенестись друг к другу по воздуху, но тогда наступил бы конец этому чуду: все опять пошло бы своим чередом, вернулось на круги своя, и мир втянул бы нас в распрю, которая, возможно, стала бы всеобщей погибелью.
Я взял третье — и последнее — яйцо и уже собрался метнуть его на ту сторону, как вдруг мне попали по руке брошенным сзади камнем. Я выпустил яйцо, и оно покатилось по насыпи, скакнуло в воду и, отсвечивая белыми боками, неторопливо опустилось на дно. Амхара в страхе вскочила, всплеснула руками…
Я обернулся и увидел в кустах множество черных как смоль ребячьих глаз. На меня смотрело человек десять, если не пятнадцать детей. За ними мелькнула чья-то белая одежда. Мне показалось, что это Иоханан.
Амхара между тем исчезла. Я тоже попробовал спастись бегством, но даже не соображал, куда бегу, пока не очутился у ворот, где мы встретились; ее кувшин по-прежнему стоял на песке. Женщины у реки удивленно воззрились на меня, когда я забежал в ворота. Ребята не отставали. Теперь их было человек пятьдесят, и все бросались каменьями. Малышня гналась за мной по пятам, более старшие в нерешительности держались на порядочном расстоянии, сзади я опять приметил Иоханана.
Я мчался по узким улочкам города. Об эту пору дома как раз очищали от навоза. У каждой дверцы на первый этаж стояла женщина и выгребала накопившееся за ночь удобрение. Повсюду громоздились навозные кучи, над которыми поднимался теплый пар, вокруг кишели ибисы и бабочки-крапивницы. На каждой улице стояли ослы, готовые вывозить навоз в поле. Тут и там проход был загорожен, и мне приходилось прыгать на кучи, зачастую погрязая в них по колено. И вдруг я забежал в тупик. Стоило мне развернуться, как я увидел все ту же ватагу ребятишек: выстроившись напротив, они со смехом швырялись камнями. Они забьют меня до смерти, подумал я, а мне вовсе не хотелось умирать припертым к стене.
Многим из детей было по пять-шесть лет. Эти швырялись с особым удовольствием: в своей невинности они всего-навсего делали то, о чем их кто-то попросил.
Кто? Иоханан?
И почему он собирал милостыню в Храме?
Вновь ринувшись через навозную кучу, я сумел пробиться сквозь толпу детей. Они посмеялись надо мной и продолжили преследование. Они-то хорошо знали этот лабиринт, а меня он раз за разом приводил в закоулки, в тупики, к наглухо закрытым воротам. Ребята играли со мной в кошки-мышки. Похоже, им нравилось мое замешательство, нравился мой страх. От меня воняло, как будто я вылез из выгребной ямы, платье было заляпано пометом. А невинная малышня только радовалась!
Повсюду я натыкался на усердно работавших взрослых. Они молча смотрели на меня, переглядывались друг с другом и любезно уступали мне дорогу, однако ни один не попытался остановить детей. Я несся все дальше. В одном из переулков, который опять-таки оказался тупиком, я углядел открытые ворота и забежал туда, кинулся наверх по темной лестнице и очутился в темной комнате, где (отнюдь не сразу) различил около десяти человек — женщин и детей. Они уставились на меня.
— Помогите, — шепотом попросил я.
Это была первая фраза, которую я сказал вслух после «Я люблю тебя, Амхара». И я не чувствовал между ними большой разницы.
Однако я словно прожил между этими фразами целую жизнь.
Побывал в дальних краях, повидал мир и вернулся домой.
Одна пожилая женщина встала с места. Ее покрытые струпьями глаза были слепы. Вытянув вперед руку, она ощупью прошла мимо.
Я слышал, как она спускается по лестнице.
— Иди сюда, — сказала другая женщина, тоже встав и дотронувшись до моего плеча.
Мы вышли на открытую площадку крыши, где росла в горшках мята. Под прикрытием растений я выглянул на улицу. Мальчишки пытались проникнуть в ворота, старуха их не пускала. В конце переулка виднелся запыхавшийся, исполненный злорадства Иоханан. Тот, что унижал себя прошением милостыни без малейшей нужды.
Женщина, которая вывела меня наружу, указала через крыши вдаль, и я различил пальмы, под которыми заночевал наш караван. Она ни о чем меня не спрашивала — будто в этом доме все и так знали, почему мне требовалась помощь. Будто они только ради этого и сидели тут в темноте. Всегда найдутся люди, готовые прийти на выручку. Они никогда тебя не оттолкнут, не зажмут носы, не посмеются над твоим просторечным выговором. Лишь укажут тебе поверх крыш, куда идти.
Было еще раннее утро, когда я выбежал на улицу и кинулся прочь, перепрыгивая через ограды, террасы и палисадники, через кусты и деревья, через аистов и непоседливых ибисов. Мне показалось, что я перелетел через красные, иссушенные солнцем стены. Трудившиеся на многих крышах женщины и дети отрывались от своих занятий и долго смотрели мне вслед. И никто больше не тронул меня и пальцем.
* * *
Если безлесные горы солнце окрашивало пурпуром, то скелеты, там и сям встречавшиеся по обочинам дороги на последнем этапе пути, оставались белыми. Остовы верблюдов, ишаков, степных собак. Каждый караван платил пескам свою пошлину.
Рядом с моей ослицей бежал жеребенок. Сам по себе, без вьюка. Он носился вкруг матери и сосал ее на привалах, он вскакивал на дыбы, фыркал и истошно орал. Я дразнил его травинкой и, когда он подходил ближе, щекотал ему уши; мы с ним веселились вовсю. Ослик был стройный, гибкий, с блестящей темной спиной. Я просто влюбился в него.
Он был мне нужен.
Иоханан вернулся на прежнее место в голове каравана; с тех пор как он вышел из городских ворот и увидел вонючего и грязного меня, который в эту самую минуту забирался на осла, парень ни разу не взглянул в мою сторону. Мне кажется, его голова пухла от новых козней.
Вот почему я нуждался в жеребенке. В его огромных глазах я видел отражение Амхары, видел ее страх, когда третье яйцо упало в воду и осталось лежать между нами. Я видел в этих глазищах все, что мне хотелось увидеть. Миг, когда она, с кувшином на голове, впервые обернулась ко мне. Подошвы ее ног, когда она убегала от меня промеж дерев, ее томный взгляд, связавший нас крепкими узами.
Будь я чародеем, я бы пробормотал заклятье и влетел в эти огромные глаза, чтобы перенестись в недавнее прошлое, чтобы прогуливаться вдоль оросительных каналов рядом с Амхарой и… Нет, нашим жизням не суждено было идти рядом, это стало ясно с самого начала.
Очевидно, во время полуденного привала с жеребенком что-то случилось. Ему нанесли увечье. Я заметил неладное лишь час спустя, когда мы свернули в просторную долину, известную под названием Ложбины смерти. Кругом сверкали солонцы, преломляя солнечные лучи своими кристаллами; дышать стало тяжко, почти все потянулись к мехам с водой.
Осленок повесил голову и начал отставать, его более не развлекала травинка, которой я щекотал ему уши. Он перестал резвиться, то и дело замирал на месте, пропуская других вперед. Я придерживал ослицу и дожидался жеребенка, так что мы отпускали караван все дальше и дальше. Некоторое время осленок еще шел, хотя и через силу.
Но вот мои понукания сделались напрасны. Жеребенок встал как вкопанный, а когда я спешился и подошел к нему, то оказалось, что он истекает кровью: кто-то взрезал осленку брюхо, и теперь на песке образовывалась красная лужа.
Я обнял осленка за шею и расплакался. Для меня в нем заключался целый мир, мир, о котором не положено было знать никому другому. В нем заключалась важная часть моей жизни, он был сосудом моих желаний, прибежищем моих страстей. Я гладил его по шерстке и неудержимо рыдал, пока не прискакал замыкавший караван легионер.
— Садись и поехали, — велел тот.
— Разве ты не видишь, что…
— Отставать никому нельзя, — перебил меня воин.
— Надо его спасти!
— Поторопись, малый. Жеребенку уже не помочь, — бросил он, кинув на него равнодушный взгляд. И, указав ввысь, добавил: — Им займутся они…
Между тем солнце застилала тьма. Со всех сторон слетались черные тени, образуя посреди неба грозный движущийся клубок. Грифы. У осленка подкосились ноги, и он упал, увлекая за собой меня. Над головой просвистела плетка — не для того, чтобы хлестнуть, а чтобы покончить с тем, чего нельзя было затягивать.
— Хочешь остаться один на один с разбойниками?
— Мне все равно.
— Совсем рехнулся, приятель. Посмотри, насколько мы отстали от каравана.
Караван уже растянулся чуть не по всему склону к долине: длинный извивающийся хвост из ослов и верблюдов, с навесами от солнца для богатых купцов впереди и серыми одеждами бедняков сзади.
— Дай мне нож, солдат!
Покачав головой, он кинул мне нож и напился воды из меха. Я положил голову осленка себе на колени и вонзил нож ему в шею; на подол хлынула кровь. Шейные мускулы осленка расслабились, голова отяжелела. Все, что олицетворяло Амхару, мое вожделение, мой мир, вмиг улетучилось, вытекло в песок.
Я встал и подошел к ослице. Легионер нетерпеливо заворчал.
— Я догоню, — сказал я.
— Да уж будь добр, — ответил он и, вонзив пятки в бока своего коня, скрылся за холмом.
Грифы налетели скопом, штук сорок — пятьдесят сразу… напугав одним только хлопаньем крыльев. Нисколько не смущаясь моим присутствием, они стали опустошать вместилище моего прошлого. Начали с крупа, после чего методично объели жеребенка до костей. Слышно было, как похрустывают жилы, хрящики, перепонки, как трещат крошащиеся косточки. Стервятники не смотрели по сторонам, просто делали свое дело. Впоследствии, завидев из окна монастырской кельи паривших в небе грифов, я думал о том, что в них присутствует и частица меня.
Теперь же, еще только по дороге в монастырь, я подошел к объеденному дочиста скелету и отломил от грудной клетки крохотное ребрышко, сухую, отполированную жеребячью косточку. Пробуравил в ней ножом дырку, продел туда жилу и повесил себе на шею.
Я наивно возлагал чересчур большие надежды на монастырь и тех, кто изучал там писания. Мне казалось, что пример Учителя Праведности[5] должен вызывать у всех праведность и рвение. Встреча с Гаврииловым отпрыском Иохананом поколебала мое представление о святости их служения Господу.
Это было полезно, ибо я познакомился с сочетанием света и тьмы, кое есть серость.
В Иерихоне многие покинули караван, их место заняли другие, те, кто держал путь в Индию.
Равви Симон простер свою длань надо мной и Иохананом:
— Будьте любезны сохранять покой и согласие, пока я не доставлю вас в монастырь. Тебе, Иисус, с твоей повышенной любознательностью, советую побродить по городу и оглядеться. А я тем временем сделаю кое-какие дела.
— Я останусь здесь, — сказал Иоханан.
— Поступайте сообразно вашим желаниям. Скоро вам придется сидеть взаперти в куда более тесных пределах.
Мне горько было слышать этот приговор. Мы направлялись в самый священный монастырь, где из нас должны были сотворить аскетичных монахов, которым нет дела до интриг и скандалов Иерусалимского храма.
Прав ли я, что продолжаю стремиться туда?
Как подействует на тамошних обитателей наше прибытие? Скорее всего, в монастыре начнутся раздоры, образуются противоборствующие лагери, трудно будет сосредоточиваться на святых предметах.
Неужели на всей земле нет места, где обходятся без привычных человеческих раздоров?
Я сидел под деревом на рыночной площади и глазел на людей. Желание посмотреть дворец, в котором жила Клеопатра и о котором мне прожужжал уши Бен-Юссеф, исчезло. Желание сходить к источнику и напиться из него тоже исчезло. А ведь я обещал Бен-Юссефу это сделать.
— Там самая вкусная вода во всем нашем краю. Выпей черпачок и вспомни старого разбойника, — напутствовал он меня.
Кумран! В жизни не видал ничего красивее! — подумал я, когда мы ввечеру забрались на гору и подошли к раскинувшейся по-над морем обители. По ее белокаменным стенам ласково скользили лучи заходящего солнца. Монастырь был большой — целый город посреди окружающего бесплодия, — и теперь мне предстояло сделать его своим домом. Из-за кровель выглядывало несколько высоких деревьев. Щебетали птицы, долетал слабый запах смолы, я как будто даже слышал журчание воды.
Разве мог сравниться с этой чистотой Храм в Иерусалиме? Конечно, он был выше, имел большее влияние, и все же… в голове пташкой промелькнула наивно-богохульная мысль: тот Храм запятнан служителями.
Я стоял перед воротами, поглаживая белый известняк стены, и вот врата раскрылись: мне никогда не забыть той первой прогулки в тишине, прохладе, покое. Улицы, которые мы миновали одну за другой, были безлюдны, однако из темных комнат доносились шорохи, там кто-то двигался при свечах. Мы свернули за угол — и были ошеломлены новым впечатлением: белые стены пламенели от многочисленных пеларгоний, рододендронов, гибискусов. Сладостно благоухающие садики, огороды с более терпкими запахами… Часовенки! Скамейки под сенью кипарисов — сидевший там человек и не подумал оторвать голову от книги. Базарчики, голубятня, водоем.
Даже контрфорсы, на которые опирались арки у нас над головой, были произведением искусства. Все тут было подчинено чистоте помыслов и сосредоточенности, каждый камень вмурован на положенное место, дабы создавать ощущение безмятежности. Каждая мысль, проследив за их рядами, должна была вознестись прямехонько к Богу. Во всяком случае, со мной было именно так (да простится мне подобная дерзость).
Мир за воротами для меня умер, я хотел обратиться в мысль.
Сию же минуту.
* * *
Тем не менее я продолжал телесное существование в вещественном мире. Как продолжал его хромой и кривой монастырский повар, ставший моим первым собеседником послё того, как я помылся и надел выданное мне чистое платье, в котором полагалось забыть прошлое и стать новым человеком.
Повар сидел в кухне, навалившись на стол своими толстыми руками, тогда как новиции драили пол, оттирали золой котлы и разводили огонь перед вечерней трапезой. В помещении царила приятная прохлада. И вдруг повар обратился ко мне:
— Раньше тебя что-то не было видно, парень!
— Я только прибыл.
— Ну-ну, — молитвенно сложив руки, протянул он. — Посмотрим, надолго ли ты у нас задержишься.
Я обомлел от изумления:
— Навсегда!
— Поначалу все так говорят. Да ведь тутошняя жизнь не сахар. — Он покосился левым глазом на просторную трапезную, куда нас, новициев, пока не допускали. — Ну-ка прислушайся, — велел он. Я навострил уши и услыхал вдали знакомый голос. Иоанн! Неужто и он здесь? Неужто он перебрался из родительского дома именно сюда?
Если честно, я не столько удивился, сколько испугался.
— И кто ж это читает? — осведомился я.
— Иоанн из Тивериады. Не знаешь? Он у нас самый уважаемый. Настоящий Мессия!
Старик с ухмылкой наклонился поближе ко мне:
— Не за горами день, когда Иоанн возглавит обитель.
— И давно он здесь?
— Всего три года. Просто для некоторых и это срок. А ты, оказывается, его не знаешь. Он рано потерял родителей. Слышал бы ты, как он клеймит здешних нечестивцев.
— Нечестивцы?.. Здесь?!
Старик хихикнул и, заколыхавшись всем телом, расплылся в беззубой улыбке. Потом снова зашептал, уже со страхом — прямо-таки с ужасом — в глазах:
— Да я и сам нечестивец. Спасибо, хоть не выкидывают на улицу. Я одержим бесом.
Он ткнул себя в грудь:
— В меня вселился Мастема. У него на руках по восемь пальцев. И смердит от него несусветно. И он гоняет меня ночами к морю…
— Зачем?
— Кончай тарабарить, старик, — повернулся к нам от плиты новиций. Он улыбнулся мне и, не выпуская из рук начищенный до блеска бронзовый котел, продолжил: — Наш повар заводит эти разговоры с каждым новым человеком. Ему, вишь ли, охота поплакаться.
— Ну и пусть, — сказал я. — Зачем он тебя гоняет к морю?
— Он меня преследует. Говорит, я должен, должен, должен…
Старик еще несколько раз повторил это слово и опять содрогнулся.
— Спасибо, не выкидывают из монастыря. По восемь пальцев…
— Ты несешь этот крест за других, приятель, — сказал я.
— Не мели чепухи. Я дурной человек. Дурной, дурной, дурной…
— Может, никакого Мастемы и нет. А может, без сынов тьмы не было бы света. И еще: разве бывают совсем безгрешные?
Старик поднялся из-за стола, взгляд его пылал гневом.
— Ты злословишь, парень. Хулишь святых из наших келий.
И он был прав! Проведя в монастыре всего несколько часов, я уже громогласно подвергал сомнению всех и вся — даже беспорочность и единство, в которые сам искренне верил. А жертва бесов защищала передо мной свою одержимость.
— Не иначе как эти святые приходят к тебе выспрашивать про Мастему?
Он кивнул.
— Хотят убедиться, что Мастема еще сидит в тебе? Ведь что будет, если он выпустит тебя из своих когтей и вселится в кого-нибудь другого?.. А он и впрямь существует?
Старик снова закивал, раскачиваясь всем телом и выпучив косые глаза. Новиций меж тем подошел ближе и восхищенно уставился на меня.
— Спроси кого хочешь, все ночью просыпались. Нельзя же не слышать, как я ору благим матом, когда он швыряет меня об стенку восьмипалыми руками. И вонища от него идет несусветная.
Повар закрыл лицо руками.
— И никто тебе не поможет? Даже этот… как его… Иоанн?
Я затаил дыхание, боясь пропустить хоть слово про Иоанна. Каким он стал человеком? Сильным или слабым? Я подозревал, что Иоанн обладает здесь изрядным влиянием. Не зря старик назвал его уважаемым…
— Когда объявится Мессия, Мастеме придет гибель!
— Во-во, — подхватил новиций. — А мне больше не надо будет чистить котлы.
И доверительно прибавил:
— Грядут решительные перемены. По всей стране запасают оружие. Уже создали сотенные и тысячные отряды.
И указал на внутренние дворы обители:
— Тут у нас тоже кое-что происходит. Всякое тайное.
— Значит, Иоанн станет?..
— Иди домывать котлы! — велел повар, жестом отсылая новиция прочь.
Когда я однажды вышел на заре (утро было ясное, над красноватыми горами по ту сторону моря всходило солнце, рассеивалась ночная дымка, и пчелы, вылетев из ульев, плели золотую паутину вкруг собравшихся у стен монастыря Многих[6]), я наконец-то не только услышал, но и увидел его.
Он стоял на камне и держал речь — поджарый, стройный, в развевающемся плаще.
«Да вознесет тебя Господь на холмы вечные и уподобит крепкой башне с высокими стенами кругом, и да будешь ты разить устами твоими. Жезлом своим будешь ты поражать землю, а духом уст своих — губить нечестивого, и почиет на тебе дух премудрости и разума, дух совета и неизменной крепости, дух познания славы Божией и страха Господня, и будет правда препоясанием чресл твоих, и да сделает Он роги твои железными и копыта твои медными, чтобы бодался ты, аки буйвол, и попирал людей, аки грязь уличную, ибо назначил тебя Господь жезлом правителя…»
Голос Иоанна звучал трубным гласом Бога, хотя тело казалось слишком хрупкой оболочкой для его вести. Да, он был силен и упрям, и я подумал: найдем ли мы с ним когда-нибудь опять общий язык?
Лица Многих были устремлены к нему. Полураскрытые рты, затаенное дыхание, неподвижные руки, притихшие дети; серая толпа на фоне серого песка. Зато глаза у всех горели. И вокруг золотистыми блестками вились пчелы. Собравшиеся здесь люди пришли из равнинных селений, некоторые даже из Иерихона, многие принесли розы и устлали ими землю перед Иоанном, а он словно ничего не видел… Я долго сидел, внимая ему, и, как я заметил, был тут далеко не единственным монахом. Иоанн стал влиятельным в обители человеком, и я подумал: вот кто научит меня оборачиваться мыслью.
Позднее, когда народ разошелся, рассеялся по окрестностям — кто подался в поля, которые в это время года стояли желтые, кто в оливковые рощи в иерихонской стороне, — Иоанн приблизился ко мне:
— Ты попал сюда, Иисус?
Взгляд у него был вопрошающий. Вопрошающий и строгий. Совсем не радостный.
— Да, Иоанн. А сам-то?.. Разве твое место было не в Храме?
— Мой храм тут. В мире за стенами обители царит зло. — Он покачал головой. — Иерусалим осквернен… А ты? Что привело сюда тебя?
— Я хочу учиться, — с искренним удивлением отвечал я.
Он снова покачал головой:
— Пойдем отсюда. Давай я покажу тебе свою пасеку.
Широким угловатым шагом Иоанн повел меня вниз. Его мелькавшие впереди узкие ступни были сплошь изранены, он то и дело потирал руки, словно пытаясь согреться. Мы дошли до берега, до самых солонцов, и он опустился на камень. Вокруг с хриплыми криками носились чибисы. Иоанн задрал голову к горам, к монастырю, цеплявшемуся за эту худосочную землю словно в доказательство того, что жизнь возможна и тут, в самых что ни на есть неблагоприятных условиях. Вдали от Иерусалима. Вдали от общества.
Повсюду трудились люди — здешние новоселы, бедняки из бедняков.
Ульев я, однако, нигде не усмотрел. Спросил у Иоанна. Тот повел рукой окрест и чуть заметно улыбнулся: улыбка с трудом пробилась в уголке рта, осветила сумрачный лик.
— Неужели ты не видишь это множество пчел? Посмотри, как они корпят. Там, и там, и там… Посмотри, как они перелетают с цветка на цветок, собирая мед…
Я видел согбенных стариков и старух, видел детей со вспученными животами, видел прокаженных, звеневших своими колокольчиками по всему склону! Иоанн резко опустил руку, точно закрывая окно в мир, и обернулся ко мне:
— Что привело тебя сюда?
— Ты о чем? Я… я отрекся от мира.
— Нет уж, пожалуйста. Обойдемся без фальши.
— Ты хочешь сказать, я вру, Иоанн?
Он фыркнул:
— Просто это глупо. Что тебе дурного сделал мир? Да ты его любишь. Признайся, любишь? Тогда не бросайся словами.
Я молчал, потому что он был прав. Я действительно до умопомрачения любил мир. Каждый вечер я засыпал с блаженной улыбкой на устах, и эта улыбка светилась в темноте, и я понимал, что она светится благодаря моей связи с Богом, с жизнью, с журчащим во мне источником. Этот источник был реален. Он выходил из-под земли, питая все растущее и развивающееся, все страждущее, все радующееся. Он доставал до звезд на небе и до земляных червей в глубине.
— А ты? — наконец произнес я.
Иоанн пожал плечами и вперился в свои ладони.
— Я тут уже три года. Коль скоро меня предназначили храму, я выбрал самый суровый, самый непримиримый из всех храмов. Мы, здешние монахи, ненавидим Иерусалим, ненавидим двуличие, ненавидим вероломное пособничество священнослужителей римлянам.
— Я тоже все это ненавижу, Иоанн.
— Ты?! Да ты не умеешь ненавидеть!
— Неужто ты настолько презираешь меня?..
Он встал и принялся ходить по берегу, мне пришлось долго ждать ответа.
— Запомни одно: такого разговора у нас больше не будет, — наконец вымолвил Иоанн. — Мое положение в обители запрещает мне подобные беседы. Ты не прошел посвящения. Ты новиций. И дальше этого не пойдешь, потому что твое место не здесь.
Он остановился супротив меня:
— Ты только что слышал мою речь. Была ли в ней радость? Обнаружил ли ты во мне хоть малейшую улыбку?
— Твои слова скорее напугали меня.
— Вот-вот. И меня тоже. Однако я не могу дать ничего, кроме строгости. Когда я вглядываюсь в лица Многих, из меня уходит вся присущая человеку теплота. Мои слова жестки, как песок пустыни. Я суров и безжалостен. И упорствую в своей безжалостности, хотя она едва ли нравится мне самому. Я непримирим. Исключение было сделано лишь для тебя.
— Неужели ты рассердился из-за своей матери? Потому что ты?.. Потому что я?.. И ты возненавидел меня?
— Нет, я начал тебя любить. Я понял разницу между тобой и мной. Ты наделен силой. Только отличной от других. В тебе есть что-то новое.
— Неправда.
— Истинная правда. Просто ты еще не созрел. Тебе надо повидать мир.
— Мир скверен.
— Да, мир скверен, но это мир, в котором мы живем. Ты не хуже моего знаешь, что Господь связал наши души с жизнью. Сам говорил. Просто ты невинен и чист, и тебе требуется время, чтобы признать собственную силу, признать свое свидетельство. Ты чист сам по себе, тогда как я проповедую чистоту. Многим не мешает очиститься внешне, ты же будешь очищать внутренне…
— Какие странные ты говоришь вещи…
— Ты несешь новое.
— Откуда тебе все это известно? Мы не виделись много лет. Ты не знаешь, что со мной происходило, что я делал…
— Представь себе, знаю. Хотя, как видишь, не стал от этого счастливее. Мне чего-то не хватает. Я устал и излишне суров. Мои слова жестки, как песок.
— Что с тобой случилось?
— Помнишь, я когда-то мечтал поехать в Индию?..
— Ага.
— Неужели ты и впрямь запомнил? Почему?!
— Потому что я назвал твои мечты пустыми фантазиями и это подкосило тебя. Ты рассказывал с таким восторгом…
— Отвечай честно. Ты запомнил не поэтому. Ты что-то увидел!
— Мне показалось, я разглядел в тебе надлом. Ты перестал верить в мечты. Или скажем иначе: ты внезапно вырос. Словно проскочил много лет своей жизни. Словно из нее стерли время, когда ты должен был обрести себя. Использовать разные возможности. Воплотить сокровенные желания. Ведь ты не только за игрой внезапно суровел и давал понять, что тебе не до шуток. Тебя предназначили Храму… и, похоже, ты решился.
Иоанн снова сел и, понурившись, подпер голову руками.
— Интересно, что еще предопределила моя решимость… помимо треклятой суровости. И куда она меня приведет?
— К смерти. Все пути ведут к ней.
Иоанн рассмеялся, хитро склонил голову набок.
— Ты хочешь сказать, мы стареем? Я всегда был стариком. Таким же стариком, как мои родители.
— Я скучаю по ним, — признался я. — Я их очень ценил.
— Но ты понятия не имел, что у нас была за жизнь. На самом-то деле. Я ведь постоянно жил рядом со смертью. Плохо, когда у тебя пожилые родители. Плохо, когда тебя с самого рождения пасет смерть. Родителей лучше иметь молодых, как у тебя. Надо ведь успеть посмотреть жизнь, хотя бы сквозь щелочку. Полюбоваться на простор полей. На море. На деревья в цвету.
— Ты же все это видел!.. Мы столько носились по округе…
— Нет, не видел. Мне мешали родительские лица, которые заслоняли обзор. Я воспринимал окружающий мир, словно слушая чужую историю. Я узнавал о нем куда больше по отражению в твоих глазах. Меня самого ничто не радовало. Все только тяготило. Понимаешь, о чем я?
— Думаю, что да.
— Я ни с кем так не откровенничаю. Просто я выбит из колеи твоим приездом. Ты слишком хорошо меня знаешь, видишь меня насквозь. И это лишает меня цельности. Я перестаю быть сплошь жестким. А жесткость мне необходима, иначе я теряюсь и перестаю понимать, как себя вести.
Можешь описать мне ту птицу? — продолжал он, указав на луг. — Вон там, между валунов…
— Щегла? Он коричневый, с желто-зелеными полосками на крыльях и красным пятном под гузкой. Очень красиво смотрится на этом фоне. Гляди, как он вертит головкой. Можно подумать, успевает смотреть сразу во все стороны. У нас в Назарете было много щеглов. Особенно на поленнице. Бывало, рассядутся там утром и я кормлю их зерном. А весной, когда со скал начиналась капель… Но почему ты спрашиваешь?
— Потому что я не вижу ничего подобного. Ничегошеньки! — вскочив на ноги, закричал он. — Я вижу птицу и думаю: вот птица. И больше ничего. Никаких подробностей. У меня в мыслях не возникает ни ее окраски, ни ее истории, ничего…
— Зато ты видишь другое, Иоанн.
— Увы. Я вижу мрачные, черные предметы. Разрозненные. Разделенные пустотой. Так выглядит для меня все кругом. А ты… тебе нужно проповедовать миру собственный взгляд. Рассказывать, как ты видишь щеглов… Рассказывать о взаимосвязи вещей.
— По-моему, это самоочевидно.
— Ты сдурел? Что ты считаешь самоочевидным? Все всё понимают по-своему. Римляне противостоят грекам, греки — евреям, евреи — другим евреям, бедняки — другим беднякам. Мы противостоим сами себе. Враждуем сами с собой. Мой главный враг — я сам… Я ни на что не годен.
— Говорят, ты скоро станешь во главе монастыря. Говорят даже, что ты…
— Прекрати!
Но я не прекратил. Напротив, я возвысил голос и донес свою фразу до укромнейших уголков его сознания:
— Говорят, что ты — грядущий Мессия!
Какое облегчение! Какая сладостная месть! Я словно задышал полной грудью, глубоко и размеренно. А потом расхохотался. Я смеялся так громко и долго, что люди на горе обратили внимание и оторвались от работы: подняв головы, они застыли с серпами и мотыгами в руках. Их фигуры светлели по всему склону. И они были совсем близко.
Наконец я умолк. Совсем рядом, в лице Иоанна, я прочел безысходное горе. И, пытаясь загладить свою вину, добавил:
— Я тоже присоединюсь к твоему воинству.
— Да как у тебя язык поворачивается? Надо же, такое богохульство…
— Я… я слышал это на кухне… Прости меня, Иоанн.
— Ты не у меня должен просить прощения.
— Я безумно рад встретить тебя здесь. Будет с кем поговорить.
— Ты не у меня должен просить прощения, — уныло повторил Иоанн. — Впрочем, еще успеется.
И он двинулся обратно к монастырю. Иоанн шагал столь решительно и быстро, что стало ясно: мне за ним идти не следует. Оставшись на берегу, я почувствовал, как закачалась под ногами земля, как тело пронзают нещадные молнии зноя. Распуганные Иоанном чибисы, отчаянно крича, ухватились клювами за мои нервы и растащили их по всему лугу.
На другой день, когда благочестивое собрание приготовилось получить свою порцию кнута и пряника, Иоанн взобрался на камень и обратился к общине. Он говорил о том, что в монастыре царит обманчивая самоуспокоенность. Говорил о нашей оторванности от мира. Говорил о слепом заблуждении.
Глаза его пылали безумием. Пожилые монахи сначала только вздыхали, как привыкли вздыхать на всякой проповеди, но мало-помалу и они уловили в речах Иоанна ожесточение. До них дошло, что он насмехается над советом старейшин, прочившим его в настоятели, насмехается над теми, кто верит в него и видит в нем надежду на будущее.
Потрясая длинными худыми руками, Иоанн толковал про Одиноких, которых Бог вводит в дом[7]. А когда умолк, схватился за края одежды и принялся рвать ее в клочья. С камня Иоанн сошел обнаженный.
Народ повскакал с земли: случилось нечто беспримерное.
Но пока мы добежали до монастырских ворот, Иоанн почти скрылся из виду. Взвихряя около себя песок, он двигался на север, к пустыне и Иордану.
На меня он за время своей речи даже не взглянул.
После этого я испытал ощущение полной нереальности. Монастырь точно опустел. Жизнь в нем замерла. Я утратил опору, утратил связи, оказался один на один со своими грезами… Может быть, меня не существует? Может быть, я всего лишь Иоаннова фантазия? Все казалось подчиненным некоему плану. А если я и впрямь существую только у него в голове, что я воплощаю: его радость или ожесточение? Его печаль или ощущение краха? А может, его будущее? В застывшем, замкнутом взгляде Иоанна читалось, что он отрекся от будущего. Что его будущее принадлежит другим. Что это будущее — его месть настоящему…
Теперь, задним числом, когда я попал в пустыню и мир вокруг временно утихомирился, я все отчетливо вижу и понимаю. Теперь, когда все осталось позади… Хотя жизнь моя еще не достигла расцвета, у меня все позади. Когда из бутона пробивается на свет Божий цветок, у него за плечами остается долгий период приготовления, жизни в зимнем сокрытии среди голых ветвей. Когда цветок распускается, для него все осталось позади.
Так и у меня все миновало и осталось позади, пусть даже мир об этом не ведает. И задним числом я иногда представляю себе, что не я был Иоанновой фантазией, а он — моей. Он никогда не существовал, я его просто выдумал.
* * *
Кроме всех прочих, в обители жил монах с длинной окладистой бородой, его звали Товией. Работал он сам по себе — либо в скромном монастырском огороде, либо на рытье канав; мы, остальные, обычно трудились всем скопом среди ароматов золотисто-желтого горчичного поля. Товия был коренаст и грузен, ходил ссутулившись, ни с кем не разговаривал. Копал неистово, но изредка замирал над заступом и принимался говорить, обращаясь то ли к земле, то ли к чему-то под землей, мы точно не знали.
Шло время. Мы никак не соприкасались друг с другом, пока однажды ранним утром Товия не привлек к себе внимание: поднял заступ, вонзил его в землю — и вдруг завопил благим матом. Потом упал на колени над вырытой ямкой.
Меня одолело любопытство, и я поспешил к Товии.
Оказывается, его лопата угодила в мышиную нору, где штук семь голеньких розовых мышат еще сосали разрубленную пополам мать. По их гладким тельцам стекала кровь, на них налипли клоки материнской шерсти, а они как ни в чем не бывало продолжали сосать — попискивая, повизгивая, постанывая. Товия раздвинул траву. Когда я подошел ближе и рядом упала моя тень, он обернулся.
— Вишь, что творится?! — сказал он.
Я кивнул. Зрелище было отвратительное.
— Надо их прикончить, — покачал головой он.
— Гм…
И вдруг рядом вырос Иоаханан. Толстяк уставился на нас и захихикал.
— А вы тут, оказывается, разговоры разговариваете!
— Какие еще вы? — выпрямившись, спросил Товия.
— Какие еще вы? — почти одновременно подхватил я.
— Тоже мне, нашел шатию-братию! — произнес Товия угрожающим тоном человека, привыкшего к одиночеству.
— Я подумал… — замямлил Иоханан.
— Можешь думать все, что тебе заблагорассудится! — рявкнул Товия. — Только убирайся отсюда. Это сотворил я, и никто другой.
Он ткнул пальцем в яму и наклонился над мышатами. Взяв в руку одного, сунул его под нос Иоханану. Тот отпрянул.
— Мне нужно их убить, — сказал Товия. — Или хочешь сделать это сам? Я попал заступом в нору.
И… скорее для самого себя… пробормотал:
— Они такие крохотные, такие беззащитные. Рано им умирать-то.
Затем снова поворотился к Иоханану и заорал:
— Чего лыбишься?!
С Иохананом никто так прежде не разговаривал. Он выделялся среди нас своей холодностью, от него пробирал озноб. Работник он был никудышный, любил пофилонить, хотя умел пристроиться к настоящим трудягам. Вечно ему попадала в палец заноза и ее надо было вытащить. Или он стирал ноги. Или хотелось попить водички. Он находил себе во время работы любое иное занятие. Его нежные девичьи руки никогда не пачкались, на них никогда не образовывались мозоли.
Никто, однако, не решался и слова сказать против Иоханана.
Товия был первым. Он обнажил тайную ненависть между Иохананом и остальными. Товия не постеснялся, и я чувствовал, что это должно кончиться трагически. Иоханан словно искал подобного случая. Он словно открыл для себя собственную ненависть. Теперь до него дошло. Теперь он понял кое-что про себя и про Товию.
— Ты что, не знаешь, с кем говоришь? — морща свой маленький нос, буркнул Иоханан.
Нас уже обступили товарищи, и Иоханан взывал к ним, безвинным… если таковые вообще бывают. Он проводил грань между собой и другими послушниками. Он даже подтянулся, чтобы больше походить на надзирателя, которым всегда стремился стать. В эту самую минуту он взял на себя роль. Недостатка в зрителях не было.
— Знаю, знаю, — сказал Товия и отвернулся от Иоханана.
Не знаю, что именно заставляет людей держаться особняком и сводит их вместе. Мы обращаем на кого-то внимание благодаря случайности. Нас высвечивают слова и поступки, то, как мы проявляем себя в разных обстоятельствах. До сей поры мы были безымянной массой, все ходили в одинаковом платье, все подлаживались под монастырский устав, все с одинаковой покорностью стояли рядом за работой, за молитвой, за чтением; голоса наши сливались в единый хор, хотя часть из них звучала ниже, а часть — выше остальных, в лицах же нельзя было выявить ничего особенного, ибо все мы жаждали праведности и надеялись исполнить Господне приуготовление нам. Мы смотрели вперед, а не по сторонам.
После того происшествия Иоханан стал искать встреч со мной. Впрочем, он и раньше держался поблизости, чувствуя себя неуверенно, поскольку я ни словом не обмолвился про историю с Амхарой. Я отвечал на его вопросы о погоде, о работе, о том, что читаю, однако сам бесед не заводил. Теперь я был убежден, что он ищет меня с умыслом.
— Этот Товия… почему-то любит работать в одиночку, — опершись о мотыгу и поглядывая на край поля, сказал Иоханан.
— Что ты говоришь? — отозвался я.
— Он редко присоединяется к остальным.
— Может, ему так больше нравится.
— Может, тебе тоже так больше нравится?
Я поднял голову, чтобы заглянуть ему в глаза, но Иоханан отвел их. Внезапно он как бы отстранился от меня — почесал нос, потер глаз, точно хотел вытащить залетевшую туда мошку.
После таких слов мне стало неприятно находиться с ним в одной обители. Интересно, что прежде меня не беспокоило его присутствие рядом. Я целиком отдавался трудам. С удовольствием жал сурепицу, чувствуя, как ее медвяный дух оседает на руках и поднимается к ноздрям, вязал из нее снопы и складывал в поле. Потом перебирался на полшага вперед, в крутой полумесяц тени.
Как прекрасно было бы тут без Иоханана… По утрам, перед восходом солнца, от поля веяло освежающим теплом, слитыми воедино запахами меда, ветра и пота. Но Иоханан вечно торчал сзади и леденил мне спину. Чего он, собственно, хотел?
Он хотел быть в курсе событий. Хотел всем заправлять. При том, что сам был ничтожеством. Он не испытывал страх, а был воплощением страха. Он не испытывал ненависть, а был воплощением ненависти. Надсмотр за всем и всеми был его способом существования, и мне оставалось только пожалеть Иоханана, однако меня раздражали его холодный рыскающий взгляд, его лоснящаяся физиономия с гладкой кожей, его руки, которыми он то и дело потирал лоб или щеки.
Все спины кругом ритмично склонялись к земле, изредка кто-нибудь заводил песню, и ее дружно подхватывали; пели все, даже Товия, один только Иоханан стоял в полный рост и что-то высматривал…
Он был гадок и отвратителен, горче полыни…
Его речи заманивали в силки, затягивали на тебе удавку.
Слова вроде были самые простые:
— Как по-твоему, сегодня не слишком жарко? Как по-твоему, сегодня не слишком сильный ветер?
И все же в них таилась угроза, которой хотелось бы избегнуть.
Ничего нельзя было сказать просто так.
— Сегодня ночью было прохладно.
— Значит, ты не спал?
— Нет, — говорил я и тут же поправлял себя: — Спал, спал. Конечно, спал.
А все потому, что я боялся, как бы Иоханан не проник в каждую щелочку наших мыслей, как бы не стал следить за нами и ночью, когда мы просыпались всего лишь затем, чтобы сходить по нужде. Тогда мы не вольны были бы распоряжаться собой даже в самых малых, самых интимных своих потребностях. Иоханан точно хотел разорвать нашу связь с самими собой, перекрыть путь от руки к орудию, от мысли к действию…
Ночью наши кровати в просторной спальне заливало лунным светом.
Однажды я проснулся от шороха и увидал Товию, который потихоньку выбирался из постели. Я перевернулся на другой бок, намереваясь спать дальше, как вдруг заметил блеснувшие в темноте белки Иоханановых глаз. И подумал: ничего, Товия скоро придет, он пошел справить нужду.
Товия, однако, не возвращался. Он пришел назад, только когда во мраке ночи загорланил первый петух. Возможно, Товия прилег снаружи, на земле. Помнится, Иоханан в свое время скорчил гримасу, услышав, что нам предстоит спать всем вместе. Кто-кто, а он к этому не привык, и я тогда предложил: выходи вон и заваливайся на теплом песке у стены.
На такое Иоханан не решался.
Товия же не боялся ничего. Я невольно все чаще думал о нем. Он осмелился возражать Иоханану, осмелился показать ему, кто такой Товия. Значит, он что-то собой представляет. Только что? Он выделялся своим одиночеством, своей замкнутостью, но нес это бремя спокойно, не искал избавления от него, не пытался сблизиться ни с кем из нас, иными словами, казался сделанным из другого теста. Он словно отсутствовал здесь. Наутро я прошелся взором по сидевшим за столом, увидел их пустые спросонья глаза, услышал, как они хлебают из мисок молоко, и подумал: «Каждый живет своей жизнью. Здесь скрывается много всякого, идут какие-то приготовления. У каждого из нас свое царство».
Три ночи кряду Товия уходил из спальни. Три ночи кряду Иоханан провожал его глазами. В четвертую ночь он тоже выбрался из постели и на цыпочках пошел следом. Я вскочил и нагнал Иоханана сразу за воротами.
Он удивленно обернулся.
— А, ты тоже не спишь, — сказал я и, раньше Иоханана подойдя к монастырской стене, встал помочиться.
Иоханан присоединился ко мне, но взгляд его шарил по окрестностям.
— Тебе что, не спится?
— А тебе?
Мы стояли напротив друг друга.
— Жарища, — сказал он, продолжая рыскать глазами.
— Это точно.
— Ну, теперь будет легче.
Иоханан нехотя вернулся со мной в обитель. Я больше не заснул; вероятно, он тоже, хотя мне было плевать на него. Я думал о том, кого и что я пытаюсь защищать. Товию или самого себя? А может, право принадлежать себе — несмотря на обеты, данные монастырю? Беспрекословное подчинение. Беспрекословная преданность. Похоже, Товия нарушал эти обеты.
Его присутствие порождало тревогу и разлад с самим собой. Монастырь перестал быть для меня всем миром.
По ночам я теперь мысленно шел за Товией. Шел в другую жизнь, о которой ничего не знал. Я понимал, что за пределами обители живут люди, рассуждающие иначе, чем мы, подчиняющиеся иным законам. Их одиночество и их общность отличались от наших. Были ли они глубже и крепче?
Едва ли. И все же они стали притягивать, соблазнять меня. Иоанн не хотел, чтобы я прятался за монастырскими стенами. Он считал, что мне надо оставаться в миру, тогда как я хотел быть рядом с писаниями, дабы все глубже проникать в них, приближаться к Слову Божию во всей его чистоте и обнаженности.
* * *
Однажды наступил наш с Товией черед ехать за водой к источнику. Мы навьючили на ослов кувшины и вывели животных из стойла. У ворот нам встретился Иоханан.
— Ага, сегодня ваша очередь, — сказал он.
— Да.
— Похоже, вы хорошо трудитесь вдвоем.
Но мы уже миновали ворота и выехали за пределы монастыря.
Товия был впереди меня. По бокам ишаков болтались пустые кувшины, и когда Товия обратил на них внимание, то принялся стучать по ним пальцами: бум, бум, бум… Утро было раннее, ослы легко бежали мимо полей, где работали наши товарищи.
Я последовал примеру Товии и тоже забарабанил по кувшинам. Они были прохладные и приятные на ощупь.
— Отличное сопровождение утру! — вскричал я.
Кончики пальцев плясали по холодной поверхности.
Казалось, ты играешь не на кувшинах, а на всем окружающем мире.
Казалось, барабаном тебе служит само это утро, разносившее наше «бум» далеко окрест — по всей равнине, на которой не покладая рук трудились ради будущего урожая люди. Наш барабанный бой покорил горы с их безмолвием, захватил водную гладь, взял в полон солнце, что поднималось на востоке и заливало красным сиянием скалистые вершины, кряжи и правый бок наших ишаков. Капли росы на их короткой шерсти высохли, мои пятки ритмично вонзались в теплое мягкое брюхо.
Это было похоже на путешествие в раю.
Но мы ехали не в раю, а по земле. Ехали здесь и сейчас. Я ощущал легкость во всем теле… впрочем, на меня часто находили приступы любви к этому миру. Казалось, даже Товия со своей согбенной спиной и тяжелой окладистой бородой, которая тянула его вниз, склоняла уткнуться носом в землю, тоже чувствовал: мир есть любовь.
С этим бум… бум… бум… мы ехали к источнику под тамариском.
И вдруг Товия придержал своего ишака, чтобы я поравнялся с ним.
— Он ведь второй раз на это намекает, а?
— Кто?
— Иоханан. Дескать, у нас с тобой есть общий интерес.
Привычный к подозрительности Иоханана, я уже выкинул его слова из головы.
Я хотел было рассказать Товии о ночной слежке за ним, однако он упредил меня новыми вопросами:
— Кто такой этот Иоханан? И кто такой ты сам?
— Я назарянин, — сказал я… и понял уклончивость своего ответа по сравнению со всеми прочими, вертевшимися у меня на языке.
— Это я и без тебя знаю. А еще?
— Я друг Иоанна… вернее, бывший друг. Мы с ним вместе росли.
— Иоанн одержимый, — усмехнулся Товия.
— Может быть… А ты разве нет? Скажи: во что ты по-настоящему веришь?
Он задумался.
— Во что ты веришь? — без малейшего смущения повторил я.
— Этот вопрос ты задаешь всем подряд, — улыбнулся Товия. — Сам слышал. Одних он приводит в замешательство, других в волнение. И что тебе отвечают?
— Разве про такое нельзя спрашивать?
— Меня спрашивай на здоровье, я не против. Мне интересно, какие ты получаешь ответы.
— Тем, кто говорит, что верит в Закон и Писания, не верю я сам. Нельзя верить в слово. Слово приходит извне. Кто-то сказал им: если ты веришь в это, значит, ты верующий. Но какой за всем этим смысл? Понятия не имею. И мне больно от моего непонимания. Тут слишком много противоречий, смешения высокого и низкого, истории. Мне бы тоже хотелось, чтобы такой вопрос был невозможен, чтобы на него не давали ответа. Они прячутся за своей верой. Читают тебе мораль и с кривой ухмылкой ставят себя выше всех. Грозятся пойти к раввину и указать на тебя: «Вот неверный». Только какой же я неверный? Я хочу одного… и убежден, что это возможно… Истинная вера должна охватывать всё-всё-всё: ты начинаешь видеть деревья, прежде чем они вырастут в деревья, птиц — прежде чем они станут птицами! Ты видишь все чуть раньше. И проникаешься любовью. Посвящаешь себя любви. Твою жизнь озаряет новый свет. И свет этот всеобъемлющ. Понимаешь?
Товия молча кивнул.
— Хочется не ходить Путем Истины, а быть истиной. Хочется не получать знание, а самому быть знанием. Вот какое во мне горит желание, и оно будет снедать меня, пока не осуществится, а до тех пор я буду пребывать в отчаянии, но это отчаяние не из тех, которое может сломить меня, это великое, искреннее отчаяние борьбы… Значит, говорят, я задаю слишком много вопросов? Что ж, пожалуй, они правы.
Я умолк. По желтому песку блуждали столбики смерчей, уже крепко припекало, и вверху появилась дымка, а над поверхностью пустыни повисло просвечивающее желтым марево, и эта его желтизна напомнила мне о том, что совсем недавно все окрест было ярко-желтым, а небо — ярко-голубым, что час прохлады миновал, но непременно вернется завтра и послезавтра, что я всегда буду окружен красотой, хотя безобразного вокруг будет ничуть не меньше… а может, и больше.
— Почему ты замолчал? Разве ты не рад за себя? Ведь тебе дано знание…
— Я безумно одинок в своем знании. И чувствую себя все неуютнее. Вот почему я выспрашиваю других. Я выспрашиваю их, дабы рассеять свои сомнения, дабы убедиться, что не один я столь сильно ощущаю в себе единение. Единение со всем сущим и дышащим, с тем, что давно умерло, и тем, чему предстоит новая жизнь — либо на прежнем месте, либо где-то еще. Когда я слышу уклончивые ответы, меня обуревает страх. Кажется, весь мир существует только затем, чтобы усиливать мои сомнения. Как будто в этом и состоит его предназначение…
— А я тебя заметил как раз из-за твоего выспрашиванья. Кое-кому оно шибко не нравится. С месяц назад, в утреннюю смену, один монах — не важно, кто именно, — сказал про тебя: «Тот, который вечно обо всем расспрашивает». Вообще-то я больше помалкиваю, а тут стоял рядом и встрял. Говорю: «Тот, для кого нет ничего святого? Кто он такой?» Теперь я вижу, что ошибался насчет тебя. А они продолжали твердить свои глупости, так что я ничего не разузнал.
— Ты не ответил мне, Товия. Во что веришь ты сам?
— После твоей критики разных ответов мне страшно и рот раскрыть.
— Нет-нет, Товия, ты меня неправильно понял.
— Я все понял правильно. И мне забавно, что я тоже рассуждал вроде тебя, хотя исходил из другого. Я исходил из ненависти. Из ненависти к собственному отцу. У него были друзья. Все, как на подбор, люди зажиточные. Все отнюдь не пособники римлян. Все были — да и теперь остались — фанатичными иудеями. Они верят в будущее нашей страны. Но бездействуют. Они верят в Закон. Собственно, они и есть Закон. Больше они ничего знать не хотят. Они замечательно разглагольствуют о мире, о том, как воевать против тьмы, как сражаться за свет. А что они делают? Поэтому я верю в то, чего не видит мой отец с друзьями: что они стоят на пути перемен. Можно сказать, я верю в преобразования.
— Вечные преобразования?
— Мне не важно, будут они идти вечно или нет. Я к вечности отношения не имею. У меня есть друзья. Есть цель, для достижения которой придется положить и мою жизнь, и множество других. Я не намерен становиться вождем, мне не надо выдвигать идеи. Мне… Возможно, я говорю загадками. Возможно, я просто одержимый… вроде Иоанна.
Товия задумался.
И чуть погодя продолжил, с улыбкой повернувшись ко мне:
— Только зачем Иоанну его одержимость? Что он может свершить для народа?
— Мы с ним слишком давно знакомы, — сказал я. — Он тоже бесстрашный, а?
— Что значит тоже? Ты о чем?
— Ну, как и ты… Ты ведь не побоялся Иоханана. В тот день, когда разрубил мышиную нору.
— Лучше не вспоминать… Чего стоит этот ухмыляющийся Иоханан?.. Кстати, кто он такой?
— Я хотел тебе сказать, Товия…
Мне было легко говорить с этим одиноким человеком. Потому что никакого одиночества тут не было. Было лишь бремя, которому я даже завидовал.
— Он следит за тобой, Товия, когда ты исчезаешь по ночам.
Товия насупился:
— Почему ты мне об этом говоришь?
— Я хотел предупредить тебя, если ты…
— Если я что?..
— Я не собираюсь вмешиваться в твою жизнь. Ею распоряжаешься ты сам. Я только хочу, чтоб ты знал.
— Спасибо.
Источник был прохладный и прозрачный. Рядом рос тамариск. Мы поставили ослов в узкую тень и принялись черпать воду. Босоногие, мы плескали ею на ноги, обмывали руки и лица. Товия сорвал плащ и опрокинул на себя целое ведро. Тут я увидел его спину. Она была исполосована рубцами от ударов бича. Сплошь, от шеи до крестца и ниже. Когда Товия повернулся, я обнаружил такие же следы у него на груди.
— Что это, Товия?
Грустно улыбнувшись, он вылил на себя новое ведро.
— Дар от земного отца.
— Но почему?
— А почему нет? — хмыкнул он. — Так устроен мир.
— Ни в коем случае.
— Именно так. Ты просто еще мало в нем смыслишь. Отец хотел вбить в меня Бога.
— А потом отправил сюда?
— Нет. Он даже не знает, где я. Я сбежал.
— Как может Господь допускать такое?
— Господь? Ты у нас, оказывается, верующий. И ты тоже? Веришь, что какой-то Господь в силах нам помочь. Вот удивил так удивил!
Товия скорчил гримасу и оделся.
— Почему же ты… почему же ты здесь, в монастыре?
— Чтоб до меня не добрался проклятый папаша.
Если бы я не наблюдал Товию у норы с его нежностью к мышатам, которых ему предстояло умертвить, я бы теперь расплакался, ощутив пустоту мира. Мне вдруг стало невыносимо холодно, ноги снова утратили опору, земля заходила ходуном.
— Значит, Его не существует?.. Но как можно жить без веры в Него? Каким тогда видится мир?
Все кругом было пустым. Пустое небо. Пустой песок. Пустая вода.
Я рухнул наземь.
— Иногда… — чуть слышно продолжил я, иногда меня вдруг охватывает чувство единения с кем-то или чем-то. И чувство это бывает настолько сильным, что я как бы перестаю быть самим собой, превращаюсь в огонь Господень. Он горит в глубине меня, и ему не нужны слова, потому что он может проникнуть в любого человека. Иногда же я ощущаю только мрак и пустоту. А у тебя на душе всегда темно и пусто?
— Всё на свете — от мира сего. Всё-всё-всё. Бог, о котором ты толкуешь, господин только над самими священниками.
— Нет же, Товия. Ты не прав.
— Еще как прав. Мне ли не знать, если священником был мой отец? Скоро Бог станет властвовать и над римлянами. Вы, монахи, жалкие человечишки. Вы отгораживаетесь от мира. Не хотите знать ничего, кроме молитв и веры, а время-то идет. Брать на себя ответственность приходится другим.
Можно подумать, я не слышал этих укоров прежде. Можно подумать, я вообще слышал в жизни что-нибудь иное.
— Теперь на будущее работаем мы, — прибавил Товия.
И все же я спросил:
— А как люди берут на себя ответственность?
Он зачерпнул в ведро воды и внезапно окатил меня, одетого, с головы до ног.
— Примерно так, — засмеялся Товия.
Отряхиваясь и протирая глаза, я задал следующий вопрос:
— А что делать потом?
— Потом хорошо бы стереть с губ молоко.
Я машинально вытер губы.
— А потом?
И тут я услышал слово ПОШЛИ.
Оно было новым для меня. Оно протиснулось ко мне, найдя лазейку между прочими слышанными мною словами, между всем, чему я внимал, и всем, что я отрицал. Слово ПОШЛИ указывало новый, неведомый мне путь.
Я никогда себе ничего не запрещал, а тут привычная свобода почему-то вдруг сузила свои рамки. Разумеется, я и прежде делал выбор, говорил «да» или «нет». Но был ли то подлинный выбор?
Теперь мир — внешний мир — приступил ко мне с новым требованием.
Надо было предпринять какие-то шаги, чисто физические шаги. Куда-то идти.
Разве кто-нибудь говорил мне раньше ПОШЛИ? Иосиф всегда бросал: «Следуй за мной!» Мария призывала: «Веди себя прилично!» Иоанн сказал: ТЫ ЕСТЬ. Теперь кто-то говорит: ПОШЛИ.
За словом ПОШЛИ открываются невиданные дали.
Товия обвел меня вокруг холма, у подножия которого бил источник. На той стороне, под другим тамариском, щипали засохшую траву два стреноженных ишака. Тени от них были совсем короткие.
— Встретимся здесь ночью, — сказал Товия. — Смотри, чтоб за тобой не было хвоста.
В ту же ночь, ясную и звездную, мы с ним поскакали оттуда к Иерихону. Я не знал, чего ждать, не знал, для чего мы пустились в путь. Утром мы привезли в монастырь воду, а потом разошлись, не сказав друг другу ни слова, — каждый вернулся к своим обязанностям. Товия даже не посмотрел мне вслед.
Тюрьма располагалась в приземистом здании, затерянном среди барханов, врытом в них. Когда мы привязали ослов под редкими деревьями, Товия дал мне знак хранить молчание. Мы подкрались к решеткам. Внизу я различил застенки с арестантами.
Что это были за арестанты? Я повидал их в своей жизни немало. Они проходили через Назарет по дороге в узилище и обратно, после отбытия срока. Массу арестантов-пленников я видел еще в двухлетнем возрасте, когда их гнали из Сепфориса. Сколько их было? Тысяча, две? И вправе ли я говорить, что видел их, что понял происходящее, если мне было всего два года? Может, я отложил эти воспоминания в глубину, на дно колодезя? Туда, где жили рыбки?
Может, поэтому у меня печальный взгляд? В свое время я стал свидетелем «страшного события». И это событие никуда не делось, оно осталось во мне. Мне ведь некому было передать его. Хуже того, благодаря рассказам Иосифа оно все более укоренялось во мне, все сильнее давило. Иосиф выставлял меня перед слушателями едва ли не соучастником кошмара: дескать, несмышленыш мог выдать римлянам скрывавшихся за оградой назарян, а потому им готовы были пожертвовать ради спасения остальных. Вероятно, так тогда рассуждали все. И если б не Гамаль…
Мы лежали, прижавшись животами к решетке, а там, внизу, пытали узника.
Про пытки я тоже знал достаточно. Со всех концов страны шли слухи о том, что людей пытают — в темных пещерах, в дальних углах, неведомо где, и это были чьи-то друзья или знакомые, чья-то родня. Как будто мы все не родные друг другу! Как будто у нас не один Создатель! Но тут человека пытали у меня на глазах…
Он был преклонных лет, с седой, всклокоченной бородой. Руки у него были связаны, ноги разведены в стороны. Он болтался перед фонарем тюремщика, подвешенный за руки и похожий на распятие. Ему ткнули палкой между ног. Изо рта хлынула кровь.
— Надо что-то предпринять, — шепнул я Товии.
Он посмотрел на меня с невероятным спокойствием. Даже с презрением, от которого меня бросило в дрожь.
Почему я такой наивный?!
Почему не понимаю, что так устроен мир?
Что подобное творится вокруг денно и нощно?
Я всегда считал, что мы живем исключительно внутри себя. Что все прочее, вроде страданий и зла, должно пролетать мимо, как пролетает мимо запах шалфея или тимьяна, если мы ненароком заденем их. Зло… оно ведь не «всамделишное», правда? А что «всамделишное»? Товия не дал мне погрузиться в размышления, извечно заменяющие собой действие. Он потащил меня назад, туда, где мы оставили ишаков…
— Что можно предпринять? — не унимался я, чувствуя всю безнадежность, всю бесполезность моих слов. — В чем провинились эти узники?
Товия вел своего осла чуть впереди.
— Ну вот, ты и посмотрел, — сказал он.
— Но что они сделали?
— Единственно возможное. Это мои друзья. Скорее всего, мне тоже не миновать темницы.
— Они зилоты?
— Да. Как и я.
— Значит, у тебя должен быть кинжал…
Он вытащил из-под полы кинжал и, чуть заметно улыбнувшись, протянул мне.
— И ты… — сглотнул я, — ты кого-нибудь убил?
— Какая тебе разница? Скажи лучше: хочешь быть с нами?
В ту ночь мне преподносили один сюрприз за другим. Навалилось сразу слишком много. Мир изменился до неузнаваемости. Все предстало в ином свете, хотя света, собственно говоря, не было, стояла кромешная тьма. Нет, убивать я бы не смог. С каждым убитым умирала бы и часть меня. Что я и выложил Товии.
— Но разве не умирает часть тебя и тогда, когда люди гибнут от рук римлян и их пособников?
— Все-таки я боюсь. Может, есть другой способ?
Товия пожал плечами:
— Ладно, поехали.
Я старался не отставать. Когда мы удалились в пустыню, я прокричал ему:
— Обязательно должен быть третий путь! Средний между действием и бездействием. Он существует…
— Значит, ты не с нами?
Товия произнес эти слова громко, но довольно равнодушно. Как будто ему не было до этого дела. Как будто он просто разглядел всю мою подноготную.
И так же безразлично добавил:
— Наверное, придется тебя убить. Теперь ты знаешь, кто я такой.
— Я не предатель.
— Ты же предал Иоханана!
— Он доносчик.
— На которого донес ты.
Наконец Товия придержал ишака. Оборотился ко мне. Улыбнулся.
— Пойми, наступит день, когда нам будет не до обсуждения этих вопросов. Мы оба станем старше, и нам будет угрожать реальная опасность. Тогда это будет вопрос жизни и смерти.
И такой день наступил, хотя намного старше мы к тому времени не стали.
Товия терпеливо растолковал мне, что для освобождения узников следует дождаться «подходящего случая». Если бы мы в ту ночь прикончили палача из лука, толку от этого не было бы никакого. Место одного истязателя заняли бы другие. Тюремщиков там хватает. Сами арестанты ослабели. Зилотов поблизости нет.
— А ты… от тебя проку было бы мало.
— Ничего подобного. Я мог бы…
— Довольно, Иисус. Я знаю, намерения у тебя самые благие.
Я вскипел от гнева:
— Ты хочешь сказать, я ни на что не гожусь?
— Тут нужна тренировка. Нужна стратегия. Надо давно и точно знать, чего ты хочешь. Надо зайти по этому пути так далеко, чтобы не думать о возврате.
После таких назиданий он обычно уходил, а они оставались витать в воздухе над полем, где мы трудились.
Словно письмена, которые касались нас всех.
Касались Иоханана. И хромого монаха. Касались тех моих сверстников, что гнули спины под палящим солнцем, и тех, что выходили из монастыря с восходом солнца, пока еще рассеивался ночной туман. Каждого из них слова Товии объясняли по-своему. И я видел, что многие, в том числе я сам, были людьми слабыми, тогда как другие обретали силу. Это было слышно по их разговорам — даже о самых, казалось бы, пустячных вещах. Это было заметно по тому, как они, кланяясь земле, орудовали мотыгой между рядами бобов и масличных всходов.
«Не думать о возврате».
А несколько самых юных послушников, затаившись посреди горчичного поля, шептали:
— Давайте сбежим к морю.
И они, пригибаясь, пытались скрыться с рабочего места, но их обнаруживали и водворяли обратно.
«Не думать о возврате».
А внизу ехал по дороге в Иерихон старик. Вез на продажу ткани, весело переливавшиеся в его тюках желтым и красным. У источника он спешился и зачерпнул испить воды.
«Не думать о возврате».
А в долине ходили меж лачуг женщины с кувшинами — мелькнут на миг и скроются. О чем они вели речь, какие загадывали желания, какие лелеяли мечты, какие их надежды не сбылись? Знали ли они о начертанных в воздухе письменах? Не древних, а самых что ни на есть современных… О словах, что могут прийти издалека или из ближайшего их окружения, словах, побуждающих к действию, словах, которые на следующей неделе или в следующий миг вынудят этих женщин ходить другой дорогой, иначе гнуть спину и воздерживаться от речей, сегодня легко и свободно слетающих с их губ.
— Если ты спросишь меня о насилии, — говорил Товия, — я могу сказать одно: оно есть. Причем совсем рядом, поскольку к нему прибегают везде и всюду. Теперь ты это знаешь. Как знаешь и то, что необходимо защищаться. Все очень просто. Такие вопросы могут задавать лишь наивные люди, идущие по жизни с закрытыми глазами.
Итак, однажды настало время действия. Ночью Товия покинул монастырь, и я последовал за ним. Когда он пришел туда, где стояли ослы, там уже собрались люди, целый караван.
— Возвращайся, — велел мне Товия.
— Нет, я хочу с тобой.
— Я тебе запрещаю.
— А что, собственно, будет такого?
— Мы идем вызволять друзей. Тебе там делать нечего.
Я не послушался. И бежал вдогонку до самого Иерихона. Увы, я опоздал. Зилоты сумели взять приступом темницу, но их ожидала засада. Часть узников удалось освободить, другие погибли.
Погибло и много римлян. Но зилотов кто-то предал. Из груди шедшего мне навстречу Товии текла кровь. Я кинулся к нему, подставил плечо, на которое он оперся.
— Ты что, не слышал? Я велел тебе вернуться.
— Я помогу тебе залезть на осла.
Товия горько рассмеялся:
— От этого будет мало проку. Жить мне осталось недолго. Разве ты не видишь во мне смерть?
Нет, смерти я не видел. Я видел Товию исполненным жизни, видел жизнь, светившуюся в его глазах, и жизнь вокруг него, мрачную, тягостную жизнь, в которую он тем не менее верил и которую избрал для себя. Он осел на землю, и, когда я разорвал на нем рубаху, из нанесенной мечом раны хлынула кровь. Она тут же обагрила мои руки, мое платье. Издали доносились крики и приказы легионеров. Сейчас мы были скрыты от них скалой, однако с рассветом нас непременно обнаружат.
— Уходи, Иисус. Не хочу, чтобы и ты оказался замешан. Скоро римляне будут здесь, и тогда ты попался. Ни к чему втягивать тебя в неудавшееся дело.
— Но я уже втянут.
— Ты еще можешь исчезнуть. И никто не узнает…
— Достаточно того, что знаю я сам. В безмолвной пустыне мне предстоит серьезный разговор с собой. И у меня перед глазами будет стоять твое лицо. Твое и твоего тюремщика.
Лежавший на спине Товия слабо улыбнулся:
— И что ты скажешь тюремщику?
— Я не собираюсь ему ничего говорить. Я отомщу за тебя. Я… Дай мне кинжал, Товия.
— Ну уж нет. Ты хоть знаешь, как его вонзают в живого человека? Знаешь наши самые уязвимые места?
— Подскажи. Я сумею.
— Нет.
Товия не находил себе места от боли. Наконец он перевернулся на бок и продолжал:
— Если тебе понадобится помощь, иди к зилотам. Расскажи им о сегодняшней ночи. Нас постигла неудача, пусть им повезет больше. Только, пожалуйста, когда я умру, не забирай кинжал. Обойдись без него. Если зилоты увидят тебя с кинжалом, а потом догадаются, что ты не умеешь им пользоваться, они заподозрят неладное. Стань их другом, но не пытайся сам стать зилотом. У тебя слишком мягкое сердце. Ой! Помоги!..
— Чем я могу помочь?
— Больно. В бутылке есть вода. Дай напиться.
Я поднес ему бутылку к губам, и он сделал несколько больших глотков.
Я положил его голову себе на колени.
— Боишься умирать, Товия?
— Какой ты все-таки чудак, Иисус! Вечно задаешь странные вопросы.
И, опять чуть приметно улыбнувшись, все-таки ответил:
— Пожалуй, нет. Но мне обидно, что я мало успел совершить. Мир-то страдает. Мне было отпущено двадцать лет жизни, а я сгодился лишь на то, чтобы попасть в засаду. Скверно, очень скверно. Получается, что я напрасно дышал! Напрасно ел и спал! Напрасно столько разговаривал с людьми, напрасно столько читал! Все было напрасно.
Кровь Товии стекала по моим рукам, заливала собой пустыню, доходила до самого горизонта, распространялась по небосводу.
— Дай мне что-нибудь с земли! Хочу подержать в руках…
Я нашарил среди сухой травы стебель, цветок. Подкопавшись, вырыл его из песка с корнем.
Товия взял растение обеими руками и долго разглядывал при свете звезд.
— Замечательный цветок, — наконец сказал он. — Знаешь, как он называется?
— Нет. Я его не раз видел, но…
— Это арника, баранья трава. Она растет повсюду, а названия ее никто не знает. Зимой, когда в горах делается совсем пусто, ее желтый венчик… бросается в глаза издалека… Воды, дай воды!
Вода кончилась.
— Чем я еще могу тебе помочь, Товия?
— Помолись за меня.
— Так ты верующий?
Можно подумать, его ответ имел теперь какое-то значение.
Впрочем, ответа я не дождался.
* * *
Когда умерла та часть меня, что была Товией, я поспешил через равнину обратно в горы, в монастырь, взглянуть на другую мою часть, ту, что была предателем. На берегу мне встретился косоглазый. Ему было худо. Он притащился к морю со своим злым духом. И дух этот поверг монаха на землю. Он рухнул передо мной, изо рта у него текла слюна, свирепы были объятия Мастемы.
Какая, однако, простая у косого жизнь! Плохая или хорошая. Тяжкая или свободная от ответственности. День и ночь даровал ему Мастема. Наземь его опрокидывал Мастема. Мастема распоряжался им и обходился, как с грудой безжизненной материи. Передо мной лежала трясущаяся масса, которая дергала ногами и размахивала во все стороны руками. Это даже не распугало крабью мелюзгу, а уж мух налетело видимо-невидимо, особенно когда я разжал ему зубы, чтоб он не задохнулся от собственного языка.
— Не ходи в обитель, Иисус, — проговорил косоглазый, когда приступ кончился. — Там тебя ждут. У ворот стоят римляне.
— Но почему?
— Ты дружил с Товией. А он ночью погиб в засаде. Кто-то видел вас вместе.
— Кто?
— Иоханан. Вчера вечером он говорил с лазутчиком из римского лагеря. Я сам слышал.
Я уже догадался, кто это был. Теперь мне нужно было посмотреть ему в лицо.
— А ты тоже был другом Товии?
Косоглазый кивнул. Приступ измотал монаха, но взгляд его был ясен и разумен.
— Если б я знал, что ты замешан… — сказал он.
— Я сам толком не знал. Хотя мы с Товией действительно дружили.
— Гм… Оказаться замешанным — дело нехитрое. Ты и сам не замечаешь, когда это происходит… Иди-ка лучше берегом. Обогни монастырь и шагай дальше вдоль моря. Сгинь отсюда… У римлян кругом шпионы. Они будут мстить. Впереди трудные времена.
Но мне обязательно надо было заглянуть в лицо Иоханану. Я спросил у косого, где он может обретаться, не в римском ли лагере.
— Вот уж нет, туда он пойти не отважится. Предатель не иначе как корпит над рукописями.
И тут я увидел лицо Иоханана. Оно заслонило собой всю долину: гладкое, как поверхность озера в безветренную погоду, с холодными глазками — лодками на этом озере. Я увидел его тонкие губы, вкрадчивую улыбку. Увидел его руки на подоконнике: слабые тонкие пальцы барабанили по горам и лугам. Увидел то, что видел он: копошившихся в поле людей, согбенные спины, капли пота, блестевшие по всей долине. Я увидел человеков в поте лица их, такими, какими они виделись Иоханану. И увидел, что он боится встретиться с ними взглядом.
Ему было семнадцать, и он был предателем. Мне тоже было семнадцать, и я был предан. Под одним солнцем, в одних горах, среди одних песков.
Кто ему что посулил? В какое царство он чаял войти? Куда заведут его одиночество и ненависть?
Монах приподнялся и сел.
— Иоанн перед уходом просил за тобой приглядеть. А я, вишь, не справился. Дурной я человек, дурной…
— Ты мне очень помог, старик. Чего же боле?
Мне было неприятно слышать про Иоанна.
— Иоанн сказал, ты сам знаешь, что творишь. Он сказал, тебя кто-то ведет, и ведет правильно. А еще он сказал…
— Да что ты талдычишь про этого Иоанна?! — вскричал я.
Старик умолк. Но я продолжал слышать его внутри себя. На меня опять снизошло озарение, позволявшее проникать в суть вещей, которую я пока не умел выразить словами. Может быть, потому, что во мне скрывалось слишком много слов.
Совсем недавно я был мальчишкой, гордившимся своей невинностью. Теперь с правой стороны наметилось темное пятно — там поселилось насилие, которое терзало меня, пытаясь всеми правдами и неправдами проникнуть на левую сторону, захватить мои мысли…
— Тебя очень мучит бес? — не удержался от вопроса я.
И тут же вспыхнул. Но сказанного не воротишь.
Похоже было, что, крича, я сам взывал о помощи, об избавлении от мук.
Мне хотелось понять, открыта для меня одна дверь или закрыта.
Я не мог уйти просто так, а потому дождался, когда старик обратит ко мне свой косой взгляд и кивнет.
«Я должен это сделать, непременно должен», — подумал я.
И дрожащей рукой осенил монаха крестным знамением.
Потом, сглотнув, сделал шаг назад.
— Изыди, Мастема!
И воздел над стариком окровавленные руки.
— Изыди, сатана! — повторил я.
И… Я не мог провалиться сквозь землю. Не мог взлететь в воздух, отринув свое истерзанное тело.
Понятное дело, ничего не произошло. Совсем ничего. Старик еще долго сидел тихо, приготовившись к чуду. Потом стал скрести руками по песку. Сначала спокойно, неторопливо, затем все более взволнованно. Наконец он откинулся назад (я стоял на прежнем месте) и упал на камень, но упал не свободный от бремени, а непонимающий, и замотал головой, и потянулся рукой к затылку… Я отвернулся и пустился бежать.
* * *
Ночевал я среди мусорных куч. Я не собирался спать там, просто наступившая ночь была темная, беззвездная. Вокруг нестерпимо воняло разлагающимися отбросами, я слышал, как шебаршатся крысы, из пустыни доносился вой шакалов.
И все-таки я спал, хотя сны мне снились страшные. Я видел сон про корабль, который шел в Индию. Я служил на корабле писцом.
Мы везли арестантов.
Они были в трюме, среди крыс, в кромешной тьме. Отпетые мошенники и воры, сказали мне, когда я в белых одеждах сидел на палубе, наблюдая за богатыми искателями приключений, ехавшими на окраину империи, дабы расширить свое дело и приобрести еще большее влияние.
Я подумал: надо познакомиться с жизнью злодеев. Тех, кого не соблазнили Иоанновы идеалы.
Я спустился к Сынам Тьмы со стражником. Вонь там стояла несусветная. Я пробирался вперед, нащупывая путь рукой, хотя мой сопровождающий вовсе не советовал мне туда идти. Возможно, он согласился лишь потому, что решил: я намерен покуражиться над ними, как куражились при отплытии купцы, как куражились лучники, когда на горизонте не было пиратов и можно было, накачавшись винища, разгуливать по всему кораблю, мочиться и отправлять прочую нужду прямо в трюм.
Швырнув узникам несколько кусков сухого хлеба, конвоир сказал:
— Ну вот, покормили. Теперь лезем обратно на свежий воздух.
— Я хочу побыть тут.
— Это будет неразумно. Пошли.
Я чуть не задыхался в трюме, но попросил конвоира выпустить меня оттуда позже.
— Так и знай, писец, тебя прибьют.
Я еще не освоился в полутьме. Наконец я разглядел узников.
— Да они скованы.
— И все-таки с ними надо держать ухо востро. Сильные бугаи.
— Приходи за мной через некоторое время.
Пожав плечами, караульный ушел. Люк наверху захлопнулся, я остался во мраке со звоном цепей: это узники накинулись на сухари.
Но вот звон прекратился. Арестанты наверняка заметили, что я не ушел. Они были привычны к темноте. Они видели меня, а я их не видел. Я слышал их дыхание и знал, что их должно быть четверо, краем глаза углядел это, когда их перед отплытием взводили по трапу. Научите меня, научите жить без идеалов, молил я про себя.
Тишина становилась невыносимой. Кандалы даже не позвякивали: видимо, узники затаили дыхание.
Они точно меня видят, подумал я. Меня выдает белое платье.
Не видеть самому было ужасно. Я протянул в их сторону раскрытую ладонь, показывая, что она пуста, что в ней ничего нет, но арестантов я по-прежнему не видел. Зачем я туда напросился? Мне совершенно нечего там делать, а их, скорее всего, переполошил.
И тут распахнулся верхний люк.
— Выходи! — закричал конвоир.
— Хорошо, — сказал я и вылез.
— Доволен? — ухмыльнулся он.
Я весь провонял трюмом и поспешил сменить платье; вымыв руки, я опять сел под тент. Купец угостил меня вином.
— Ты как-то странно выглядишь, Иисус.
— Я спускался к арестантам.
— Чем бы дитя ни тешилось!
— Но я их так и не увидел. Там было слишком темно.
В ту ночь мне не спалось. Я сидел у борта и любовался звездами, вслушивался в кипение волн. Лучники, сомлев от вина, заснули, со всех сторон меня окружали лишь звуки природы, громкие и чистые. Мне нужно посмотреть на арестантов! — думал я. Вглядеться в их лица! Я хочу опять в трюм, хочу услышать их голоса.
Наутро я ждал возле трюмного люка: сидел, скрестив ноги и закрыв глаза — чтобы скорее привыкнуть к темноте. Когда появился конвоир, я взял у него сухари.
— Дай, я справлюсь сам.
— Невелика премудрость.
Я хотел подойти к ним как можно ближе, а потому сразу двинулся вперед. Я хотел по-настоящему приблизиться к ним, а потому не бросал хлеб, а протягивал к их губам. Я хотел заглянуть им в глаза, а потому опустился на колени, и моя одежда сразу пропиталась мочой и испражнениями.
Тут я увидел, какими короткими цепями скованы узники: такими короткими, что они не всегда могли дотянуться и поднять хлеб с пола. Я покормил их из рук.
— Чего тебе надо? — вдруг спросил один.
— Почему вас везут в трюме? Что вы такого сделали?
— Спроси об этом наверху.
На следующий день я опять пошел туда. Теперь я взял с собой воды… Я хотел разглядеть их лица — и отмыл с них грязь, я хотел услышать их голоса — и дал им напиться.
— Ну что, спросил наверху?
— Нет.
— Кто ты такой?
— Писарь у купца, которому принадлежит судно. А ты?
— Уж и не знаю. Раньше у меня были семья и дети…
Так я завел знакомство с арестантами. И не проходило дня, чтобы я не спускался к ним, потому что хотел послушать их рассказы о том, о чем догадался сам: истинными ворами и мошенниками были люди, чей хлеб я ел и чье вино пил. Купец оказался насильником, в трюме находились его жертвы.
Они ждали меня. Я помогал им смыть грязь, я кормил их, и они тоже знакомились со мной.
А между посещениями трюма я сидел за одним столом с купцом и слушал его истории.
— Представь себе, за прошлый рейс я выручил столько, что хватило построить дом в Александрии. Помнишь мой дом, с красными воротами? Правда, замечательный?
Дом и впрямь был замечательный. Там был сад с фонтанами, там благоухали орхидеи, привезенные купцом из Индии, там царили тишина и покой.
— Будешь умником, тоже внакладе не останешься. При твоих-то способностях…
Но однажды, когда над аравийским побережьем всходило солнце, мы подошли к торчавшему из моря скалистому черному островку. Он был плоский и совершенно голый, без единой травинки, — каменная глыба метров сто в длину и столько же в ширину. У подножия глыбы свирепо бились волны. Когда мы приблизились, лучники открыли трюм и вывели арестантов на палубу. Под угрозой оружия их подогнали к борту.
— Тебе предстоит забавное зрелище, — сказал купец.
Корабль стоял у самой скалы, и одного узника заставили перелезть через планширь, но его освобожденные от цепей ноги настолько ослабли, что он споткнулся и упал между бортом и утесом. Когда судно приподняло волной, мы раздавили несчастного. Сначала из воды еще торчали руки с растопыренными пальцами, которые он тянул к солнцу, однако в следующий миг что-то дернуло тело вниз, мелькнула барракуда, и вода стала краснеть.
— Жаль, — проговорил купец, обнимая меня за плечи.
— Что ты задумал? — спросил я и обернулся к троим оставшимся узникам. Их уже тоже расковали, и теперь они неуклюже ступали по палубе, с мольбой протягивая ко мне руки.
— Сейчас увидишь, — сказал купец… и поворотил мою голову к черной скале.
И я увидел, что она кишмя кишит змеями. Они торопливо сползались со всех сторон, их гладкая кожа отливала на свету то черным, то синим, то зеленым. Змей было не счесть — даже не десятки, а сотни. Арестанты тоже заметили их и, упав передо мной на колени, истошно завопили:
— Спаси нас, спаси! Ты же…
Вокруг стояли красивые девушки в белых, развевающихся на ветру туниках. Они поспешили к борту, только бы не пропустить интересное зрелище. Что я мог поделать?
— Неужто обязательно посылать их на смерть? — спросил я. И содрогнулся, потрясенный безволием своего голоса.
— Для работы они больше не годятся, — пожал плечами купец.
— Но ведь они ни в чем не виноваты. Это просто…
И умолк.
— Мне кажется, ты повредился в уме от своих вылазок в трюм. И подумай: я обещал лучникам сие маленькое удовольствие. Они обожают этот остров. Негоже лишать их такой радости. Они ведь могут и рассердиться. Надо принести кого-то в жертву. А ты едва ли согласишься пожертвовать собой. Не согласишься, верно?
Все мы мечтаем быть безгрешными. Мечтаем забыть о своем «я». Мечтаем отречься от себя ради других.
Мое минутное замешательство положило конец крикам: возможно, сначала арестанты молчали в изумлении, затем — с надеждой, а когда я покачал головой — от ненависти.
Потому что я таки внушил им надежду. Потому что они стали увереннее смотреть в будущее. Зато как же они возненавидели меня!
И по праву. Во мраке их существования я был светлым образом, укреплявшим их силы. Теперь силы оказались им ни к чему… Но ведь эти арестанты никоим образом не близки тебе. Они что, твои братья, твоя родня, твои соплеменники?
Нет, нет и нет. У меня вообще нет на земле близких. И отдавать свою жизнь мне не за кого. Таких людей нет.
— Что ты сказал? — спросил купец.
— Я?
— Мне показалось…
Неужели я говорил с ним? Я не мог вспомнить его голос. Неужели он в самом деле спросил меня, не хочу ли я пожертвовать собой? Я посмотрел на купца: он лузгал семечки и выплевывал шелуху в море. Неужели эти люди умоляли меня спасти их?
Я и сам не знал. Между тем их заставили перелезть через поручни и вытолкали на скалу, они в обнимку стояли с краю, и к ним уже стали подползать змеи… внизу вспенивали воду акулы и барракуды. Арестанты больше не кричали, теперь слышался лишь грохот разгулявшихся волн, которые подбрасывали корабль все выше и выше, и кормчий уже повернул штурвал, и мы стали отходить от острова, и тут змеи ужалили первого и завертелись, закружились на пятачке у их ног, норовя достать каждого, и один арестант откинулся назад и полетел в море — и сгинул там… Я не мог долее смотреть и рухнул на палубу, судно взлетело на гребень волны, и мы на всех парусах понеслись по безмолвному морю, а вокруг стала собираться толпа, жадная, любопытная толпа, дивившаяся на мой смех, который все громче и громче раскатывался в палубной тиши, на знойном попутном ветру… Я смеялся. А купец крепко держал мою голову, пытаясь сквозь сжатые губы влить в меня прохладное вино, прохладное белое вино, прохладное белое…
— Сам видишь, Иоанн. Придется тебе поискать другого Мессию.
Наконец-то я стал человеком. Наконец-то почувствовал, как это тяжко.
* * *
Ночные видения не оставили меня в покое и наутро. Безгрешная жизнь! Обязанность жить чистой, незапятнанной жизнью. Тогда как всякий день несет с собой прегрешения, без которых невозможно расти и развиваться! Да велика ль беда? — спросил я себя, проснувшись. Это Иоанн научил меня вечно думать о безгрешии. Это из-за него я поверил в свое предназначение, в свою роль чистого и незапятнанного.
Теперь с этим было кончено.
Поднявшись, я вспомнил о Товии, и мне захотелось стать достойным его борьбы, достойным всех, кто взял на себя ответственность за нашу страну и погиб в засаде. Я встану на сторону зилотов. Буду кочевать с ними из пещеры в пещеру, из пустыни в пустыню — и сражаться, сражаться везде, где только потребуется.
Я чуял внутреннюю свободу.
У Иоанна нет больше власти надо мной. Я потерпел неудачу, и благодаря этому идея мессианства умерла.
Не о том ли я просил и молил?
Чтобы мне позволили стать человеком среди человеков. Позволили говорить их языком, жить без помех в виде обязательств, знамений, образов. Вот почему я хотел еще раз встретиться с Иохананом: надо было запечатлеть в себе реальность зла.
Я сделал крюк около обители и зашел к ней сзади, со стороны скал. И почти сразу заметил у оконца Иоханана. Лицо его скрывалось в тени. Однако на повелителя мира он похож не был.
Я заухал, изображая сову, случайно вылетевшую из укрытия средь бела дня. Ух, ух, ух! Иоханан поднял голову… и вздрогнул. Не ожидал увидеть меня живым? Кто знает? Я знаю только одно: что вытянул руку и указал на него — словно мой палец был стрелой со смертельным ядом. Я отомщу за смерть Товии, сказал мой палец. И Иоханан расслышал эти слова.
Он встал… неуверенно, озираясь по сторонам, точно ища защиты. У ворот было полно легионеров, так что он мог позвать их с собой, чтобы схватить меня. Мог шепнуть: обождите. Как он поступил, не знаю. Во всяком случае, он вышел из монастыря и полез на скалы.
У Иоханана не было привычки лазить по горам. Он не умел подстраиваться под природу, сливаясь с ней в единое целое. Каждым своим шагом он подчеркивал, что не имеет с ней ничего общего. Сначала он даже демонстративно сцепил руки за спиной, но тропа делалась все круче, и ему приходилось то опираться на камень, то подтягиваться за куст.
Я стоял намного выше его. На моей скале был уступ, до которого в конце концов добрался и Иоханан. У него за спиной зияла пропасть — открытая с запада котловина, служившая монастырю свалкой, долиной мертвых. Там тлела зола, в которую и должен был угодить Иоханан.
Его тело никто не найдет. Оно будет погребено в тлеющей куче отбросов. Ночью же он станет добычей сначала шакалов, потом грифов.
Иоханан остановился и увидел то, что видел я.
— У тебя вся одежда в крови! — сказал он.
— И ты знаешь отчего?
— Нет.
Взгляд его рыскал по земле. Иоханан прикидывал свои шансы.
— Врешь. Я обещал Товии отомстить… не столько за него, сколько за всех погибших.
— А что я такого сделал?
— Ты предатель.
— Нет-нет.
И он, массивный и жирный, плюхнулся на колени.
— Клянусь!
— Кем ты можешь клясться?
Совсем недавно он причислял себя к сильным мира сего и был уверен, что неплохо устроился в жизни. Теперь он оказался между жизнью и смертью, заглянул во мрак, познал, что значит питать ложные надежды.
То же самое, однако, можно было сказать и про меня! Я бывал в сходном положении, поскольку сплошь и рядом искал опору не там, где следует. Случалось, и я подвергал себя опасности, разве нет?
Впрочем, теперь я выступал не от своего имени, а от имени Товии. Он просил меня…
— Клянусь Законом и Пророками, я ничего не знаю.
— Но ты следил за Товией, когда он ночью уходил из монастыря? Следил за нами обоими, верно?
О чем просил меня Товия?
— Да, только из любопытства… Вы мне очень нравились. Оба такие способные, такие ловкие и умелые… Я хотел быть с вами. Хотел дружить. Меня никто не любит. Никто. Ни один человек на свете…
Он заплакал.
— Пощади меня, Иисус! — Иоханан простер ко мне свои девичьи руки. — Ты ведь не убийца…
Мне было семнадцать лет.
Я был слабой, дрожащей тварью. Я стоял на горе и чувствовал, как накалился между нами воздух. Весь остальной свет продолжал жить вольно и безмятежно. Налетевший ветерок принес с собой запахи шалфея и тимьяна. Они овеяли нас обоих, но пришли из другого мира. Оттуда, где была возможна цельность, где запах означал послание от Бога, напоминание о Творении, о том, что все мы созданы по Его подобию. В этом мире, здесь и сейчас, таким вещам места не было.
Я воспринял это как насмешку, как жестокую шутку Господа, что Он послал мне запах в самые ноздри. Я прочел в нем безжалостное напоминание о нашей неудаче. И в то же время подумал: какое счастье, что есть чему радоваться и что предвкушать.
Я наклонился и сорвал листок шалфея, растер его в ладонях. От этого жеста Иоханан воспрял и снова ринулся в бой.
— Один человек просил меня последить за вами. На случай волнений и беспорядков. Я понятия ни о чем не имел. Я ничего не знал. — И робко прибавил: — Порядок ведь — дело хорошее.
— Ты выполнял поручения римлян, — сказал я. — А ты еврей. И я еврей. Товия тоже был евреем.
— Но кто-то должен поддерживать…
— Почему? И какой именно порядок? Нам нужна свобода, а не рабство.
— Да-да, конечно.
Его взор опять забегал по земле.
— На что тебе свобода, Иоханан?
— Товия и зилоты проповедуют не свободу, а восстание. Восстание же требует жертв.
— Нашу страну захватили чужеземцы. Они высасывают из нас все соки. Забирают наше зерно, нашу скотину. Присваивают добытое нами золото и серебро. Отнимают у нас язык, отнимают жен. Тебе не кажется, что все это — часть свободы, за которую стоит сражаться?
— Разумеется, — угрюмо согласился Иоханан. — Но когда власть захватят люди, призывающие к мятежу, все это перейдет в их руки.
— Тогда мы должны будем бороться дальше. Как ты не понимаешь? Как ты не понимаешь, что освобождение — процесс крайне медленный? Он может занять тысячу лет, может продолжаться до конца света, нам-то уж точно не видать свободы. Но неужели мы из-за этого откажемся встать на ее сторону? Кто-то обязан нести в себе идеи Свободы с большой буквы, проповедовать их, распространять по всей стране, не давать им забыться. Понимаешь, о чем я?
— Да.
Увы, я видел, что свобода его совершенно не интересует. Она была ему без надобности. Для таких, как Иоханан, свобода — пустой звук. Он бы даже не почувствовал ее, поскольку не знал, чем она пахнет. Впрочем, нет: почувствовал бы, потому что боялся. Свобода представляла собой угрозу, вызывала смертельный страх. Она вынудила бы Иоханана признать свою ограниченность, свои пределы — то же самое относилось к большинству. Свобода была кабалой, тяжким ярмом. Мечтать о ней было безумием, поскольку она предъявляла огромные требования.
Призывать к свободе было бесчеловечно. Что бы с ней делали Иосиф и Мария? Хотел ли ее даже Иоанн? Бесчеловечно навязывать людям бремя свободы, ведь она требует невероятной ответственности. Свобода — это преобразования и развитие, это неустанный труд ради изменения нашей жизни, наших привычек, наших взглядов. Она показала бы нам вещи в новом свете. Смогли бы мы выдержать такое? И разве кто-нибудь видел эту свободу? Полную свободу, которая складывается из отдельных, частных свобод?
Призывать к свободе значило глумиться над низшим в человеке. Иоанн глумился надо мной, пытаясь приспособить меня к своему порядку вещей. Идея свободы, которую нес с собой Мессия, была преступна, поскольку человек снова и снова убеждался в тщете своих усилий.
Но я ведь, кажется, избавился от этого проклятия? Разве мой сон не был знамением, убедительно доказавшим, что я всего-навсего человек и принадлежу к низким, недостойным тварям, что кругом царит зло и оно чувствует себя вправе делать все, что ему заблагорассудится? Может, мне сказать спасибо перепуганному Иоханану, которого я обозвал предателем, — за то, что напомнил о присущем всему человечеству, указал на наше общее наследие?
Я считал (интересно, кто направляет мои мысли, кто по-прежнему думает посредством меня?), что мне необходимо предательское лицо Иоханана, ибо оно составляет часть мира, то есть часть меня, а из мира нельзя изъять ни единой песчинки. Я считал, что, убив его или взяв в качестве заложника, сумею сохранить в себе образ предательства, образ зла.
Какая заносчивость! Ведь истинным предателем был я сам. Это я лелеял преступные мысли.
У бедного парня, стоявшего ниже меня, — с котловиной за спиной, где тлели и дымились отходы человеческой деятельности, — было совсем не лицо предателя. Его лоснящаяся физиономия излучала лишь ужас смерти, и я понял по ней, как отчаянно приходится жизни бороться со смертью, какую борьбу за выживание приходится вести малейшему проявлению любви.
Сколько же в нашей жизни смерти!
Сколько в нашем свете тьмы!
— Прости меня, Иоханан, — сказал я.
Он вздрогнул:
— За что?
— За мои мысли.
Он стиснул кулачки и потупился. Пока я молчал, наши с ним мысли явно текли в разных направлениях.
— Я и впрямь желал тебе смерти, — наконец вымолвил Иоханан, сглотнув комок в горле. — Да, я хотел ее!
— Знаю, — ответил я.
Как будто он сообщил мне что-то новое.
— И уже сказал, что прощаю тебя.
— Но почему? Ведь я возненавидел тебя с первой нашей встречи в Храме. Ведь я гонялся за тобой по оазису… помнишь, когда ты познакомился с женщиной? Тебе все удавалось, тебе неизменно везло, а мне…
У всякого есть в запасе крайнее средство: признание! В признании — корни того, что живет на поверхности, что читается в лице. Признание трогательно: признаваясь, человек считает себя вырвавшимся из темницы общества и хотя бы на миг вздыхает свободно. Признание означает нарушение правил. Господь все равно уже видел и слышал! Для Него нет ничего сокрытого.
Иоханан, однако, в самом деле вздохнул свободнее, когда я попросил его рассказать о себе. Прежде никто не хотел слушать.
— Несомненно, меня любили. Любил и отец. Конечно, любил. Я уверен… уверен, что это так…
Иоханан словно пытался придать вес будущим обвинениям.
Чтобы под прикрытием этих слов громить всех и вся.
— Но отец был строг. Он был священником в Иерусалимском храме, учил приходивших за наставлением. И хотел сделать священника из меня. Заставлял прилежно учиться. А кормили нас… можно сказать, впроголодь. Спать тоже приходилось немного. Отец вынуждал нас корпеть над книгами до поздней ночи.
Иоханан метнул быстрый взгляд в мою сторону, проверяя, не смеюсь ли я.
— У меня есть брат. С ним была та же история. Отец всячески терзал его. Разумеется, нас обоих били. Как только отец приступал к брату с вопросами, тот начинал заикаться, блевать и с воплями валился на пол. Отец наверняка желал ему добра, но, видно, переборщил. Однажды в брата вселился злой дух, и мальчишку погнали из дома. Теперь он сидит у Овчьих ворот и просит подаяния. Ничего внятного он сказать не может: мешает бес. Отец с ним не видится. Мне повезло чуть больше. Но у меня нет твоих способностей… Отец презирал меня. Когда в Храм приходили новые ученики, он рассказывал мне о них. Во всех подробностях. Снова и снова. Рассказывал и про тебя. Заставлял сидеть в углу и слушать. А после урока всыпал по первое число. Мне доставалось за то, что ты такой умный. «Простой парень, только что от сохи, а знает Писания лучше тебя! — кричал он. — Ты же слышал. Понимаешь, как мне обидно?! Неужели это мой сын?» Мать тоже боялась его после таких вспышек. Она всегда молчала. Только ходила съежившись… как мой брат, как я сам. «Неужели это мой сын?» — орал он. Вот что творилось у нас, когда не было гостей. В Субботу отец созывал к себе одаренных людей со всей округи. Они ели наш хлеб и пили наше вино, а он беседовал с ними. Я мог бы сносить его побои, его оскорбления — если б не эти субботние застолья. Потому что тогда я убеждался, что отец меня не видит! Ты представляешь, что значит, когда тебя не видят?
Я покачал головой.
— Хуже этого нет ничего на свете. Моего брата видят: он сумасшедший, который сидит перед Овчьими воротами. Его открытый рот, неумытая физиономия, смотрящий в одну точку, бессмысленный взгляд, трясущиеся руки, вопли, заглушающие вопли других нищих, — все это омерзительно. Прохожие отворачиваются… однако сначала они его видят! Мне кажется, его тупой взор, его бесприютность должны преследовать их еще долго… даже когда они покинут Иерусалим. Иногда я сам иду к воротам посмотреть на него и на тех, кто, воротя нос в сторону, бросает ему мелочь. Я сходил туда и перед отъездом в монастырь. День был пронизывающе-холодный, лил проливной дождь, какой бывает только в Иерусалиме. Улицы превратились в реки. Брат сидел под дождем, высунув язык, и по этому языку, как по водосточному желобу, сбегала вода. Он не был похож на человека — скорее всего, даже не чувствовал холода и голода. За весь день мимо прошел один старый монах. Он дал брату монетку, но тот не зажал ее в кулаке, а оставил лежать на раскрытой ладони, где она блестела под дождем и где лившиеся с неба потоки сдвигали ее все ближе и ближе к краю… пока она не упала на землю. Я видел, как ее подхватил ручей и, кружа, понес по улице мимо других нищих. Они там сидят в ряд, и один попрошайка выловил ее из воды. И я, стоявший у стены под тамариском, позавидовал брату. Да-да, позавидовал. Я подумал о том, что его видит старик монах, который, возможно, каждый день дает ему монету, а потом размышляет в келье о его судьбе. Подумал, что брат служит поводом для разговоров. И понял, что давно завидовал ему… не отдавая себе в этом отчета. Когда-то ведь и я просил в Храме милостыню. Я не нуждался в ней. Мы жили безбедно. И все же я приохотился — втайне от отца — тянуть руку к паломникам. Как будто хотел задержать их. Меня никто не замечал; я был вроде этого цветка…
Он пнул ногой притулившееся на уступе растение.
— Это баранья трава, — сказал я. — Она растет везде, даже на самых тощих почвах. И легко переносит непогоду.
Иоханану не понравилось, что я перебил его, он потерял мысль и перевел взгляд на долину. Солнце уже поднялось довольно высоко. В селении рядом с монастырем сновали меж подслеповатых домов люди. Я разглядел и отряд легионеров. Иоханан тоже их заметил — и весь напрягся. Когда он продолжил речь, голос его звучал более жестко, более торопливо:
— Если тебя не видят, ты готов на любые поступки. Я стал подворовывать у нищих, стал красть из Храма. Я хотел, чтобы меня поймали, хотел стать кем-то, пусть даже вором. Невыносимо жить, если тебя не замечают, если ты не существуешь даже для камней и деревьев. Такого никто долго не выдержит. Когда я гонялся за тобой по оазису, я хотел прежде всего, чтобы ты меня увидел. Чтобы ты спросил, почему я это делаю, чего мне надобно. Но ты молчал. Я не существовал и для тебя.
— Скажи, эти солдаты… — я показал вниз, — куда они направляются?
— Сюда! — горько улыбнулся он. — Чего ни сделаешь, чтоб тебя увидели?
— И ты считаешь, они увидят тебя? Надеешься стать кем-то?
— Да. По крайней мере, ты обязательно будешь в темнице думать обо мне.
И все же, когда дозор взобрался к нам и солдаты посмотрели на Иоханана, дабы убедиться, что жертва настигнута, он степенно поднял голову к вершине утеса и сказал: — Тот, кого вы ищете, скрылся там! — И онемелой от страха рукой ткнул в сторону паривших у нас над головами грифов. — Я ведь прав?
— Совершенно прав, — отозвался я.
А когда затих шум камней из-под ног полезших наверх легионеров, Иоханан добавил:
— Я сделал это ради бараньей травы.
Он поднял сломанный цветок и покрутил его в руках.
— Но мне по-прежнему хочется стать кем-то.
* * *
Тишь да гладь — в чем она выражается?
В отсутствии событий?
В том, что не колышется осока на берегу реки, что цапля — цвета осенних листьев — застыла на месте и слилась с зарослями? Что вода течет почти незаметно для глаза? Что моим босым ногам не хочется ступать дальше по теплому влажному берегу?
Был час, когда солнце круто поворачивает к закату; на равнине по ту сторону горчичного поля лежала деревня — в лучах заходящего солнца того же красного цвета, что здешняя земля; из зарослей сахарного тростника доносился неясный шорох; там и сям люди расходились по домам с привычными охапками хвороста на головах. Следом шли волы, за ними — дети, но дети передвигались рывками: то припустят бегом, то отклонятся в сторону, а то и вовсе остановятся, устремив взгляд в небо или за горизонт… их окликают, раз, другой, третий, и вот уже, взмахнув юбками, оборачивается мать. И снова вперед, к дому, к средоточию жизни.
Показался плывущий по воде лист, на нем — под прикрытием береговых камышей — лягушка; она вроде даже спала, но сквозь сон чувствовала, что ее куда-то несет; вот она обогнала застрявшие в камышах бирюзовые павлиньи перья и скрылась из виду.
Вверху толклась мошкара, внизу играла рыба, отчего на поверхности воды расходились быстро исчезающие круги; все в природе готовилось отойти ко сну, все затихало и успокаивалось.
Бывают дни, когда такое затишье распространяется и на тебя, когда ты, подчиняясь велению природы, один за другим отключаешь органы чувств. В предвкушении ночи и сна. Бывают дни и ночи, когда все живое тянется навстречу покою, навстречу завершенности и смерти, когда трава пребывает в согласии с рукой, око — в согласии с землей, земля — с поступью хищного зверя.
Мне покоя не было. Я был поражен стрелой бегства, все еще дрожавшей в моем сердце.
С наступлением темноты из-за реки повеяло костром. Я разделся, связал одежду в узелок, пристроил на голову и переплыл на тот берег. Вода холодила кожу, и я старался насладиться этой прохладой.
У входа в пещеру, копошась в костре палкой, сидел Иоанн. Я долго стоял сзади и разглядывал его, тощего, грязного, обнаженного… Грустно было видеть его понуренную голову, которая лишний раз напомнила мне, что наше детство миновало и более не вернется. Когда я сел на песок рядом с ним, он не пошевелился, только сказал:
— Я ждал тебя.
— Да ну? Я, например, даже не знал, что это ты развел тут костер. Я попал сюда случайно и не задержусь надолго. За мной гонятся римляне, и лучше не показываться им на глаза. В монастыре произошло много всякого.
— Значит, ты кое-чему научился… Есть хочешь?
— Хочу.
Он достал мешок с сушеными акридами и растер их в муку. Руки Иоанна двигались машинально, словно без его участия; так же машинально он смешал муку с оливковым маслом, замесил тесто и испек лепешки, бросая их на горячие камни.
— Ешь!
Только я утер губы, как Иоанн сказал:
— Я знаю, зачем ты пришел. Хочешь поговорить со мной о том, что ты недостоин. Что не годишься в Мессии. Что ты обычный человек и окончательно в этом убедился. Что ты с удовольствием живешь в условиях, навязанных другими, пусть даже тебя загоняют в пустыню или на городскую свалку. Ты внушил себе, что я напрасно соблазнял тебя мыслями об избранничестве.
— А разве нет? Ты еще с детства…
Но что случилось?! В эту самую минуту и на этом самом месте я вдруг почувствовал, что могу сказать ему: да, ты был прав и мне придется взять на себя эту ношу. Не обязательно становиться Мессией, но… Наверное, извечно следящее за мной око в конце концов приведет меня к моему предназначению. Теперь, однако, я считал нужным противоречить Иоанну, и мы с ним заспорили, как спорили в детстве. Мне не нравился в первую очередь его высокомерный тон.
— Ты богохульник, Иоанн. Ты всегда злословил по поводу Господа. Просто Он не обращал на тебя внимания.
— Хочешь еще лепешку?
— Да.
Я огляделся в ночи. Вот костер, вон пещера, кругом песок. Из пустыни доносится лай гиен. А вообще — пустота и безмолвие. И конечно, одиночество.
— Надеюсь, тебе тут нравится? Добываешь пропитание в поте лица твоего, и говорить ни с кем не надо.
— Меня все устраивает.
— Почему бы тебе не вернуться в Геннисарет? Не начать снова рыбачить, пахать землю? Дома тоже есть к чему себя применить. Женись, заведи детей!.. А ты знаешь, что Товия умер?
— Мне этого мало.
— Мука мученическая с тобой! Чего тебе мало? Мало смерти Товии или мало жить как простой крестьянин на Геннисаретском озере?
— Всего мало. И то и другое — не наша судьба. Мы не можем прятаться под такими личинами.
— Товия умер безо всякой личины! — вспылил я. — И не пытался избежать ответственности. Он пожертвовал своей жизнью. Им пожертвовали. Его предали.
— И кто о нем будет вспоминать? Какой прок от его жертвы?
— Пока не известно. Не нам судить. Еще не конец света.
— Вечно надо ждать и ждать. Проклятое детство!
Скорее проклятая юность!
— Нет, Иоанн, детство у нас было замечательное! Вспомни чудесные утра над Геннисаретом, неторопливое дребезжание повозок на дороге. Вспомни упоительный скрип колодца, песнь водочерпия. Вспомни дивные анемоны весной, цветущий миндаль, журчание бегущих с гор ручьев. Бесподобно чувствовать, как мы меняемся, как вытягивается наше тело, как приобретают новое направление мысли! Чувствовать, как твой телесный сосуд постепенно наполняется жизненной силой и опытом. Чувствовать, как избыток их переливается через край и распространяется по земле, среди твоих друзей и недругов. Бесподобно, когда тебя кормят хлебом с молоком, бесподобно вместе с другими ощущать, как ноет вечерами спина, вместе с другими сидеть у костра и желать изменить мир, но, право, очень трудно сидеть теперь рядом с тобой и слушать твои проклятия. Хотя, видно, такова воля Божия, ибо всё в руце Господа.
— Я не страдаю от одиночества, а жду твоего пришествия.
— С этим придется подождать.
— Знаю. И не тороплю тебя.
— Только повторяю: я никакой не Мессия!
— Эта стадия тоже в порядке вещей, через нее нужно пройти. Так взрослеют! И все же тебе не избежать своего предназначения.
Я перевернулся на живот и стал разглядывать песок: на крохотных песчинках плясали отсветы костра. Эти мириады песчинок напоминали спрессованные вместе галактики… или сгусток материи, представлявший собой жизнь миллионы лет тому назад.
Я наблюдал за муравьем, который бегал вокруг моего пальца.
— А я-то надеялся побыть тут в тишине и спокойствии. Отдохнуть, посидеть у костра…
— Да ладно тебе… Ты не выносишь одиночества. На том берегу ты не знал, что…
— Неужели ты меня видел?
— Конечно. Я следил за тобой… каждый день.
— И чего ты от меня ждал?
— Ничего. Пока ничего. Или того самого, что ты сказал.
— Думаю, мне в любом случае лучше уйти и скрыться там, где меня не знают. В каком-нибудь порту или северной деревне.
— Иди.
Мой подмокший плащ высох, и я завернулся в него. Иоанн остался сидеть у костра.
— Только прежде, чем скрыться… — сказал он. — У тебя есть дом, загляни-ка туда.
* * *
Осень я встретил на севере, среди больших виноградников, где никто не выспрашивал тебя, кто ты такой. Домой я зайти не решился: римляне слишком хорошо знали нашу, еврейскую, любовь к родне и я не хотел подвергать своих близких излишней опасности.
Сюда стекались работать люди из разных краев: на спускавшихся к морю пологих склонах мы, галилеяне, стояли бок о бок с выходцами из Иудеи, Самарии, Ливана. Спали мы под открытым небом, среди виноградных лоз, чтобы не дать никому ограбить богатых землевладельцев. Изредка с одетых кедром гор долетал слабый запах снега.
Трудились мы молча.
Я далеко не сразу заметил это.
Разумеется, некоторые слова — например, относившиеся к полям и урожаю, к утру и вечеру, к еде и сну, — еще цедились.
А все прочие?
Мы были «труждающимися» и вечером, по завершении рабочего дня, как бы переставали существовать. Предполагалось, что у нас нет и прошлого.
К тому времени мой словарь изобиловал выражениями из Писаний, из монастырского обихода. Меня тянуло на мечтательство, на размышления, которые тут не поощрялись. Я боялся расспросов, боялся разоблачения.
Такова участь изгнанника: он не может быть полностью самим собой. Живет как бы окороченным. Или связанным по рукам и ногам. С мыслями, засаженными за решетку.
Кормили впроголодь, но так было всюду. Плетки римских надсмотрщиков хлестали не больнее, чем в других местах. Унижения, которые приходится терпеть от богачей, везде одинаковые.
Больше всего я страдал без родного языка. Меня мучила жажда, хотелось упиться его словами! Хотелось обливаться ими с головы до ног! И я стал воображать себе места, где этот язык впервые явил себя мне, где слова начали обретать форму и цвет. Оказывается, я прекрасно помнил, как постепенно ширился, раздвигался мой мир.
Было одно место под пиниями, в котором я любил наблюдать за причудливой игрой света и тени у себя на ладонях. Сухая почва, хвоя, муравьи, волокущие свои соломинки. Птицы в кронах деревьев. Иосиф, рубящий в глубине леска желтое дерево на фоне зеленых. Тишина, когда топор смолкает, отцовские шаги, склонившаяся надо мной тень. Его слова: «Слышишь ручей?» И снова тишина. Потом слово «ручей» и журчание самого ручья сваливаются мне на голову одновременно. Словно они бежали наперегонки, а под конец соединились. Ручей, вода, камни, журчать. А еще Иосиф сказал: «Он течет из тьмы и ведет к свету»… Помню змея, которого я запускал со склона холма, пониже наших домов. Раннее утро. Трава мокрая от росы. Кругом много детей, много змеев. И вдруг мой змей, подхваченный порывом ветра, исчезает из вида. Я бегу к Иосифу с криком: «У меня пропал змей!» Отец берет меня за руку, мы идем вниз. «Где ты стоял, малыш?» — «Тут». Прищурившись, он глядит на небо и окрест. «Змей вон там, — указывает Иосиф, — на миндальном дереве!» Передо мной возникает что-то розовое и такое огромное, что загораживает весь вид на долину. Я хватаюсь за нижнюю ветку и лезу наверх. «Погоди, — говорит Иосиф и ссаживает меня. — Нужно быть осторожным с цветами. Они легко осыпаются. Смотри!» Он наклоняет ко мне ветку. И я наконец вижу цветок, бело-розовый в красную крапинку. А голая ветка коричневая. «Из них будут плоды. Почти каждый цветок превратится в миндалину. Не надо их тревожить, пускай себе растут дальше». Миндальное дерево, небо, змей, цветок, голая ветка.
Впрочем, человек творит свой язык всю жизнь, до самой смерти. Новые фразы рождались за работой и вечерами, когда я сидел у костра, чувствуя приближение осени. А уж ночью, когда мы защищали хозяйское добро от воров (бедняков, что хотели поживиться виноградом, зерном или недоеденным хлебом), можно было не только значительно расширить свой словарь, но и переосмыслить кое-какие известные понятия.
Мне нужно было видеть, а видеть я мог только с помощью полноценного языка. Я погибал от жажды!
А что мои товарищи, они тоже мучились? Конечно. Вся страна жила молчком. Повесила на рот замок. Превратилась в страну безмолвных спин. В край проглоченных языков.
И так будет продолжаться до той поры, пока нас не переполнят невысказанные слова, глупые положения, воображаемые поступки. Тогда мы взорвемся. И тогда речь забьет ключом в каждом уголке.
Или: в один прекрасный день придет некто и сорвет все замки.
Вот на что мы надеялись последнюю тысячу лет!
В болоте стояли три белых индейки и смотрели на море. Одна из них, склонив головку набок, приглядывалась к чему-то сквозь ветви тамариска. В полосе водорослей лежал с открытыми глазами козленок. У его морды лениво плескалась разбавленная светло-красная кровь. На белой шерсти проступали пятна более насыщенного цвета. Среди зарослей мяты порхали крапивницы.
На песке сидел, обмахиваясь полотняной тряпицей, мужчина. Его жена прижимала к себе ребенка, напоминавшего стебель с увядшим цветком. Пока она поддерживала младенцу спину, голова его безвольно откинулась назад. Она была слишком большая и тяжелая, как камень, левая щека вдавлена внутрь, нос несоразмерно маленький, однако страшнее всего были глаза: два огромных портала в заброшенном дворце, где не гулял ветерок, где не было признаков любви или страха.
— Какая ужасная тут жизнь! — обратился ко мне мужчина. Судя по выговору, он был чужеземцем.
— Ты сам-то издалека?
— Мы приехали из Египта.
— Зачем?
— Неужто не слышал? — удивленно воззрился на меня он.
Была Суббота, я пришел в это отдаленное селение посетить синагогу, но мне не хватило смелости зайти в нее. Хотя я намеренно выбрался подальше, чтобы никто не увидел меня в обществе ученых мужей, я так и не рискнул. Теперь я сидел в виду храма и наблюдал за немногими людьми, которые ходили по площади перед ним. Дома с занавешенными от жары окнами были погружены в полуденную дрему, рядом бегали, поклевывая зерно, петух и несколько кур. Поодаль, в тени вытащенной на берег лодки, сидела старуха. Тощая и костлявая, с лицом, изборожденным морщинами, которые все сходились вниз, к ее ротику. В одной руке она держала веретено, а ее черное платье так развевалось на ветру, что чувствовалось: скрытое под тканью тело совсем усохло, его почти нет. Старуха улыбнулась нам, словно говоря: «Знойный сегодня выдался денек».
— Здесь должен появиться Он, — объяснил мужчина.
— Кто?
— Значит, ты тоже нездешний…
Вид у человека был усталый и в то же время довольный.
— Он должен спасти нас от грехов. Он возьмет на себя грехи наши. — И мужчина ткнул пальцем в свое дитя, беспомощно повисшее на боку у матери. — А ты, оказывается, ничего не слышал! Весь народ знает. Приблизилось Царствие Божие… Мы ждали тут целую ночь.
— Какие у вас грехи?
Он взял жену за подбородок и с силой поворотил ее лицо ко мне:
— Смотри!
Женщина тут же отвела взгляд себе под ноги. И все-таки я заметил в ее глазах черных птиц отрешенности и беспросветного мрака.
— С тех пор как жена родила это дитё, она отстранилась от меня душой и плотью. Тело ее стало неприступным утесом, руки — точно неживые. Младенец отобрал у нее последние силы. А ведь он от моего семени…
Из переулка вынырнул странный человек исполинского роста, с длинной-предлинной седой бородой. Он шел приплясывая, обнаженный до пояса и обмотанный вокруг талии куском ярко-красной материи. В каждой руке у него было по колокольчику, звон которых — благодаря безмолвию волн, ветра и улиц — разносился по всей округе. Незнакомец остановился на берегу, в глазах его горело безумие.
— Да будет славен Тот, Кто дозволяет запретное! — возопил он. — Да будет славен Он в бездне, пронизанной молниями! Да здравствует блеск молний и ужас тьмы! Се, выхвачу я из объятий мрака сверкающий рубин, и засияет он в мире света, и отступит тьма пред сиянием этим.
Между тем площадь заполнилась ринувшимся со всех сторон народом. Тут были бедняцкие жены и дети, были пожилые мужи, был и кое-кто с моего виноградника: рабы и трудившиеся рядом со мной свободные евреи. Ребятня смеялась и показывала на чудака пальцем. Женщины призывали детей угомониться.
Толпа образовала на берегу полукруг и пристально следила за великаном, который пляшущей походкой вошел в воду и, склонившись над мертвым козленком, высосал кровь из его ран. Затем он вырвал у козленка язык и запихнул себе в рот.
Я содрогнулся. Человек явно не в своем уме. Его надо оставить в покое!
Великан, однако, не замечал столпившихся вокруг. Он жевал сырой козлячий язык и без умолку говорил. Он нарушал закон, нарушал субботнюю тишину, чему народ и дивился.
— Да, своим сиянием рубин рассеет тьму! А путь к нему лежит по небесным спиралям в деснице Божией, куда я попаду через внутренний Закон! Зато внешний Закон при этом сморщится, как сморщивается и засыхает на солнце яблочная кожура.
Я так соскучился по языку Писаний, что позволил себе упиваться им, не вдаваясь в смысл высказываний. Похоже было, что и на собравшуюся у моря толпу речи великана производили сильное впечатление. Мало-помалу она притихла, перестала указывать на странного человека пальцем и смеяться над ним.
— И когда прорежет мрак молния, охватит ее ужас неописуемый, и отклонится она обратно в свою сферу, и пребудет там, во тьме. А сыны и дщери тьмы затрясутся от страха, когда отнимут у них рубин и останется во тьме одна тьма. И уйдет тьма из света, ибо и в свете много тьмы. Я вижу ее, о чада человеческие. Вижу мерцание ее в очах ваших, вижу пламень ее в руках ваших.
Он вылез из воды — грязный, вонючий, облепленный водорослями и пропахший бараньим салом; взор его метался между небом и землей. На великана вдруг напала дикая спешка, словно ему открылась тьма в собственном нутре и он почувствовал, что не может с нею совладать.
Тут, однако, поднялся со своего места египтянин и потянул за собой жену, и они пали ниц перед тем, кого столько ждали.
— Будь добр, Учитель, избави нас от грехов наших.
И Учитель взял безвольную руку крохи, повернул ее ладошкой кверху и стал тыкать в разводы грязи на ней, приговаривая:
— Это древо внутренней жизни. Смотрите, как оно растет и рас…
Внезапно взгляд его потух. Лицо отупело, как у этого ребенка, глаза вперились в песок.
Великан отошел в сторону и начал медленно удаляться. Стайка подростков (единственных в толпе, кто понимал, что он сумасшедший) пустилась было вдогонку, но их остановил оглушительный возглас:
— Трепещите, человеки, ибо это был Мессия!
Тут все перевели взоры на вышедшего вперед молодого раввина. Руки его дрожали, лицо было озарено великим светом.
* * *
А как же знаки, которые подавались мне?! Как же сила, которая двигала меня вперед?! Сколько я ни отпирался прежде, теперь я чувствовал себя обманутым.
Земля под ногами еще не перестала качаться, а я уже понял всю степень высокомерия, которое проявляли мы с Иоанном. Мы мнили себя исключительными, а сами жили в отрыве от всех, словно в стеклянном шаре. Я лишь недавно осознал, что страна ждет не дождется Мессию. И сейчас, когда нашелся человек, объявивший себя им, я воспринял это как удар в спину.
Молодой раввин между тем громогласно продолжал:
— Ибо говорит Господь Бог наш: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на Тебя, — столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его — паче сынов человеческих! Так многие народы приведет Он в изумление; цари закроют пред Ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали»[8].
И все собравшиеся на берегу, пусть даже они тысячу раз слышали эти слова, были потрясены душевным подъемом, с которым говорил раввин, захвачены страстью, с которой он бросал в толпу речи пророка:
— «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но он взял на себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом»[9].
И египтянин с сияющим лицом сказал мне:
— Наконец-то Он здесь!
А потом они захотели пробиться к юному раввину, дотронуться до его платья, но увидели эту уйму народа, и тогда египтянин забрал у жены ребенка и вручил мне.
— Присмотри за ним!
И они смешались с толпой. И тут я заметил, что многие пришли издалека — видимо, днями и ночами следовали за Мессией. За кем? Ведь тот, кого они называют Мессией, исчез, скрылся в переулках, и во все время раввиновой проповеди о нем никто даже не вспомнил. Впрочем, на песке еще темнели капли с его набедренной повязки, и эти капли вели в ту часть селения, где были овечьи дворы.
И я, не менее родителей боявшийся повредить младенцу, ушел от толпы к воде и оперся о прибрежный тамариск. Я приподнял крупную голову ребенка и заглянул во тьму и смерть его глаз. Изо рта малыша текла слюна, я умыл его морской водой.
Я держал на руках бессилие жизни. Кожа ребенка казалась столь нежной и непрочной, что мои пальцы боялись повредить ее. На тельце и без того были видны комариные укусы, ссадины, въевшаяся грязь — родители не слишком усердно пеклись о крохе.
В нем нельзя было различить признаков разума, ему не суждено было ответить любовью на любовь.
И вдруг меня обуяла злость на родителей, кинувших свое чадо. Я бы куда с большим удовольствием послушал раввина, который сумел привлечь стольких слушателей. Он уже забрался на скамью перед синагогой, а толпа все прибывала и прибывала, гул ее то нарастал, то стихал, народ проталкивался ближе и говорил языками.
Раввин не прекратил свою проповедь даже с наступлением темноты. Многие стали располагаться на ночлег. На площади вспыхнули костры, до меня донесся запах горящего кизяка, запах хлеба с молоком. Я походил между кострами в поисках родителей, но их нигде не было. К счастью, мне удалось выпросить лепешку, и я снова пошел на берег — покормить малыша.
Я сидел там, поодаль от всех, чтобы меня легко было отыскать. Но родители так и не объявились.
Тогда я направился в переулок, куда, как я приметил, вели следы забытого Мессии.
Он лежал за скрипучей калиткой овечьего загона, свернувшись на соломе клубком, как ребенок; изо рта у него текла слюна, обнаженный торс был изгажен бараньим пометом, словно великан долго перекатывался с боку на бок. Теперь, однако, он лежал смирно, с потухшим неподвижным взглядом.
— Почему ты преследуешь меня, Нафан?
— Кто такой Нафан?
Он перевернулся на спину и стал смотреть вверх, меж ветвей склонившейся над загоном смоковницы; когда ветер зашелестел ее кроной, до земли долетел ее сладкий аромат и тут же смешался с запахом навоза и свалявшейся шерсти.
Незнакомец был серьезно болен. В него вселился злой дух, Мастема.
А дух этот был могуч! От него страдали люди на нашем винограднике, его носил в себе кумранский повар, да и в Назарете у меня было много знакомых, которых Мастема пытался замучить до смерти. Некоторые говорили, что злого духа привезли из-за моря римляне, другие утверждали, что виновата Клеопатра: однажды ночью она проникла во внутренний покой пирамиды, а там, дескать, обитал Мастема — в виде тысяч летучих мышей. Клеопатра приказала доставить в иерихонский дворец целый караван мешков, и всякий раз, когда она позволяла себе блуд, из мешка вылетала мышь и поселялась в каком-нибудь бедняке еврее.
Может, так оно и было. Может, мои несвободные соотечественники становились легкой добычей для Мастемы из-за этой несвободы.
Великан смежил веки… ну что ж, пусть отдыхает. Опершись о стену загона, я принялся рассматривать его: право, с таким чумазым, извалявшимся в дерьме человеком можно было не стесняться. Впрочем, если он действительно взял на себя наши немощи, разве нам не положено любить его, разве не положено приглядываться к его лику… учиться у него?..
Вскоре великан пришел в себя, но был еще очень утомлен. Он сел и растерянно огляделся по сторонам:
— Где я?
— Не бойся.
— Где Нафан?
— Если ты хочешь увидеться с ним, он где-то поблизости. А если не хочешь — нас укроют от него стены двора и наше молчание.
— Ты же отыскал меня.
Я улыбнулся:
— Ты ушел с берега в мокрой одежде, и мне было несложно проследить твой путь по каплям. Теперь этот след высох.
— Что… что я творил на берегу?
— Не помнишь?
Он покачал головой:
— Я нарушал закон?
— Ты много чего нарушал. И очень много говорил. Только я ничего не понял.
Он схватил меня за руки:
— Что я говорил?
— Говорил о сошествии во мрак за сверкающим рубином.
— Скажи, Нафан, почему он меня преследует?
— Кто ты?
— Меня зовут Савватей. Я родом из Смирны. Когда-то я был раввином и жил, как все раввины. Потом Господь поразил меня болезнью. Меня выгнали вон. Я бежал на юг и добрался до Иерусалима. Жил там среди нищих. Я бываю одержим бесом и тогда творю невесть что. Так и знай, я великий грешник. Но однажды появился Нафан. Он человек ученый…
Савватей прервал свой рассказ, потому что на соломе зашевелился ребенок.
Несчастного снова охватила тревога.
— Это Нафан?
— Нет, это младенец.
— Убери его! Он не должен меня видеть.
Савватей заслонил лицо руками.
— Почему ты закрываешься?
Но он не ответил мне. Мы затихли в полутьме овчарни.
Ближе к ночи разразился ливень, и его теплые струи промыли наши глаза, унесли из них усталость. На рассвете Савватей со вздохом сказал:
— Скоро явится Мастема.
— Побудь тут. Я принесу тебе поесть.
— Нет, ты меня не удержишь. Мастема сильнее нас двоих, вместе взятых. Он гонит меня на улицу и рвет любые цепи. Я снова буду грешить.
— Но Нафан говорит, что ты… Мессия.
— Нафан — человек ученый, только он слишком долго ждал, и ему стало тяжело нести бремя учености в одиночку. У себя в келье он каждый день надеялся на пришествие во плоти Мессии. Ведь так обещано Писаниями. Нафан честен, единственная его подделка — это я… и то невольная, от большой веры. Его спасителем мог стать любой человек, любой предмет. Даже камень. Даже ветка этой смоковницы. Даже зернышки ее плодов. Или ты… Такое теперь время.
Савватей вдруг оживился, речь заметно убыстрилась, в него опять вселился Мастема.
— Мессия живет в сердцевине вещей. Послушай!
Савватей поднял с соломы надтреснутый кувшин, размахнулся и изо всей силы швырнул его в стену. Кувшин разлетелся на мелкие кусочки.
— Слышал сердцевину вещей?
Вокруг завозились крысы. На губах у него играла безумная улыбка.
— Ничего ты не слышал. А я слышал. Она звучит между тишиной и звоном, между целым и осколками. Между чем-то и ничем. Да будут благословенны промежутки, открывающие нам путь к Господу, ибо Он вечен и соединяет первое с последним, дальнее с ближним. Он присутствует в Аврааме и в тебе, в листьях дерев и в пламени костра, при исходе из Египта и в золотом тельце, когда его разбивают в прах, он присутствует в летящей по небу чайке и в выпавшем у нее пере. Он — основа ткани, я же — нить, непригодная ни для основы, ни для утка… я…
— Савватей!
— Но я не брошу своего бремени и буду нести его через мрак тьмы и пространство пространств.
Взгляд его стал совершенно отсутствующим, потусторонним. Савватей вскочил на ноги и принялся топать ногами по соломе, словно обороняясь от полчищ муравьев. Потом вытянул руки над низкими стенами овчарни и возгласил:
— Я избранный Божий!
Когда я попытался остановить его, принудить снова опуститься на землю, Савватея уже заметили. По переулку гнала коз старушка, которая изумленно остановилась и, всплеснув руками, закричала:
— Благодарю, Господи, что позволил мне узреть Тебя!
Потом она кинулась к загону.
— Иди своей дорогой, — сказал я, не давая ей открыть калитку.
Увы, было поздно. Старушка отошла на порядочное расстояние и там, посреди своей прыгающей и мекающей скотины, больше не боясь, что совершает недозволенное, возвестила всему свету, что ей посчастливилось найти Савватея. Вскоре переулок был забит народом, и тут вперед выступил Нафан.
Утихомирив толпу, он заговорил:
— Се, избранный Божий. Ибо сказал Господь Бог наш: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его»[10]. Ибо по пути с небес в царство мрака, где ему предстоит добыть драгоценный рубин, возьмет Он на себя наши прегрешения. «На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет»[11].
* * *
И меня накрыло тьмой; она распростерла могучие крыла над ликом моим и туловищем моим и захотела отнять у меня мое существо, ибо многоречив был Нафан, и голос его громогласен, и ликование народное столь ошеломительно, что я едва не распрощался с жизнью: земля вдруг перестала держать меня, я почувствовал, как подошвы отрываются от нее и меня бросает в сторону… я очутился в царстве теней, в долине с мертвыми костями. Я лежал в серых сумерках, в пустоте, и тело мое содрогалось от внутреннего гула, от унылой песни, призванной стереть мое имя, единственную защиту против мрака. Имя ведь прикреплено очень слабо. Оно, как запах, лишь соприкасается с нами. И, как запах, может улетучиться. Ты стоишь на краю пропасти, и вдруг имя покидает тебя. Ты становишься никем. Погружаешься в хаос. Полная свобода. Полный отказ от себя. Круговорот распахнутых дверей, из которых ни одна никуда не ведет. Круговорот форм и красок, которые при твоем приближении исчезают, растворяясь в воздухе. Так бывает осенью, когда цветы одну за другой теряют свои краски, но они еще некоторое время витают рядом. К какому цветку относится какая краска?
К какой эпохе относится какое имя?
В глубине меня набухали артерии и вены, я видел текущую по ним кровь, тело стало прозрачным, превратилось в город, где сталкиваются тысячи желаний и воль; такими же прозрачными стали все окружающие предметы, которые теперь раскрылись передо мной. Раскрылись и камни, сбросив с себя каменные маски, вот и вода скинула водные одежды, и небо освободилось от всего небесного, и время сняло с себя ношу времени.
Тут я почувствовал чье-то прикосновение к ноге; тело вновь обратилось в тело, камень — в камень. Это протянул ко мне руку лежавший на соломе младенец. Болезный ты мой! Зеленый ты мой росточек!
Я снова был облачен в имя, снова существовал во времени. На меня накатились слезы.
Он лежал молча, с запрокинутым кверху личиком. А когда я склонился над ним и заглянул в огромные зрачки, то словно провалился в целую череду зеркал. Упал в бездонную пропасть человеческой души. Все было очень просто: я ему нужен. Мы с ним оказались в узилище времени, в заточении у здравого смысла. Его ручонки искали объятий, а находили голод и жажду. Все было очень просто: ребенок одинок и напуган, а к его грязи и комариным укусам прибавились слезы и дождь.
Все было очень просто: он появился на свет и должен жить, а жизнь — штука сложная.
Я взял его на руки, примостил поудобнее тяжелую голову и, протиснувшись в калитку, покинул уединение овечьего двора. Савватей провожал нас взглядом. Теперь и он остался в одиночестве: за него говорил Нафан, он же свое отговорил и временно оказался не у дел. Он был для Нафана источником, из которого тот черпал знамения, и эти знамения, которые чудились ему у одинокого безумца, благовествовали: пришло Царствие Божие… Слово есть плоть![12]
А за стенами загона по-прежнему толпились люди, они наводнили все улочки и переулки, наводнили площадь перед синагогой. Они не чуяли под собой ног, на лицах сияла радость свободы, радость избавления от имен. Они передавали из уст в уста слово, долгожданное слово. Но слово это было неверно!
Слово не учитывало младенца у меня на руках.
Где я только ни искал его родителей — на улицах, среди кучек людей у моря, под сенью тамарисковой рощи… они исчезли. Одни говорили, что родители вместе с большой толпой пошли на север, возвещать о пришествии. Другие — что они двинулись в западном направлении. Оба варианта были возможны, поскольку Нафан хотел распространить благую весть по всему Израилю. Она должна была, подобно лесному пожару, охватить всю страну — и уничтожить прежний порядок. Но как они могли не взять в новую жизнь тебя?!
С наступлением ночи на берегу загорелись костры, во многих местах завели песнопения и проповеди. Те, кто еще не утратил своих имен, пили тайные снадобья для избавления от них. Одно снадобье называлось Путеводителем. Другое — Ключи Царства Небесного. От этих зелий в теле возникали токи, заряжавшие каждую его частичку Силой. Люди соприкасались друг с другом пальцами и утверждали, что на кончиках пальцев возникают разряды молний. Перед испившими снадобье раскрывалась вся природа. Звезды начинали водить хороводы, растения обретали голос, камни плакали, из песка тянули руки обитатели подземного царства.
— Да будет славен Тот, Кто дозволяет запретное! — возглашали люди. Теперь они слышали и напевы деревьев, а порхавшие с ветки на ветку птицы стали для них нотными знаками. Многие не только слушали, но и смотрели музыку: с восхищением в глазах, раскачиваясь всем телом, руками ища другие руки.
— Вы не видели родителей этого ребенка?
Увы, мои слова шли из мира здравого смысла и не доходили до них. Они только улыбались и говорили:
— Если их тут нет, они все равно здесь. Близкое и дальнее всегда рядом.
— Вы не видели родителей этого ребенка? Они из Египта.
— Какое имеет значение, откуда они? Все мы творения десницы Божией.
И они возвращались в свое царство самодостаточности. Горящие взоры, раскачивающиеся тела и возгласы:
— Да будет славен Тот, Кто дозволяет запретное!
Сидевшие у костров пьянели от вина, зелий и взаимных прикосновений.
Зрелище было необыкновенное, потрясающее… Здесь как бы сошлись все человеческие эпохи, все периоды, все мгновения, но они оставались незавершенными, неисполненными, ибо мечты никогда не доживают до смертного часа. Посреди затишья или бури они вдруг испаряются, оставляя грезившего нагим и беспомощным. А в пылу грез каждый твой вдох кажется важнее вселенной.
И грезы никогда не находят себе места в жизни, никогда не оставляют видимых следов в действительности.
На берегу бушевали ночь и страсти. Тут кто-то плыл по воле волн, там худые тела сплетались с женщинами, лианами и змеями, тут ребятишки тянули руки к неумолимой судьбе, там проносились люди со вскрытыми черепами. Мечты, мечты, мечты… У кого-то они затрагивали плоть и кровь, у кого-то застывали, у кого-то исчезали, переходя в другие мечты.
Здесь мужчина выкрикивал свое кредо: «Смерть врагам! Смерть всем вокруг!» И его руки отчаянно хватались за то, в чем он видел свою главную силу, а это был лишь камешек, который ему подсунула ночь. Там лежала женщина с недорожденным младенцем: так выглядела ее мечта, на большее ее не хватило. Жалкая мечта, но и за ней был целый мир, в котором бы жил ее неродившийся ребенок. Женщина представляла себе тихие реки с утренним туманом над водой. Представляла взлетающих птиц — неизменно на другом берегу. Представляла блестящих рыбок и то, как она сидит у воды, а ее груди набрякли молоком. Она мечтала о малом, но и эти мечты были слишком велики для ее жизни — судя по тому, что она осталась ни с чем. Рядом с ней возлегал человек, возомнивший себя Царем. Он грезил о власти, но его царство не стоило выеденного яйца. Ему некем было править, некого судить, некого захватывать и порабощать. И он истощил свои силы, потому что жизнь задвинула его в дальний угол и он умер там для всего, кроме грез.
Это была ночь вне реальной жизни, однако близко от нее.
Кто-то строил замки до небес, а кто-то мечтал о новой лачуге или кровле из камыша. Кто-то хотел иметь запас дров и вдоволь семенного зерна. А кто-то воображал себе, как колышется на теплом ласковом ветерке поле, изнемогшее под тяжестью колосьев.
— Теплый ласковый ветерок! Теплый ласковый ветерок!.. — повторял он, словно это было единственное в жизни, о чем стоило грезить.
Один полетел к звездам и с трудом, но все-таки дотянулся пальцами до тамошней земли и теперь нежно гладил новую планету.
Другой снова и снова переживал единственный миг своей жизни: как он стучит в дверь, она открывается и его приглашают войти. Никаких иных желаний у него не было.
Я же той ночью не витал в облаках, а бродил среди лежавших и сидевших людей в надежде выпросить у них хлеба и кружку молока для ребенка, которому был недоступен мир грез. Вокруг кипели воображаемые страсти: любовь и ненависть, злоба и нежность. Мечтатели строили дворцы из камня, золота и слов, возводили целые воздушные города. А я видел, что на земле этим грезам места нет. На земле находилось место лишь для бренных тел, которые росли, бедствовали и отчаивались, тогда как их мечтания уносились к самой дальней из звезд, туда, где, иссякнув, замирал космический ветер, в космос, по которому катилась наша Земля. Она была не больше моей ладони, беспомощная, как младенец у меня на руках… она была младенцем у меня на руках…
Я ушел на берег, подальше от шума и гама, и закрыл за собой ворота в величественный мир грез. Снова попав в суровый, низкий мир здравого смысла, где плакал от голода ребенок, я накрошил хлеба и покормил его.
Здесь было темно и покойно. К ногам лениво подкрадывались волны. Впереди парусником раскачивалось на волнах отражение месяца, только этот парусник не мог увезти нас. В кроне дерева у меня за спиной звенели цикады.
Я поднес кружку с молоком к губам ребенка, обхватил его пальчиками прохладный округлый сосуд. Младенец горел, как в лихорадке, и я понял, что на него уже зарится смерть. Но пока он еще видел сны, испытывал голод и жажду.
— Как тебя зовут? — спросил я, вглядываясь в самую глубь его зрачков.
И хотя ответить мне он не мог, я обнаружил, что и его, даже его, затрагивает наша жизнь.
— Как мне называть тебя, чтоб ты понял: тебя видят…
* * *
Когда же римляне увидели эти толпы (а за Савватеем следовало около тридцати тысяч человек, сеявших смуту на всем своем пути), юный ставленник Рима в Кесарии — по имени Кир — решил схватить нарушителя спокойствия и предать его суду. И я пошел туда в надежде наконец-то встретить родителей младенца; я соорудил тележку, чтобы везти в ней ребенка, и старался не отставать от великого множества людей, тянувшихся посмотреть, как будут судить их господина и спасителя.
Тот Савватей, которого теперь вели к Киру, изменился до неузнаваемости: он чувствовал себя несчастным, потому что перестал пророчествовать. Он уже несколько недель не обращался к народу, не кричал о своих бессвязных видениях. Савватей сгорбился, глаза его бегали по сторонам, губы обвисли и источали слюну.
— Какое же зло сделал я?[13] — упорно спрашивал он у Нафана, который с прямой спиной и открытым взором шел рядом и записывал каждое слово.
Ничего не отвечал Савватею Нафан, однако вечером, когда мы остановились на ночлег, он обратился к людям с речью на эту тему: «Какое же зло сделал я?!»
И Учитель более не значил ничего, а его пророк значил все. И пророк этот призвал народ оставить свои грехи Мессии, но многие уже распалились, почуяв свободу Царства Божия, и закричали, что не бросят Господа одного в Его многотрудном пути через тьму и пойдут на грех вместе с Мессией. И отчаяние великое охватило Нафана от такой несдержанности. И уединился он, и, как ему показалось, обрел просветление. Мессия должен был явиться в скверные времена, и чем сквернее времена, чем более удалились люди от Бога, тем скорее следовало ожидать Его пришествия. И вот Он явился. Об этом свидетельствовало и зло вокруг. Значит, можно продолжать путь в Кесарию.
Кир сидел на троне под балдахином. Он был молод, и его позабавила большая Савватеева свита, взятая в окружение его воинами. К нему подвели Мессию.
— Приветствую тебя, иудей!
Савватей пал на колени и поцеловал землю.
Это, видимо, разочаровало Кира. Наклонившись вперед, он сказал:
— Почему ты пресмыкаешься передо мной? Разве ты не новый Мессия? Я иначе представлял себе человека, намеренного спасти свой народ от нас, римлян.
Люди кругом тоже были поражены поведением Учителя. Разумеется, они привыкли видеть его ползающим или скорчившимся, и Нафан объяснял им, что он «исчезает» — уходит в свой мрак для познания его, ибо Мессия живет в другом времени и странствует по нему отдельно от нас. Господь, дескать, «назначил ему иные пути».
Раньше, во время переходов, Нафан мог на стоянке позаботиться о Савватее, дать ему «уйти», вовремя оставить в покое, но неизменно бывал рядом, чтобы утешить и помочь. Теперь же Нафан стоял в окружении римских легионеров. Распростертый на земле Савватей казался одинок и беззащитен. Нафан чувствовал себя не в силах помочь ни Савватею, ни нам и нервно поглаживал вспотевшее лицо. Зато над двором возвысил свой голос люд:
— Да. Он наш Мессия!
— Слышишь, что они говорят? — сказал Кир. Он отпил вина, которое поставили перед ним на низком столике, утер рот и с еще большим интересом посмотрел на Савватея: — Кому ж мне верить, иудей?
— Верь мне. — Савватей поднял голову к наместнику, в его взгляде сквозило отчаяние. — Я не тот, за кого меня принимают.
— Слушайте! — воззвал Нафан. — Слушайте, как Он берет на себя грех. И все ради нас!
— Слушайте, слушайте! — подхватила толпа. Но воины оборотились к кричавшим и под угрозой плеток заставили их умолкнуть.
— Я могу приговорить тебя к смерти за восстание против императора, — сказал Кир. — У меня есть на то власть. Я есмь день и ночь, я есмь твой свет! — Он устало улыбнулся. — Скажи, что бы ты сделал, если б стал Царем Иудейским?!
— Вот уж от чего избави и помилуй, — прошептал Савватей. — Поступай со мной, как знаешь, господин, только я этому народу не царь.
— А сумел бы ты признать, что веруешь в императора? Веруешь в Рим? Веруешь в наших богов?!
— Да, господин, — сказал Савватей. — Признаю, что верую в императора, в Рим и в твоих богов!
Над двором повисла гробовая тишина.
Кир чуть не задохнулся от изумления. Он торопливо налил себе еще вина и осушил бокал. На миг показалось, будто Савватей уничтожил всех своих сподвижников. Выкинул их жизни на помойку, вырезал их сердца…
Но тут упал на колени Нафан.
— Господи Ты Боже наш, Создатель, пославший во тьму Сына Твоего, приими души наши и сердца наши, ибо близко Царствие Твое.
Потом встал и простер руки над людскою массой:
— Се, вот он и взял на себя последний, наитягчайший грех! Не отчаивайтесь, друзья мои. Господь бросил Сына Своего в самую глубь мрака, дабы исполнил он предопределенное ему. Да помолимся мы за душу его. Да будем денно и нощно с ним в трудном его предназначении.
Многих из собравшихся, однако, разозлило предательство Савватея, и они готовились уйти восвояси. Люди опустили глаза долу и вновь чувствовали себя отверженными и одинокими.
— Маловеры! — воскликнул Нафан. — Вы не видите дальше собственного носа. Ну и уходите в свои города, в свои пустыни. И живите там среди львов и змей…
А некоторые, напротив, выбегали из толпы и, рухнув ниц рядом с Савватеем, возглашали:
— Мы тоже признаем, что веруем в императора, Рим и твоих богов!
И, как ни пытался Нафан остановить их, убеждая, что совершение сего греха было исключительным правом Мессии, он не мог помешать им.
— Мы хотим и дальше идти за своим господином.
В общем, народ разделился на группы, а я не знал, куда мне деваться с ребенком. Тельце его горело огнем, и я гладил лобик малыша, над которым уже вовсю трудилась смерть.
Похоже, Киру это столпотворение показалось докучным. Он раздраженно пожал плечами и встал, давая знак воинам разогнать толпу.
Вот как случилось, что посередине двора остался один я со своей тележкой. Малыш попискивал, требуя есть и пить, в глазах его стая за стаей проносились черные птицы. Я уложил его на тележку и покатил к аркаде, где была тень и бил фонтан. Я зачерпнул рукой воды и дал ребенку напиться.
Передо мной вырос Кир.
— А ты кто такой, что посмел остаться?
Юный Кир выглядел утомленным. Он кивнул в сторону Савватея, который лежал, уткнувшись носом в землю, около пустого трона, откуда служитель смахивал крошки. Смерив Мессию презрительным взглядом, служитель забрал со стола вино и бокал, а другой рукой смахнул крошки и оттуда. Затем он отвесил поклон Киру, который даже не заметил этого.
— Ты тоже из одураченных? Или… из прочих безумцев? Ох уж эти евреи… — сказал он, присаживаясь на край фонтана. Он опустил руку в воду, смочил лицо, затем сплюнул и утерся тыльной стороной руки.
— У тебя найдется лепешка для малыша?
Я ощущал в себе необыкновенную тишину. Все последнее время прошло в шуме и гаме; вокруг совсем не было спокойствия, постоянно кипели страсти. Вопли и крики, пляски и проповеди, скандалы и внезапное безмолвие — и так без передышки. В каждом человеке таилось столько соблазнов, столько надежд, столько обмана… Это был один долгий праздник, который теперь кончился. И наступила тишина рабочей недели, продолжения трудового года. И я вдруг заскучал по немногословию виноградника, по согбенным на солнце спинам, по дружескому общению у вечернего костра, где почти ничего не говорилось вслух, где страдания моего народа понимались без слов, просто чувствовались, как чувствуется дуновение ветерка в знойный день. Вот где должно было явить себя Царство Божие. В краю страждущих, среди тех, кто терпит голод и жажду. А вовсе не в пылу восторга или транса, не среди криков, не в угаре пляски.
Во двор опустилась стайка голубей и устроила маленький вихрь, обдав пылью Савватея. Он даже не пошевелился. Смоковница приподняла и опустила свои листья-вежды. Слышно было хриплое дыхание ребенка.
— У тебя найдется лепешка? — еще раз спросил я.
Кир снова ополоснул лицо.
— Я просто хотел убедиться, что ты осмелишься повторить свою просьбу. Благодаря возможностям Римской империи у меня найдется все. Когда-то у меня не было ничего. Теперь есть.
Он спрыгнул с края фонтана и пошел наискосок через двор. Походка у него была упругая и стремительная, он наверняка не знал поражений в спортивных состязаниях. Он обладал властью, чтобы истребить жителей целой провинции. И отправил отсюда в Рим не один корабль с зерном и виноградом, древесиной и драгоценными камнями. У него было сколько угодно женщин и прохладной воды в любое время дня и ночи… Я погладил ребенка по лбу.
У Кира был прекрасный парк, результат неустанного труда согбенных спин. Со скольких полей надо было собрать урожай ради одного мраморного пальца?.. Сколько пальцев было стерто в кровь ради одного каменного локона, скольких голодных ночей стоила каждая складочка платья, сколькими ударами плети был оплачен каждый ноготь этих изваяний?.. Я гладил ребенка по лбу, отгонял мух от его глаз.
На ладони у Кира белела лепешка.
— Какого черта нам понадобилось в этой проклятой стране? Здесь творится невесть что. Вот, я принес тебе лепешку, иудей. Сходил и принес. Собственными руками, как простой служитель. Думаешь, там и впрямь лежит Мессия?
Я покрошил лепешку и попытался запихнуть в рот ребенку, но тот не дался.
— Почему ты не отвечаешь? Может, думаешь, отчего я, проклиная эту страну, не возвращаюсь на родину? Или примериваешься, как бы пырнуть меня кинжалом, когда я отвернусь?
— Нет.
— Врешь. Вы, иудеи, все хотите избавиться от нас… ну, почти все.
— Я не владею кинжалом.
— Мог бы научиться. Некоторые учатся. Например, зилоты…
— Вместо тебя придет другой.
— Этот ребенок явный кретин! Почему ты не бросишь его на произвол судьбы? Нет, я вас не понимаю. Хотя с самого приезда старался понять ваш образ мыслей, понять, на что вы надеетесь. По ночам мне снился Мессия, который должен прийти и уничтожить нас. Вот он крадется снаружи вдоль дворцовых стен, вот прикасается к стене, и она уходит внутрь, открывая ему путь, вот он с язвительной улыбкой стоит передо мной.
— Ты ждал его?
— Сначала я… — произнес Кир и вдруг склонился над младенцем, оглядел его уродливую голову, вдавленный нос, вялые губы и положил руку ему на лоб. — Сначала я верил в благодушие и богоподобие императора, но, познакомившись с ним, готов был бежать на улицу и во всеуслышание кричать: у кесаря нет ничего, чему стоило бы верить! У него есть только власть, а какая-то власть есть и у меня. Мы, римляне, возомнили себя выше природы. Выше окружающих гор. Мы устали и склонны к подозрительности. Мы доверяем лишь некоторым частям своего тела. Отнюдь не целому. Мы отняли душу у туч и звезд, заставили умолкнуть камни и реки, отринули от себя все невидимое, все тайное. Да, у нас есть боги и божества, но это забава для простаков и поэтов. И мне иногда кажется, что со временем горы, камни и реки отомстят нам. А может, нам отомстят такие вот кретины, — он указал на ребенка. — Тысячи, сотни тысяч кретинов! Что это я разговорился с тобой? Мы же враги. Нам следует уничтожать друг друга. Чтобы хоть что-то стало происходить!
— Что-то происходит всегда. Независимо от нас, — отозвался я.
С нами происходит то, что уже однажды было.
Время стоит приотворенным.
Так было всегда. Так будет сегодня и завтра.
Мы то и дело погружаемся в свои недодуманные мысли, в мечты и желания. Копаемся в некогда начатом. Даже если мы вроде бы ничем не заняты, в нас происходит бурная деятельность; между тем и посреди спешки нас можно поймать на минуте покоя. Мы доискиваемся смысла жизни.
На каменной ограде нашего дома в Назарете стоит ковш с водой. Его только что поставил туда я, по бокам еще стекают капли. Я утираю рот тыльной стороной руки и вглядываюсь в скрытую утренним туманом даль. И вдруг передо мной появляется Иоанн, усталый и грязный с дороги. Мое сердце подпрыгивает от радости. Наконец-то. Наконец-то он пришел. Наконец-то я смогу показать ему свою жизнь. Наконец-то он простил меня. Я давно мечтал о его приходе. Мечтал, что отведу его к Бен-Юссефу и тот расскажет ему, как находить по следам верблюдов. Пускай плетет свои истории про пустыню, про убитых им римлян, про побежденных в единоборстве львов. Мечтал познакомить с Гавриилом Любителем Огурцов, чтобы мы вместе посмеялись над ним. Мечтал, как Иоанн будет сидеть на подстилке рядом с Иосифом и другими и чувствовать, что обрел второй дом.
Иоанн стоял потупившись.
— Я просто хотел посмотреть, как ты живешь. Я никогда у вас не был. Где Мария?
— Она у колодца. Моет голову. Если б ты знал, Иоанн…
— А где колодец?
Иоанн говорил отрывисто и словно не замечая меня. Я показал в дальний конец улицы:
— Вон там, под деревом…
Я встал, чтобы пойти с Иоанном, но он уже тронулся прочь — и не подумал ждать меня.
Я встревожился.
Мария подставила голову под текущую воду и, зажмурившись, неторопливо промывала свисавшие вперед длинные черные волосы. Рядом были еще женщины. Некоторые ожидали своей очереди, другие уже помылись и теперь надевали чистое платье, причесывались, стирали на камнях одежду. Поодаль я увидел Иоанна. Мария его пока не углядела. Вода текла у нее по волосам, омывала обнаженные плечи, лилась по груди, забрызгивала юбку.
— Мария… Это я, Иоанн, — выступил вперед он. — Можно я тебя помою?
Мария вздрогнула. Прикрыв руками грудь, она откинула волосы и увидела рядом других женщин. Иоанн смутился тем, что испугал ее.
— Я сын Елисаветы. Она всегда давала себя мыть…
Но было уже поздно. Протянутые к Марии руки вдруг показались ему огромными. Они мешались. Они вполне могли напугать. А женщины тем временем обступили Марию, загородили ее.
Возможно, она не расслышала, что он сказал. Возможно, не сразу сообразила, о какой Елисавете речь, о каком Иоанне.
Не ожидавший ничего подобного Иоанн ринулся прочь. Побежал, перепрыгивая через отдыхавших у колодца овец и коз. Он пронесся мимо Бен-Юссефа, который катал на закорках своего младшенького. Пронесся мимо всего, что было моей жизнью, чтобы опять погрузиться в неизбывное одиночество…
И мне подумалось: он до сих пор бежит, хотя теперь, наверное, сидит где-нибудь в пустыне и слушает стрекот цикад. А Мария до сих пор стоит испуганная, прикрывая груди, хотя теперь, возможно, готовит обед Иосифу. А я по-прежнему смотрю вслед Иоанну, хотя теперь разговариваю с Киром… который вдруг кричит:
— Эй ты, Мессия… Поди сюда!
Я очнулся:
— Не надо глумиться.
— Я не глумлюсь. Просто устал ждать. И мне обидно, что этот тоже оказался не…
Савватей поднялся на ноги и забормотал:
— Признаю, что верую в императора…
— Ладно-ладно, успокойся. Что ты намерен делать дальше?
— Что прикажешь, господин.
Савватей неуклюже поклонился. Взгляд его блуждал по сторонам.
— Иди отыщи своего пророка! И обрети веру, за которую ты в другой раз держался бы крепче. Если удастся, собери опять в кучу единомышленников. Или пускай этим займется пророк. Но запомни: когда попадешь сюда в следующий раз, ты должен стоять насмерть, а не заявлять о своей преданности мне и кесарю. Чтобы в следующий раз мне было кого судить. И судить по всей строгости!
Кир закрыл глаза. Вид у него был крайне измученный. Савватей меж тем скрылся за воротами.
— До чего мне осточертели эти мнимые Мессии! — после долгого молчания признался Кир. — Живешь, словно в призрачном мире.
Вскоре мне тоже показалось, что я живу в призрачном мире: наместник пригласил меня погостить у него. Вроде как ради ребенка.
* * *
Под пронизывающим северным ветром, который едва ли не всегда дул за стенами сада, по барханам плелись две фигуры. Молодой человек и пожилая женщина. Женщина шла согнувшись, ее иссиня-черное одеяние развевалось на ветру, тянуло назад. Ветер рвал кроны немногочисленных деревьев, и я тоже нагнулся — к яблокам, которые в это время собирал в саду.
Мне не нравилось видеть за стенами людей. Вечно эти бедняки куда-то брели, безнадежно и бесцельно, а мне, понятное дело, было стыдно оттого, что я, еврей, живу у Кира. Я знал, что уже пошли дурные слухи.
Когда я снова поднял взгляд, странники стояли за стеной напротив меня. Это были мой брат Иаков и Мария в закрывавшем рот головном платке.
Я давно старался не думать о них.
Не вспоминать скрягу Иакова! Он любил сидеть со сложенными на коленях ручками и, изображая взрослого, хулить все, что было хорошего на свете. Он готов был отсечь эти свои ручки, только бы не доставить себе никакого удовольствия, не иметь ничего общего с женщинами, не заводить детей; он воспринимал мир как одно сплошное искушение. Его тонкие губы дрожали от возбуждения, стоило кому-нибудь завести речь о мирском. Иаков рано загнал себя в истовую религиозность — можно сказать, пригвоздил себя к самым строгим текстам, которые безотрадно, с детской ненавистью, твердил. Его все не любили. Он знал об этом, и его ненависть только росла.
Как же он ненавидел меня, когда я уезжал в монастырь!
Он вечно всего боялся, этот Иаков, вечно дул на воду. Если я играл в день отдохновения, или смеялся над тем, как гнусаво раввин читает текст, или называл Осию глупцом, Иаков бросался на меня с кулаками: «Как ты смеешь!..»
А теперь он стоял внизу и держал под руку Марию.
Лицо ее постарело, губы ввалились, торс отяжелел.
Мои родные — бедняки и живут в своем узком мирке. Зачем они пришли беспокоить меня?
Тут, за стенами, все было иначе: у женщин, собиравших яблоки, были изящные руки и ноги, а ткань на груди при малейшем напряжении колыхалась. Маняще, многообещающе…
Мария тоже увидела их: ее глаза не были сокрыты покрывалом. Она подняла на меня эти испуганные, обиженные глаза и сказала:
— Может, тебе правильнее быть рядом с отцом?
Наш дом в Назарете. Простое ложе, на котором она ночь за ночью лежала без сна! Я отчетливо видел каждую соломинку в стенах, видел лунный луч на ее лице, видел, как глаза ее наливаются слезами. Слышал тишину и сопение в углу комнаты, где спали мои братья и сестры, видел, как ворочается от неведомых мне снов Иосиф. Видел холодные, зябкие утра, когда Мария молча готовила завтрак, видел ее робость перед людьми, слышал шепоток, повергавший ее в еще большее смущение: Иисус работает на римлян.
Много дней и ночей шла она сюда, чтобы сказать одну-единственную фразу. А потом — махнуть развевающимся платьем и идти назад.
В этих словах была суть ее ночных терзаний. В них звучало обвинение! Звучала мольба.
Если бы дело кончилось этим… Если бы она ушла, оставив меня в моем смятении… Тогда бы я скоро нагнал ее и с умирающим ребенком на руках вернулся домой. Но рядом стоял Иаков.
Между мной и Марией происходило что-то простое и важное, а этого он стерпеть не мог.
Губы его задрожали.
— Как ты смеешь?! Ты опозорил нас перед всем Назаретом!
И долгие раздумья, заложенные в словах Марии, вмиг улетучились.
Слова утратили силу.
— Иосиф болен. Ты должен взять на себя мастерскую.
— Что?! Ты хочешь сказать, мастерская перейдет к этому?.. — злобно посмотрел на меня Иаков.
И задохнулся от возмущения. С трудом прибавил:
— Ему всегда было плевать на тебя, матушка.
— Только, пожалуйста, без ссор, дети, — встала между нами Мария.
Как ей должно быть тяжко! Если бы не Иаков, я бы спустился к ней и попросил извинения, но само собой вырвалось другое:
— Можешь не беспокоиться, Иаков.
Кто-то взбирался ко мне на лестницу. Оказалось, снизу к нашему разговору прислушивался Кир.
— Это твоя мать, назарянин?
Я подвинулся, уступая ему место. Мария с Иаковом стояли на песке между пиниями и их синими тенями. Мария спрятала лицо за покрывалом и отвернулась, словно предпочитая смотреть на барханы, привычный пейзаж бедняков. Кир сверкнул золотыми запястьями.
— Позвольте угостить вас фруктами…
Иаков перестал держать Марию под руку и поклонился. Когда Кир бросил ему яблоко, он поймал его и отвесил еще несколько поклонов.
— Надеюсь, я не помешал? — осведомился Кир.
— Ни в коем случае, — заверил Иаков с той стороны стены.
И снова поклонился.
Кир сорвал с ветки еще одно яблоко и кинул Марии. Она не отняла руку от покрывала. Яблоко скользнуло по ее телу и, запутавшись было в мягких складках одежды, шлепнулось на землю. Прокатилось меж торчавших из песка пиниевых корней и застыло на солнцепеке.
Иаков испуганно толкнул Марию в бок, но она лишь потуже запахнула одежду, повернулась и, не оглядываясь, пошла прочь. Иаков смутился и попятился, отвешивая поклон за поклоном. Яблоко осталось валяться на песке. Из треснувшей кожуры сочилась прозрачная красноватая жидкость.
— А ты? — обратился ко мне Кир. — Ты можешь сравниться в дерзости с матерью? Решишься отказаться от дара, предложенного твоим римским господином?
— Да, — сказал я, но яблоко из его руки принял.
* * *
Я пробыл у Кира слишком долго. Рядом с власть имущими легко забыть себя.
Когда я наконец ушел оттуда, толкая тележку с умирающим ребенком, мне нечего было сказать Господу, я онемел. А когда малыш возвратился в небытие — ранним утром, у северной реки — и я похоронил его на берегу, мир утратил для меня всякую вразумительность. Я сидел, неотрывно глядя на камни, под которыми прятались глаза ребенка. Он едва успел дотянуться до жизни. Он пытался нащупать ее своими слабенькими пальцами, пытался заглянуть в нее, но жизнь не приняла его к себе. И я, гораздо тверже закрепившийся в этом мире, не сумел завлечь малыша к нам. Он лежал в могиле, а мне чудилось, будто его пальцы перебирают мою одежду, ищут что-то в траве, колышущейся на ветру, в птицах, ныряющих за кормом в бурную реку, в женщинах, моющих белье и свои тела на том берегу.
Я и так онемел, а тут еще рядом ходит смерть!
И вдруг мне в глаза бросилась забытая в кустах, грубовато сделанная тележка. Я смастерил ее сам. И она исполнила свое предназначение. Кое-как преодолевая камни или катясь по ровной дороге, колеса довезли младенца сюда. Не знаю, кто меня обучил этому нехитрому ремеслу. Доски, скрепленные ивовыми прутьями, еще не разошлись, деревянные втулки в ступицах держались крепко, рукоятка была сделана под стать руке. Я заметил блеснувшие на солнце капельки смолы. И, прежде чем встать, дотянулся до капельки и положил ее себе на язык.
Вкус у живицы был в точности такой, как я помнил.
* * *
Увы, я не успел в срок добраться до дому и на утренней заре, у назаретского колодца, узнал от водочерпия о смерти Иосифа.
Человек не несет в себе тайны, а несет лишь разные бремена. Он — кладовая для грез и разочарований других людей, для их речей и мыслей; зрячий заимствует из этой кладовой, слепой оставляет вещи лежать втуне.
То, что недавно было Иосифом, а теперь — обтянутым кожей скелетом, лежало перед домом; пока исхудалое лицо впитывало свет и передавало его остальному телу, Иосиф раздавал нам, обступившим его носилки, самого себя — даровал последние дары. Оставалось лишь взять их.
Он лежал навзничь, со сложенными на груди руками. Я всегда любил его и теперь водил пальцем по шишковатому лбу, по обветренным щекам, по короткой редкой бороде. Потрогал я и руки — и спрятал в свою кладовую его чувство дерева, его умение чисто выстругать доску. Я взял и его безграничное терпение, его снисходительность. Мой брат Иаков взял себе суровость и упрямство. Никто из нас не взял Смех… просто потому, что его у Иосифа не было.
И вот церемония подошла к концу: мы разобрали всё. Ветер снова принялся лохматить гранатовое дерево, во двор налетели воробьи, на веревке заколыхалось сохнувшее платье.
Вскоре, однако, я перестал слышать чириканье воробьев — за причитаниями плакальщиц, перестал видеть трепыхание листьев — за всем, что творилось вокруг: люди рвали на себе волосы, раздирали одежду и воздевали руки ввысь, загораживая сияние небес.
Это была своеобразная пляска одиночества. Пляска зависти к тому, кто ушел, оставив их на земле. Пляска покинутости — ведь знак с того света опять подали не им.
Жалкие людишки! Иосиф умер без боли, без мучений. Они же далеко не так высоко ценили его живым, чтобы оправдать эти потоки слез. Сколько раз он сам чувствовал себя бесконечно одиноким! А теперь… теперь они, блюдя обычай, накинулись на него, чтобы вымолить себе кусочек его опыта, его жизни.
Жизнь продолжалась, а они стояли у нее на пути. Обвивая пеленами его голову, руки и ноги, они своими сетованиями, своими ахами, охами и вздохами нарушали границу, отделяющую нас от смерти.
И одна женщина сказала:
— Почему ты не плачешь, Иисус? Почему не рвешь на себе волосы, если умер твой отец?
Видимо, ей казалось, что я буду снисходительнее относиться к их покупным слезам, если дам себе волю и сам ударюсь в плач.
— Мои слезы не воскресят его, — ответил я.
А потом встал и вышел к деревьям. Эти деревья Иосиф всегда любил. Но пока я сидел под ними, глядя на колеблющуюся листву и слушая ее непрестанный шелест, который охватывал будущее и уходил далеко в прошлое — во времена Давида, Авраама и далее, в доавраамову эпоху, — несколько соседей, подойдя ко мне, тоже полезло с упреками.
И хотя я намеревался лишь передохнуть наедине с собой, а затем вернуться в дом и помогать нести Иосифа к могиле, я разозлился от их слов: «Думаешь, кто-нибудь захочет нести к могиле тебя?»
— В самом деле, — отозвался я, — кто-нибудь захочет нести к могиле меня?
Они оставили меня под оливковым деревом. Между тем наступил вечер; из дома, который теперь по праву принадлежал мне, доносились горестные выкрики. Я видел, как старики, затеявшие ссору со мной, присоединились к Иакову и Марии.
Там собралась целая толпа. Возможно, слух о моем упрямстве уже разлетелся по всей округе, и люди хотели рассказывать о том, как побывали в оскандалившемся семействе, хотели обратить его посещение себе на пользу, найдя человека, на которого можно будет валить всякую вину.
В городе, где почти ничего не происходило, нужно было искать виноватого, чтобы вытолкнуть вину за городские стены. Это пригождалось, когда случался неурожай или засуха. Это пригождалось, когда страх и подозрительность заставляли жителей держать двери на запоре друг от друга. Когда сосед не знал, о чем думает сосед. Когда родители не знали, чем заняты дети. Судит ведь всегда тот, кто не решается оборотить взгляд на себя.
Я остыл довольно быстро. И все-таки упустил момент вернуться в дом и отнести Иосифа к могиле.
Процессия тронулась и уже шла под звездным небом.
Чего бы я только не дал, чтобы нести его носилки! Но старцы били своими посохами в скалу, и били там, где было тонко, и скала треснула, и оттуда хлынул поток мыслей, который отравил землю вокруг меня. А что я такого сказал? Просто дал им понять, что не такой, как все. Отмежевался от них.
Я нарушил Закон. Великий и тягостный Закон.
Но меня отделил от прочей паствы не только разлад со старцами. Все началось гораздо раньше.
Похоронная процессия теперь двигалась в лощине подо мной. Я видел ослепшие от слез глаза Иакова и Марии, видел согбенные спины соседей. Сияла луна, белела Иосифова плащаница.
Как мало у меня общего с этими хмурыми и добродушными назарянами! На миг я даже позавидовал им. В их жизни дело никогда не доходило до настоящей ссоры, до серьезного противостояния, в котором их вынуждали уступить. Они следовали Закону, слушались стариков и никогда не приходили в отчаяние от препон, которые им ставили обстоятельства.
Теперь они провожали в последний путь усопшего. Что было, то и будет… Не умолкнул ни шелест деревьев, ни свист плеток в руках римских легионеров. Что делалось, то и будет делаться…
Эти люди нравились мне, и я хотел быть одним из них, трудиться рядом с ними. Я хотел сидеть на Иосифовом месте в мастерской и, вдыхая запах живицы, под нестройный гул голосов обрабатывать плуг. Пускай другие расхлебывают все, что происходит вне Назарета. Сейчас я пойду и встану рядом с ними, думал я.
Увы, ноги отказывались повиноваться.
Мне вспомнились смиренные слова пророка: «Я — не пророк и не сын пророка; я был пастух, и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: „иди, пророчествуй…“»[14]
Он же сказал: «Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем, а этот народ — дровами, и этот огонь пожрет их»[15]. И тут со стороны пустыни повеяло теплом. Я обернулся и приветствовал ночь. Приветствовал пустыню. Приветствовал ветер. Я нес носилки, на которых покоилось Ничто.
Точно лев, крадущийся по пустыне, подкралось из-за горизонта солнце и с оглушительным рыком выпрыгнуло на небосвод.
И тогда я покинул свое ночное пристанище между каменными глыбами и спустился к могиле. Иосиф теперь стал земляным возвышением. Пригорком под смоковницей. Над миром только-только воцарялся свет. В небе, озирая это царство света, парил одинокий гриф. К мертвой песчанке слетелись крапивницы, облепили ее со всех сторон.
Господи, с каждым днем я все дальше ухожу от дарованной Тобой жизни. Помоги вновь раскрыть глаза и уши, чтобы доносились до меня крики с нивы земной. Разбей перегородку, отделяющую меня от них. Научи, как помочь самому себе, дабы существовать на радость Тебе и стать пламенем, которое делает Тебя видимым.
Мария подоспела к моему «Аминь». Она пришла одна и застыла на месте при виде меня.
— Ты остался мне сыном?
— Я же здесь.
— Если ты в самом деле мой сын, дом принадлежит тебе.
Она не отрывала взгляда от земли.
— У меня нет дома. Пускай им займется Иаков.
— Ты опять уходишь?
Мария произнесла эти слова отрешенным тоном. Даже с некоторой робостью. Я взял ее за руку.
Рука была мозолистая, с большими венами и печеночными пятнами. Я попросил Марию сесть, я повернул ее руку ладонью кверху и стал струйкой сыпать на нее песок. Мария испугалась. Она думала, это что-нибудь значит, думала, это заклинание.
— Что ты делаешь?
— Держу тебя за руку.
И Мария не отдернула ее. Только потуже замотала покрывало и долго не продолжала разговор.
— Когда снова в путь?
— Сегодня.
— Сегодня с площади не уходит караванов.
— Какой-нибудь караван всегда нагонит пешего.
Вопросы и ответы объединяли нас, а молчание разъединяло. Мы отвыкли друг от друга. И обратили взоры к окружающему миру. На пустыре стоял, оглядывая колючие кусты, верблюд; на левом боку, под самым горбом, играл солнечный зайчик. Вот появилась женщина с горшком навоза. Она присела перед верблюдом, так что его ноги образовали вверху арку. Над одним из дворов поднимался дымок. Откуда-то доносился шорох метлы. Ты его слышала, Мария? Вот по песку прошагал павлин; верблюд повернул за ним голову, в глазах его мелькнул слабый интерес.
Вот из деревни разошлись по полям мужчины — и пропали в ослепительном свете. Ты видела их, Мария?
Она жевала гвоздику — видимо, от зубной боли.
— Иисус…
— Да?..
— Я знаю, это очень глупо, но мне надо тебе кое-что сказать.
— Скажи.
В утренней тиши кто-то подметал. Шорох метлы казался шепотом, обычно не замечаемым шепотом.
— Я тебя боюсь.
Глаза ее покраснели от слез. Они расширились и казались огромными.
— Ты… ты меня не очень любишь… А я… я боюсь даже прикоснуться к тебе.
— Знаю.
— Перед твоим рождением…
Она долго не решалась продолжить.
— Говори же, говори…
— Рано утром ко мне явился ангел. А мне тогда было тошно жить, прямо хоть ложись и помирай. Сам знаешь, как бывает. Он явился и сказал… в общем, велел мне радоваться. Он прервал мой плач. И сказал: радуйся! А потом родился ты. Но я оказалась как бы ни при чем. И начали твориться всякие странности. К тебе приходили люди из дальних краев. А мне об эту пору надо было побыть с тобой наедине, в тишине и спокойствии. Мне даже покормить тебя толком не давали. Я чувствовала себя лишней. И ты как будто принадлежал не мне, а… а целому свету. И все говорили, ты какой-то особенный.
Она вдруг положила руку мне на колено. Я задрожал от этого нежданно-негаданного прикосновения.
— Ты, конечно, и есть особенный, я ничего плохого не хочу сказать. Просто я мало что соображаю. И все-таки… ты не должен на меня сердиться.
Я покачал головой, погладил Марию по руке.
— А когда пошли слухи, что ты живешь у римлян!.. Нам рассказал один работник из тех мест, он тебя видел. Когда ты выкидываешь такие фокусы на похоронах… Когда ты сбежал из монастыря, в котором тебе было хорошо… Тебе ведь было там хорошо, правда? Что все это значит? Может, тут есть какой-нибудь высший смысл?.. Однажды к нам пришли искать тебя римские солдаты. Сказали, ты стал зилотом и истребляешь римлян… А потом ты нанялся к ним работать. Как прикажешь все это понимать? При том, что сам ты всегда ходишь молчком… Мне страшно, очень страшно.
Она вскочила и побежала вниз, к полям.
— Мне тоже, — ответил я мелькавшим вдали пяткам. — Безумно страшно.
И все-таки я рад…
______________________
_____________
Вечернее освещение позволяет мне поднять взор и оглядеться по сторонам. Песок чуть остыл, так что можно безболезненно выйти из пальмовой рощицы.
Целый день я лежал в относительной прохладе под ее прикрытием. Недавно поел фиников и выпил воды.
Днем мне показалось, будто я слышу вдали верблюжьи колокольчики. Теперь кругом тишина. Я люблю тишину и боюсь ее. Она вроде колодца. Но звуки раздаются и в ней: сначала в ушах звенит колокольчик, затем воспоминание о нем, затем, совсем слабенькое, воспоминание о воспоминании. На каком-то этапе звук начинает переходить в образ. В образе вещи утрачивают имя, яркость, присущий им голос. Это, так сказать, тишина в развитии. Она ужасна: безмолвнее такой тиши нет ничего на свете.
Время от времени удается обратить все свое внимание внутрь, к собственной сердцевине. Там у меня обретается отец.
По прошествии стольких лет я часто говорю себе: не важно, кто он был такой. Долго живя без отца, человек творит его сам… из твердейшего камня, из сильнейшего духа, из ледяной воды. Я говорю себе, что мой отец — я. Он придает мне силы двигаться вперед. Он находится во мне и бьет родником, как только я захочу пить. И все же я предпочитаю вещи с именами. Конечно, мы живем безымянностью и тишиной, но стремиться должны к тому, что наделено именем. Я должен жить ради того, чтобы низвергнуть Рим, чтобы облегчить гнет бедняков. Жить ради жизни.
Я поселился здесь некоторое время назад, в полном одиночестве. В первый же день устроил себе стан. Теперь много сижу неподвижно и смотрю на горизонт, на синеющие подле Иерихона вершины. Я почти не ем, стараясь изгладить всякие воспоминания о теле, дабы разобраться, есть ли в нас что-нибудь помимо тела. Пульс у меня бьется гораздо медленнее прежнего, я уже могу подолгу сидеть так, что не дрогнет и мускул. Имею ли я право предаваться упражнениям, когда моих друзей истязают в темницах? Имею ли я право на это, когда народ голодает, подвергается притеснениям и пыткам?
Имею.
Живя в миру, очень легко быть поглощенным этим миром. Без уходов в пустыню, без ночей под звездами (правильно Иоанн еще в детстве сказал, что мне предстоит подолгу бывать в пустынях) я бы ни за что не вышел на свой путь. В окружающей меня тиши все помехи убраны: только тут можно наметить себе правильную стезю. Моя стезя ведет прямо к смерти. Слишком многие не идут таким путем, а прячутся в воспоминаниях, пытаются отменить время. Считают себя вечными. Они — малые дети.
Я не презираю их. Я знаю, что наделен талантом (его можно воспринимать как дар или как бремя) и что его нужно использовать до конца. Положение требует моего вмешательства. Мой талант следует употребить во благо моих соплеменников, во благо всех бедных и угнетенных. Сам я не волен распоряжаться своим даром, а потому мне остается посреди этой тиши молиться о том, чтобы его не употребили во зло.
Я уже давно пребываю в пустыне. Мне хотелось понять, могу ли я совершенно погрузиться в одиночество. Я бродил под сверкающим звездным дождем, вдали от пламени, которое призван поддерживать. Песок под ногами совсем остыл. Я взбирался на барханы и уходил все дальше. Мое время еще не пришло, так что умереть я пока не могу. Меня ожидает иная кончина, хотя и ее не назовешь смертию, венчающей победу.
Разумеется, подлинное одиночество для меня невероятно. По сравнению с другими теперешнее мое одиночество — баловство, испытание. Но тот, кто по доброй воле отказывается от каких-либо сношений, учится видеть.
Одиночество предоставляет замечательные возможности для отстранения, для понимания и вживания. Я не раз наблюдал людей, которые могут сидеть в компании изолированно от других. Настоящее одиночество я испытаю посреди огромной толпы, в миг, когда буду умирать.
Я лег на землю и принялся молиться.
Молитвенные коридоры были чисты и пусты. Ничто не заслоняло обзора, тогда как я знал: наступит день, когда своды этих коридоров рухнут, когда на пути глаза и мысли встанут завалы из щебенки и камня.
Я не мог заблудиться, потому что знаю расположение звезд. Меня выводило из пустыни знание, и мои шансы выбраться оттуда были велики: листочки собирали влагу и посверкивали, отражая свет звезд, надо было только перебегать от капли к капле и склоняться к ним губами. Прикосновение чрева к земле, к этой бесплодной, безлюдной земле давало ощущение уязвимости… и домашнего уюта: я чувствовал, что живу. Подобная радость охватывала меня и когда я трудился над плугом в мастерской Иосифа. Человек, который делает плуг, не может быть безумным, от его рук исходит спокойствие, он испытывает радость гармонии и цельности.
А сколько бродит вокруг безумных пророков, предвещающих всякое разное… Они отталкивают народ своими речами, нескладными жестами, разбросанными познаниями, которые служат лишь их собственным целям. Они говорят о Царстве Божием, не принимая во внимание экономические обстоятельства. Говорят о богатых урожаях, не учитывая смены времен года и поступления на поля воды. Они выдвигают требования, взятые из легенд. Я ведь изучал пророков, поскольку в моей жизни много знамений. Обо мне уже тоже начали слагать легенды.
Я признал знамения, взял на себя ответственность. Это могут подтвердить бедняки и страждущие, поэтому я не могу уклониться. Они возлагают на меня надежды. Надо исполнить их чаяния.
Однажды я отдыхал на берегу Иордана под кипарисами и скипидарными деревьями. Слушал пение птиц. Как вдруг с той стороны реки донесся голос:
— Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему; всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; и узрит всякая плоть спасение Божие[16].
Это был Иоанн, и голос его пылал жаром, как ветр пустыни.
— Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму.
И того больше возвысился глас над гулом народным:
— Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.
И кто-то в отчаянии спросил:
— Что же нам делать?
И сказал Иоанн в ответ:
— У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же.
И уже кто-то другой задал прежний вопрос:
— Что нам делать?
— Ничего не требуйте более определенного вам.
Это он сказал мытарям. А воинам:
— Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованьем.
И тут на Иоанна нашел приступ кашля. А когда голос вернулся к нему, то был хрипл и немощен и дрожал, как стеклянная ваза на мраморном столе, и я не мог более разобрать ни слова.
Расти и развиваться — значит облачаться в неотъемлемое.
Иоанн постоянно пребывал в будущем, то есть в неотъемлемом. Поскольку всякое «ныне» уже состоялось для него в будущем, его не могли сломить предпринимавшиеся миром таранные атаки на его тело.
Жизнь его была предопределена: каждый его шаг вел к неотъемлемому. Иоанн никогда не щадил себя. Теперь ему пора объявить себя Мессией. И делам его есть свидетельства, и время уже пришло, и я готов стать рядом с ним — при всех своих грехах, при всем несовершенстве.
Сколько же Иоанн носил в себе эту мечту, свою и своих современников: да приидет Мессия.
Мысль эта репейником засела в его сердце.
Иоанн был одновременно силен и слаб, но теперь я знал, что это не важно. Мы необходимы Господу, кого-то же Он должен сделать светильниками Своими (не сам ли Иоанн однажды произнес такие слова?). И не Иоанн ли сказал, что не надо слишком торопиться, понукать Господа, ускорять пришествие Его? Он явится, когда сочтет нужным, в назначенный Им день и час… Нет, кажется, это сказал не Иоанн, а я сам. И он еще разозлился на меня! Дескать, Его пришествие не будет как молния, которая даст нам знать: пришел час. Мы должны сами возжелать: здесь и теперь. Всякий миг нашего бездействия есть обман и коварство. Или это уже говорил не он, а я? Кто-то из нас говорил, другой ему отвечал, спорил. Такие мы с ним вели разговоры. Такими мы с ним были — такими и остались. Помню, как я перепугался, когда Иоанн назвал Мессией меня! Это было в пустыне, и мы были еще малыми ребятами.
Теперь он наконец понял, что ждать более нельзя. И не ошибся: каждый человек имеет право наречься высшим именем, объявить себя самым великим и могущественным на свете. Я есмь Сын Божий. Я есмь Мессия, светильник Господень на земле, свет огня Его — мерцающий или горящий ровным пламенем. И теперь я скажу Иоанну: да, ты есть Мессия, и я счастлив, что ты имеешь смелость наречься им, что ты решился признать право твое. Я поднимусь и скажу ему: наконец-то…
Грядущее царство — в нас самих…
Но Иоанну придется нелегко. Освобождение никогда не дается просто. Человек, обретший свободу, неизменно одинок. Свободного всегда будут преследовать, ибо свободный отвратителен для раба. Так заведено издавна, и этого не изменишь.
И вдруг меня бросило в удивительный жар. А впрямь ли близок Его час? Неужели подходит к концу тысячелетнее ожидание? Неужели действительно соберется в одной точке вся история? И из этой точки на берегу тихой реки, посреди желтой пустыни, проклюнется в хаосе новое семя и взойдет новый росток?
Я в странном оцепенении упал наземь, потому как тело мое не могло более воспринимать впечатлений, и, пока я падал, передо мной словно открывался засов за засовом. Я увидел на гребне песчаного бархана Мессию, и кругом сидели люди, и Мессия, лицо которого было сокрыто тенью, переходил от одного к другому. Он прикладывал палец к их челу и говорил: «Ты… и ты… и ты…» И когда он указал на двенадцать человек, я понял, что он выбрал двенадцать характеров и теперь с ним будут ходить его страх, его сомнения, его сила, его терпение, и вместе они образуют гигантскую звезду, которая распространится по всей пустыне… И вот они тронулись в путь, и под ногами у них захрустело: каждая песчинка разламывалась на части, образуя кристаллы, и эти кристаллы уносились в небо.
Вокруг собралось множество народа. Люди с сияющими глазами рвали на себе волосы, у всех был душевный подъем, как будто они взобрались на отвесную скалу. И какая-то женщина зашла в воду, намочила подол и отерла мне лоб. И я встал и оглядел собравшихся.
— Кто ты? — тихо спросила женщина.
— Иисус из Назарета. Я пришел встретиться с Иоанном.
И тут началось… Меня взяли за руку и повели вверх по склону, и через заросли кустарника вывели на желтый песок, и там я увидел Иоанна. Глаза его пылали, как два закатных солнца, сам он был грязный и истощенный, но я только улыбнулся: понятно, так и должно быть, человек готовится к самопожертвованию. И когда он пал передо мной на колени, я опять подумал: это в порядке вещей, при его величии он может позволить себе подобное смирение. И я увидел, что он весь горит.
— Иоанн, — сказал я, — радость моя исполнилась. Я водворился у Господа, я успел домой.
— Да, успел, — отозвался он, поднимаясь на ноги. — Не однажды я было совсем терял надежду. Вижу, тебе пришлось много выстрадать.
— Тебе тоже, — улыбнулся я. — Выстрадать ради мира.
— И ради тебя.
— Я же часть этого мира, — засмеялся я.
— Пойдем, я умою тебя.
И он повел меня к реке. И облил водой — как в свое время делал с Елисаветой, как хотел сделать с Марией, — и в тот же миг словно отверзлись небеса и на меня тяжелым сверкающим потоком обрушилось божественное… Меня омыло этим потоком, который проник в каждую мою жилочку, и с неба спустилась моя синяя птица, и раздался глас:
— Ты есть Сын Мой Возлюбленный, в котором Мое благоволение.
И потряслась земля, и узнал я во всех мечтах наше общее лицо, и проговорил:
— Согласен. Ради нас обоих. Ради всех людей.
* * *
Меня ждут.
Сорок дней и сорок ночей позволял я искушать себя своими жизненными возможностями. Тут со мной и мое прошлое. Здесь, в пустыне, я могу стучаться в тонкую перегородку, отделяющую меня от божественного, и знаю, что Господь посмеивается надо мной. «Это пустыня, — говорит Он. — А люди, которые тебя ждут, находятся среди других людей. В городах и весях, на полях и лугах».
И прошлой ночью, когда я пал ниц в пустыне, дабы помолиться, Господь взял меня за руку и вывел из мучительных раздумий к семейству, что живет у иссякающего источника.
Ко мне подвели слепую женщину. При свете звезд я разглядел, что она очень некрасивая и махнула на себя рукой. У нее были плоская грудь и выпяченные вперед зубы. Ее родня окружила нас, не оставляя мне иного выбора, кроме как стать напротив слепой. А та ухватилась за мое плечо и сказала:
— Позволь разглядеть тебя.
И пробежала пальцами по моим щекам, по глазам и лбу. Запустила руки в волосы.
— А волос у тебя тонкий, — сказала она.
Я и не знал. Я еще редко смотрел на себя со стороны. Когда ее пальцы скользнули вниз и прошлись по носу и губам, я зажмурился. Потом открыл глаза и опять уперся взглядом в ее уродливую внешность. И подумал: будь она зрячей, я бы назвал ее уродиной, а так она даже красивая.
Выпяченные челюсти, всклокоченные сальные волосы. Когда она говорила, все ее тело подергивалось. Это было ужасно. Или: это было бы ужасно, если бы не ее слепота.
Ну как мне лучше объяснить?
Человек может напоминать какую-нибудь часть себя. Слепая была похожа на кончики своих пальцев: легкие, любознательные, чувствительные. И в голосе ее ощущались те же черты. Она хотела знать. И воспринимала себя через того, с кем знакомилась. Она горела интересом. И ей не надо было сравнивать свой зрительный образ с истинной сущностью.
Что значит «истинная сущность»?
Что значит «человек в себе»?
Я погладил ее по лицу. Коснулся выступающих зубов.
За зубами скрывался влажный, теплый язык.
— Как тебя зовут? — спросил я.
— Есфирь, — сказала слепая, не отнимая языка от моего пальца.
И улыбнулась. Ей доставило удовольствие, что она обрела имя перед посторонним человеком. Благодаря ему.
Произошедшее дальше относится к разряду «как будто». Если люди потом стали говорить о Чуде, оставим это слово на их совести. Я же могу сказать: ее зубы как будто убрались на место, раскачивание тела как будто прекратилось.
— Ты воистину спас меня, Иисус, — молвила она.
Бесчисленные знамения моей жизни… Иисусами звали многих. Чуть меньше Иисусов было из дома Давидова. Еще меньше из них родилось под падающей с неба звездой.
Если это было Чудо, такие чудеса могли бы творить многие.
Просто в мире недостает любви, говорю я.
Примечания
1
Книга Пророка Осии, 1:1–3. (Здесь и далее примеч. переводчика).
(обратно)2
Заросли низкорослых кустарников и многолетних трав на каменистых участках гор в Средиземноморье.
(обратно)3
Книга Пророка Иезекииля, 44:15.
(обратно)4
Ортодоксальный иудаизм предписывает мальчикам носить талит с 13 лет.
(обратно)5
Учителем Праведности называли жившего во II в. до н. э. основателя кумранской общины.
(обратно)6
В кумранской общине этим словом (по-древнееврейски «раббим») обозначались ее полноправные члены (в отличие от неполноправных «новициев»). Здесь его значение шире — см. далее.
(обратно)7
Ср. Псалтирь, 67:7: «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков; а непокорные остаются в знойной пустыне».
(обратно)8
Книга Пророка Исаии, 52:13–15.
(обратно)9
Книга Пророка Исаии, 53:1–4.
(обратно)10
Книга Пророка Исаии, 53:10.
(обратно)11
Там же, 53:11.
(обратно)12
Ср. «И Слово стало плотию» (Евангелие от Иоанна, 1:14).
(обратно)13
Ср. «Какое же зло сделал Он?» (Евангелие от Луки, 23:22).
(обратно)14
Книга Пророка Амоса, 7:14–15.
(обратно)15
Книга Пророка Иеремии, 5:14.
(обратно)16
Евангелие от Луки, 3:4–6, далее см. стихи 7–14.
(обратно)
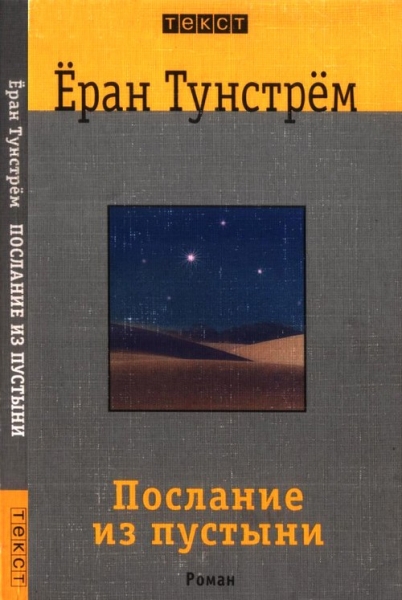




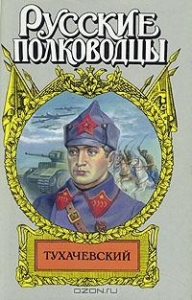

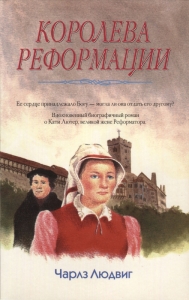
Комментарии к книге «Послание из пустыни», Ёран Тунстрём
Всего 0 комментариев