Золотые яблоки Гесперид
Небольшая деликатно написанная повесть о душевных метаниях подростков, и все это на фоне мифов Древней Греции и первой любви.
Теперь он был один. Совсем один — если не считать птиц и деревьев, солнца над головой да реки, которая бурлила и пенилась у него под ногами где-то далеко внизу. Остались позади высокие, сложенные из огромных глыб стены Микен (это титаны сложили их: простому смертному, даже ему самому, это было бы не под силу); остались позади и ворота с двумя вставшими на дыбы львицами над ними (они так и назывались — Львиные ворота), и то, что было за воротами — огромный прекрасный город с его площадью, храмами, царским дворцом, многочисленными пестрыми базарами, с его населением — всеми этими торговцами, слугами, воинами, пастухами, с иноземцами, привлеченными славой этого златообильного города, — все это осталось позади. Ему не дали даже войти внутрь, где он мог бы смыть с себя пот и грязь, отдохнуть, перевести дух. Ни в этот раз, ни в предыдущие — словно он и впрямь был выкован из меди и не нуждался ни в отдыхе, ни в еде.
Ни в этот раз, ни в предыдущие. Сколько же их было? Он уже и не помнил. Он только знал — еще, еще немного, и боги освободят его от страшного греха. Еще немного — потому что даже у него кончались силы.
Он прислонил свою палицу к скале, сбросил с плеч уже наполовину вытершуюся львиную шкуру и сел. Не дать войти ему в город и отдохнуть хотя бы день после того, как он прошел полсвета за быками Гериона и столько же — обратно. Ни кусочка мяса, запах которого его преследовал до сих пор, ни куска жертвенного мяса. Эврисфей! Вот кому повезло. Вот кто был любимец богов на самом деле! Эврисфей, а вовсе не он — Геракл. На его долю приходились только труды — подвиги, как их назовут много лет спустя, а на самом деле только труд — грязь и пот, и сбитые ноги, и страшная усталость. Ни куска мяса!
Подвиги…
Было время, когда он и сам думал так. Думал, что рожден для чего-то необычного, великого, сил у него хватало. А что получилось? Эврисфей — вот кому он служит, несчастному кривобокому уродцу с больной печенью, с кругами под глазами и желтовато-зеленой кожей. Он мог бы покончить с ним одним ударом, да что ударом — щелчком. Нет, не может. Потому что он служит Эврисфею по решению богов, в том числе и того, кто, как говорят, является его отцом, — Зевса. Гераклу понятно, почему так говорят, — никому и в голову не приходит, что у простого смертного, даже такого могучего, как Амфитрион, мог родиться он, Геракл, с его необыкновенной силой, а Алкмена была так красива когда-то, что не мудрено, если на нее упал взгляд громовержца. «И все-таки, — думает Геракл, — это все сказки». Ибо будь ему Зевс и впрямь отцом, разве отдал бы он его Эврисфею?
Никогда.
Он сидел на земле, опершись спиной о скалу, и жевал пресную лепешку, просто кусок подсохшего теста, что тайком, как нищему, сунула ему в руки одна из дворцовых служанок. И на том спасибо. Он собрал все крошки — к сожалению, их было слишком мало — и аккуратно отправил их в рот. Разве это еда? Он огляделся — да, совсем один, если не считать дубины, облезлой шкуры Немейского льва, лука с полудюжиной стрел да собственной тени. Солнце поднималось все выше и выше, так что и тень укорачивалась, и можно было предположить, что скоро и она его покинет. Подвиги! Он поднялся. Ячменная лепешка — с нее не больно навоюешься. Он взял свою дубину, поднял с земли шкуру, отряхнул ее, лук и стрелы у него так и оставались за спиной. Он вспомнил, что тетива на самой середине, там, куда вставляется стрела, чуть-чуть размочалилась, да и ушки, по правде говоря, надо бы перемотать. Зевс! Не больно-то похоже. Он вздохнул — пока сам всего не сделаешь, никто не поможет. Сколько всего переделано — теперь очередь яблок, золотых яблок из сада Геспернд. Опять тащись на кран света, причем никто не знает даже толком, куда идти — вперед или назад, влево или вправо. А ведь есть же люди, которые все знают, в том числе и то, где находится край света, где сад Гесперид и дерево с золотыми плодами, которое сторожит никогда не засыпающий дракон, говорящий на ста языках земли. Эврисфей, например, наверняка знает, но разве он скажет… Может быть, не следовало его так ругать — как-никак они двоюродные братья… Впрочем, что об этом говорить сейчас. Яблоки, яблоки… Золотые яблоки, дарующие вечную молодость, — при всем своем равнодушии к чудесам ему хотелось бы посмотреть на такое. Не говоря уж об Атланте…
Тут он задумался. Да, об Атланте. Держать край неба! Это вам не какой-то там дракон, даже и говорящий на ста языках. Край неба… В этом, пожалуй, было все дело. Это было по нему, это он понимал, это была работа, труд, он чувствовал в этом вызов. Атлант, брат Прометея. Увидеть его, посмотреть, как это делается… Как это можно — держать на плечах небесный свод, не минуту, не две — изо дня в день, не надеясь, не рассчитывая на замену, на помощь, на облегчение. А он, Геракл, — он мог бы? Неужели нет? Неужели есть нечто такое, чего он не смог бы, не одолел, не совершил, что оказалось бы ему не под силу?
Он уже забыл и о голоде, и о долгом, неведомом пути. Он уже забыл и о яблоках. Вот в чем, значит, основное испытание, предстоящее ему, — сумеет или нет? А яблоки были только поводом. Что яблоки! Он никогда и не сомневался, что сумеет уговорить, убедить и дракона, и сестер, и самого Атланта. Но сумеет ли он победить самого себя? Этого он не мог сейчас сказать. Этого он и знать не мог. Пока не дошло до дела, до испытания, никто не мог сказать, сумеет ли он превзойти отпущенные ему возможности, дано ли ему подняться над самим собой, превозмочь пределы человеческой природы, удастся ли в этом случае выдержать верность правилу, которым он до сих пор руководствовался в своей жизни, — делать, быть в состоянии сделать то, что делается или было когда-нибудь сделано еще кем-то, будь то обыкновенный смертный, бог или титан…
Он уже, пожалуй, и не разбирал, куда он идет; ноги сами несли его по тропе; и так, глухо бормоча, полный сомнений и готовности, он шел и шел навстречу предстоявшим ему испытаниям, с луком за спиной, палицей в руках, без страха, один, в жару и в холод.
Холод? Нет, это даже не то слово. Это просто не передать словами. Адский, просто собачий холод. Но самое странное — мне об этом много позже сказал Костя, — самое странное во всем этом было то, что никакого холода не должно было быть. Вернее, я не должен был ощущать никакого холода, потому что, сказал он, не успел он сунуть мне под мышку градусник, как ртуть бросилась вверх, как сумасшедшая, и добралась до сорока градусов раньше, чем он успел сообразить, что же происходит. Но я сам об этом судить не могу, никакой жары я не помню, а вот холод, мне кажется, я не забуду по гроб жизни, так мне было холодно, не знаю даже, как это объяснить, не просто холодно, а черт знает как, и мне все казалось, что еще немного, и у меня не останется во рту ни одного зуба — так они стучали друг о дружку. Нет, все равно не передать. Да это, наверное, ни к чему. Наверное, ни один человек — я имею в виду здорового человека — не может до конца почувствовать и понять, что там происходит с больным, и, может, это даже и правильно, что человеческий организм защищается от всего ненужного, и если вы хотите узнать, как же мне было на самом деле холодно, вам остается только ждать, пока вы тоже заболеете и вас затрясет, и зубы у вас залязгают, и вам покажется, что вас разрезали, выпотрошили, как мумию, а затем набили до самого затылка сухим льдом — тогда и вам все станет понятно. И вот еще что странно: мне кажется, что я все помнил, помнил, как все со мной было и что к чему, что я не терял над собой контроля ни на минуту и вел себя, если можно так сказать, весьма достойно, а он, Костя, говорит, что он даже испугался сначала, не спятил ли я. Потому что, говорит он, я все время нес жуткую ересь, воображая себя чуть ли не Гераклом, и все куда-то собирался, и уж во всяком случае каждые две минуты пробовал вскочить с постели и куда-то бежать. А он не давал, и тут, говорит он, мы с ним чуть было не подрались.
Этого, конечно, быть не могло. Не того, что я вскакивал или, скажем, говорил что-то, чего сам не помню, — раз Костя говорит, так оно, значит, и было, я о другом. Мы никак не могли с ним подраться. И не потому даже, что он на десять метров выше меня и на триста килограммов тяжелее. И не потому, что он выучил до чертиков разных там приемов — не каратэ, конечно, хоть он и ходит теперь в эту секцию, нет, вовсе не поэтому. А потому, что я вообще против драк — принципиально, так сказать, и это самое главное. Ну а второе, что я никогда бы не стал драться с другом, будь он хоть тысячу раз не прав, а Костя — и чем дальше, тем мне ясней, что это уже на всю жизнь, — Костя мне самый первый, самый верный друг. Но вообще я страшно не люблю мордобоя, хотя знаю ребят (и в любом классе их тысячи), которые чуть что — и лезут с кулаками друг другу в нос. Но самое-то дурацкое даже не в этом, а в том, что когда они утрут, наконец, разбитые носы и выметут штанами всю уборную (а драки у нас всегда в уборной), то тогда только они начинают по-человечески разговаривать, или, как у нас называют это, — толковать, то есть попросту возвращаются к тому состоянию, в котором пребывали до разбитых носов, так что даже и не замечают того, о чем надо бы думать с самого начала — что дракой ничего никому не доказали.
А можно ли вообще доказать что-либо дракой? Это ведь вообще глобальный вопрос. Нет, правда, я видел в жизни тысячу драк, не меньше, но так и не заметил, чтобы кто-нибудь кому-нибудь сумел доказать что-то, разбив нос.
Но это я просто так, философское отступление. Словом, не стал бы я с Костей драться, это ясно. Но для полной ясности в этом вопросе должен одно добавить. Бывает, что и я дерусь. Тут кто-нибудь может сказать, что я выламываюсь, мол, — то я не дерусь, а то дерусь. Все верно. Потому что принципиально я не дерусь. Но если и дерусь, то исключительно из-за принципа, и лезу в драку только за дело, когда ничего другого не остается, когда несправедливость, и слова не помогают. Тут уже — хочешь не хочешь — надо драться, и один раз было такое дело, в Летнем саду, когда мы с Костей дрались против четырех дураков, которые приставали к девчонкам, — или нам показалось, что приставали, — но это мы сообразили уже потом. Костя потом сказал, что я был похож на эрдельтерьера. Или точнее, сказал он, даже на фокса, потому что я маленький. Маленького роста, хочу я сказать.
Это был еще один случай, когда я ничего не помнил, — наверное, со страху. Не знаю даже, как это назвать. Помню только, что перед глазами появился какой-то бурый туман, а дальше не помню ничего. Не помню, что и как было тогда в Летнем саду. Как кинулся на одного балбеса — помню, а потом — туман… А Костя говорит, что я того чуть не задушил. «Потом, — говорит, — тебя втроем оттаскивали, а то бы, — говорит, — он уже давно лежал под камешком. С тобой, — говорит, — лучше не связываться». Но я-то ничего не помню. Вполне возможно, что Костя просто разыгрывает меня, только я не обижаюсь.
Да, вот такие бывают провалы в памяти. Может быть, у меня это наследственное? И теперь не помню ничего. Кажется, я все старался понять, откуда этот чертов холод, и вспомнить, какое же теперь время года, может быть, я не заметил, как наступила зима, хотя я вроде бы и знал, что сейчас лето. Но летом такого холода быть не может, и тут я окончательно понял, что, конечно же, зима, вот откуда такая стужа. И не удивился, что эта зима наступила сразу после лета, не обратил на это внимания, как не обратил внимания на то, что наступил вечер. Или ночь.
И тут я понял, что я в Риге, снова в Риге, как и год назад, и тогда был ужасный холод, такой, что у меня даже глаза замерзли. Мы были тогда в Риге все вместе — я, мама и отец; мы хотели попасть на концерт в Домский собор и долго блуждали в Старом городе, пока вышли к нему и увидели всю эту громаду, весь этот устремленный к небу, ввысь, собор тринадцатого века, с высокими стрельчатыми окнами, забранными красивыми решетками, и что меня особенно поразило — это огромные ворота. А у самых ворот, на площади, толпился народ.
А сверху падал снег. Но не хлопьями. Снег был сухой и мелкий, и, падая, он сверкал под светом фонарей.
Фонари были тоже старинные, а может быть, они были просто сделаны под старину, это неважно, и вот в свете этих фонарей легкий, сухой снег падал, сверкал и исчезал — я такого никогда не видел. Здорово это было красиво, и пока я смотрел на снег, я не заметил даже, как прибывает и прибывает народ, почти вся площадь перед собором была забита народом. Кто из них были рижане, а кто, как мы, приезжие, понять было невозможно, одно только было ясно — все хотят попасть на концерт. И мне тоже этого захотелось, хотя не могу сказать, что я просто сплю и вижу — как бы мне послушать орган. Но здесь — массовый гипноз, что ли? — захотелось чуть не до слез.
Но мы не попали.
Это был, похоже, какой-то совсем редкий концерт. Я уже говорил, что народу там собралось — уйма, и у половины, а то и трех четвертей, как и у нас, не было билетов. Не знаю, почему. У нас их не было потому, что мы только в этот день приехали. И все же мы могли попасть. Да, могли. Мы стояли на отшибе, в стороне от толпы, и тут к нам подошел какой-то парень и с видом заговорщика спросил — не может ли он нам помочь. И тут они отошли с отцом в сторону.
Не знаю, о чем они там говорили, но минуты через две отец вернулся. Без парня. И без билетов. Представить не могу, сколько тот парень запросил за эти три билета, только отец сказал, что не опустился еще до того, чтобы покупать билеты втридорога у спекулянтов…
Это я знал. Это можно было предвидеть. Не знаю только, как к этому отнестись. Правда, не знаю. Для отца это дело принципа. Он и вправду никогда и нигде не переплачивает. Он от любой вещи откажется — из принципа. Помню, маме принесли ее знакомые по работе какие-то дефицитные сапоги на платформе — жуткий был скандал, даже вспоминать неохота. Да, он принципиальный. Словом, мы не попали тогда в Домский собор, потому что принципиально, как сказал отец, не стали помогать спекулянтам-перекупщикам наживаться на возросшем интересе человека к культуре.
И так мы простояли у своей стены до самого того момента, пока все, у кого были билеты или у кого не было такой непреклонной принципиальности, вошли внутрь и огромные ворота за ними захлопнулись.
А мы остались.
И вот тут-то я провалился. Нет, чуть позже. Да, позже, потому что мы успели еще зайти в какое-то кафе — такое маленькое, что трудно в это поверить, если сам не видел. В Ленинграде, во всяком случае, я таких не видел. Три — не вру! — три столика, девять стульев — и все. Как я понимаю, мы зашли туда просто с горя. Я, во всяком случае. Я бы, говорю честно, расстался бы с принципиальностью и, будь у меня деньги, купил бы у парня его билеты. Никто ведь не знает, почему он ими спекулировал. Может, у него крайняя нужда. Может, у него мать-старушка, или сестра-инвалид, или еще что-нибудь в этом роде, просто обидно было бы предположить, что это совсем обыкновенный перекупщик, без всякой фантазии, и, кто знает, может быть, если бы мы купили у него билеты, его жизнь изменилась бы и потекла иначе…
Вот о чем я думал, когда мы зашли в это прекрасное кафе, и я даже не заметил, когда мы успели все заказать — все, что появилось вдруг на столе перед нами, — кофе и рогалики с марципаном, а маме и отцу принесли еще рижского бальзама. Его принесли в таких маленьких рюмочках, что непонятно было, что туда можно было налить. Мне, по правде говоря, очень хотелось попробовать, что это такое. Но — не вышло. Мне дали только понюхать. Это пахло, как лекарство.
Страшно не хотелось уходить из этого кафе. На улице шел снег и было достаточно холодно, в тридцати шагах от нас люди слушали органный концерт в старинном соборе. Нет, в самом деле, — на улице было совершенно нечего делать, а здесь, в кафе, было тепло и уютно: горел камин — настоящий камин, не какая-нибудь там электрическая мигалка, горели настоящие поленья, свет в кафе был не яркий, а какой-то приглушенный, что ли, трудно было даже понять, откуда он шел, этот свет. И никто не торопил, не стоял уже на очереди с чашкой в руках, и тут же, прямо на стойке, светился приемник и играла музыка. Можно было, наверное, всю жизнь просидеть так возле единственного окна и смотреть, как падает и искрится сухой снег, и мне кажется, мама тоже согласилась бы посидеть еще. А я согласен был даже пить кофе, который мне, в общем, никогда не нравился, — и даже в этом кафе тоже, потому что из всех напитков, по правде говоря, я люблю только чай. Ну и, конечно, квас. Но я выпил бы кофе и глазом бы не моргнул, так мне было хорошо. Но отец сказал, что не затем мы приехали в Ригу, чтобы просиживать весь вечер в кафе, и еще, что Старый город лучше всего смотреть именно в такое время…
Да, жалко было оттуда уходить, из кафе. И нам принесли счет. Его принесла молоденькая девочка в расшитом переднике — клянусь, ей и пятнадцати лет не было, она принесла счет на деревянном подносике и, подавая его, чуть присела. И тут что-то произошло. Не знаю, как это объяснить. Словом, отец взял счет и стал его проверять. Он всегда так делает, но раньше я как-то не обращал на это внимания, а тут мне стало не по себе. Может быть, все это длилось минуту, а может, и меньше, только я вдруг почувствовал, что время остановилось и ни к черту не двигается. Меня даже пот прошиб, прямо по спине потекло. Счет был совершенно точен. Копейка в копейку, как сказал отец. Девушка взяла деньги, положила их на свой подносик и отсчитала сдачу. И в то время как отец по всегдашней своей привычке пересчитывал ее, девочка стояла и смотрела на нас, на каждого из нас по очереди, и тут впервые в жизни мне вдруг стало стыдно за отца и за эту его привычку всегда и везде пересчитывать, а он в этот раз, как назло, считал так медленно, словно от этого зависело что-то важное. И снова все сошлось, все оказалось совершенно точным — и счет и сдача, и по тому, как отец смотрит на мелочь, которая была у него в руке, я понял, что он колеблется, раздумывает — оставить какую-то часть этой мелочи на подносе или нет. Но девочка эта — я понял это позднее — уже с самого начала все поняла и решила, так что она ни секунды не стала ждать. Не стала ждать ничего — как только увидела, что отец сосчитал мелочь, в ту же секунду повернулась и пошла. Она нисколько не конфузилась из-за того, что кругом были взрослые, подала счет, получила деньги, отсчитала сдачу и пошла, и всем своим видом показала, что ей вовсе не нужна чья-то там мелочь. И только в самый последний момент, когда она уже почти исчезла за шторой, она повернулась. Но не совсем, а почти; и взгляд ее остановился на мне. И она — нет, не скажу, что точно, но мне так показалось — вдруг взглянула, и не то чтоб усмехнулась, но словно облачко какое-то по лицу, словно тень прошла — и тут она исчезла. Это произошло очень быстро — отец еще держал мелочь в горсти, а она, эта девочка, уже исчезла. Может быть, мне показалось все это — улыбка, усмешка или тень, только мне расхотелось вдруг сидеть в этом прекрасном кафе. Но больше всего мне хотелось, чтобы отец убрал наконец эту мелочь и перестал раздумывать над тем, как же ему поступить.
Вот тогда-то все и случилось. Мы вышли из кафе, настроения у меня не было никакого из-за всей этой дурацкой истории, и я не заметил даже, как мы миновали площадь и как пошли в глубь каких-то улочек, узких и темных, а вокруг стояли дома. Они были высокими и узкими, эти дома, с черепичными крутыми крышами, каких не увидишь уже, пожалуй, нигде, каких я никогда не видел в Ленинграде. Почти на каждом доме висела табличка, и становилось ясно, что дома стоят на этих улочках по триста, четыреста, а некоторые уже и по пятьсот лет, узкие по фасаду, с тремя, а некоторые даже с двумя окнами — вот в какое место мы попали. И мы просто шли, словно плыли по реке, сворачивая туда, куда сворачивала улочка, забредая иногда в тупики, — и тогда приходилось поворачивать обратно, попадая в какие-то дворы, из которых вновь попадали в неведомый нам переулок, — и так мы дошли до какой-то стены. И тут я увидел ступеньки. Они вели вниз, к двери, над которой светилась неоновая надпись — «КАФЕ», и тут я не стал дожидаться, пока мама и отец подойдут к этому месту, да и в кафе я больше не хотел; я только думал заглянуть в дверь — и обратно, хватило с меня и того кафе, возле собора. Только взглянуть, как там, в этом кафе, внутри, за дверью, — и обратно, и я не стал даже спускаться по ступенькам и не подумал даже, не удивился тому, что никто не входит и не выходит из двери, я просто спрыгнул вниз, минуя ступеньки, и в тот момент, когда ноги мои коснулись ледяной корочки у двери, корочка хрустнула, и я по самые колени оказался в ледяной воде. И тут же я выпрыгнул обратно. Уж не знаю, как это получилось, но вышло это именно так: прыжок, приземление и снова прыжок, как в баскетболе у кольца. Я подскочил, как мяч, и в следующее мгновение снова оказался на суше, на самой верхней кромке, откуда прыгал, и так стоял, пока отец и мама не подошли. Так что они даже и не заметили ничего: ни моего прыжка вниз, ни моего прыжка вверх, ни того, что я по колено мокрый. Они все рассматривали эту стену и хотели понять, что она, тоже средних веков или как, и чего ради она возникла здесь, но сколько ни смотрели, никакой таблички о том, что это памятник архитектуры, нигде не нашли. Брюки у меня стояли колом, ноги жгло, но я так был ошарашен, что когда, не найдя ничего интересного, отец сказал: «Ну что, двинем дальше?», — я тоже двинул дальше, только шаг у меня был странный, потому что поверх брюк уже застыл слой замерзшей воды и ноги у меня не гнулись. Тут мама почуяла что-то неладное и спросила меня, что это со мной. И я сказал: «Я провалился»…
Вот о чем напомнил мне холод. Уж не знаю, как я вспомнил об этом — в сознании или в бреду. Помню только, что я почему-то очень обрадовался и все порывался сказать об этом Косте, который уже не звонил по телефону, а сидел рядом, и, по-моему, я даже начал ему рассказывать, но потом снова все сместилось и я никак не мог объяснить ему, что это все произошло в Риге, или я говорил ему, но не очень внятно, потому что сквозь дымку какую-то и холод я разглядел, что он сильно озабочен. Он стал трогать мой лоб, а потом сказал: «Лежи, лежи. Это у тебя от температуры. Ты бредишь». А потом, еще немного погодя, снова: «Лежи, лежи». И еще: «Нет, — говорит, — никакой сейчас зимы. Сейчас лето. Понял? Лето сейчас». И голос у него был какой-то подозрительный. Я-то уже понял, что сейчас зима, и удивился, зачем ему меня обманывать, ведь понятно, что летом всегда жарко или, по крайней мере, не так холодно, и мне стало ясно, что Костя заболел. Я же хорошо помнил, что мы были в Риге, уж тут-то никто не мог убедить меня, что там было, зима или лето, я помнил, как мы вернулись в гостиницу и мама натерла мне ноги спиртом. А на следующий день мы снова отправились в собор. Было воскресенье, еще не рассвело, и снег был чистым, даже без следов, в соборе никто не выступал, никакой тебе толпы, плати себе тридцать копеек в кассу, проходи внутрь, кто хочет, и ходи себе, хоть целый день. Что мы и сделали. Не целый день мы, конечно, там ходили, но часа три уж точно, и красота внутри, конечно, такая, что и передать трудно. Помнится, что когда я вернулся в школу и хотел рассказать об этом, о Домском соборе, о том, как там внутри все здорово — цветные витражи, а потолок так высоко, что просто взгляд теряется, и орган — несколько тысяч труб, хотя, как он, этот орган, звучит, мы тогда так и не услышали, — нет, я ничего не смог объяснить, ничего не смог рассказать. И только когда Дрыгачев Петька спросил: «Ну так что же там ты увидел? Как там — здорово?» — только тогда я закивал головой так, что она у меня только что не отвалилась, и раз двести, наверное, повторил: «Да, здорово». А вот что — здорово и почему здорово, не смог рассказать.
И тут только, хотя и поздновато, я понял, какой я, в сущности, недоразвитый и как права была Лидия, наша преподавательница по литературе, когда говорила нам, что наличие или отсутствие развитого мышления определяется тем, умеет человек при помощи устной речи передать свои эмоции другим людям или не умеет. И тут, как никогда, выходило, что никакого развитого мышления у меня и в помине нет, и вполне возможно, что по этому самому уровню я не слишком далеко ушел от коровы. Если вообще ушел. Я не придуриваюсь — ведь и я только мычал, когда меня спрашивали о моих впечатлениях. Я не только эмоции не мог передать, я вообще позабыл все слова, кроме одного — «здорово», а чем это отличается от мычания? Наверное, так или иначе это с каждым бывает хотя бы раз в жизни — хочешь сказать, и весь рот набит словами, как манной кашей, и вроде начинаешь говорить — и тут же ушам своим не веришь, просто чушь какая-то, околесица, словно не сам говоришь, а во рту у тебя сидит кто-то и говорит за тебя, и вовсе не то, что ты собирался, а совсем другое. Вот этот самый показатель развитого мышления, как я тогда только понял, у меня и отсутствовал полностью, так что мне еще предстояло когда-нибудь, если бы до этого дошло, приобретать его с самого начала. И я начал его после этого случая приобретать, но пока это приобретение еще шло, еще не состоялось, я применил такой метод: пока я не смогу придумывать чего-либо сам, я буду заучивать наизусть то, что придумали другие. Те, скажем, у кого это самое развитое мышление уже давно развито.
А началось это с Домского собора. Не помню точно, как это случилось. Как мне это пришло в голову. Только через несколько дней, когда мы собрались после Эрмитажа у Степы, у Наташки Степановой, и кто-то спросил меня: «Ну, как в Риге?» — я уже не говорил «здорово», а просто помолчал, а потом сказал, как бы в раздумье, так, словно я забыл давно и про Ригу и про собор, а может быть, мне надоело рассказывать:
— Что?
— Так был ты в Риге или нет?
— Ну, был, — говорю.
— А в Домском соборе?
— Естественно.
— Ну и давай, — говорят мне, — рассказывай, делись впечатлениями…
— Домский собор… — начал я, тут для приличия запнулся, словно думая, какими бы это словами рассказать получше. А потом эти самые слова полились из меня, как вода из опрокинутой бутылки, потому что все эти слова уже были мною изучены, и стоило произнести одно слово, как за ним сразу тянулось другое, — и так без конца. — Рижский Домский собор, — выдавал я, — один из древнейших и значительнейших памятников столицы Латвии. В его архитектурном облике, создававшемся с тринадцатого по девятнадцатое столетие, увековечено искусство лучших мастеров. Внутренность собора украшают работы каменотесов средневековья. Здесь можно любоваться резьбой по дереву мастеров пятнадцатого — семнадцатого веков, настенной росписью, витражами, декоративными кузнечными работами рижских ремесленников.
Сохранив свой средневековый облик, Домский собор стал в наши дни своеобразным музеем, знакомящим с различными культурно-историческими эпохами.
Широкой известностью пользуется и орган Домского собора. В тысяча восемьсот восемьдесят первом году рижская городская управа обратилась к известной музыкальной фирме в Вюртемберге с просьбой построить в Домском соборе «самый большой и самый лучший в мире орган». Фирма выполнила заказ за неполных три года и в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом году сдала новый орган в эксплуатацию. Он имеет пять клавиатур, сто двадцать семь регистров и шесть тысяч семьсот шестьдесят восемь труб.
При постройке инструмента были использованы новейшие достижения органной техники того времени. По свидетельству специалистов, фирма действительно построила не только самый большой, но и самый совершенный по конструкции инструмент, один из лучших в мире…
Тут я остановился. Но не потому, что мне нечего было больше сказать, я мог бы и продолжить. Дальше еще шел текст — там, откуда я все это взял, на конверте пластинки, которую мы купили тогда, когда были в соборе. Вернее было бы сказать — на конвертах пластинок, потому что мы купили их тогда целый набор. Не знаю даже, купили бы мы тогда этот набор или нет, если бы не огромная очередь, которая сразу же стала выстраиваться за этими пластинками прямо на наших глазах, и тут уже, похоже, просто невозможно было не стать в очередь, раз все встали.
Что мы и сделали.
Пластинки эти, вернее, набор пластинок называется «Тысяча лет музыки». Вы, конечно, видели этот набор — ансамбль «Мадригал» и на всех четырех конвертах одинаковый рисунок: стол, стул, несколько кресел, все это, надо полагать, средневековое, на заднем плане — открытое окно, а в окне, вернее за окном, — старинный город, похожий на старую Ригу; а за столом сидят несколько человек в ужасно смешных одеждах: женщины — в платьях с буфами, а мужчины — в камзолах, пелеринах, в шляпах с плюмажем, и все играют на инструментах, которых я — да, пожалуй, уже и никто из нас — и в глаза не видел, разве что в музее истории музыки. Да, четыре такие вот повторяющиеся картинки: коричневато-розового цвета, зеленого, голубого и желтого. Но главным, конечно, были не картинки. Главным было то, что на обратной стороне каждого конверта был напечатан текст, составленный разными специалистами по музыке.
И вот этот-то текст — даже так: эти-то тексты — я и выучил наизусть, хотя и не знал, не был уверен, пригодится мне это хоть раз в жизни или нет.
Так что когда я замолчал, когда сказал про орган «один из лучших в мире» — это было еще не все, просто у меня с непривычки запершило в горле. Я мог бы и продолжить. Потому что там, на картинке, было написано еще и про «громадный технический прогресс нашей эпохи», и про «звуки органа, мощным потоком льющиеся под стрельчатыми сводами великолепного по своей акустике зала»… и так далее — много еще чего, до самой подписи «А. Буш». А. Буш — это была, надо полагать, фамилия того музыковеда, а может быть, и архитектора или историка, который все знал про собор и про орган и чью статью я так кстати выучил наизусть. Только в этом не было нужды. Я не стал продолжать и про А. Буша не сказал ни слова. Хотя и мог. Потому что надписи на других конвертах я тоже выучил наизусть, только решил попридержать это на другой раз, если понадобится.
В тот раз это не понадобилось, все и так были потрясены моей эрудицией, честно. По-моему, я и сам был ею несколько потрясен. Но я — это еще не показатель. Степа, то есть Наташка Степанова, — вот кто у нас показатель, а по выражению ее лица я понял, что и она поражена, и это уж было поистине поразительно. Потому что поразить, удивить ее мне до сих пор не удавалось ни разу, да и никому другому, насколько я мог это видеть, — тоже. Да я, в общем, и не надеялся на это, а может быть, и не хотел. Зачем мне это? Она задавака, а я не люблю таких девчонок. Таких красивых девчонок, которые задаются, а Степа к тому же еще и умная, как черт. Нет, все-таки надо объяснить, что за человек Наташка. С первого раза никогда не скажешь, не заподозришь даже, что она задается; всегда такая вежливая, вежливей не бывает. Только мне как-то сразу стало ясно, с первого самого раза, как я увидел ее у нас в кружке в Эрмитаже, что эта вежливость у нее просто как щит, что она позволяет ей не замечать того, кто ей неинтересен, или, наоборот, не показывать слишком явно, если ее что-нибудь или кто-нибудь интересует слишком сильно. Это у нее такая теория. Это теория о том, что человек должен не показывать своих эмоций. Не знаю. Не согласен. Ну, это ее дело, только, по-моему, это простое высокомерие.
Меня все ее теории не интересуют ни капельки. И никогда не интересовали. Мне даже все равно, к какой категории она относит меня — к той, которая ей неинтересна, или к другой. Относила — так вернее. Ничего не могу сказать, никогда она не говорила ничего для меня обидного, но мне почему-то всегда хотелось хоть раз нарушить эту ее всегдашнюю ровную вежливость. Чтобы она хоть раз забыла про эмоции, про то, что их надо сдерживать. Чтобы она заплакала, что ли. А еще я думал, что лучше всего было бы ее чем-нибудь потрясти. Или просто удивить. Чтобы она от удивления хотя бы забыла про эмоции. Для этого надо было не только придумать что-нибудь потрясающе умное, но и неожиданно это потрясающе умное обнаружить, — только что же это такое могло быть? Я одно время специально думал над этим, а потом отказался, потому что ее, похоже, ничем нельзя было удивить, я уже говорил, что она умная черт-те как. Потрясающе — иначе не скажешь. Так что я отказался. Отказался от своего намерения специально ее потрясти, потому что для этого, как я понял, надо знать что-нибудь по-настоящему, знать так глубоко, как никто не знает, да еще уметь рассказать об этом интересно.
Но тут все случилось как нельзя лучше — в тот раз, когда я выдал весь текст с обратной стороны пластиночного конверта. Это было неожиданно и здорово, и хотя мне все равно, но когда ты видишь, что такая девчонка, как Наташка, смотрит на тебя с удивлением, — это приятно. Не стану врать — это здорово приятно.
Только я не стал зарываться. Не стал обнаруживать глубину моей начитанности. На этот раз вполне хватало текста, написанного А. Бушем на обороте одного из конвертов, а ведь еще три оставались у меня в запасе, а именно: и английские вирджиналисты (о которых я до этого и слышать не слыхивал), и испанская эпоха Возрождения, и немецкая музыка пятнадцатого века. Но главное, что осталось про запас, это фраза из Шекспира:
Кто музыки не носит сам в себе, Кто холоден к гармонии прелестной, Тот может быть изменником, лгуном, Грабителем… Такому человеку — Не доверяй.Да, многое к мог в тот вечер добавить. Но не сказал больше ни слова — тогда, в тот вечер, у Наташки, когда мы, как обычно, забежали к ней всей толпой после Эрмитажа, чтобы посидеть в ее комнате и послушать магнитофон с самыми сверхмодными записями.
Но меня эти записи интересовали не очень: я плохо танцую, стесняюсь не знаю как, может быть, все из-за того, что все девчонки выше меня на полголовы, а может, потому, что я не слишком разбираюсь в джазе, — кто лучше, кто новей, кто сверхмодный и так далее… В этом отношении я отстал от всех лет на триста. Да и, кроме того, меня просто всегда интересуют больше всего книги — а где еще было больше книг, чем у Наташки… Их там было столько, что не во всякой библиотеке увидишь, клянусь, их там были тысячи. Книги были во всех пяти комнатах, книги были в коридоре, в специальных шкафах, и на полках, и на стеллажах, и во встроенных шкафах, и в проемах — всюду и везде, где только мыслимо. И пока все ребята и девчонки бесились и изображали глубокое понимание сверхновой и сверхмодной музыки, я забирался куда-нибудь — в комнату или на антресоли — и перебирал там книгу за книгой, и так до тех пор, пока все не расходились по домам.
И в тот день, я помню, я тоже стал копаться в книгах. Только в тот раз я и не пробовал что-нибудь прочесть, просто вынимал книгу, смотрел, что за книга, и ставил на место. А сам в это время думал об одном. Об одном и том же — об этих самых словах Шекспира, о том, как он до такой мысли додумался, и о том, правда ли это и может ли это быть на самом деле. Просто из головы не выходили эти слова. Вы знаете, как это бывает: привяжется что-нибудь — слова, строчка или мотив, — и потом можешь годами ходить, с ума сойти можешь — и никак не отделаться. «Кто музыки не носит сам в себе…» В этом надо было разобраться без свидетелей, надо было подумать самому, наедине с собой. Мне стало страшно. Я подумал: «Ведь выходит, что каждый из нас таким образом может стать мошенником. Ну, почти каждый». Почти. Потому что Наташка Степанова, Степа, конечно, нет, и хотя я не мог поклясться, не мог дать голову на отсечение, что у нее с этой самой гармонией в душе полный порядок, но, конечно, ни грабителя, ни лгуна, не говоря уже об изменнике, из нее не получится.
Вот о чем я думал в тот раз. Я сидел в какой-то из комнат, где до потолка высились полки с книгами, а по стенам висели картины — но не как в музее, не в тяжелых и важных рамах с золоченой бронзой и, уж конечно, не репродукции, от одного взгляда на которые начинают болеть зубы. Это были странные картины, масло, акварель, графика, просто окантованные или закрытые стеклом. Больше всего там было натюрмортов — цветы, цветы, цветы. Но мне запомнилось другое: человек с листком. Да, странный человек со странным листком. Он сидел за столом, но, может, это был не стол. И книги — толстые книги, одна на другой, старинные, я думаю, книги, с пергаментными листами и переплетами из бычьей кожи, а сзади, за человеком — не то решетка, не то переплет старинного окна, хотя и совсем другого, чем на конвертах к пластинкам «Тысяча лет музыки». Но этот человек и не имел отношения к музыке. Во всяком случае, об этом ничто не говорило, никаких инструментов рядом с ним не было. Только несколько книг и еще какие-то листки — может, он был писатель? Или философ? Книги и листки, а за спиной не то решетка, не то окно, за которым виднелись горы. Они даже не виднелись, это неправильно, неточно. Они угадывались. То есть они не были прорисованы прямо, но было совершенно ясно, что если выйти из комнаты и из этого дома, то попадешь на дорогу, она будет виться и виться вдоль реки, которая тоже, хотя и не была прорисована, угадывалась совершенно точно, и они — дорога и река — будут уходить и уходить, пока — если вы идете по этой дороге — вы все вместе, река и дорога, и тот, кто пойдет по ней, не окажетесь в ущелье. А слева и справа от вас будут горы — те самые, о которых вы догадывались, когда еще были в той комнате с решетками, когда еще и не выходили никуда, а может быть, вам оттуда никогда и не выйти. Да вы все равно знаете об этом — о дороге, реке и горах, как знал человек, который сидел за столом, или что там было. У него было странное лицо, будто составленное из множества плоскостей, и если вы смотрели на него прямо, то и он смотрел прямо на вас — и тогда у него было одно лицо, но если вы заходили чуть сбоку и начинали смотреть на него под углом — лицо этого человека менялось, и сколько бы раз вы ни начинали смотреть на него под разными углами, каждый раз вы видели нового человека. И выражение его лица тоже было новым каждый раз. Оно менялось — от приветливого и добродушного до гордого, замкнутого и даже высокомерного. А то вдруг становилось таким печальным, таким одиноким, что у меня начинало щипать в носу, и казалось мне, еще секунда — и я заплачу.
Да, вот такое лицо — текучее и изменчивое, как вода. А в руке — листок, не бумажный, как вы понимаете, — не то кленовый, не то дубовый листок, и он держит его черенок и смотрит на него сам и в то же время показывает, а что это все значит — убей, не пойму. С ума сойти можно — так мне нравился этот рисунок и этот человек. Я чувствовал, что в этом есть какой-то смысл, какой-то шифр, и если знать его, этот шифр, или разгадать, раскрыть, то узнаешь что-то очень важное. Я мог бы, мне кажется, полжизни просидеть у такого рисунка. И знаете, — если смотреть не отрываясь на него, на этого человека, то возникает такое ощущение, что еще, еще немного — и он заговорит.
Но в тот раз — как, впрочем, и в предыдущие, проверить это не удалось. Потому что вернулись Наташкины родители и мы разошлись по домам. Но здесь надо сказать вот что: не надо представлять это так, что вот они пришли — и тут мы все сразу кинулись к вешалке. Ничего подобного. Этого не было никогда. Я уже говорил, что Наташка — отличная девчонка, умная, красивая, хотя, по моему мнению, и задается. Но родители у Наташки мне нравились всегда еще больше. Клянусь, я таких не видел. Вот уж кто не задавался ни капельки. А ведь могли бы. Они, Наташкины родители, — ужасно важные персоны: отец — академик, а мама — доктор каких-то наук, не то она физик, не то химик, никогда не мог запомнить. Можно было бы, при желании, конечно, и задаваться. Вон у Маркуши, у Витьки Маркушина в нашем классе, отец — инженер-строитель. Но попробуй к ним прийти, когда он дома, — даже кашлянуть, и то нельзя. Да что говорить! Это всем — и вам в том числе — известно: есть миллионы взрослых, к которым и не подойти, такие они важные. То есть я хочу сказать, что и через тысячу лет ты все равно будешь для них ребенком. Даже если тебе уже не десять лет, как когда-то, а пятнадцать или шестнадцать — все равно ты для них ребенок, а ребенок для них — все равно глупый, и твое дело только слушать, что они, взрослые, тебе говорят. Слушать, восхищаться и исполнять. А твое мнение их нисколько не интересует, как если бы ты был не человек, а консервная банка. Вот это и есть во взрослых самое обидное. То, что тебя и в четырнадцать, и в пятнадцать лет никто не принимает всерьез.
Вот почему мне просто до обалдения нравились Наташкины родители. То есть я не хочу сказать, что мы там сразу становились взрослыми. Все было иначе. Так, как и должно, по-моему, быть. Они, Наташкины родители, конечно, оставались взрослыми, а мы — сами собой, но мы никогда не чувствовали никакого к себе снисхождения, никакого сюсюканья и заигрывания. Просто мы были как две страны, одна — большая, а другая — маленькая, но обе страны имели одинаковые права и одинаковые обязанности. Да, они никогда не относились к нам свысока потому только, что были взрослыми, и всегда, когда бы мы ни пришли, и мама ее и отец не забывали заглянуть к ней в комнату, где ребята сходили с ума от самых новомодных записей. И по тому, как Наташкины родители расспрашивали нас о наших делах — эрмитажных, школьных и домашних, — было ясно, что все эти наши дела им действительно интересны. А если начинался какой-нибудь спор — а где это видано, чтобы восемь или десять человек собирались вместе и не спорили, — если начинался спор и при этом были Наташкины родители, то никто из них не говорил никогда: «Нет, Дима, ты не прав, ты ошибаешься», — а всегда так: «Мне кажется, что один из нас допускает ошибку». И тут спорщики не пытались силком переубедить друг друга, а просто старались, вынуждены были искать подтверждение своей правоты и лезли либо в справочники, либо в словари или в энциклопедию и выясняли истину. Помню, как Костя заспорил однажды с Наташкиным отцом. Они спорили о Коктебеле, о том, кому принадлежало поместье, где сейчас вырабатывают шампанское. Наташкин отец говорил, что Воронцову, а Костя — что Голицыну, и поскольку никаких справочников по Крыму под рукой не оказалось, ничего выяснить не удалось. Но через неделю, когда мы снова оказались у Наташки, вошел Иван Иванович, ее отец, и сказал Косте: «Я приношу вам свои извинения. Вы были тогда совершенно правы».
И тут я увидел — в первый раз, — как может человек покраснеть. Краска стала подниматься у него откуда-то со спины, и он все краснел, а все кругом смеялись, — но не со злостью, как это бывает, когда все друг другу враги, а добродушно, и не потому вовсе, что Наташкин отец, хотя он и академик, может знать меньше одного из нас, а потому, что никто из нас и подозревать не мог, что Костя может так смущаться. Нам-то казалось, что если кто и не смущается никогда и ни от чего, то это как раз он, и просто удивительно было, что он, наш староста, староста нашего знаменитого эрмитажного кружка…
Не знаю, чем бы это кончилось — вполне может быть, что Костя вдруг вспыхнул бы и сгорел, но тут заглянула Наташкина мама и сказала: «А самовар кипит. Давно уже. Вы что, не хотите чаю?»
И мы повалили на кухню.
Кухня в этом доме была огромной, как футбольное поле. И всегда там кипел самовар — всегда, когда бы вы ни пришли. Я говорю про самовар вовсе не потому, что это какая-то невидаль. У нас, к примеру, дома тоже есть самовар — маленький электрический самовар литра на полтора. Но этот самовар был не электрический. Он был самый настоящий, на углях — на лучине и древесном угле, и входило в него воды, наверное, ведро. Я сам видел, как его разжигали, это делала всегда Наташкина бабушка, веселая такая старушка, она разжигала его, раздувала, а потом ставила сверху самую настоящую трубу, и самовар гудел, как заводской гудок. Вот из этого-то самовара мы и пили чай каждый раз перед тем, как разойтись по домам, а нас собиралось там до двадцати человек. Это было уже как ритуал, и было это очень здорово, словно мы одна семья, в которой двадцать человек детей, и тут можно было только позавидовать тем, у кого были дома братья и сестры, потому что ни у меня, ни у Кости, ни у кого из тех, кого я знал, не было их. Не было ни братьев, ни сестер, и не с кем было сидеть вот так у самовара и чувствовать, что вы все — это одно, что вы друг другу родные, и в случае чего все — один за одного. И думается мне, что не только мне одному приходило это в голову, только на такие темы у нас говорить не любят. Строгий народ.
Иван Иванович, Наташкин отец, тоже, по-моему, думал об этом, потому что не раз, садясь за стол, говорил, глядя на нашу банду: «А что, хороша у нас семья, хороша?», на что Наташкина бабушка отвечала совсем по-старому: «Ну и слава богу».
Да, повезло Наташке, во всем повезло. Но отец у нее был просто высший класс. Никогда не видел, чтобы человек мог выпить столько чаю. Он, наверно, один мог выпить весь самовар. Он утверждал, что если выпить за день пять-шесть стаканов крепкого чаю, то и забыть забудешь, что такое болезнь. Я думаю, что это он шутил. Другое дело, что я сам не свой до чая, и между нами всегда шло как бы соревнование, в шутку, конечно, — кто первый сойдет, так сказать, с дистанции. Первые три стакана я держался на равных, а потом, конечно, отставал, мне до него было далеко. Но кто иногда побеждал — это Наташкина бабушка. Она никогда не торопилась и пила чай с блюдечка. И вприкуску — иначе она чая не признавала. Подует на блюдечко — и выпьет. И еще. И еще. Так что, может быть, Наташкин отец и знал, что говорил. Старушке было уже за восемьдесят, трудно даже представить, сколько это, а она была такая живая, просто молодец. Но я-то не хотел бы столько жить. Мне кажется, что надоест. Все видел. Все знаешь. Ничего уже нового с тобою случиться не может…
В тот день мы тоже собрались на кухне. И тут Наташка говорит: «Папа, вот Димка только что из Риги».
А он: «Так, — говорит. — Очень интересно».
А Наташка: «Димка, — говорит, — расскажи еще раз про Домский собор».
И тут я понял, что значит краснеть. Как Костя краснел когда-то. У меня даже дыхание остановилось, и краска стала подниматься даже не со спины, а, по-моему, от пяток. Ведь Наташкин отец сразу понял бы, что я просто зазубрил наизусть текст с конверта. И тут произошло чудо. Я уже было раскрыл рот, чтобы снова начать все сначала, и вдруг поперхнулся. Может быть, бог все-таки есть? Я чуть не умер там за столом, так что пришлось даже выйти из кухни и отдышаться, а когда вернулся, никто уже о Риге не вспомнил. На этот раз я соревновался с Наташкиным отцом до конца. Не знаю, что на меня вдруг нашло, но в горле у меня пересохло, как в пустыне. Не успевал я выпить один стакан, как тут же подвигал его снова к самовару… Жуткая была жара, пот тек с меня не ручьями даже, а рекой, и все вокруг дышало зноем. С каждой минутой мне становилось все жарче, и я все пил и пил и никак не мог оторваться.
Никак. Он стоял на коленях в мелком речном песке, вода была прозрачной и холодной, ибо она текла с гор. Солнце стояло в зените, и все его лучи, казалось, были направлены на него, и пот стекал с него вместе с мелкой дорожной пылью.
Здесь и нагнал его вестник.
Это, похоже, был один из дворцовых слуг Эврисфея, смышленый на вид парнишка. Волосы у него были всклокочены, одет кое-как, но быстр на ногу — наверное, потому он и послан был вослед Гераклу. И он нашел его.
По правде говоря, это было совсем не трудно, Эврисфей попросту указал ему место, куда он должен бежать и где должен был настигнуть героя, — и теперь он с восхищением смотрел на огромную фигуру Геракла, на могучую спину, склонившуюся над чистой речной водой, на палицу из ствола оливкового дерева, которая валялась на песке, рядом со шкурой, луком и стрелами в потертом заштопанном колчане. Таких луков мальчик тоже не видел никогда — из двух рогов антилопы, каждый — два с половиной локтя, с искусно сделанной костяной вставкой между ними; на кончике каждого рога был укреплен медный крючок с прорезью для тетивы, а сама тетива была сплетена из скрученных вчетверо воловьих жил.
— Меня прислал к тебе Эврисфей, благородный царь Микен, — сказал мальчик, не спуская взгляда с чудовищного лука. Но Геракл, похоже, не слышал его, и тогда мальчик вспомнил, как во дворце, посмеиваясь, говорили о том, что Геракл оглох, разучился говорить в своих бесконечных скитаниях, что он едва ли не утратил уже человеческий облик, и стоит ему только разучиться говорить, как он станет неотличим от животных. «Не подходи к нему слишком близко, — такой совет получил он, отправляясь. — Прокричи ему издалека то, что поручил тебе царь, и беги обратно со всех ног, а то как бы он тебя не раздавил, не заметив даже, кто ты».
На всякий случай мальчик и впрямь отступил на шаг и снова выкрикнул громким голосом:
— Я послан к тебе, о Геракл, чтобы сообщить волю благородного царя Микен Эврисфея…
— Ну так и сообщай, — сказал Геракл и обернулся. Мальчик даже не заметил, как он успел подняться. Движение было молниеносным и бесшумным, Геракл поднялся с песка мгновенно и теперь смотрел на застывшего от неожиданности мальчишку, вытирая влажные губы. — Что там еще случилось с твоим благородным царем?
— Он велел передать, что меняет свое первоначальное распоряжение.
— Я иду за яблоками, — сказал Геракл. — Он приказал мне достать их. Золотые яблоки из сада Гесперид. Ты слыхал что-нибудь про это, малыш? Золотые яблоки, дающие вечную молодость. Край света, Атлант, сестры Геспериды, бессонный дракон — разве этого мало твоему благородному царю?
— Я не знаю, — сказал мальчик. — Мне было приказано разыскать тебя и сказать, что дело с яблоками может подождать. Он, то есть благородный царь Микен Эврисфей, велел передать тебе, чтобы ты спустился в царство мертвых и привел ему оттуда Цербера. Ну вот я и выполнил поручение.
— Ладно, — сказал Геракл. — Мне ведь все равно. Цербера так Цербера. Есть хочешь?
— Очень, — сказал мальчик. — Знаешь, я с утра не ел, а сейчас уже, наверное, полдень.
Геракл взглянул на небо.
— Половина первого, — сказал он.
— Вот это здорово, — сказал мальчик. — Как это ты?
— Научился, — сказал Геракл. — Точное время всегда необходимо знать. А что, великий ученый Эврисфей не научил еще вас этому?
— Но ведь ты-то не ходишь в нашу школу.
Геракл засмеялся.
— Не только Эврисфей умеет определять время по солнцу, — сказал он. — Значит, ты из его школы. Знаменитая школа, везде об этом говорят. Учиться интересно?
— Как когда, — сказал мальчик. — Да ты ведь сам знаешь, только делаешь вид. Нет, — признался он, — конечно, интересно, только больно много всяких слов. И тогда становится скучно — ты давно уже все понял, а тебе все еще разжевывают.
— Ну, а спорт?
— Какой там спорт, — вздохнул мальчик. — У нас даже хорошей спортплощадки нет. Просто погоняем иногда мяч или начнем бороться… — Он посмотрел на Геракла. — Послушай, — сказал он. — Согни, пожалуйста, руку. Вот так, да.
Геракл согнул. Мальчик попытался обхватить его бицепс всеми десятью пальцами — и не мог.
— Вот это да! — прошептал он. У него самого под кожей ничего не вздувалось, сколько бы он ни напрягался. Он не был слабаком, вовсе нет, а бегал и прыгал он вообще лучше всех, но если бы он имел такие бицепсы…
И он вздохнул.
— Пойдем в тень, — сказал Геракл. — Ну и печет…
Они нашли небольшую пещеру — там, где речка делала поворот, у высокого берега. В пещере было уютно и совсем не чувствовалась жара. И река шелестела — слышно было, как она перекатывала мелкие камешки.
— Пора подкрепиться, — сказал Геракл и достал из огромной сумки целую оленью ногу. — Я-то люблю есть холодное мясо, но тебе я поджарю.
— Я тоже хочу есть холодное мясо, — сказал мальчик. — Как ты.
— Нельзя, — сказал Геракл. Голос у него был совсем не грубый, как этого можно было бы ожидать, наоборот, такой глубокий и мягкий. — Маленьким мальчикам, вроде тебя, опаснее всего есть всухомятку. Наживешь язву желудка — и все для тебя пропало. — Он повертел оленью ногу, понюхал. — Свежая, — сказал он. — Закоптили три дня назад. Нет, пожалуй, четыре. Пришлось за нее полдня чистить коровник, я же теперь по этому делу специалист. Специалист по чистке коровников и конюшен. Еле потом отмылся.
— Никогда бы не стал чистить конюшни, — сказал мальчик.
— Ну, это ты зря. Должен же кто-то это делать, — сказал Геракл. — Работа как работа. И оленья нога в придачу.
От поджаривающегося мяса потянуло таким вкусным запахом, что приходилось то и дело сглатывать слюну.
— А что сделали с моими быками?
— С быками? (Скорей бы прожарился этот кусок!)
— Ну да. С быками Гериона. Я же пригнал этих проклятых быков чуть ли не сотню.
— А! Ты про этих. Часть — ту, что похуже, — принесли в жертву. Ты знаешь, их сжигают целиком. Другую часть Эврисфей велел забить и отправить на склады. Несколько быков зажарили и угостили народ — было объявлено, что это искупительная жертва за твои грехи. А самых породистых царь велел отвести к пастухам, в стадо. Он хочет скрестить их с местными коровами и вывести новую породу.
— Узнаю вашего великого царя, — сказал Геракл. — Даже великих богов хочет он обмануть. Новая порода коров… Ну ладно, — сказал он, потрогав мясо. — Снимай. Только не торопись, здесь хватит.
Такого мяса мальчик в жизни не ел. Такого вкусного. Сок из него так и брызгал. Мальчишку даже в жар бросило. Ему казалось, что он мог бы есть это мясо не переставая.
— Вкусно? — спросил Геракл.
Мальчик только замычал.
— Вот и хорошо. Ты ешь, ешь.
Наконец он съел все. Некоторое время они молчали.
— А как тебя зовут? — спросил Геракл. Он лежал на спине, и глаза его поблескивали в полутьме, как у кошки.
У меня прямо кошки заскребли на душе от этого вопроса. Этого я и боялся, боялся больше всего. Я не мог сказать ему своего настоящего имени, не мог сказать, что меня зовут Дима, потому что он сразу понял бы, что я не тот, за кого я себя выдаю, и обман раскрылся бы сразу. Он сказал бы: «А, это ты», — встал бы, взял бы свою дубину и лук, колчан со стрелами и шкуру и ушел, растворился, исчез, не сказав больше ни слова. Потому что я никогда не верил в мифы, никогда не верил в существование героев. «Это чепуха, — говорил я всегда, — все эти мифы — это сказки для малышей, чтобы заинтересовать их изучением истории, а взрослым, таким, как мы, в восьмом уже классе, нечего забивать себе этим голову». Не стоит даже тратить на все эти сказки для малышей время, запоминать несуществовавших героев, совершавших несуществовавшие подвиги, иное дело — историческая наука, чистые факты, подтвержденные разными там авторитетами. А мифы — это липа, надувательство и обман. Тут-то мы всегда и сцеплялись с Костей, который был просто помешан на истории, на истории и всяких историях об истории, и который говорил всегда о разных там подвигах и приключениях так, словно он сам там был, словно только что вернулся с аргонавтами из плавания за золотым руном. Да, это было удивительно — то, что Костя верил этим мифам и древнегреческим легендам, и что бы я ни говорил ему — стоял на своем, как бревно. Это меня жутко поначалу раздражало, я думал даже, что это он, Костя, нарочно, чтобы позлить всех, или от упрямства, но потом понял, что он действительно так думает, действительно верит во все, — и махнул на него рукой. Но сам все эти выдуманные древними людьми истории не ставил ни во что. Детские сказки — вот и все. Да и ему самому, Косте, я так и говорил под конец любого нашего спора.
— Признай, — говорю, — что это просто сказки.
А он:
— Ну хорошо, сказки. Но от чего-то они отталкивались. Что-то они имели в виду.
— Да пойми, — говорю, — это все устные предания. Тогда и письменности не было.
— Да ведь мы ничего не знаем о письменности — была она или нет. А у шумеров — была письменность или нет? А у древних египтян? Во времена, скажем, первой династии. Или еще раньше. А Шлиман? — говорит. — Как насчет Шлимана?
— Что, — говорю, — насчет Шлимана?
— А вот то самое. Он поверил Гомеру и разыскал Трою. Разыскал или нет?
— Так то, — говорю, — совпадение. Понял? Совпадение. Счастливый случай. Ненаучно это. Вопреки науке.
А он:
— Научно или нет — а раскопал. Трою. Да или нет?
Не было никакого смысла с ним спорить. Не понимал я его. Очень долгое время не понимал, чего он такого нашел во всем этом. Я имею в виду историю. Не видел я в этом особого смысла, честно говорю. Ведь что было — то было, изменить ничего нельзя. Тогда — какой интерес? Какая кому польза от этой истории? Нет, я в этом его сумасшествии никакого смысла не видел. Ну, была у меня пятерка по истории — что ж из того? Это же нехитро. Выучить все даты, нарисовать контурные карты, вычертить стрелками маршруты походов. Просто учеба — и все. Но мифы… Помню, я спросил об этом отца. Я спросил его, что такое мифы, но он и разговаривать со мной на эту тему не стал. Он отослал меня к энциклопедическому словарю, потому что, добавил он при этом, надобно всегда искать точные знания там, где они находятся. Пить, так сказать, из чистых источников знания. Да, он у меня человек именно такого склада — может быть, потому, что всю жизнь ему приходилось учиться заочно. Вот почему он и сказал: «Мифы? Возьми на полке второй том энциклопедического словаря. Только не забудь поставить его на место».
Так я и сделал. Взял второй том словаря и там, на странице триста девяносто шестой, между словами Миус (река на Ю.-В. Укр. ССР) и Миха Цхакая (Ахал-Сенаки, город, р. ц. Груз. ССР) нашел:
«Мифы — сказания, в к-рых получили отражение примитивные представления древних народов о происхождении мира, о явлениях природы и общественной жизни. Значит, роль в мировой литературе сыграли М. древних греков. В разговорной речи М. часто называют всякий вымысел, недостоверный рассказ».
Вот что там было написано, в справочнике. В чистом, так сказать, источнике знания. Слово в слово. «Примитивные представления древних народов» — и больше ничего. Пустое, все пустое. Вымысел — это не что иное, как просто вранье. Говорил ли я об этом Косте? Само собой. Но тот, кто думает, что его можно смутить такими вещами, — ошибается. Говорю, он помешался на истории. Знаете, что он сказал? Что когда-нибудь, много лет спустя, про энциклопедический справочник нашего времени тоже напишут: «Примитивное представление древних народов». Можно с ним спорить? Нет. А может, и не нужно. Это я понял позже — не надо с ним спорить. Потому что, понял я, он должен так говорить, и верить должен тоже. Если он собирается стать археологом — а он собирается стать именно археологом, — он должен верить мифам, как верил им Шлиман. Ему нельзя, просто нельзя не верить, если он хочет стать знаменитым археологом, найти золото инков или чего он там хочет найти. Но я-то не собираюсь становиться археологом и поэтому не обязан верить во всякие примитивные представления.
Если сказать честно, то, может, кого-нибудь удивит то, что я собираюсь делать доклад о Гомере. Но это совсем другой вопрос. Это просто так получилось, даже и вспоминать не хочу, как это получилось, гнусная история — нет, не буду вспоминать или вспомню когда-нибудь потом, когда все совсем забудется, а сейчас это не относится к делу. Могу только сказать, что из-за этого доклада мне пришлось прочитать сто тысяч книг, где миллионы ученых со всего света спорят о Гомере, и все эти книги показывают, что вся история покрыта мраком. Даже такой вопрос, который, казалось бы, ясен, как день. Я еще расскажу когда-нибудь подробнее обо всем этом, а пока скажу только вот что: мифы? Не поверю никогда. Потому что изо всех этих ученых до сих пор никто не знает точно, где родился Гомер, или сколько он прожил, или в какие точно времена жил, да что там — до сих пор они не могут просто договориться по вопросу — а был ли Гомер вообще. Вы поняли? Вообще был ли он, то есть существовал ли такой человек из плоти и крови, просто человек, которому можно было сказать: «Послушай, Гомер, не знаешь ли ты…», ну и спросить его о чем-нибудь, о том, скажем, как идут дела с «Одиссеей» или придет ли он завтра на собрание у дворца, а он обернулся бы и сказал: «Не знаю. Посмотрю, как пойдут дела». Теперь вам понятно? Ученые, тысячи ученых, профессора, академики далее. Да, и академики — в шапочках таких черных — спорят и спорят до хрипоты. Был Гомер? Был. Нет, не был. Нет, был.
Что ж тут говорить о мифах, о героях всяких, о Геракле и о Тезее, о Елене Прекрасной? Может быть, тогда и Зевс был? И Венера?
И только одно смущает меня всегда. Этот самый Шлиман. Да, я же сам говорил — совпадение. Совпадение — то, что он открыл, раскопал, нашел Трою именно там, где говорил о ней Гомер, хотя это была и не та Троя. Но открыл, открыл. И еще: но это уже о Гомере. Все-таки неясно одно. Ну, был Гомер. Ну, не было его. Но книги-то есть! «Илиада» и «Одиссея». Откуда-то они все-таки взялись. Я не знаю, как пишутся книги, но ведь не из воздуха они берутся. Кто-то должен сесть — за стол или за пень, или делать это стоя или лежа, — но кто-то ведь должен вывести сначала первую строчку, потом вторую, третью, сто девяносто четвертую — а в «Илиаде» их больше десяти тысяч. Нет, что-то во всей этой истории есть, не отрицаю, но я не хочу ломать голову над вопросами, на которые и через тысячу лет никто не сможет ответить, и через две, а может, и через три; как только я начинал об этом думать, мне сразу становилось дурно, голова у меня кружилась, мне становилось жарко — да, самый настоящий жар начинался у меня, как сейчас, и тогда мне начинала мерещиться всякая чертовщина, и, чего доброго, я мог поверить во все эти сказки, в примитивные сказки древних греков, и я представил себе, что я маленький мышонок, который прогрызается сквозь огромную гору книг о Гомере, и каждая книга пищала своим голосом — не веришь, не веришь, а потом появлялись профессора и академики в черных шапочках, они смотрели на меня укоризненно, они грозили мне пальцем, покачивая головами, а потом откуда-то появлялся Геракл, огромный, усталый и задумчивый, он шел, тяжело передвигая ноги, шкура льва тащилась по земле, из колчана за спиной виднелись оперения стрел, он тоже бросил на меня какой-то странный взгляд, как бы говоривший: «Не веришь ведь, а?», — а потом все вместе — профессора и академики, и Геракл, и еще кто-то, кого я не мог угадать, — начинали кружить вокруг меня в странном хороводе, а из-за их спины, неизвестно откуда голос, похожий на голос говорящей птицы, выкрикивал один и тот же вопрос, на который я почему-то никак не решался ответить. «Как тебя зовут? — спрашивал этот голос. — Как тебя зовут, как тебя зовут?..»
И тогда, не выдержав, я сказал:
— Меня зовут Мелезиген.
— Так как же тебя зовут? — спросил Геракл. Он лежал на спине, и глаза его поблескивали в темноте, как у кошки.
— Меня зовут Мелезиген.
— Странное имя, — сказал Геракл. — Мелезиген, Мелезиген… «рожденный на берегу Мелеса»…
— Ну да, — сказал мальчик. — Вот именно. На берегу Мелеса. Разве ты не знаешь такой реки? Это же в Смирне.
— В Смирне? Ну конечно, — сказал Геракл. — Конечно, знаю, Мелес. Мутная такая речушка. То-то я помню, что это у черта на куличках. Это же в Малой Азии, ну конечно. Как же, Смирна. У вас еще там продаются такие вкусные засахаренные дыни, таких я не встречал больше нигде. И почти даром — просто удивительно. Да, хороший город, ничего не скажешь. Ты согласен?
— Да, — сказал мальчик. — Конечно, согласен.
Но ему вдруг стало обидно. Он и сам не мог понять, почему. Может быть, из-за дынь? Он смутно помнил огромные городские ворота с вечно сонными стражниками, толпы народа, снующие по широким улицам, базар, где они целыми днями пропадали, необъятный, известный во всем мире смирненский базар с бесконечными рядами, где продавались товары со всего света, где продавали виноград, дыни и яблоки, засахаренные фрукты — все, что производила обильная земля этого города, базар, с его палатками иноземных купцов, побывавших в далеких и неведомых странах, — настолько далеких и неведомых, что в них не понимали даже греческого языка. Но более всего ему запомнилось море — то синее, то зеленое, то в белых прожилках, то в бурунах, а то совершенно спокойное и тихое, — и как хорошо было убежать из дома, выбежать из ворот, домчаться до пристани, где все небо было закрыто мачтами кораблей, сбросить на бегу хитон и прыгнуть в прохладные, зеленые, ласковые волны, сделать гребок и другой, а потом раскрыть под водой глаза и вообразить себя огромной и сильной рыбой, от которой врассыпную разбегаются мелкие рыбешки и рачки…
И мальчик повторил:
— Да. Да, конечно, согласен. Смирна — очень хороший город. Может быть, это потому, что он основан Тезеем?
— Кем, кем? — переспросил Геракл. Он и вправду последнее время стал хуже слышать, особенно после того, как кулак Эвритиона, того самого, что сторожил быков Гериона, попал ему прямо в ухо. Это был бесчестный удар, что и говорить, даже если учесть, что это вообще был единственный удар, который Эвритион успел ему нанести, и уже точно — последний удар в его жизни. Это вечная беда таких людей, как Эвритион. С этими высокорослыми силачами никогда нельзя договориться по-хорошему, их губит неправильное представление о собственной силе. Они слишком полагаются на свои длинные руки, чуть что — пускают их в ход, не задумываясь, можно ли просто так вот взять и двинуть человеку по уху. Решительная ошибка, решительная, — но удар был действительно силен, в ухе у него до сих пор звенело, и он стал замечать за собой неприятную привычку переспрашивать по нескольку раз.
— Тезеем, — повторил мальчик. — Великим героем Тезеем.
Вот теперь он расслышал. Тезей! Как же, отличный парень.
— Тезея я знаю, — сказал Геракл. — Да. Отличный парень! А какой у него удар левой! Что-то о нем ничего не слышно в последнее время. Я-то, правда, был занят, сам знаешь. А что говорят?
— Ну что ты… — сказал мальчик. Он даже привстал от неожиданности. — Что ты, Геракл? Ну и ну! Ты и в самом деле давно не был дома. Да ведь по всей Греции только об этом и говорят. Нет, ты не шутишь? Он же украл эту девчонку, как ее… Ну да, Елену, дочку спартанского царя Тиндарея. Да нет, ты не мог этого не слышать!
— Клянусь Зевсом, которого все считают моим отцом…
— Ну, это поистине чудеса! Не слышать о таких делах! У нас во дворце об этом говорят все — от управляющего до последней судомойки. А про Елену ты слыхал что-нибудь? Говорят, она такая красивая, Елена, что и словами не передать. Дошло это и до Тезея, а он, как ты знаешь, не женат. Слушай, а Пейритоя ты знаешь?
— Из Фессалии?
— Ну, видишь! У него, у Пейритоя, тоже не было жены, вернее, сначала она была, но потом умерла. Так что они оба были без жен, и тут они стали думать, на ком им жениться. Слушай, Геракл, а ты был женат?
— Был, — сказал Геракл.
— Это что, очень здорово?
— Да как тебе сказать… — Меньше всего Гераклу хотелось говорить сейчас о своей семейной жизни. Ни говорить, ни вспоминать. — А что, это тебя интересует?
— Вот еще, — сказал мальчик. — Придумаешь тоже. Я только хотел бы понять, зачем люди женятся. Только поэтому я и спросил, потому что мне это совершенно непонятно. Знаешь, мне кажется даже, что это все просто зачем-то придумано. Ведь ни к чему хорошему такие вещи не приводят. Ну, взять эту историю с Еленой — красивая она, все говорят, — неужели этого достаточно, чтобы из-за нее разгорелась война?
— Как война? — сказал Геракл. — В каком смысле?
— В прямом, — сказал мальчик. — В самом прямом. Тезей и Пейритой украли Елену, а Тиндарей, ее отец, не стал, конечно, такого терпеть, собрал всех своих спартанцев и двинул их на Афины.
— Это уже интересно, — сказал Геракл. — Спартанцы воевать умеют. Храбрые ребята.
— Да не боится Тезей никаких спартанцев! — горячо воскликнул мальчик. — Он не боится никого на свете. Только ведь его не было дома, понимаешь. Они кинули жребий — Тезей и Пейритой, — кому достанется в жены эта девочка, Елена. И выпало — Тезею. Тогда Пейритой и говорит: «Ты мне, Тезей, друг или не друг?» Тот, конечно: «Друг». — «Ну, а если друг, поклянись, что не женишься на этой девочке, пока и мне не поможешь достать жену». Понимаешь? Тезей, натурально, поклялся. Тут Пейритой и говорит: «Пошли, украдем Персефону». Ты понял теперь?
Это Геракл услышал сразу.
— Персефону, — пробормотал он. — Жену Плутона? Это уже слишком. Они что, с ума сошли, что ли?
— Я же спрашивал тебя, — сказал мальчик, — не зря же я спрашивал тебя, что это такое — женитьба и зачем все так стремятся к этому? Я-то считаю, что все это чепуха. Это все выдумали сами девчонки. Я думаю даже, что настоящий мужчина и вовсе не должен жениться. Но это я так думаю, а взрослые, похоже, думают иначе. В этом все и дело. Может быть, тут есть что-то, чего я не знаю, а? Ну так я продолжаю: Тезей, сказал я, дал слово. А уж если мужчина дал слово… Нет, дело не только в этом. Тут еще и другое. Я считаю, что самое главное в жизни — это дружба. А Пейритой был Тезею друг… И вот тут уже то, что он дал слово… Короче, тут они и пошли.
— Куда пошли? — не понял Геракл.
— Да в Тартар же, в том-то все и дело. В подземное царство. Приходят и говорят Плутону — так, мол, и так. Пришли за твоей женой. Тот, как я понимаю, ужасно рассвирепел. Может быть, это и в самом деле нехорошо как-то — отдай и все! То есть я бы просто отдал, но у взрослых другое дело. И вот Плутон говорит им: «Вы вот здесь присядьте, а я схожу за Персефоной. Надо, — говорит, — и ее ведь спросить, может, она не захочет. А если захочет — пусть идет с вами». Они и присели.
— И…
— В том-то все и дело. Нет, наверное, Плутон действительно рассердился. Только они присели — и словно приклеились, словно приросли к скале… э… ты куда, Геракл?..
Мальчик опять не заметил, пропустил мгновение, когда Геракл поднялся, — совсем как тогда, у реки. Только что он лежал на спине, раскинув руки, огромный, спокойный, безмятежный, такой большой и тяжелый, что, казалось, нет такой силы, чтобы сдвинуть его с места, — когда он успел подняться, глаз не успел даже уловить; а он уже собирался: разбросал костер, затоптал угли, залил водой пепелище, нагнулся и вышел из пещеры. Мальчик тоже выглянул. Сидя на корточках, Геракл протирал тетиву кусочком кожи. Протер, смазал воском, снова протер. И еще раз. Поднялся, захватил тремя пальцами тетиву, потянул…
Раздался едва слышный скрип. Огромные рога подались, согнулись… Мальчику было видно, как напряглись мышцы спины.
— Геракл, — сказал он, — послушай…
Но Геракл снова не слышал. Он готовился, нет, он уже готов был идти, он смотрел куда-то вдаль, мысли его были уже не здесь. Нет, не здесь — они были уже далеко, они были далеко отсюда, там, где ждали его новые дела. Он едва не забыл о мальчике, глядевшем на него в немом отчаянии; он поправил на плечах старую львиную шкуру, взял дубину…
— Счастливого тебе пути, великий Геракл, — сказал мальчик сквозь слезы. — Да будут благосклонны к тебе бессмертные боги. Возвращайся цел и невредим. Возвращайся поскорее.
Тут Геракл обернулся.
— Малыш, — сказал он, и голос его снова был глубоким и мягким. — Малыш Мелезиген. Прощай. Ты мне нравишься. Будь ты немного побольше, я взял бы тебя с собой. Жди, я скоро вернусь. Постарайся подрасти.
Ну, я пошел. Ты плачешь? Нет? Это правильно. Мужчины не должны плакать. Даже когда хочется. Ну, прощай еще раз. Ты ведь сказал, что Тезей в Тартаре. А Цербер где? Тоже в Тартаре. Теперь ты понял? Мне надо спешить. Прощай и жди меня…
И вот он уже пошел — повернулся и пошел. Как он был огромен! Уже прошло много времени, а он все был виден, все не пропадал. И тут у мальчика сжало сердце, да так, что он думал — еще мгновение, и он умрет.
Неведомая сила сорвала его с места и бросила вслед уходящему герою. Он мчался что было сил, но пришлось пробежать, по крайней мере, тридцать стадий, пока он догнал Геракла.
— Я хотел спросить только, — говорил он, задыхаясь, — я только хотел спросить тебя, скажи, я не могу понять… Ты идешь в Тартар, в царство мертвых? Но ведь оттуда никто никогда не возвращался. Как же ты найдешь туда дорогу?
— Малыш, — сказал Геракл. — Малыш Мелезиген, рожденный в Смирне на берегах Мелеса. Запомни, дружок, что я тебе скажу. Мир полон вещей, которых мы не знаем. Мир переполнен вещами, о которых мы не имеем никакого представления. Думаешь, самое трудное — это что-то сделать? Нет. Самое трудное — это понять, что ты должен делать. Никто не знает всего, кроме светлых богов. Наш с тобой удел — искать. Вот и я — буду искать.
— Но где … где?
Я же говорю тебе — не знаю. Для этого мне придется немало поработать, по в конце концов все образуется. Главное — это понять, что тебе нужно. Запомнил?
Он наклонился и добавил шепотом:
— И знаешь, что я заметил? Когда человеку нужно — он начинает очень здорово соображать.
* * *
Я ничего не понимал. Мне было жарко, а ноги были как лед. Я ничего не мог сообразить — где я и что со мной. Я открыл глаза и лежал так некоторое время совершенно неподвижно, стараясь хоть что-нибудь понять, но, клянусь, ничего понять не мог. Даже не мог сообразить, сплю я или не сплю. У меня было ощущение, что со мною только что — секунду, мгновение назад — что-то происходило. А потом, в следующее мгновение, между мною и тем, что я только что видел, появилась стенка. Она была сначала такой тонкой и прозрачной, каким бывает лед на только что подмерзших лужах, но с невообразимой быстротой все утолщалась и мутнела — и я не мог понять, сообразить, в каком я мире, не мог удержать в памяти того, что только что видел, говорил, помнил. Это длилось несколько секунд — моя борьба с тем, что уходило, скрывалось прямо на глазах, — пока я не понял, что я проиграл. Тогда я пошевелился — и тут же откуда-то слева, но откуда — я не видел, серый сумрак, который окружал меня со всех сторон, отозвался знакомым голосом: «Ну, как ты?»
Но я даже и голоса сначала не узнал. То есть я сразу понял, что знаю его, но кому он принадлежит, понял только тогда, когда сумрак расступился, а тот, кто спрашивал, сел возле меня. Это был Костя (голос был его) — вот только я не видел ничего — серая какая-то муть. Костя проступает через муть и спрашивает: «Ну, как ты?» — и я вижу даже не его самого, а силуэт, контур, и слышу голос: «Ну, как ты?»
Но все равно ничего сообразить не могу. Почему сумрак? Почему он меня спрашивает? Сколько времени? Какой день? Что происходит? Почему я лежу? И почему так хочется пить? В глотке у меня было сухо, как в пустыне. По правде говоря, я едва шевелил языком, но самое забавное было то, что не успел я даже заикнуться об этом, о том, как хочется пить, — он, Костя то есть, тут же подал мне стакан — и не с водой, а с каким-то напитком, и я даже не выпил его. Нет, мне казалось, что я и ко рту его не успел поднести, как он уже был пустым, и только после третьего — а может быть, это был четвертый или пятый стакан — я понял, что это такое было. Это был клюквенный морс, самый натуральный, и, честное слово, вкуснее я ничего в жизни не пил. И тут я понял, что происходит нечто необычное. Но только я успел приподняться — я просто хотел сесть и спросить Костю, что все это значит, — меня уже стал разбирать интерес, и я дернулся, — как вдруг все качнулось и поплыло — потолок ринулся вниз и тут же взмыл вверх. Это было, как на качелях, когда сильно раскачаешься, и у меня в груди что-то замерло — точь-в-точь как на качелях, я успел закрыть глаза — и тут все кончилось. Нет, не все. Что-то стало давить мне на грудь, и я подумал — правда, подумал: «Может быть, у меня летаргический сон и меня приняли за покойника?» Я слыхал, что такие случаи бывали, — человек засыпал, а его принимали за покойника и хоронили. И я снова открыл глаза, и тут же Костино лицо стало проявляться из серой мглы — точь-в-точь как проявляется снимок, когда его положишь в проявитель, — вот еще нет ничего, вот нет, вот… потом нечто, а вот уже видно — и с каждым мигом все виднее и виднее. Проявился. И тут я понял, что меня давило, что я принял было за могильную плиту. Это Костина лапа придавила меня к постели. Вот что это было. Ну, понятно. Тут я говорю ему, Косте: «Убери, — говорю, — лапу, ты мне грудную клетку сломаешь». А он: «Лежи, лежи. Не дергайся. Дай мне тебя на ноги поставить». Тут меня разобрал смех. Я понял, что произошло какое-то недоразумение, что ли, или разыгрывается спектакль, и говорю: «На ноги?» А он: «Не на руки же!» Он у нас остряк. Тут я ему говорю: «А кое-куда можно сходить или нет?» А он говорит: «Если можешь — потерпи, а нет — подожди, я тебя чем-нибудь укутаю. С тебя же пот льет, словно ты три дня стоял под дождем». Я же вам говорю, что он остряк. Я решил еще чуть-чуть полежать. «Может, — думал я, — сам пойму, в чем дело?» То, что я был весь в поту с головы до ног, — это я и сам чувствовал, только не мог понять, что к чему. И во рту было сухо, и ноги ледяные, но я не мог связать все это воедино. Вы не верите? Я и сам бы не поверил, и не верил — тогда даже, когда Костя сказал, что я уже целые сутки валяюсь с температурой сорок. И что приезжала неотложка — я во все это и не думал поверить. Но вот когда я встал — тут даже вернее будет сказать, когда я все-таки попробовал встать и встал, — вот тогда-то я понял, что все это не выдумка. Ноги у меня тряслись, они меня просто не держали. Я видел как-то в зоопарке новорожденного олененка — ноги у него тряслись, страшно было смотреть. Олениха его облизывает, а он стоит, весь мокрый, и ножки такие тоненькие, что хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть, как они обламываются. Но они не обломились — он стоял (ножки, как спички) и вовсю сосал. Ужасно славный олененок.
Вот и у меня так тряслись ноги. Я прошел всего десять шагов — пять туда, пять обратно, — а ощущение было такое, будто я штурмовал Эверест. Воды с меня текло, начиная с макушки… Все лицо было залито, даже глаза щипало. Я свалился в постель и тут наконец понял: что-то случилось, но что — не знаю, не могу понять, не помню. Не могу даже связать одно с другим. Я спрашиваю у Кости: «Слушай, — говорю, — что со мной произошло?» А он: «Сам, — говорит, — у тебя хотел спросить то же». — «А как, — говорю, — ты здесь очутился?» Тут он на меня странно так смотрит и говорит: «Брось дурака валять. Брось, — говорит, — притворяться. У тебя что, память отшибло?» А я — хотите верьте, хотите нет, — ну ничего, ничегошеньки не могу сообразить, как будто я только сегодня, вот только что родился — как тот олененок, и что же я могу вспомнить? А Костя пристал с ножом к горлу: «Ну, — говорит, — вспомнил? Мы же с тобой к „Электросиле“ собирались ехать на марочный базар, ты договорился с каким-то типом встретиться. Вспомнил? Он тебе должен был кошку принести — для той польской серии…»
А я ничего не помню.
По правде сказать, надоел он мне ужасно. Я только потом, много времени спустя понял, что было бы странно как раз, если бы он не удивлялся. Только потом я понял, как важно уметь взглянуть на себя со стороны. Но это всегда вспоминаешь позднее, а еще точнее, вспоминаешь или понимаешь слишком поздно. Тогда я не понимал. Да, пожалуй, и не мог понять ничего. И вспомнить — тоже. Мы словно на разных языках говорили. Как будто он, Костя, говорил про одного человека, о котором я слыхом не слыхивал, — и выдает его за меня, а я говорю совсем про другого. Клянусь, чем хотите, — даже тогда, когда он про марки сказал, что мы, мол, собирались ехать к «Электросиле», — я и тогда не понял ничего. Такая вот жуткая история. И только тогда, когда он сказал про моих родителей («А что твои родители, — говорит, — что они у тебя за границей, в Сирии, — говорит, — в Ливане, в Афганистане, дороги строят, черт бы тебя побрал!.. — Он жутко чертыхался, но теперь я его понимаю, а тогда мне даже страшно стало, он орал, как зарезанный. — Про это все, — орал он, — ты тоже, скажешь, позабыл?!»), да, вот тогда я действительно все вспомнил.
Казалось бы, какая разница, помнишь ты то, что было, или нет? Правда? А вот попробуй представь, что ничего из того, что было, не помнишь, и, странная вещь, ты уже не тот. То есть ты тот же самый — и тело то же, и выглядишь так же, и знаешь столько же. А все равно — не тот. И вот это-то и удивительнее всего. Оказывается, что человек — это не только его настоящее, но и его прошлое.
Многое можно вспомнить, ужасно многое. И все это — твое прошлое. Ты сам. Валяясь в постели, до чего не додумаешься — до такого, пожалуй, дойдешь, до чего в другое время и за миллион лет не доберешься. Так что, может быть, вовсе не худо время от времени болеть. Так человек бегает, носится, куча дел, и, как на грех, дела всегда неотложные, важные. Такие, что если не сделаешь сейчас же, немедленно, то, кажется тебе, что-то в мире остановится, что-то будет не так. А потом на тебя навалится болезнь, и ты оказываешься в постели. День лежишь, два, десять — и ничего. Я имею в виду весь мир. Он обходится. Неизвестно как, но обходится, даже если ты болеешь целый месяц. Поэтому мне и пришло в голову, что, может быть, это специально природой устроено — что-то вроде принудительного отдыха.
Это не значит, конечно, что весь мир может заболеть и месяцами валяться в постели. Это не так. Да так и не бывает. Но один… два человека. Эту мысль надо додумать, к ней надо будет вернуться. Я сам к ней вернусь еще не раз. Но впервые пришло мне это в голову в тот самый момент, когда Костя упомянул о моих родителях. Просто удивительно, как мгновенно я все вспомнил. То есть я вспомнил, кто я и где я. И потом уже все время, пока я лежал дома, я все возвращался назад, к разным временам в моем прошлом, и если бы это можно было нарисовать, то получилось бы множество тоненьких ниточек, ручейков, которые, сливаясь, становились толще, по мере того как они приближались к сегодняшнему дню. Это было похоже на схему розыгрыша Кубка по футболу — сначала шестнадцатые доли сливались в восьмые, те — в четвертьфиналы, потом появлялись полуфиналы и наконец финал. А иногда мне казалось, что это все — все эти воспоминания — похоже на то, когда бежишь быстро вдоль бесконечного забора с палкой в руке, и палка выбивает на досках дробь. И вот если бежишь достаточно быстро, то кажется, будто слышишь еще самый первый звук — и ты убегаешь от него, а он тебя догоняет…
Ужасно здорово было это — вспоминать, заглядывать в прошлое, отыскивать эти ручейки, идти по ним и смотреть, как они сливаются. Видеть, как одно перетекает в другое, и говорить себе: «Вот если бы ты тогда не сделал того, не получилось бы это, а из этого получилось следующее и так далее». И, конечно, тогда же я подумал о Косте. И стал вспоминать, как же это вышло, что мы так подружились, и могло ли быть так, чтобы этой дружбы не было. Сначала-то мне казалось, что этого и быть не могло, а потом я подумал — а почему? Вполне могло. В нашем классе сорок человек — и не со всеми же я дружу. То есть вообще мало с кем. Про Ленку я сейчас не говорю. Это совсем другое, я про парней. Ну, с Головкиным. Ну, с Шаровым еще. С Семеновым — да и то потому, что мы на одной парте сидим два года. Вот, пожалуй, и все. И тут я стал как раз отыскивать тот ручеек, самое начало его, откуда началась наша дружба, которая у нас теперь с Костей на всю жизнь.
Это было давно, по-моему, еще до нашей эры. Я тогда только что пришел в эту школу. Мы получили кооперативную квартиру на Благодатной. До этого мы жили в одной комнате на Кировском проспекте — в маленькой комнатке прямо возле уборной. Квартира была огромной, комнат пятьсот, ей-богу, я даже не всех жильцов там знал. По коридорам можно было кататься на велосипеде. Только, как вы понимаете, никто не катался — в коммунальных квартирах этого нельзя. В нашей нынешней квартире — тоже, хоть она и не коммунальная. Но в ней нет коридоров. Там, на Кировском, все велосипеды висели по стенам. Кто хотел ехать куда-нибудь — ставил стремянку и снимал. Потолки там были — метров пять, шею сломаешь. А в кухне можно было устраивать рыцарский турнир, правда.
А потом мы переехали.
Только сначала я два года провел в интернате. Дед и бабка умерли, а взять меня с собой родители не могли. Потому что там, где они были, школ не было. На Севере.
Они оба — и мама и отец — изыскатели, дорожники. Объяснять этого не нужно. Жуткая работа. Какие там школы! В общем, они на два года завербовались на Север, на изыскания, а я попал в интернат. А когда они вернулись — тогда и купили квартиру. Эту вот, кооперативную, в которой мы живем теперь. Две комнаты. Но на велосипеде, конечно, не поедешь.
Так я попал в эту школу. В четвертый «А» класс. До сих пор не могу разобраться, хорошая это школа или нет. Костя иногда бурчит, что плохая. А я не знаю — мне в этой школе хорошо.
И всегда было хорошо, с самого первого дня. Мне сразу понравилось, что директор — мужчина. Нет, я ничего не имею против женщин, но в директора они не годятся. И дело не в том даже, что надо директора бояться. Но директор должен быть — вы понимаете? — в нем должно быть что-то такое… Но это я говорю про мальчишек, а девочкам, может быть, и хорошо, когда директор женщина, даже наверное хорошо. Но не мальчишкам.
Директор мне понравился сразу. Небольшой такой, плотный, быстрый. И руки нет. Пиджак аккуратный такой, а правый рукав пустой и тоже аккуратно приколот к пиджаку. Борис Борисович. Но я вас уверяю, он управляется с нашей школой и одной левой. Если бы вы его знали! Я опять же не про боязнь говорю, тут что-то другое. Не знаю, что. Но директор что надо. Мы зовем его Б.Б. для скорости, и он никогда не обижается. Мировой директор, это я понял сразу. Когда мы пришли в первый раз, он долго смотрел то на меня, то в табель, а потом спрашивает: «А баловаться ты умеешь?» Я просто обалдел. «Вообще-то умею», — говорю, но не могу понять — он всерьез или нет. Тут он объясняет: «Я, — говорит, — вижу, что ты учишься на одни пятерки. Круглый, — говорит, — отличник. У нас, — говорит, — это большая редкость. Два, нет, три круглых отличника на всю школу. Это, — говорит, — хорошо, когда у человека все пятерки. Но это еще далеко не все. Они не должны быть самоцелью».
Теперь вы поняли?
Он говорил совсем другое, чем то, что я слышал всю жизнь. И мама мне говорила и отец — отметки, отметки, отметки. Отец сказал еще: «Твои отметки — это твое общественное лицо». А Б.Б. сказал: «Я, — говорит, — не против круглых пятерок. Отнюдь. Но главное, — говорит, — как ты понимаешь, — это знания. Но, — говорит, — не только. Еще важнее — это ты сам. Каким ты выйдешь из школы. Каким товарищем. Каким мужчиной. Что, — говорит, — будешь собою представлять как личность. А это, — говорит, — отметкой в табеле не выразишь. Вот, — говорит, — почему я спрашиваю, умеешь ли ты баловаться. Мальчики должны баловаться — только, конечно, не на уроках. И баловаться, и бегать, и гонять в футбол, и ходить в походы, и дружить с девчонками. Ты понял? И если все это есть — это очень хорошо. А если к тому же и отметки хорошие — это уже просто прекрасно. Ну, Дмитрий, — говорит, — ты со мной согласен?»
Да я был бы последним тупицей, если бы не был согласен. То, что я умею баловаться, Б.Б. очень скоро понял. Теперь он уже не спросил бы меня об этом. Но это его нисколько не волнует, клянусь. Я знаю, он ко мне отлично относится, отлично. Такой вот замечательный директор — никогда бы не поверил, что может такое быть. Я только потом узнал, что он генерал. То есть во время войны он был генералом, командовал танковой дивизией. Орденов у него штук сто — наших, заграничных, каких хотите, но он их никогда не носит, только раз в году — в День Победы. Тогда он прикалывает и привинчивает их все — пиджака не видно. Вот какой у нас директор — из-за одного этого только можно учиться в нашей школе хоть двести лет.
Вот только с отметками я ничего сделать не могу. Это от меня не зависит, клянусь. Мне нетрудно учиться. Даже не так — я вообще не понимаю, что в учебе трудного. Мне даже кажется, что те, кто говорит, что учиться трудно, на самом деле не хуже меня знают, что вес это чепуха и учиться совсем нетрудно.
Совсем нетрудно! Костя сначала думал, будто я зубрила. Я его и спрашиваю: «А потом?» — «А потом, — говорит, — вроде бы нет». Вот я и говорю: «Это же так нетрудно — учиться. На уроке послушал, домой пришел, быстро все уроки сделал — и вагон времени. Девать некуда». А он говорит: «Так-то оно так, но как это все у тебя получается — не пойму. Я, — говорит, — тоже прихожу домой, но только сядешь за уроки, то одно отвлекает, то другое. Глядишь — уже вечер». Я его спрашиваю: «Что же отвлекает-то?» А он: «Мысли, — говорит, — разные. Как прицепится мысль, так прямо хоть ложись да помирай…»
Тут мы с ним друг друга не поняли.
Но все это — в том числе и разговоры, — это все было много после. А сначала была эта история с марками, я в то время просто с ума сходил.
Я начал их собирать лет в пять — сейчас даже уже не скажу, как это произошло, да вы и сами можете себе это представить, по-моему, в мире нет человека, который в детстве не собирал бы марок. Ведь они такие красивые. А отклеивать их с конверта так приятно: отрежешь прямоугольник, нальешь в блюдце теплой воды, опустишь туда марку и смотришь, как она плавает по блюдцу — точь-в-точь как маленький парусник. А потом, когда клей размокнет и бумага начнет отставать, марка вся скручивается и отходит, и ты ее берешь аккуратно — и на просушку: на промокательную бумагу — и в книгу. А потом уже в кляссер. Но конечно, это я сейчас так говорю. А тогда, десять лет назад, когда все только началось, я, понятно, этого не знал — просто отрывал с конвертов марки и наклеивал их в обыкновенной тетради. Это я теперь понимаю, что был просто варваром. Сколько я марок перепортил насмерть — убить меня мало, но ведь я тогда ничего не знал. Я жил тогда у деда с бабкой в маленьком городке под Херсоном, откуда мне было знать о филателии. Мне просто нравились эти цветные прямоугольники, и всюду, где можно, — в библиотеке, скажем, или еще где — я отыскивал старые конверты, а потом отдирал от них марки. Вот и все. И, конечно, ни о каком научном коллекционировании не могло даже речи идти. Я собирал, как сейчас говорят, «весь мир», другими словами, все, что попадается под руку. Без разбора. Все страны и континенты, все темы — фауну и флору, спорт, космос — все. Полный идиотизм, верно? Потому что и дураку понятно, что весь мир собирать нельзя. И даже не только потому, что не хватит денег — хотя, конечно, и поэтому тоже. Прежде всего не хватит времени. Даже если человек всю жизнь только тем и будет заниматься — все равно не хватит. Это все равно что вычерпывать море стаканом. Но когда тебе пять лет — ты этого ничего не знаешь. И в шесть — тоже. И в семь. А потом, после того как вы пособираете два-три года, вы к этому делу как-то остываете. Во-первых, школа. А во-вторых и в разных там третьих и десятых, появляются тысячи других дел. А некоторым кажется, что марки вообще можно собирать в пять или, там, в шесть лет, а позже — просто стыдно. Я вам скажу, что это все чушь. Наоборот. Чем больше ты погружаешься в это дело, тем интереснее, это я скажу по себе. Я тоже было бросил, когда пошел в школу. У нас в этом городке был отличный школьный стадион, и каждую свободную минуту мы играли в футбол. Я хотел стать вратарем. Таким, как Яшин. Я прыгал при любом удобном случае, где надо и где не надо, — развивал прыгучесть. Я был маленького роста, самый маленький в классе. Отличная прыгучесть, но роста — никакого. Я целыми днями висел на турнике или на дереве, где только было можно. Я прочитал где-то, что все дело в хрящах, и если у человека достаточно силы воли, чтобы висеть долго, он может сам регулировать свой рост.
Что-что, а это у меня было. Тогда было. Я имею в виду силу воли. Нет, правда, она тогда у меня была просто чудовищной. Я даже сказать не могу, сколько времени я провисел. В общей сложности, наверное, из первых четырех лет — года два. Но что-то тут было не так. Я имею в виду науку. Не знаю. Только я так и не вырос. Не получилась регуляция роста — как был, так и остался самым маленьким, а без роста не спасает никакая прыгучесть. Пришлось оставить футбол. Потому что потом меня даже запасным не брали. Я даже сказать не могу, как я переживал. Если бы я умел плакать, клянусь, заревел бы, как девчонка. Но я не умею. Никогда не плакал — может быть, это приходит только с годами, и у меня еще все впереди.
Так что Яшина из меня не вышло. И тогда я снова вернулся к маркам. Мне приятно было собирать их, определять, какая марка из какой страны, а потом находить эту страну на карте. И если приходилось потом читать об этой стране, мне все казалось, что я уже однажды там был, — ведь марка была там, скажем, в Перу, какие-то перуанцы приклеивали ее к перуанскому конверту перуанским клеем, потом кто-то нес этот конверт по перуанскому городу, а кругом было все перуанское — воздух, дома, деревья, люди, собаки, парикмахеры, пивные ларьки, и когда я держал эту марку в руках, мне иногда казалось, что я вижу все это — вижу и слышу, и мне этого хватало.
Но, как оказалось, в этом подходе совершенно не было основательности. Оказалось — мне долго об этом рассказывал отец, — что каждая марка — это не только простой и красивый квадратик, нет. Это еще и ценность. Каждая марка, как оказалось, имеет свою строго определенную цену. Как, скажем, ботинки. Или лыжи. Или что хотите. Помню, это меня ужасно поразило. Ведь марок в мире так много, и они такие разные.
Тогда и появились каталоги.
Их приносил мне отец. Как-то так уже получилось само собой, что на день рождения он дарил мне каталоги. Не знаю, где он их покупал. Наверное, не в магазинах. Никогда не видел, чтобы в магазине продавался марочный каталог. Наверное, он покупал их с рук, а при том, что у нас никогда нет дома лишних денег, представляю, каким это было нелегким расходом. Если уж сказать по совести, я не до конца понимаю, почему у нас никогда нет денег. Отец работает начальником изыскательской партии, и мама — тоже инженер-изыскатель и тоже — не девять месяцев в году, но четыре летних месяца уже точно — «в поле». Не знаю, почему у нас нет денег, но слышу об этом едва ли не каждый день. Мне, конечно, деньги, считай, и не нужны. Когда я хожу на занятия, нас там кормят, потому что мне купили абонемент на весь учебный год. А когда надо ехать куда-нибудь, то на транспорт мне всегда дают сколько надо, или отец дает свою карточку, и все же… Нет, не должны мы быть вроде бы беднее всех, но правда — с деньгами у нас вечная проблема. Может быть, так и нужно, не знаю, но я иногда слышу, как отец с мамой поругиваются из-за пятидесяти перетраченных копеек. Нет, не ругаются. Именно — поругиваются. И сердятся. Потому что у них твердо оговорено, сколько можно тратить в день, и сколько я себя помню, так было всегда. Мне интересно было знать: а как в других семьях? Но когда я спросил об этом у Кости, он глаза вытаращил. Он, оказывается, понятия не имел о таких делах. Нет, правда, я кое-чего, наверное, не понимаю.
Я знал, что филателисты собираются у «Электросилы». Вот тут-то я и встретил однажды Костю. Я уже уходил, как помню. И тут гляжу — он. Я ему говорю: «Ты чего сюда пришел?» А он: «А ты чего?» — «Я, — говорю, — марки собираю». — «Ну и я — собираю». — «У тебя есть обменки?» — спрашиваю я. Он подумал-подумал и говорит: «Найдутся, — говорит, — и такие. Ты тащи, — говорит, — свои завтра в класс, посмотрим…»
И тут мне снова стало плохо. До этого я лежал совсем спокойно, лежал и вспоминал себе, как мы подружились с Костей, и обо всем, о чем я рассказывал, и мне было просто хорошо. Только слабость какая-то, а то — ни жары и ни холода. Но в этом месте меня снова стало знобить. Это началось с ног. Ужасно холодно стало ногам — сначала стали замерзать пальцы, лотом ступни, потом холод стал подниматься к коленям. Тут я посмотрел на Костю. Он сидел в кресле рядом со мной и читал. Холод дошел уже до коленей и тихо полз дальше. Я хотел спросить, помнит ли он, как мы начали дружить. Помнит ли он, как мы менялись тогда марками. Потому что в голове у меня что-то стало кружиться, я не помнил, что за марку я ему тогда дал.
Я все вспоминал об этом, надеясь, что вспомню какие-то подробности, а потом как-то вдруг резко потемнело, и уже не ноги — нет, все тело у меня стало коченеть, — и я только успел подумать: «А где же Костя?» Посмотрел, но тьма уже сгустилась, и ничего не было видно, сколько бы я ни смотрел…
* * *
Ничего.
Сколько он ни смотрел. Он уже стал отчаиваться. День проходил за днем, и неделя сменялась неделей. Солнце поднималось на небе и скрывалось на западе, в стране Гесперид, а Геракл все не шел, и мальчику временами казалось, что тщетно выбегает он на городскую стену и, приложив ладонь ко лбу, пытается что-либо разглядеть.
И странники, которые едва ли не каждый день подходили к городским воротам в надежде поживиться, ничего не знали и, когда их приглашали во дворец, рассказывали все те же набившие оскомину истории об Уране, борьбе Зевса с Кроносом и о битве богов с титанами. Но ни один из них не мог ответить ему на вопрос: не слышно ли чего о великом герое Геракле? Они сидели на кухне, куда прислужница приводила их после беседы с Эврисфеем, и там, поглощая в огромных количествах оставшееся от обеда мясо, рыбу, похлебку из бобов и запивая все это вином, они только покачивали головой и пожимали плечами, ибо рот у них был занят, — нет, не слышали, не слышали. Геракл? Говорили вроде бы, что он отправился на тот свет, в преисподнюю, в Тартар, откуда смертному нет возврата — для них, уныло бродящих от одних крепостных стен к другим, это было совершенно бесспорным — то, что оттуда никто не возвращается; стоило ли раскрывать рот для того, чтобы лишний раз подтвердить это?
Но мальчик не верил им. Он смотрел на них с подозрением, едва ли не презирая их. Да что они понимают в величии! Достаточно было посмотреть на их лица, где постоянная нужда оставила столь различимые следы, на их ветхие одежды, чтобы понять, как чуждо для них все великое, возвышенное. Дело было даже не в одежде и не в лицах. Дело было в их рабском духе, хотя они без всякого на то основания, считал мальчик, полагали себя свободными людьми. И не в том даже было дело, что они зависели от воли тех, для кого они пели свои нескладные песни, нет. Дело было в том, что они уже заранее устраняли из своей души всякое величие, они сами ставили себя в один ряд со слугами любого, кто мог предложить им кусок овечьего сыра и похлебку с чесноком, — откуда тут было взяться гордому достоинству и величию помыслов. А как они говорили! Смех, да и только. Одна строка короче, другая длиннее. Он чувствовал, как в нем что-то дрожит, когда он начинает думать о том, как он пересказал бы все эти истории, доведись ему рассказывать их и будь они достойны рассказа, и что-то мерное и могучее, как прибой, равномерно-мощное и несокрушимое накатывало на него… и весь день тогда он ходил по городу, шевеля губами и не видя ничего вокруг.
А потом он увидел… Он сидел на городской стене и сплевывал вниз с головокружительной высоты косточки от вишен. Со стены было видно далеко, и сначала он не обратил внимания на клубы пыли — мало ли их появлялось, когда стада коров переходили с места на место или какой-нибудь караван спешил укрыться в городе от страшной жары, чтобы по вечернему холодку снова отправиться в путь. Но то были не коровы и не караван. Он еще несколько секунд, может быть, минуту смотрел, не веря своим глазам, а потом помчался вниз одному ему известными тропками прямо ко дворцу, едва удерживаясь, чтобы не закричать во все горло.
Царь Эврисфей сидел в своей комнате. Он всегда скрывался в ней во время дневной жары. Последнее время он уходил сюда особенно часто. Его донимали ужасные боли в печени, и только в полном уединении он чувствовал себя лучше. Он устал. Он устал от всего — от непрерывной жары, от своего шумного крикливого двора, от жены, которая непрерывно жаловалась на скуку. От советников, которые непрерывно лезли к нему со всякими советами, и от этих изнуряющих болей в печени, которые медленно сводили его в могилу. Но более всего — от новостей.
Он не хотел новостей. Плохих — потому что они были плохими, а хороших — потому что вслед за ними всегда опять же приходили плохие. Но более всего он устал от мыслей о Геракле. «Скорее бы, — думал он. — Скорее бы. Скорее бы он возвращался, чтобы его можно было снова услать. Сколько же длится все это? Пять лет? Шесть?» Ему, Эврисфею, кажется, что это длится всю жизнь. Зачем он понадобился великим богам? За что ему такая обуза?
Нет, он ничего не имел против Геракла. Более того, он был бы счастлив не иметь о нем никакого представления до конца своих дней. Боги прямо-таки навязывали ему этого героя, чтоб ему провалиться. Ну на что ему, Эврисфею, и его любимым Микенам этот тупой мешок мышц с его дурацкой палицей, чудовищным самомнением, неимоверной силой, его припадками, во время которых человеческая жизнь для него стоит меньше, чем головка чеснока, зачем ему все это? Можно было бы понять, если бы он, Эврисфей, или его Микены получали бы какую-нибудь необыкновенную выгоду от всех этих невообразимых подвигов. Так нет же. Все зги убитые и растерзанные гидры и львы, кабаны и лани, все это — абсолютно бесполезно, ибо или приносится в жертву богам, или отпускается на волю. Безумие. Безумие и ненужная трата времени. О, если бы боги были столь милосердны и оставили его в покое. Почему, ну почему бы им не предоставить его, Эврисфея, своей судьбе, а Геракла — своей? Так нет же.
Оказалось, что без него — слабого, изнуренного болезнью человека, этому герою не обойтись. Ведь именно он, Эврисфей, должен был каждый раз задавать работу, без которой великий Геракл лишился бы трех четвертей своей бессмертной славы. Что делал бы Геракл без него, Эврисфея? Он, скорее всего, заплыл бы жиром, служа в личной охране какого-нибудь царька, если бы боги не забрали его к себе на небо, чтобы оградить от его безумств эту грешную землю. А теперь?
А теперь результатом всех его усилий было общее мнение, что он, Эврисфей, один из самых умных и образованных людей своего времени, был лишь жалким орудием в руках своих высоких божественных покровителей, завистником, донимавшим своими придирками великого героя.
Общее мнение! Эврисфей был самого невысокого мнения о достоинствах рода человеческого. «Скорее бы, — думал он. — Скорее бы покончить со всем этим». Все равно его усилия бесполезны. Никто не способен, а главное — никто не хочет увидеть, оценить их, эти усилия. Увидеть и понять величие этих усилий. Еще бы. Он ведь не убивал львов. Он всего лишь человек, у которого болит печень.
Да, ему суждено остаться непонятым.
Никто и никогда не оценит его обширных познаний в истории и географии, в ботанике и сельском хозяйстве. Об этом забудут, об этом не принято помнить. Забудут о новых, отборных сортах пшеницы, выведенных им после нескольких лет селекции. Забудут о том, что им выведены новые породы овец и коров, что молоко стало жирнее ровно в два раза, а урожаи увеличились втрое, вчетверо. Нет, никто не вспомнит об этом. Ибо человечеству всегда нужны были и запомнились сенсации другого рода — сенсации, связанные с разбитыми черепами, переломанными костями, выдернутыми ногами, с похищениями, убийствами, клятвопреступлениями. Предательство, ложь, обман — вот что запоминалось, прославлялось… В таких условиях он уже не удивлялся тому, что из него не получится героя.
Ну и пусть.
Нет, неверно, говорит он, что все забудется. Одно, надеется он, все же останется. Его труд. Его великая работа, завершение которой близится. Вот он, его самый великий, его настоящий подвиг, не чета всему этому шумному героизму, который на сорок процентов состоит из размахивания дубиной, а на шестьдесят из фантазии рассказчика по поводу этого размахивания. Нет, его подвиг не таков. То, что делает он сейчас, чему посвятил столько лет жизни, — останется в веках. Это действительно великий труд, и — верит он — рано или поздно, при его жизни или сто, двести лет спустя, но найдется человек, способный оценить его.
Это было его сочинение о бабочках.
Он начал его еще в детстве. Еще в детстве поразило его невиданное разнообразие этих порхающих, легких, изящных, таких беззащитных созданий, перелетающих с цветка на цветок, таких свободных, таких красивых. В те годы он, как и все, ловил их прямо пальцами, стирая при этом пыльцу, уничтожая, разрушая красоту. Потом он сделал свое первое изобретение — сачок. Он долго думал над тем, как сохранить без изменений внешний вид этих насекомых, и после долгого ряда неудачных попыток нашел то, что было надо — легкий сачок на длинной палке. Он первый догадался потом ввести в употребление булавки, на которые можно было бы накалывать — и тем сохранять — бабочек. И многое, многое другое.
К тому моменту, когда он вступил на престол, он уже обладал одной из самых больших в мире коллекций бабочек. Еще много лет назад, узнав о ней, Мидас, царь Крита, великий ученый, предлагал Эврисфею за эту коллекцию четыре тысячи отборнейших коров. Вести о его труде дошли до самых отдаленных пределов земли, как об одном из чудес света. Но он, Эврисфей, — и, пожалуй, только он один — знал, сколько еще не сделано, и единственное утешение, которое ему осталось, было то, что ни один человек в мире не мог бы сделать больше, чем сделал он сам.
Что сделал он сам для науки.
Он первый разбил всех бабочек на два подотряда — «Homoneura», у которых не было хоботка, а рисунок жилкования на передних и задних крыльях был одинаков, и «Heteroneura», у которых хоботок был, а жилкование передних и задних крыльев различалось.
Он положил конец бытовавшему до сих пор и совершенно ненаучному делению бабочек на высших — «Macrolepidoptera» и низших — «Microlepidoptera».
Он впервые ввел термины, которые употребляются ныне во всем научном мире, применив обозначения их на уже вышедшем из употребления, а поэтому не могущем претерпеть изменения шумерском языке.
Это он впервые описал различные степени превращения этих невесомых порхающих созданий из мерзких, прожорливых гусениц… да, он сделал это, это и многое другое, и если бы его мучило честолюбие ученого, то одним лишь своим описанием семейства нимфалид он мог бы завоевать себе бессмертие в истории науки.
Но он не был честолюбив, а история требовала иного.
Вот потому-то он и сидел в своей рабочей комнате, где за стеклянными витринами горели и переливались тысячи представительниц отряда чешуекрылых — как тех, что он уже описал и внес в свой каталог, так и тех, что еще дожидались своей очереди. Сейчас он заканчивал описание Медведицы сельской. Он взглянул на бабочку и ровным красивым почерком нанес на прекрасную бумагу, привезенную ему из Египта, следующую запись:
Медведица сельская «Arctia villica»
Обитает в Средней, Южной и Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Передние крылья — черные с белыми пятнами, задние — оранжевые с черными пятнами. Найти ее можно на цветах, стенах, заборах. Летит на свет. Гусеница «Arctia villica» питается разными низкими злаками, растущими на солнечных местах.
Он еще раз посмотрел. Бабочка была словно живая. Казалось, она сейчас взмахнет крыльями и взмоет в воздух.
Не взмоет.
Эврисфей отвел от бабочки взгляд и сделал одну, не вполне строго научную запись: «Эта бабочка очень красива».
Вот тут-то и вбежал мальчик. Он запыхался, грудь его вздымалась и опадала. «Идет! — закричал он. — Великий царь, он идет, он возвращается, я видел это. Я сам видел это своими глазами с крепостной стены!..»
Эврисфей понял все сразу и, как всегда, ощутил во рту металлический привкус. Не нужно было обладать даром провидения, чтобы увидеть, как мальчик — сын его торгового советника Майона — терял голову при одном только упоминании о Геракле. Эврисфею было очень жаль, но здесь он ничего не мог поделать. У него самого не было сыновей, и всю свою любовь он отдавал этому мальчику, способностям которого, казалось, нет предела. С какой легкостью он усваивал самые сложные объяснения из математики, физики, химии! Какими великолепными лингвистическими способностями наделила его природа! В свои одиннадцать лет он свободно мог говорить и писать по-финикийски, он выучил вавилонскую клинопись и египетские иероглифы, любое объяснение он запоминал с первого раза… И при всем при этом — никакого рвения, никакого желания углублять полученные знания, поставить опыт, выдвинуть научную гипотезу. Дай ему волю, он только и слушал бы всякие небылицы о богах и героях — тут он весь застывал, тут у него горели глаза… Эврисфей подозревал в душе, что мальчик втихомолку предается сочинительству — и одна только мысль об этом огорчала его ужасно. Геракл — вот кто был для мальчика героем, и разубедить его в этом не представлялось возможным. «Ибо, — печально думал Эврисфей, в то время как мальчик стоял возле него, стараясь удержать рвущееся дыхание, — мы все склонны обходиться собственным опытом, который при кратковременности нашего пребывания на земле никогда не может выйти за горизонт нашей собственной ограниченности. И только к старости, когда закат совсем уже близок, мы с вершины наших лет видим дальше и лучше всего — хотя изменить ничего уже не можем. И каждое поколение, надеясь только на себя, повторяет ошибки всех предыдущих поколений. Вот и мальчик, сын Майона, стремится поскорее стать на этот путь. „Геракл возвращается!“ Какое событие! Вот он дрожит от нетерпения, ему хочется, чтобы мы все, как он, понеслись навстречу великому герою. Что он должен был сделать на этот раз? Ах, да, привести Цербера. Это действительно интересное явление. Трехголовый пес. Эта природа! Она все может. Пес о трех головах. Интересно, интересно. Он сделает об этом запись в своем дневнике и напишет, пожалуй, письмо Энлиль-надин-ахи, вавилонскому царю из династии Касситов — такому же, как он сам, страстному ученому-коллекционеру, и бездетному, как и он сам. Что ж, трехголовый пес…»
— Ты хочешь, чтобы я пошел встречать твоего великого героя?
— Да, — сказал мальчик и прижал руки к груди. — Вы же обещали. Прошлый раз вы не показались даже, и он очень огорчился. Он думает, что вы его не любите, а другие говорят, что вы его боитесь. Но он совсем не злой. Вы видели его палицу? Она сделана из целого ствола маслины. А лук? Я не смог оттянуть тетиву даже на толщину мизинца. Он может из него попасть птице в голову на расстоянии в пятьдесят шагов — невероятно, правда? Встретьте его, пожалуйста, я вас очень прошу… он уже близко.
Мальчик говорил, не умолкая, слова вырывались у него, одно обгоняя другое. «Ужасно, ужасно жалко», — подумал Эврисфей. Он действительно обещал, а обещания надо исполнять.
— Ладно, — сказал он, сдаваясь. — Пошли. Встретим великого героя Геракла и одно из чудес света — трехголового пса. Но прежде чем идти, мой милый, скажи мне, что получится, если семнадцать возвести в квадрат, умножить на триста двадцать девять и разделить на семь?
— Тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три, — ответил мальчик. — А теперь мы идем?
— Идем, — сказал Эврисфей и тяжело вздохнул.
Наконец-то!
Наконец они остались одни. Дело происходило вечером. Мальчик едва ли не силой утащил Геракла от зевак и любопытных, которые безо всякого стыда выпрашивали у великого героя сувениры. Казалось, еще немного — и они выщиплют всю шерсть у Цербера, разберут на части лук и расколют на щепы знаменитую дубину, — и, что самое удивительное, тон задавали женщины.
Но теперь все уже позади. Теперь он принадлежит только ему самому, здесь, в этой пристройке, их никому не найти. Целых три дня разрешил Эврисфей провести Гераклу в стенах Микен. Он только попросил его в своей обычной шутливо-серьезной манере не устраивать публичных выступлений.
— Отдохните, мой Геракл, — сказал он, смущая великого героя и всех окружающих этим непривычным для греческого уха обращением на «вы». — Отдохните и наберитесь сил. В этом последнем, предстоящем вам подвиге силы вам весьма и весьма пригодятся.
«Наконец-то!» Это мог бы сказать и сам герой. Даже у него, кажется, иссякли силы. Как он устал и как он хочет есть!
— Слушай, — говорит он. — Слушай, малыш. Неужели у вас нет ничего посущественней той каши, которой меня накормили?
Конечно, есть. И вот уже перед Гераклом, как по волшебству, появляется копченое мясо, прекрасная козлятина, которую мальчик просто уволок из погреба. И овощи принес он, и рыбу, и свежий творог, и гирлянду чеснока, соленые грибы, маслины, засахаренные фрукты… Мальчик сидел и с восхищением смотрел, как все это исчезало прямо на его глазах. И исчезло. Никогда бы он не поверил, что человек может съесть столько пищи, если бы не видел это собственными глазами. Поев, Геракл выпил огромную кружку воды и вытер руки куском теста.
— Все, — сказал он. — Вот это праздник. А теперь…
— А теперь… — как эхо откликнулся мальчик, не сводя с него глаз.
— А теперь — спать.
И тут он увидел, как разочарование и обманутое ожидание наполнили глаза мальчика слезами, и что-то похожее на укор шевельнулось в его груди.
— Ты не представляешь даже, — сказал Геракл с какой-то извиняющейся нотой в голосе, — ты не представляешь даже, Мелезиген, мальчик, родившийся на берегах Мелеса, как я хочу спать. Ты просто не можешь этого себе представить. Мне кажется, что я в жизни не спал и получаса. А если и спал, то, как животное, у костра или в пещере, едва ли не на ходу — и все это среди бесконечных, непрекращающихся дел. Только тебе я могу признаться, да и то если ты пообещаешь мне не болтать, — ты обещаешь? Так вот тебе я признаюсь — я устал чудовищно. Три дня! Нет, ты представляешь, — целых три дня мне не надо будет ни о чем думать, никуда идти, можно лежать, лежать, лежать — и можешь быть уверен, что я не двинусь с места все эти дни. Если только ты берешься меня прокормить.
— Конечно, берусь, — сказал мальчик, и слезы его высохли. — Конечно, берусь.
Подумать только, целых три дня! Да ради этого он берется опустошить все запасы Эврисфея, хотя даже он — а может быть, точнее сказать, именно он — понимал, что этого не в состоянии сделать даже тысяча Гераклов в течение целого года.
— Конечно, — повторил он. — Ты даже не представляешь, какие у нас тут запасы. На десять лет. На двадцать. Царь изобрел новый способ консервирования, который сохраняет продукты практически бессрочно. Ты знаешь его распоряжения? Каждый год десять процентов всего урожая идет в запас. Масло и мясо, сушеные овощи, вино и сыры, копченая рыба, фрукты маринованные и засахаренные, — мне и не перечесть всего. Так что не беспокойся, еда будет. Но, пожалуйста, не спи еще минуту. Расскажи хотя бы, встретил ты Тезея или нет?
Глаза у Геракла слипались, словно их смазали медом. Он лежал на толстом войлочном ковре, раскинувшись во весь рост, расслабив все мышцы. Впервые за много лет он был счастлив, совершенно счастлив. «Может быть, в этом и счастье, — думал он. — Работать, приходить усталым, смывать грязь и пыль, сытно есть, а потом лежать так, вытянувшись, и отвечать на вопросы маленького мальчика, с восхищением взирающего на тебя. А, Геракл? Может быть, именно такая жизнь тебе нравится больше всего, признайся!»
— Что ты говоришь?
— Ты спишь? Ну прошу тебя, расскажи хоть что-нибудь. Знаешь, я каждый день выглядывал тебя с городской стены. Это я тебя первым увидел. И тут же побежал к царю. Я знаю, он тебя не любит. Это потому, что ты, как говорят, совершенно не уважаешь науки.
Сам он помешан на науках, а ты, говорит он, не задумываясь, пожертвуешь любым манускриптом ради куска копченого мяса. Он считает, что ты убил своего учителя Лина только потому, что ты не хотел учиться, а он не хотел тебе ставить хороших оценок. Он не считает тебя настоящим героем, потому что, говорит он, каждый герой является примером для подражания, а если все начнут подражать тебе, то науки заглохнут и мы превратимся в дикарей. Но это не так, Геракл, ты же понимаешь. Вот я считаю тебя самым великим из всех людей, а ведь я учусь хорошо. Сам Эврисфей не может этого отрицать. Мне это нетрудно, совсем нетрудно. Ты знаешь, за сколько я выучил клинопись? За восемь недель, клянусь Зевсом. На прошлой неделе мы читали сказание о Гильгамеше. Ты знаешь, он ужасно похож на тебя — тоже наполовину бог, наполовину человек, настоящий герой. Ты меня слышишь? Геракл! Ну не спи еще немного. А у Гильгамеша есть друг — ты слышишь меня, Геракл? — у него есть друг, огромный богатырь Энкиду… Ты слышишь меня? Ну ладно, я не буду тебе рассказывать о том, что мы прочитали на глиняных табличках, но перед тем как заснуть, скажи мне, скажи только одно — ты действительно встретил Тезея?
— Встретил, — пробормотал сквозь сон Геракл.
— И ты — но это нам рассказал специальный посланник афинского царя, — ты освободил его, верно?
— Да, — сказал Геракл. Он уже совсем спал. — Да…
— Скажи мне еще одно лишь слово. Ты единственный, кто вернулся с того света, из Тартара? Как там..
— Холодно. Жуткий холод. Накрой меня. Я сплю.
Он спит…
Голос, который я не узнал, донесся до меня откуда-то из невероятных далей или глубин. Как если бы, скажем, я лежал на дне моря — так глухо он звучал и так долго пробивался ко мне. Я по-прежнему чувствовал самый собачий холод, какой только мыслимо изобрести для живого человека, но в то же время стал возвращаться к поверхности из тех глубин, где я, кажется, находился без моего ведома. Я несся к поверхности прямым путем, словно боясь опоздать на поезд, повторяя все время — я не сплю, я не сплю. Но те, кто был на поверхности, похоже, не слышали меня до тех пор, пока я не вынырнул у них прямо под носом. А когда это случилось, я первым же делом подтвердил то, что они, может быть, не услышали раньше:
— Я не сплю.
Глаза у меня раскрылись, и я увидел перед собой лицо Кати. И тут я вполне мог снова закрыть глаза, потому что в ту же секунду, как я ее увидел, я превратился в огромный механизм, состоящий из сплошных шестеренок, и эти шестеренки, как им и положено, закрутились — каждая со своей скоростью, зацепляя друг друга. Вся система пришла в движение и крутилась, крутилась на радость механикам всего мира, а для меня это движение и вращение выглядело так: Катя — она снимала у нас комнату, свободную комнату. (Почему у нас свободная комната? Откуда?) Отец говорит: «Помогая другим, ты всегда помогаешь себе. Не все ли равно, кому она будет платить эти тридцать рублей в месяц, — а комната пустая». Почему? Почему пустая? Потому что отец и мама уехали. Мамы нет, отца нет, мама говорит: «Катя тебе поможет». Значит, так — Катя, мама, отец. Их нет — мамы и отца. Когда Катя возвращается домой? Не раньше полуночи. «Сейчас полночь, передаем „Программу для полуночников“», неужели я лег так рано? Полночь, июль, сейчас должно быть светло, но сейчас вовсе не светло, значит, задернуты шторы. Зачем? Катя, Катя, Катя — но ведь ее не было. Когда ее не было? Недавно. А кто был?.. А-а, был Костя. Был Костя, я болен, шторы задернуты, полночь. Передаем музыкальный концерт «Для тех, кто не спит».
— Я не сплю.
— А ты спи, — говорит Катя.
Мне холодно, но уже меньше. И тут я замечаю, что на меня навалена целая гора всяких вещей. Эверест из одеял, пальто, и еще, и еще чего-то — все это громоздится у меня на животе, и от одного вида этой величественной горы мне становится теплее.
— Хочешь морса?
И Катя дает мне морс. Еще одна шестеренка прибавилась и тут же завертелась, прицепившись к другим. Катя, морс, я уже пил морс, Костя мне давал морс, а кто его приготовил? Костина мама. Ужасно хорошая женщина, красивая, хотя и в очках. Всегда норовит тебя накормить до потери сознания или хотя бы напоить чаем; у них в доме — я имею в виду дом Кости — всегда кипит чайник и пьют чай до одурения. Хороший чай, только «экстра» или «высший сорт», темно-коричневый и пахнет очень приятно. У нас чай не пахнет. Катя, Катя, Катя…
— А где Костя?
— Сейчас придет. Он пошел за котом. Ты же просил принести кота.
— Я?
— Ну да. Ты спал и все повторял какое-то имя. Я так поняла, что ты говоришь — Тимофей, Тимофей… Вот он и побежал.
Катя, Костя, Костина мама, коричневый чай, морс, Тимофей… (Это у них так зовут кошку. Именно кошку.) Тим, Тимофей…
— Тимофей? — спрашиваю я. — С чего бы я звал Тимофея?
Катя задумывается. Она морщит лоб.
— Нет, — говорит она, — какое-то другое имя, но очень похожее. Сейчас, погоди, попробую вспомнить. Тимофей? Тевритей? Ну, попробуй, может, сам вспомнишь?
Но откуда я могу вспомнить то, о чем я не имею никакого представления? И в то же самое время что-то очень знакомое слышится мне в этих звуках… Евритей? Нет, это бессмыслица. И я начинаю вспоминать все имена, похожие на имя Тимофей. Ерофей? Но при чем тут Ерофей? Ни одного Ерофея в жизни я не знал. Тогда что же? Евримей? Глупость. Эвмей? Это уже что-то. Эвмей, Эвмей…
— Эвмей? Это я говорил?
Катя думает. У нее очень красивое лицо, словно у мадонны. Нет, скорее она похожа на Венеру Боттичелли, но, конечно, Венера никогда не занималась академической греблей, а Катя — чемпион Европы по гребле в академической четверке. Правда, это случилось совсем недавно. Катя, гребля, чемпионат Европы… Гребля, гребля… Тут появляется еще одна шестереночка — маленькая такая, крошечная, начинает крутиться, но никого до поры до времени не зацепляет. Шестереночка называется академическая гребля. Запомним. Эвмей, Эвмей… Ага, так звали пастуха, к которому пришел Одиссей, когда после долгих странствий вернулся на Итаку, к себе домой, на свой остров. А почему я вдруг вспомнил про это? Потому что я читал «Одиссею».
— Нет, — говорит наконец Катя. — Эвмей! Нет. Похоже, но то было подлиннее. Похоже, но я подумала, что Тимофей.
Зачем же я читал «Одиссею»? Ах, да, для доклада о Гомере. Хотя это не мое чтение. Это Костино. Это он сходит с ума от Тита Ливия. Эвмей, раб царя Одиссея. Одиссей возвращается на Итаку, а там женихи пристают к его жене. Удивительно, зачем? Ей же было сто лет. Ну, сорок. Пожилая женщина. Совсем в годах. В возрасте. Почти что в преклонном. Как моя мама. Как Костина мама. Сорок лет или около того, совсем пожилая. Эвмей, свинопас. Меня это все не должно интересовать, нет. Меня интересует Сетон-Томпсон. «Рассказы о животных», вы, конечно, их читали. Это — книга. Или его же — «Животные-герои». Я когда прочитал рассказ «Виннипегский волк» — чуть не заплакал, честно. А «Джек — боевой конек» — о зайце. Вернее, о диком кролике. Или тот рассказ о голубе по имени Арно, помните? С ума можно сойти. Или Даррелл — «Зоопарк в моем багаже». Это — книги. А «Одиссея»…
Еще одно колесико появилось, еще одна шестеренка. Но эта даже не крутилась, появилась, исчезла, снова появилась, снова исчезла. Одиссей, Эвмей, Гомер…
Шестереночка закрутилась, зацепилась, значит, попала на место… Мой доклад в Эрмитаже — «Что мы знаем о Гомере?» Уже огромное количество шестеренок вертелось — Катя, гребля, первенство Европы… Гомер, Одиссей, Эвмей… Тимофей… Эврисфей.
— Эврисфей?
— Ну, — говорит Катя. — Ну.
Это у нее вместо утверждения. Она никогда не скажет «да», но всегда — «ну»…
— Ну, — говорит она. — Этот самый. А я думала — Тимофей. А кто это?
— Кто — кто?
— Ну этот… который не Тимофей…
Она не придуривается, нет. Катя, я имею в виду. Нисколько. Не подумайте, что я задаюсь, но она ни черта не знает. Я хочу сказать, она не знает тысячи вещей. Я один раз начал что-то говорить о Рафаэле, а она говорит: «А я и не знала, — говорит, — что он еще и художник. Я-то, — говорит, — думала, что он только поет». Вы поняли? Я чуть не помер. На волосок был от смерти. То есть я подумал сначала, что она так шутит. Понятно? Я даже удивился — это и как шутка-то никуда не проходит. Но самое потрясающее было то, что она вовсе не шутила. Клянусь. Я же говорю — я чуть не умер. Вы поняли? Она подумала, что Рафаэль еще и рисует. Значит, она, черт бы ее побрал, никогда не слышала о Рафаэле. Вернее, она именно слышала, но не о нем, а его самого. Того, который пел в кинофильме «Пусть говорят». Вы поняли? О каком-то занюханном певце — нет, вру, он неплохой певец, о каком-то певце, пусть он даже пел бы, как сто тысяч соловьев, она слышала, а о Рафаэле — никогда. Да, это был номер. Я потратил, наверное, миллион слов, пока не убедил ее, что это разные Рафаэли, но так ничего и не смог добиться. Она мне не поверила. Она, по моим наблюдениям, по уши влюблена в этого самого поющего Рафаэля; она приклеила его фотографию на обратную сторону зеркальца и больше смотрит на эту обратную сторону, чем в само стекло. Ну и ну. И, конечно, она ни слова не слышала ни о Гомере, ни об Одиссее, ни о каком-то там Эвмее. Я ей сказал как-то, что надо бы ей прочитать все это, но тут она меня сразила. Я говорю ей: «Такие вещи…» Я имел в виду тогда то, что она никого не знала и слыхом не слыхивала — ни Рафаэля (кроме поющего), ни Тициана, ни Микеланджело, ни Леонардо да Винчи. (Знаете, как она называла его первое время? Ставлю тысячу рублей — не угадаете. Она звала его — Леонардо Давыдович!) Никого она не знала. А когда я ей сказал, что такие вещи надо знать, она мне в ответ: «А зачем?» Вы поняли? Я оторопел. «Как, — говорю, — зачем?!» А она: «А вот, — говорит, — так. Зачем я это должна знать? Где мне это нужно? Что, — говорит, — я с твоим Леонардо Давидовичем буду делать? Если бы, — говорит, — это было бы нужно, нам об этом сказали бы в техникуме». Она окончила физкультурный техникум и, по-моему, порядком воображала (я имею в виду Катю). А может быть, она просто обиделась. Я даже думаю, что она определенно обиделась — не из-за того, что она, как оказалось, совсем — ну на все сто процентов! — не слышала о живописи (это, по-моему, ее просто не задело), а из-за Рафаэля. Из-за того, что есть еще один, который кому-то известен, пусть даже этот кто-то — такой мальчишка, как я.
Потому что она меня считает совсем маленьким. А самой-то всего на три года больше. Восемнадцать лет — подумаешь, какая большая. Но она совсем большая, что правда, то правда. И не только потому, что она ростом метр семьдесят четыре, нет — она просто совсем большая, и может даже выйти замуж, хотя не понимаю, чем тут можно гордиться. Но она, по-моему, гордится. Даже спросила меня как-то — выйти ей замуж или нет. За курсанта. Да, ей тут один морячок покоя не дает, вечно обрывает телефон. Смешной такой — на полголовы ее ниже. Тоже мне, жених! Дурак, наверное, — жил бы себе тихо, плавал бы под водой. А то женится еще, а она, Катя, назовет при ком-нибудь из его начальства Тициана — Птицианом (так было один раз тоже). И что? Разжалуют этого морячка за то, что жену не воспитывает, пострадает ни за что. Вот хотя бы для этого Катя позанималась бы немного, я бы ей все показал, водил бы ее по Эрмитажу до самой свадьбы. Но она меня смутила этим своим — а зачем? Правда, смутила. Я-то думал, что знать все это — просто нужно, как уметь писать и читать. Зачем? Но ей вроде бы и незачем. Особенно теперь, летом, когда она день и ночь пропадает на своих тренировках. Гребла, как бешеная. И вот теперь — чемпионка Европы. «Птициан»! Это ж надо придумать. А теперь вот — Эврисфей, которого она приняла за Тимофея. Он ей тоже, конечно, был не нужен. Раз она чемпион. Вот радости-то в клубе! «Теперь ей наверняка скоро дадут свою комнату, — подумал я. — А то и отдельную квартиру». И правильно. Конечно, ей нужна квартира, а то она стесняется приводить сюда своего моряка. Но он все равно приходил: встанет у дверей — и ждет, дожидается, пока она случайно выйдет. По-моему, он проводит на нашей лестничной площадке все свои увольнительные часы — или как там у них это называется. По-моему, он просто обалдел от нашей Кати, а та делает вид, что ей хоть бы что. Я один раз вышел мусор выбросить, а он стоит. Синяя форма, палаш сбоку. Стоит, наверное, с незапамятных времен. И курит — дым столбом, наверное, десятую пачку докуривает, если бы мимо ехали пожарники, точно кинулись бы со своими лестницами к нам на пятый этаж — тушить. Столько дыма было. Жалко мне его стало — не могу сказать как. Я на него смотрю, а он будто случайно оказался у наших дверей, даже вида не подает. Не спрашивает ничего, только дымит. Мне его жалко стало — сил нет.
— Если вы к Кате, — говорю, — то ее нет дома.
Но он молчит. Мне кажется, что он мне не верил. Только потом я понял, что не в этом дело. Может быть, верил, может, нет, но дело не в этом. Вы понимаете? Эта дурацкая мысль пришла мне в голову только-только. Знаете, что за мысль? Держитесь крепче. Ему было все равно. Да. Не верите? Но это правда. Ему было все равно, дома она или нет. То есть если бы она была дома, ему было бы, наверное, приятнее, но если нет — то ему все равно было хорошо. Жаль, что я поздно это понял. А тогда я подумал, что он мне не верит. А может быть, думает, что это Катя попросила меня так сказать. Только я повторяю: ему было все равно. Вот почему он не сказал ни слова — только задымил еще сильнее. Весь окутался дымом, как вулкан. Я, правда, никогда не видел вулкана, окутанного дымом, но читал — много. Про извержение Везувия, например.
Или Кракатау… Стоит — и дымится. И, как я теперь понял, ему было, в общем, совсем неплохо. Теперь я верю, я даже знаю, что так оно и бывает. То есть я не хочу сказать, что мне самому приходилось стоять у кого-нибудь под дверью. Вовсе нет. Но представить это я могу. Могу представить себе, например, что мне понравилась какая-нибудь девчонка и мне надо пригласить ее куда-нибудь. И вот я вполне могу представить, как стоял бы под дверью и ждал, пока она выйдет. Ну, может, не под дверью, а во дворе — должен же человек за целый день выйти из дома.
Взять хотя бы Наташку Степанову. Та, например, каждый час выбегает на улицу. Сколько бы я ни проходил мимо их дома, совершенно случайно, стоило только замедлить шаг или подождать десяток минут — обязательно на нее наткнешься. И обязательно в сопровождении. Обязательно ее провожает какой-нибудь верзила из десятиклассников, тащит, пижон, ее портфель и от счастья сияет. Сколько раз я такое видел — даже уже и не вспомнить. Да ни разу я не видел, чтобы она шла одна. Из школы. И не из школы тоже. А ведь она всего в восьмом классе, как и все мы. Поразительный факт, если задуматься. А если задуматься чуть подольше, то и нет. Не поразительный. Если вспомнить как следует, то какую красивую девчонку ни возьми, картина одна и та же: вечно вокруг них тучи поклонников. Даже противно. Вот уж чего не стал бы никогда делать. Не стал бы толпиться вместе со всеми и ждать, пока придет твоя очередь нести портфель. Не стал бы я этого делать, даже если бы девчонка эта мне и нравилась. Зачем?
Но сам по себе… Сам по себе — чувствую — мог бы стоять во дворе или даже на площадке, как тот морячок. Один. А что? Может человек стоять, где ему нравится, или не может? Ну и стоит.
Только мне его все равно жалко было. Даже если для него и на самом деле безразлично было — дома Катя или нет. Я ему говорю:
— Да вы пройдите. Она еще не скоро придет. Вы же, — говорю, — знаете, она на тренировке. Придет поздно вечером.
А он:
— Ничего, — говорит. — Спасибо. Я постою здесь.
Вы поняли? Гордый. Ну, его дело. Мне что, просить его надо, что ли? Упрашивать? К тому же я тогда не понимал еще многого. Не понимал еще, например, что человеку, может, и не обязательно видеть другого человека. Что ему, может быть, просто приятно стоять у ее двери. Стоять — и больше ничего.
Выхожу через час — стоит. И больше не курит. И грустный такой. Я, говорю, тогда еще не понимал ничего, — того, что я сейчас понимаю, и даже злорадно как-то подумал: «Охота тебе стоять здесь? Зачем тебе эта Катя нужна? Что ты в ней такого нашел? Ну, хорошенькая она, даже очень пусть хорошенькая, но ведь она такая большая. Ведь рядом, наверное, идти неудобно с девушкой, которая на полголовы выше тебя, тем более военному… Да еще с палашом».
Но я не сказал ему, конечно, ничего. Не мое это дело. Я только еще раз предложил ему зайти к нам. Подождать. А он снова отказался. Я тогда говорю: «Может, стул, — говорю, — вынести? Все-таки сидеть удобней, чем стоять». А он говорит: «Нет, — говорит, — спасибо, не надо». Я тогда другое: «Может, — говорю, — вы в шахматы играете? Или в шашки? Или еще во что? Так давайте, я доску вынесу — и сыграем здесь, на подоконнике, если уж вы не хотите войти. А?»
Я это так сказал — просто. Даже мне стало неудобно — стоит человек и стоит. А он вдруг оживился и говорит:
— Вы умеете играть в шахматы?
Вроде бы даже удивился. Но потом все выяснилось. Я-то умею играть в шахматы, в интернате, будь он неладен, научился. Там и не такому можно было научиться… Но не об этом речь. Мне после первых дебютных ходов стало ясно, что он имел в виду. Он имел в виду настоящее умение. Потому что сам он играть умел. Клянусь, у него был разряд не ниже первого. А может, и повыше. А у меня — только третий. Да и то, если уж честно говорить, весьма условный третий, нам эти разряды еще в интернате оформили.
Мой третий разряд, хотя он и не был липовым, стоил немного. Но достаточно, чтобы я мог понять, как играет этот морячок. Он мог играть со мной, как говорится, одной левой. Я не понял даже, как это произошло, но буквально после первых же ходов мне стало ужасно неудобно — я говорю про позицию, которая создалась на доске. Это как если бы вас заставили натянуть на себя детский костюмчик, номеров на десять меньше вашего. Тут жмет, там тянет, и ни пошевелиться, ни вздохнуть. Абсолютно то же самое получилось и с моей позицией. Еще все фигуры были на доске, все до единой, еще и игра, собственно говоря, не началась, а ходить мне уже было некуда. Так что, хочешь не хочешь, пришлось сначала отдать ему одну пешку, потом другую, а потом и фигуру. Нет, он и в самом деле понимал в шахматах. Потому что я ему сказал — может, еще одну? Сгоряча. Ведь, может быть, подумал я, это произошло случайно. Ведь могло и так быть, мало ли, я не разобрался, ведь третий-то разряд у меня все-таки был. Короче, мне просто стало обидно, что я так бездарно проиграл, поэтому я и предложил ему еще одну партию. Я даже начал по-другому. На этот раз я играл белыми, и какое-то преимущество это давало.
Да, теоретически. Только на практике оказалось совсем не так. На практике все совершенно повторилось. К десятому ходу мне буквально было некуда ходить, так что на этот раз мне даже и жертвовать ему ничего не пришлось, я и без того понял, что партия проиграна. Вот тогда-то я и спросил его, какой у него разряд. Но он не сказал. Он, видите ли, оказался не только гордым, но еще и скромным. Я у него еще раз пятьсот, наверное, спрашивал, какой у него разряд, а он и ухом не ведет. Ужасно я тогда расстроился. Он, похоже, до того тогда заждался на площадке, что рад был играть даже со мной. Только я не стал с ним больше играть. Поблагодарил и ушел.
А через час он сам позвонил. Я открываю. Он, вижу, совсем унылый. Но держится.
— Извините, — говорит. — Но у меня кончается увольнительная.
И замолчал. У него такая манера была, скажет что-нибудь — и молчит, то ли соображает, что ему дальше говорить, то ли дает вам время, чтобы вы переварили его слова.
Я тут говорю:
— Жаль.
Мне и действительно было его жалко, в общем-то, он не виноват, что я так плохо играю. Я уже на него не сердился. Даже готов был с ним еще сыграть, если бы он захотел.
— Да, — говорю, — жаль.
А он:
— И вообще, — говорит, — мы уезжаем. В лагеря. Мне, — говорит, — очень приятно было с вами познакомиться. Только, — говорит, — вы не торопитесь в дебюте. Не старайтесь сразу выиграть. Играйте, — говорит, — повнимательней.
Тут он снова замолчал.
— И вот еще что, — говорит. — А впрочем, нет…
— Что, — говорю, — нет? А он:
— Да так. Все в порядке. Ну, до свидания.
И пошел. А я вслед:
— А Кате, — кричу, — Кате-то что передать?! А он:
— Ничего. — Так и сказал: — Ничего. Ничего не надо.
И пошел.
Вот такой морячок. Я его даже зауважал после этого, честное слово. Мне нравятся сдержанные люди. Если бы я мог, я был бы жутко сдержанным. Как индейцы у Фенимора Купера. Помните? Их пытают, а они хоть бы что. Совершенно и абсолютно сдержанны. Но я, увы, не такой. Я очень эмоциональный. Совершенно не сдержан. Даже не знаю, почему. Это, конечно, ни к черту не годится, но я пока что совершенно не могу придумать, что мне с этим делать.
Да, вот такая история вышла с Катиным морячком. Уж он-то собой владел, ничего не скажешь. Может быть, даже слишком. Видите — не захотел даже ничего передать…
Катя тогда вернулась, как обычно, едва не в двенадцать. Я сначала не понимал, чем там можно заниматься, на этой ее гребной базе, в такое позднее время. «Спят они там, что ли?» — так я думал. Только так всегда, пока не знаешь толком. Пока ты не имеешь представления о деле — тогда-то тебе и приходят в голову всякие мысли, а стоит узнать самому или познакомиться поближе — и видишь: все в порядке. Я узнал это сам. У них там по две тренировки в день. Одна — общефизическая, днем, а другая, вечером — на воде. Жуткое дело. Километров по десять — пятнадцать гребут, а то и больше. Вокруг Елагина острова и Аптекарского в придачу. А то и на Большую Неву выходят. Или на взморье. Я сам ходил с ними однажды на руле, правда, недолго. Мы прошли в тот раз от гребной базы вверх до Каменноостровского моста, спустились к ЦПКиО и по Крестовке вернулись обратно. Так просто, чтобы размяться.
Здорово они гребут, черти. Никогда не скажешь, что девчонки. Захват резкий, и через воду тянут, как сумасшедшие, я себе, сидя на руле, полспины отбил. Да, чемпионы Европы, а девчонки — и всё, на улице даже не заметишь. С косичками. Самой старшей — девятнадцать лет. Нет, правда, — здорово гребут. Когда тренировка кончается, от них прямо пар идет. Соль на майках выступает, правда. Но тренировка — это еще не все. Это только одна часть дела. Я долго распространяться не буду, только одно скажу, для примера. Они весла свои, наверное, часа по два вытирают, не говоря уже о лодке. Они ее только что не вылизывают. Вообще-то говоря, в этом — в том, чтобы самим с тряпками часами возиться, — никакой надобности нет, это мог бы сделать любой мальчишка из новичков. Да еще и рад был бы. Но они не позволяют. Никому не позволяют делать что-нибудь за себя. А потом я понял, что и это не совсем точно. Они не просто никому вместо себя не позволяют делать, но главное — они себе этого не позволяют. Не позволяют себе перекладывать грязную работу на других, хотя они и чемпионы и после тренировки едва на ногах стоят. И никто в этом клубе себе этого не позволяет — так уже, похоже, повелось с незапамятных времен, никто — даже олимпийские чемпионы. Да, это я не оговорился — именно олимпийские чемпионы: у нас их целых шесть человек, всех времен, начиная с Олимпийских игр в Хельсинки. Я еще не родился, а в нашем клубе уже был олимпийский чемпион. Нет, правда, у нас отличный гребной клуб. Так вот, должен сказать, что именно они, эти олимпийские чемпионы, прежде других не позволяют ничего за себя делать. Для начала вы их просто не отличите от других, разве что будете знать, что они держатся тише, чем другие. Это даже странным казалось мне первое время, клянусь. Вы ведь знаете, обычно все как раз наоборот: если у кого есть чем похвастаться, того хлебом не корми — дай привесить что-нибудь на грудь. Да я и сам такой — был, во всяком случае, до недавней поры. Я свой третий разряд по шахматам только что к подушке не привинчивал, честное слово. А здесь все наоборот — чем больше у человека всяких титулов, тем тише он себя ведет. Тем скромнее, я бы сказал. И в майках они ходят таких, что только на свалке такие увидишь. Дыра на дыре. Это у них, как талисман, для счастья. И никогда не задаются. Можешь спокойно подойти к какому-нибудь олимпийскому чемпиону, например, к Коршунову, и спросить, нет ли тавота подмазать вертлюг, или кожицы на весло, или еще чего. И он будет с тобой говорить, будто это не он олимпийский чемпион, а ты сам. Клянусь. Вот за что мне и нравится наш клуб.
Да, такой надо еще поискать. И в этом самом клубе наша Катя в первый же год стала чемпионкой Европы. Не она одна, конечно, как вы понимаете — вся их четверка — четверка распашная, так это называется официально, и ясно, что тут надо работать и работать, и неудивительно, что каждый раз она возвращалась к двенадцати. Возвращалась чуть живая, клянусь. Она просто сама не своя до гребли, я такого еще не видел, да и все остальные — чистые фанатики. Если бы не тренер их, Августина Николаевна, они бы месяцами не вылезали из своей четверки, так бы и жили там.
Так что теперь понятно, что этот морячок никогда бы не смог ее дождаться. Для этого ему пришлось бы напрочь уволиться со службы и стеречь ее. Каждый день до двенадцати. Или самому заняться академической греблей. Только и это вряд ли помогло бы ему. Потому что в «академии» нет смешанных команд, как, например, в теннисе. Так что и это не помогло бы. Безнадежное дело.
Вот я и говорю Кате, когда она пришла:
— Жалко, — говорю, — что ты не пришла хоть на час раньше.
А она:
— Ну, — говорит. Я уже рассказывал, что это у нее на все случаи жизни.
А я говорю:
— Не «ну», а просто жаль человека.
И рассказываю ей всю эту историю. Так, говорю, и так. С начала и до самого конца, до того момента, как морячок ушел. Но без всяких подробностей. И тут я увидел, как может измениться человек. То есть на глазах. То есть у нее прямо кровь отлила от лица, побледнела и так и ест меня глазами, и даже злость какая-то у нее в голосе, будто я в чем-то виноват.
— Ну, — говорит, — а что он передать хотел? А? Что хотел передать?
— Ничего, — говорю.
— Быть не может.
Вы поняли? Это она мне говорит — «не может быть». Меня это так удивило, что я даже и не возмутился. То есть я возмутился, но удивление мое было во много раз больше. Она с ним, что ли, играла в шахматы? Или, скажем, разговаривала! «Не может быть». Но я сдержался.
— Нет, — говорю. — Ничего.
А она все свое. Даже про «ну» забыла.
— Вспомни, — говорит. — Ты вспомни.
Очень удивительно мне было слушать, как она спрашивает без конца, да еще так настойчиво. Ведь ей, как она не раз говорила, он вовсе не нравился. Я ей и говорю тогда:
— Да что, — говорю, — с того? Что ты переживаешь? Ну, не передал, и не надо.
— Не может быть. — Это она снова за свое. — Не может быть.
— Ладно, — говорю. — Он начал, правда, было…
Тут она меня испугала. Ей-богу. Глаза у нее сверкнули, как у тигра. Я даже вздрогнул.
— Что?! — говорит. — Ну что?..
— Да он, — говорю, — так и не кончил. Начал, а потом передумал. Сказал только, чтобы я в дебюте не торопился. Чтобы повнимательней играл.
— А передать-то что велел?
— Да я же тебе говорю — он начал было: «Передай…» — говорит. А потом сказал: «А впрочем, ничего». Они, — говорю (да и то потому, что мне вдруг ее, Катю то есть, стало как-то жалко, уж больно нервничала она из-за какого-то не нужного ей морячка), — они, — говорю, — уехали в лагеря. Так что, — говорю, — зря ты волнуешься. Больше он приходить не будет. Даже наверняка сюда больше не придет.
— А где, — говорит она, — эти самые лагеря? Где они находятся? Адрес он сказал? — Она уже кричит мне: — Адрес оставил?!
— Нет, — говорю. — Не сказал. Не оставил. Но может быть, он еще напишет тебе из своих лагерей.
Она, по-моему, ужасно расстроилась тогда. Даже есть не стала. Обычно она после тренировки всегда ест — и не то чтобы там чай или кофе, а полный обед — суп, если он есть, второе и так далее. Она ест прямо как грузчик, а не как девушка, и хлеба съедает — половину круглого в один прием, а впрочем, это и понятно — при таких тренировках. Мне, сами понимаете, не жалко, пусть хоть три круглых съедает, ей это нисколько не вредит. В том смысле, что по ней не видно, много она ест или мало, она нисколько не толстая, скорее, даже худощавая, но ест она, как взрослый мужик. Правда, и силы в ней — как в мужике. Наш книжный шкаф с подписными изданиями, тонны три весом, не меньше, она передвигает, как перышко. Не случайно ее взяли в чемпионскую лодку — ведь у нее всего-то был второй разряд, когда она переехала в Ленинград, а теперь она уже мастер спорта международного класса.
Но я не об этом. К тому же тогда она еще не была никаким чемпионом. Когда морячок уехал в свои лагеря. Может быть, будь она тогда чемпионом, ей было бы легче — я имею в виду, легче было бы ей все это перенести, из гордости хотя бы. Но чемпионом она стала только через месяц. А тогда она даже есть не стала. Как только поняла с моих слов, что морячок уехал в какие-то там свои лагеря и ничего не велел передать, так прямо сникла вся и ушла в свою комнату. Не то чтобы есть, даже чай пить не стала. Честное слово. Это было до того удивительно, что я даже поначалу и делать ничего не стал. Дай, думаю, подожду. Подожду немного. Неужели, думаю, она даже чай не будет пить. Или хотя бы на кухню не выйдет.
Но она не вышла. И звуков никаких из той комнаты, в которой она жила, не слышно, словно ее и нет там, в комнате, вовсе. Тогда я решил применить военную хитрость. Ставлю чай, дожидаюсь, пока он закипит, а потом стучу к ней в дверь. И слушаю. А она молчит. Я еще раз стучу. Тут она отзывается, и голос у нее такой, что еле узнал. Мокрый такой голос, сырой.
— Чего, — говорит она этим своим голосом. — Ну? Что случилось?
А я говорю:
— Ничего. Ничего не случилось, чай готов. Пошли чай пить, вскипел.
А она: «Не пойду. Не буду. Не хочу».
И тут я заглядываю к ней в комнату, а она лежит у себя на постели — нет, не думайте, не спит, а так, прямо в платье, как пришла с тренировки, даже не переоделась. Такого еще не бывало, мне как-то не по себе стало.
— Катя, — говорю, — Катя. Да брось ты, — говорю, — из-за такой чепухи…
И тут произошло такое, чего я, хоть сто лет думай, — не придумал бы. Ка-ак она заплачет! Ей-богу. Я, по правде сказать, совсем растерялся, полностью.
— Катя, — говорю, — Катя…
А что делать — не представляю.
И тут меня осенило. Я понял вдруг, что плачет она из-за этого морячка. Из-за шахматиста. Который уехал. То есть уверенности у меня, конечно, никакой не было, ведь она же всегда говорила, что он ей только мешает, а тут, выходит, что-то другое. Нет, уверенности не было. Но это я уже знал, что в таких случаях никакой уверенности и быть не может. И даже совсем наоборот. Как, скажем, со Степой, с Наташкой Степановой, которая всегда так презрительно отзывается о девчонках, которые бегают за мальчишками. В том смысле, что она ни за кем бы не стала бегать, а что за ней вечно тащится целый хвост поклонников, то это ее вроде и не касается. Казалось бы, ясно с ней. Но вот что выясняется на самом деле. На самом деле ей самой тоже нравится один из наших ребят. Это я понял совсем недавно. И знаете, кто это? Вовсе не кто-нибудь из тех, кто носит за нею портфель. И не из тех, кто только спит и видит, как бы ее проводить до дома. Да, это Костя. Уж он-то никогда не стремится ее провожать. Даже, похоже, и не думает об этом. Он даже в гости к ней не рвется, не то что все другие. И я в том числе — по крайней мере, до недавнего времени. Он даже мог сказать ей — да, приду, постараюсь. И не прийти. Был такой случай, хорошо помню: мы договорились прийти к ней в одно воскресенье к двенадцати. Я прихожу, звоню, а Наташка открывает двери просто мгновенно, словно она уже стояла за дверью и только и ждала, чтобы позвонили. Раскрывает двери и прямо через плечо мне глядит и спрашивает: «А Костя где?» А я говорю: «Он, что, не пришел?» А она, меня не слушая: «А где Костя? Он придет?»
Как будто я знаю, придет он или нет. Он же при ней сказал, что придет. Словом, сидели мы у нее до вечера, и до вечера она все выбегала на звонки, а он, Костя, так и не пришел. Он мне сказал потом, что хотел уже совсем прийти, да решил еще раз — в трехсотый, наверное, — почитать своего Тита Ливия, да, говорит, так увлекся, что и забыл про все.
А Наташка все выбегала к звонкам…
Так что никакой уверенности здесь быть не может. И все-таки я решился. Вспомнил про все это, решился, напустил на себя важный вид и говорю:
— Катя, — говорю. — Вот какое дело. Я тебе должен кое-что сказать. Я тебе должен признаться.
Тут она, Катя, замерла. Не то чтобы она как-нибудь встрепенулась и затихла, нет — она просто вся замерла, я бы сказал — замерла и подобралась, хотя как лежала на своей постели, так и осталась лежать. Это как в сказках, когда Ивана-царевича убили, а потом разрезали на куски, а потом снова собрали и сбрызнули мертвой водой, и после мертвой воды он, Иван-царевич, снова собрался воедино, а потом сбрызнули живой водою — и он ожил. Я раньше этого не понимал, вернее, не представлял, это были для меня слова — и только, а теперь, можно сказать, сам увидел. Потому что именно так здесь и получилось. Только я сказал, что должен ей, Кате, кое в чем признаться, — и это подействовало на нее, как мертвая вода, и теперь, после этого, все дело было за живой водой. И тут на меня накатило, и я стал говорить ей разные разности, плести одно за другим так, что это было почище живой воды. Это было, как водопад живой воды, честное слово. Потому что я сказал, что тут все дело в слове, что я обещал, мол, молчать и даже слово дал и никогда бы его не нарушил, если бы не она. То есть если бы не видел, как на нее это подействовало. Но теперь, видя, как она расстроилась, решил все-таки это слово нарушить, хоть это и нехорошо.
— Но, — сказал я, — я все-таки не стану пересказывать все слово в слово, то, что этот морячок тут говорил. Кстати, — говорю, — знаешь ли ты, что он каждый день тут толчется под дверями целые вечера? А у них ведь, — говорю, — у курсантов, увольнение — раз в неделю. Что это значит, — говорю, — понимаешь? Это значит, что он убегает из этого своего училища. Самовольная отлучка — вот как это называется. А чем это ему грозит — тоже не знаешь? Это грозит ему карцером — по меньшей мере. А может быть, и трибуналом.
Разошелся я — жутко. Фантазия из меня забила живой водой, как фонтан в Петродворце. Сидит он, говорю, может быть, сейчас в холодном карцере, на хлебе и воде, и готовится предстать перед судом, и больше мы его никогда не увидим. А все, говорю, почему? А потому, что ты не обращала на него никакого внимания.
Тут Катя впервые подала голос.
— Это, — говорит, — он сам, что ли, сказал?
— Так, — говорю, — я его понял. Из его слов, — говорю, — так вытекало. Да, именно так. «Я, — говорил он, — для нее (для тебя то есть) значу меньше, чем дерево. Меньше, чем камень. Меньше, чем какая-нибудь кошка. Но мне, — говорит, — это все равно. То есть не в том смысле, что безразлично, но на мои отношения к ней (к тебе то есть) это нисколько не влияет. Но если ей неприятно меня видеть — что ж, — говорит, — я ей навязываться не буду. Не буду, — говорит, — носить ее портфель…»
— Какой портфель? — это уже Катя меня прихватила. Я немного увлекся и все думал про Наташку и про то, как носят за ней портфель. Тут я уже начал выкручиваться.
— Портфель? — говорю. — Разве я сказал — портфель? Это ведь я так, в переносном смысле, чтобы понятнее было. Это ж я, — говорю, — тебе смысл передаю того, что он сказал. Он, — говорю, — наверное, имел в виду твою сумку. Уж сумка-то у тебя точно есть — та, спортивная.
Выкрутился. И как это у меня вырвалось про портфель — ума не приложу. В общем, ожила Катя.
— Ты, — говорит, — вроде чай собирался пить. Все, — говорит, — в горле пересохло.
А я не могу. А я уже вошел в роль и не могу выйти.
— Сидит, — говорю, — сейчас в холодном карцере. А потом отдадут его под суд, а что дальше будет — это даже и представить невозможно. Потому что, — говорю, — может быть все, что угодно. Ведь он же, — говорю, — присягу принимал не нарушать дисциплину, а раз нарушил — то уже все. Больше, — говорю, — нам его не видать. А парень он — отличный. Как в шахматы играет — просто мастер спорта, не меньше. А как о тебе говорил — заслушаться можно. Каждый вечер о тебе рассказывал. Какая ты замечательная. Он, мол, это сразу понял, с первого взгляда. Покорила, — говорю, — ты его на всю жизнь. Из-за тебя человек, можно сказать, присягу воинскую нарушил, а тебе вроде наплевать. Бездушный, — говорю, — ты, Катя, у нас человек.
Говорю все это — и сам уже верю. Чувствую, как голос начал дрожать и словно в носу защипало, еще немного — и плакать бы начал. Тут уже Катя испугалась. Даже о чае забыла, во второй раз.
— Неужели, — говорит, — из-за этого могут в карцер посадить? Или из училища выгнать? Как ты думаешь?
А тут и думать даже нечего.
— Вполне, — говорю, — могут. Это же не школа. Это военно-морское училище. Не какое-нибудь там, а высшее. То же, — говорю, — что регулярные войска. Действующая армия. Действующая армия и действующий флот. Нет, — говорю, — зря ты загубила человека.
А она тут вдруг рассмеялась и говорит:
— Ну, — говорит, — еще не загубила. И вообще, — говорит, — ты, Димка, ничего не понимаешь!
И вскочила так быстро и вприпрыжку — на кухню. Не понимаю! Конечно, не понимаю. Кто ж тут может понять — только что лежала, уткнувшись в подушку, а как услышала, что человека, может быть, под суд из-за нее отдадут — так бегом на кухню, чай пить. Кто это сможет понять?
Я постоял еще немного тогда в ее комнате. В носу у меня уже перестало щипать, но я и вправду вошел в роль, и мне казалось, что это меня сейчас будут судить за нарушение присяги. Странное это ощущение. Нет, не скажу, что плохое — только странное. Трудно представить, что человека могут расстрелять за то, что он нарушил присягу из-за какой-нибудь девчонки, но ведь так, наверное, уже бывало. В «Кармен», хотя бы. Я не оперу имею в виду. Я говорю сейчас о рассказе Проспера Мериме. Он совсем другой, чем опера, и не потому, конечно, что там не поют, — не могу объяснить, но там все совсем иначе, воздух там другой, что ли. Никаких высоких слов. Все просто — но ужасно жалко становится этого разбойника, Хосе Наварро. Плохо он кончает — а все из-за Кармен. Глупо, если задуматься. А все любовь. Нет, мне этого не понять — как такие вещи можно делать из-за любви. Я имею в виду воровство, и убийства, и грабежи. Этого все-таки не должно быть. Любовь, мне кажется, она должна быть совсем другой. Наоборот — если человек кого-нибудь любит, он должен кончать с этим делом. Ну, с грабежами там и прочим. Какая же это может быть любовь, если перед этим с кого-нибудь снял пиджак? А может, я чего-то не понимаю? Темное дело!
Чаю мы тогда с Катей выпили — стаканов по сорок. Шесть раз ставили новый чайник. Вода с нас текла ручьями. Мы пили чай сначала просто так, потом с фруктовым тортом — моим любимым, потом снова просто так, потом с вареньем, вернее с конфитюром, тоже моим любимым, болгарским, знаете, по пятьдесят четыре копейки банка, потом с медом, который прислали Кате ее родители. Ее родители живут за сто тысяч километров от Ленинграда, где-то в Казахстане, туда даже самолет не летит, у них там, говорит Катя, целая пасека с ульями — вот с этим медом мы и пили чай, и тогда — а может быть, мы пили еще чай с вареньем… Нет, уже с медом, тогда-то я и спросил ее.
— Катя, — говорю. — А ты знаешь, что такое любовь?
И тут она меня удивила. Я говорил уже, что она всего на каких-то несчастных три года меня старше, а уж знает она в сто раз меньше и ни черта не читала — об этом она сама всегда говорит, — и уж, конечно, она никогда не слыхала о таком писателе, как Проспер Мериме, так что вполне можно было бы ожидать, что она ответит — нет, мол, не знаю, а она мне сказала:
— Конечно, знаю.
Вы поняли? «Конечно, знаю». Не просто — «знаю», а «конечно». Тут меня злость взяла. Какое, думаю, нахальство!
— А если знаешь, — говорю, — тогда скажи, что же это такое?
— Это, — говорит, — тебе еще рановато знать.
— А тебе, — говорю, — значит, не рановато?
— Так я, — говорит она совершенно спокойно, — я же взрослый человек. А ты еще нет.
— Как, — говорю, — нет? А кто же я? Ребенок, что ли?
— Конечно. Ты, — говорит, — ребенок. А что же, взрослый, что ли?
Не стал я с ней больше разговаривать на эту тему. Неинтересно мне стало. Нет, не то чтобы я обиделся из-за того, что она меня ребенком считает. Вовсе нет. Просто мне стало неинтересно разговаривать с таким человеком. У нас с ней просто, как выяснилось, разное мировоззрение. Совершенно разное. Она, видите ли, считает, что если ей восемнадцать лет и в нее влюбился моряк, то она уже взрослая, а если мне пятнадцать и в меня никто не влюбился, то я еще ребенок. Ну что ж, пусть считает, но мировоззрение у нас совершенно разное. Мне это ясно. Вот придет время, и она будет весьма удивлена. Я совершенно уверен, что могу разобраться в вопросах любви ничуть не хуже ее. Просто мне неохота. И еще не пришло время. Просто тут все дело в моем замедленном росте. Я уже говорил, что в классе почти что самый маленький — по росту. Меньше меня только Славка Синицын. Но это ни о чем не говорит. Все великие люди, если хотите знать, были небольшого роста. Наполеон, например, был совсем небольшого роста — это научный факт, — и ничего. И Лев Толстой. Да мало ли кто еще. А из длинных — много ли из таких вышло великих людей? Один Петр Первый. Он был верзила. Два с лишним — прямо баскетболист. Ну и все. А все остальные великие люди были умеренного роста. И это понятно — им некогда тратить силы на рост. Им надо становиться великими, вот куда уходят силы. А когда они становятся великими, никто им про рост не напоминает. Очень даже просто. Никто тогда не вспоминает, сколько им лет, и все такое. А я еще буду расти и расти…
В общем, расстроился я из-за этой глупой Кати. А потом представил вдруг, как я стал великим человеком, — не как Наполеон, но что-то вроде. И как приходит ко мне Катя — у нее что-нибудь там случилось и помочь ей никто не может. И вот приходит она ко мне и говорит:
— Никто мне не может помочь, только ты, Димка.
А я ее спрашиваю:
— Ну, что, теперь ты не скажешь, что я ребенок?
И вдруг я слышу в ответ:
— Конечно, ребенок… — и потом словно уходящее эхо, повторяющее послушно и затихая с каждым разом: — Конечно, ребенок, конечно, ребенок… — И потом, уже пропадая почти: — Конечно…
— Конечно, ребенок.
Голос Эврисфея звучал раздраженно, и так же раздраженно он ходил туда и обратно по маленькой комнате, где происходил разговор. Геракл смотрел на него, привалившись к стене, и с высоты своего роста, едва ли не в пять локтей, видел, как поредели волосы на голове Эврисфея. «И если так пойдет дальше, — подумал он, — то через несколько лет там нечему будет лысеть».
— Напрасно ты это затеял, — сказал, наконец остановившись, Эврисфей. — Совершенно напрасно. Он, конечно же, еще ребенок. Должно пройти еще несколько лет, прежде чем он станет эфебом. А ты хочешь потащить его неведомо куда. Ну, — поправился он, — положим, ведомо. Я вычерчу вам всю схему маршрута, а точное направление укажет вам Протей. Но мальчику там делать нечего.
— Но я вовсе не тащу его, — сказал Геракл. — Он сам хочет. Если ты не веришь мне, спроси его сам. Позвать его?
— Зачем, — устало сказал Эврисфей. — Я тебе верю. Еще бы. Кто из мальчишек — тысячу лет назад или еще через две тысячи лет — отказался бы от такой возможности. Я знаю, они бредят тобой и твоими подвигами. О них — о тебе и твоих подвигах — складываются легенды. Кто откажется, — повторил он. — Иногда я думаю, что и сам бы не отказался. Но ты же взрослый человек. Пойми — это необыкновенный мальчик. Ему уготована богами другая участь. Он не рожден, как ты, для ратных подвигов. Он необыкновенно одарен. Рассказывал он тебе про случай с вавилонской клинописью? Я написал об этом моему другу Нинурта-тукулти-Ашшуру в Лагаш и Энлиль-надин-ахи в Вавилон.
Это действительно невероятно. Мальчик одарен феноменальной памятью, и то, что ты ему покажешь, он не забывает никогда. Он с одного раза запомнил всю классификацию моей коллекции — несколько тысяч видов. Понимаешь ли ты, какую ответственность мы за него несем перед Грецией, перед всем миром? Может быть, ему суждено прославить нашу страну каким-либо иным образом, а не шатаясь по пыльным дорогам… Оставь его здесь, Геракл, оставь. Я сделаю из него настоящего ученого. Ты знаешь, как мало думающих голов у нас в стране. Все увлечены войнами, походами, набегами, и никто не думает ни о настоящей науке, ни о настоящей культуре. Оставь его — здесь он в безопасности.
— Ну, — сказал Геракл, — если ты считаешь, что я не смогу…
— Опять ты за свое. Ты хочешь сказать, что при тебе его никто не посмеет обидеть, так? Но разве мы можем представить все, что случится в пути? Путь в страну Гесперид так далек. Вам придется преодолевать реки и моря, на пути у вас будут безмерные воды океана. Разве вы можете уберечься от сил природы? От разливов, штормов, от малярии, от укуса змеи, от стрелы, выпущенной из-за угла? Нет, не можете! Оставь его здесь. Отправляйся в путь, принеси эти яблоки, — и ты свободен. Ты знаешь, ведь мы не враги. Мы с тобою происходим от одного предка — Персея, и каждый из нас по-своему неповторим: ты — в своем деле, я — в своем. Я помог тебе совершить твои подвиги. Иди, соверши последний — и да поможет тебе твой отец Зевс. Я помогу тебе тоже. Я дам тебе провизии столько, сколько ты унесешь. Я дам тебе рекомендательное письмо к величайшему ученому всех времен Протею — без его помощи ты никогда не достигнешь цели. Он же предскажет тебе будущее, если этот вопрос тебя интересует. Но мальчика оставь здесь.
— Но я же говорю тебе…
— Тебя он может послушать. Он послушает тебя наверняка.
— Но…
Слова с трудом ворочались в голове Геракла. Вообще ум его был быстрым, но в жизни ему больше приходилось рассчитывать на быстроту рук, на точность глаза, чем на быстроту языка и точность слов. Поэтому он говорил медленно, словно укладывал в стену камни.
— Но послушай, — сказал Геракл. — Он хочет пойти со мной. Он хочет. Он умный, да. Похоже. Я не могу это оценить так, как ты. Он, похоже, очень способный мальчишка, этот Мелезиген…
— Мелезиген?
— Я так зову его, потому что он родился, как ты, конечно, знаешь, на берегу Мелеса. Невзрачная речонка, между нами. А как зовешь его ты?
— Я, — сказал Эврисфей, — зову его Майонид, поскольку его отцом является мой советник по торговым делам в Малой Азии Майон.
— Пусть будет Майонид, — сказал Геракл. — Хотя мне это имя не нравится. Пусть Майонид. Пусть… на чем мы остановились? Ах, да. На том, что он способный мальчик. Но что ж из этого? Разве его способности убудут, если он немного окунется в жизнь? Ты, Эврисфей, прав. Это будет долгий путь. Очень долгий — я чувствую это. Всемогущие боги — разве они не будут посылать нам испытания? Конечно, будут. И ты прав. Ты прав, когда говоришь, что мне его не уберечь.
— Вот видишь…
— Верно. Но я вот что хочу тебя спросить. Разве здесь, в Микенах, он в безопасности? Я имею в виду вот что — разве здесь с ним ничего не может произойти, а? Да, в Микенах высокие стены. А для малярийного комара они достаточно высоки? Нет. Он перелетит через них. А змея проползет под ними. А болезни — как ты можешь уберечь мальчика от них? Убережешь от одной, от другой, но не от всех. А? От тысячи болезней, от тех, которые нам известны, и от тех, которые неизвестны. Ты убережешь его? Защитишь?
— И все же, — сказал Эврисфей, — когда он здесь…
— Когда он здесь, — эхом отозвался Геракл. — Вернее, пока он здесь. С тобою, рядом. А если тебя не будет? Кто его будет оберегать? Кто его может уберечь — не от случайного несчастья, нет, а знаешь от чего? От жизни. Не от такой, какую ты хотел бы видеть, а от такой, какая она есть. Ты же знаешь, в мире есть хорошие люди и есть плохие. Ты знаешь это, и я знаю. А он? Он не знает. Кто научит его отличать хорошего человека от плохого? Ты? Я? Нет. Только сама жизнь. Ты говоришь — убеди его, уговори его остаться, ты это можешь. Я то есть. Ну да. Могу. Но правильно ли это будет, скажи? Разве мы знаем, что нас ждет? Что ждет его? Какой путь определили для него бессмертные боги? Отпусти его. Пусть идет. Пусть идет со мной. Не бойся за него. Я буду рядом. Он нравится мне, мальчик. У него хорошая память, говоришь? Прекрасно. Пусть идет со мной. Мы пройдем через десятки стран. И он запомнит все, что увидит. Он способен изучить чужие языки и наречия? Это очень хорошо. Тем легче будет ему говорить с людьми, которых мы встретим. И знаешь, что я тебе скажу? Отпусти его. Отпусти его, если хочешь ему добра. А ты ведь хочешь, правда?
Эврисфей молчал.
— Хочешь, — сказал Геракл. — Я знаю. И еще раз говорю тебе — отпусти. Пусть окунется в жизнь. Пусть будет готов к ней. Не держи его. Ему и так повезло. Он вырос у тебя. И встретился со мной. Ты, конечно, самый умный из всех греков, не спорю. И ты научил его многому из того, что знаешь. Ты развил его ум. А тело? Доверь это мне. Ум — хорошо, не спорю, но тело тоже надо развивать. Я не стану говорить, что я самый сильный из греков, — хотя, может, так оно и есть. Не в этом дело. Пусть мальчик теперь поучится у меня, а? Пусть у нас обоих он возьмет самое ценное из всего, чем мы владеем. Наш опыт. Твой и мой.
— Не знаю, — сказал Эврисфей.
— Отпусти, — сказал Геракл. — Именно сейчас. Сейчас царит мир. Но так будет не всегда. Что-то подсказывает мне, что нас еще ждут испытания. И скоро. Когда Тезей украл маленькую девочку Елену, это привело к войне. И к разрушению Афин. Елена вернулась домой, в Спарту. Ты слышал о ней, царь? Теперь она уже не девочка. И теперь дело не ограничится Грецией. Из-за нее, говорю тебе, в этот мир придет не меньше бед, чем от десяти эпидемий. Пока она жива, не перестанут ее похищать и не прекратятся войны. Это так же верно, как то, что твои бабочки летали когда-то на воле, прежде чем ты насадил их на булавки. Будут войны — и нам надо успеть до того, как они начнутся. Отпусти мальчика со мной. Ты принесешь ему только пользу.
— Не знаю, — сказал Эврисфей. — Не знаю. Не знаю, что тебе сказать, родственник мой и великий герой Геракл. Может быть, ты и прав. Может быть, я и не вправе задерживать нашего Мелезигена, или, как я его склонен называть, Майонида. Может быть, ты и прав. Я хотел держать его при себе, потому что я уже стар. Ты знаешь, Микены недаром называют златообильным городом. Да, много здесь золота — и того, о котором догадываются, и того, о котором никто не подозревает. У меня нет сына, а дочери не наследуют в Микенах ничего. Если я умру, не объявив наследника, Микены достанутся Агамемнону. Ты знаешь его — он доблестный воин, но жизнь ему не сулит ничего хорошего. Никому из тех, кто женат на детях Леды, жизнь не сулит ничего хорошего. А он недавно женился на Клитемнестре, родной сестре той самой Елены, о которой ты только что говорил. Я боюсь, что к моменту вашего возвращения меня уже не будет, а Агамемнон не из тех, кто отдает свое золото, — и тем более чужое. Даже ты ничего не сможешь сделать для мальчика, Геракл, ибо все произойдет по закону. И все же я отпускаю его с тобой. Да, твоя сила оказалась вернее моей мудрости. Бери его. Бери его, учи и заботься о нем. Идите за яблоками, принесите их. Они тоже для него, для малыша Майонида, хотя ты и называешь его Мелезигеном. Это не простые яблоки. Кто владеет ими, тот убережен от старости, от горя, которое старость несет с собою, от дряхлости и забвения. Принеси их мне сюда, если я еще буду жив, и твоя служба у меня закончится, а яблоки мы отдадим малышу. Зови его. Объяви ему нашу царскую волю! И — в путь. Уходите. Не теряйте времени. Уходите немедленно. Я кончил. Только об одном прошу тебя, Геракл. Не называй его — Мелезиген. Придумай что-нибудь. Другое имя. Ну? Хорошо, я придумаю сам. Он будет тебя сопровождать? Так и назови его «сопровождающим». Зови его Гомер. Ты понял? Гомер.
— Гомер? Это хорошее имя, — сказал Геракл. — Короткое и удобное. Его легко произносить. Сопровождающий! Гомер! Недурно. И как мне раньше не пришло в голову назвать его другим именем. Казалось бы, так просто. Ну что ж, пусть будет Гомер. Иди сюда, мальчик, рожденный на берегах Мелеса. Слушай волю царя Микен и моего родственника Эврисфея. Мы отправляемся в путь. Мы пойдем вдвоем — я, Геракл, и ты, сын Майона, которого отныне, с этого часа всюду и везде будут называть Гомером…
Гомер, Гомера, Гомером, о Гомере…
Сказать по совести, это великое имя мне успело порядком поднадоесть. Оно успело мне надоесть еще до того, как я оказался на больничной койке, а уж после того — и подавно. Я говорил уже, что вовсе не схожу с ума по истории во всех ее видах, как мой друг Костя. Вовсе нет, и, что уж точно, не считаю историю основой основ. Она мне интересна — да, она бывает даже увлекательна — да, но она не основа основ. Конечно, кому не нравится читать рыцарские романы? Таких, наверное, нет. Особенно среди мальчишек. Но спросите — почему? Очень просто — потому, что там говорится о всяких подвигах, сражениях и битвах и появляются самые различные исторические личности, такие, скажем, как Ричард Львиное Сердце, и так далее. А что может быть интереснее, чем прочитать про живого человека, вернее, про человека, который действительно жил, хотя бы это было и много сотен лет тому назад. Но интересно — это одно, и отсюда еще очень и очень далеко до того, чтобы наизусть заучивать Тита Ливия или какого-нибудь там Светония, как это делает Костя. И если я сам в течение многих дней занимался Гомером, то это произошло чисто случайно, и виноват был опять же Костя. И вот тут я подхожу к одной истории, о которой мне очень хотелось бы умолчать. Умолчать, забыть и не вспоминать никогда, потому что хуже, чем тогда случилось, уже, наверное, случиться не может никогда. Но я не могу забыть, не могу сделать вид, что ничего не было, хотя, скажем, Костя и делает вид, что он все забыл и ни на кого зла не держит. Но он был в этой гнусной истории пострадавшей, как говорится, стороной, а мы все…
Одним словом, дело было в прошлом году, и вся каша заварилась из-за сочинения. Это был конкурс, и наша эрмитажная команда участвовала в этом конкурсе. И Косте было поручено (или, может быть, лучше сказать — доверено) писать на этом конкурсе от всей нашей группы сочинение. И он написал его, конечно. Только получилось так, что если до этого самого сочинения, то есть перед самым последним туром, мы спокойно и с отрывом шли на третьем месте, то после этого в итоге оказались на девятом, то есть предпоследнем, — потом был еще ужасный скандал. Я даже не знаю, где и когда мы вели себя по отношению к нему, к Косте, более подло, — когда огласили итоги этого дурацкого конкурса, который в итоге оказался чистой липой, или уже после, когда вокруг этого сочинения стали раздувать историю. Мне кажется, что мы подло вели себя и там, и там. В результате Костю чуть не поперли из комсомола. Вернее, уже и поперли, но, когда дело дошло до райкома, — райком не утвердил.
Да, вот какая это была история. И произошла она в феврале. Я даже скажу более точно — это произошло первого февраля. Я запомнил этот день совершенно точно, потому что (но я расскажу об этом позднее) именно в этот день мои родители получили из своего министерства подтверждение, что их направляют на работу за границу. Как сейчас помню, холод был лютый, и я пронесся из школы домой как стрела, потому что бежал в тапочках и чуть не обморозил себе все на свете.
Да, эта история произошла именно первого февраля. Но прежде чем решить, рассказывать ее или нет, я хотел бы спросить: как понять, способен человек на подлость, на низкий поступок или нет? Или даже не так. Вот живет человек, и до поры до времени он такой же, как и все, — ходит себе в школу, занимается в разных кружках и говорит всякие правильные слова о дружбе и о всем прочем, а потом настает день, и он совершает какую-нибудь пакость. Но даже и не это самое потрясающее. Самое потрясающее то, что вот ты эту пакость сделал — скажем, проголосовал за исключение своего лучшего друга из комсомола. Да, на вопрос: «Кто за исключение?» — поднял вместе со всеми руку, а потом сам себе не веришь. Вот не веришь и все. Будто это был не ты, не твоя рука, и ты тут вовсе ни при чем. Такое вам знакомо?
Никогда бы в это не поверил, клянусь. Но это было. Именно так. Я сам и был таким человеком, и все было, как я говорю. Но вы можете убить меня или разрезать на куски — я не объясню вам, как же это было и как произошло.
Может быть, тут виноват массовый гипноз или еще что?
Нет, не могу понять, и, думаю, никто не поймет, в чем тут дело. И раз так, нет даже смысла рассказывать и распространяться про все остальное — про конкурс и про сочинение. Скажу только, что все дело упиралось в поездку за границу. В самом начале этого конкурса было объявлено, что команды, занявшие на этом конкурсе три первых места, поедут за границу. В порядке, так сказать, культурного обмена. Мы — туда, а они, очевидно, сюда. Не знаю, чья это была идея, но идея, надо сказать, отличная. Немцы приглашали к себе в Дрезден, а поляки — в Краков, а одно приглашение пришло даже из музея в Брюгге. Нет, правда, отличная идея. Неудивительно, что мы завелись, — кто бы не завелся. Я думаю, что и остальные группы завелись не меньше. Я даже не предполагал, что в Ленинграде столько детских групп — при музеях, не только в Эрмитаже, — огромное количество ребят. Тем более тема конкурса была — «Ты и твой город». Название вроде бы простое, но сам конкурс был здорово сложным, потому что организаторы хотели, чтобы уж если кто куда поедет, мог бы рассказать о нашем городе все. Не ударил бы в грязь лицом нигде. В общем, конкурс был что надо, — из десяти пунктов. И до последнего тура — до сочинения — мы твердо шли третьими, и оставалось только гадать, куда именно мы поедем, в какую страну. В общем, даже трудно было сказать, что мы третьи, — у нас было очко в очко с теми мозговитыми ребятами из кружка любителей искусств при Академии художеств и командой трехсотой специализированной школы. А остальные остались далеко позади, и нам оставалось только получить хотя бы один балл из десяти возможных — и минимум третье место было бы наше. А что такое один балл? Это можно было просто ничего не писать. Сочинение называлось — «Я счастлив, что я ленинградец». Хотя нет, не так — «Я горд тем, что я ленинградец». Именно так — не счастлив, а горд. Сочинение — нечего делать. Тем более, что писать его поручили Косте. Он это умел. Вы бы почитали его сочинения в Эрмитаже — закачаешься. Нет, правда. Отличные сочинения, у нас двух мнений не было, кому это дело поручить. Я горд тем, что я ленинградец. Да любой бы написал.
Правда, потом уже вспомнили, что Костя не хотел за это браться. Только на это сначала никто не обратил внимания. Мало ли что не хочет. Костя говорил — и я это тоже вспомнил, но много позже, — что эта тема ему не нравится. Вернее, такой ее поворот. Но его, понятно, никто не слушал. Такой поворот или другой поворот. Я ему тогда так и сказал — напишешь, мол. Ты ведь горд тем, что ты ленинградец, — говорю. А он — и вовсе, говорит, не горд. Чем, говорит, тут гордиться. А ты, говорит, ты горд?
— Горд, — говорю. — Я горд.
— Ну так, может, ты и напишешь? А то я чего-то тут не пойму постановки вопроса.
— Вот и разберись, — говорю. — Разберись в этом вопросе. В этом ужасно сложном вопросе.
— Никак, — говорит, — не разберусь. Это ведь вовсе не простой вопрос. Не хотелось бы писать. Я, — говорит, — однажды на эту тему думал…
— Вот, — говорю, — и подумай еще. Додумай до конца. Развей свои мысли в письменной, так сказать, форме. И вообще — хватит, — говорю, — тебе ломаться. Напишешь.
Вот он и написал.
Кончилось все это, как я уже говорил, довольно плачевно. Не заняли мы третьего места. Потому что за Костино сочинение нам не только не дали ни одного балла, но даже еще и сняли пять, что, впрочем, было противозаконно. И вокруг этого сочинения подняли такую бучу, что для Кости это едва не кончилось исключением из комсомола, потому что — так нам объяснил председатель конкурсной комиссии — своим сочинением Костя опозорил нас навеки. И не только нас — весь наш город. А может быть, и весь комсомол, а может быть, и всю страну, и по одному этому не место ему в комсомоле… Ну и так далее…
Потому что в сочинении (но мы узнали это много позже) он написал так: что он, мол, принимает эту тему для сочинения — «Я горд тем, что я ленинградец» — чисто условно. Что он принимает ее как тему для разговора на такую — назовем ее этической — тему, чем человек может и чем он должен гордиться, а чем он гордиться не может и не должен. Только так, писал он, может он признать за этой темой право на существование. А иначе она, по его мнению, вообще лишена всякого смысла. Потому что, писал он, совершенно странно было бы думать, что место твоего проживания или даже место прописки может служить объектом гордости. В этом, писал он, есть даже нечто, совершенно несовместимое с настоящей моралью, тем более социалистической. Гордиться — если уж говорить о гордости — вообще незачем. Или уж тем, что ты сделал для людей, чем ты им помог, — ну и так далее. А так, написал он дальше в своем чертовом сочинении, можно дойти до того, что начнешь гордиться цветом волос или формой носа. Или еще чем. И так далее. Не может и не должен, так писал он, человек гордиться тем, что он ленинградец. Чем он лучше, скажем, того, кто и в жизни в Ленинграде не был. Чем он лучше жителя Курска, Архангельска или какой-никакой деревни. Скажем, есть в Новгородской области деревня Борки. Так чем я должен перед, ними гордиться?
Словом, вот в таком духе. Отверг он такую постановку вопроса. Даже написал, что на месте конкурсной комиссии не стал бы давать даже такую тему. Что она сбивает с толку, неправильно ориентирует ребят… и так далее.
Я до сих пор не пойму, с чего взбеленился председатель этой комиссии, который и потребовал, чтобы с нас в наказание сняли пять очков. Он, по-моему, обиделся насмерть. Он, по-моему, принял на свой счет то место в сочинении, в котором говорилось, что ни один настоящий ленинградец никогда не стал бы гордиться своей ленинградской пропиской. Может быть, он — я имею в виду председателя комиссии — и впрямь приехал в Ленинград недавно. Может, он из-за этого обиделся — из-за чего бы еще? Но так или иначе — именно он заварил всю бучу. Но что самое удивительное — мы ему поверили. Когда он выступал на нашем комсомольском собрании и говорил, как нас подвел Костя, как опозорил и все такое прочее. Мы и вправду были здорово огорчены, что все наши надежды на поездку за границу рухнули в одно мгновение, а председатель доказывал, что обязаны мы этим исключительно такому сочинению. В общем, всей толпой мы навалились на Костю и потребовали от него… Чего мы требовали? Покаяний? Объяснений? Я до сих пор, клянусь, не могу вспомнить об этом без стыда. Что с нами случилось? Мы его просто ненавидели, потому что он не собирался ни каяться, ни объясняться. Но мы все ему припомнили — все и всё — во главе с нашим завучем, Жозефиной, по прозвищу Буйвол, и тем председателем, который даже голос от негодования сорвал. Я думаю, окажись в это время наш директор Б.Б. в школе, ничего бы этого не произошло, но его не было. Так что некому было нас унять, когда мы на Костю навалились. Под конец, мне кажется, мы уже просто согласны были чтобы он хоть просто что-нибудь сказал, но он не говорил. Он стоял и слушал, белый-белый, а когда все завопили, чтобы он сказал что-нибудь в свое оправдание, он тихим-тихим голосом сказал одну фразу.
— Мне, — сказал он, — ничего всем вам говорить не хочется, а поэтому делайте, что хотите.
Нет, все. Не буду больше об этом.
Тем более что очень скоро оказалось, что мы попали пальцем в небо. Это мы поняли в тот день, когда вернулся наш директор. Жозефина ему, конечно, поднесла всю эту историю как огромную победу. Она, Жозефина, вообще-то ничего, только страшно боится всякого вышестоящего начальства, уж не знаю почему, — просто смотреть стыдно, как она извивается перед всякими там инспекторами из гороно, словно мы не самые обыкновенные ребята, а какие-нибудь уголовники, и ей за нас нестерпимо стыдно. Но директор наш, Б.Б., как я уже говорил, был совсем другим. И это понятно — если человек был генералом, всю войну провоевал и орденов имеет столько, что не перечесть, — с чего это он станет перед кем-нибудь лебезить. Ни за что не станет. И он, похоже, вовсе не считал всю эту историю такой уж победой. Он, по-моему, думал даже совсем иначе; так или иначе, он ужасно распсиховался. Никогда еще не видел его таким злым. Прежде всего он позвонил Косте домой и попросил его явиться в школу, потому что после собрания Костя в школу не ходил. Потом Б.Б. отправился в райком комсомола. Никто не знает, о чем он там толковал, только райком не утвердил нашего решения об исключении Кости из комсомола. А потом Б.Б. принялся за нас. Вызывал нас к себе поодиночке и беседовал с нами…
Нет, не хочу даже вспоминать. Лучше думать о чем-нибудь другом. Всегда, как дохожу в своих мыслях до того разговора с директором, теряю всякое желание вспоминать его и каждый раз хочу поговорить о чем-нибудь другом.
Но говорить мне здесь абсолютно не с кем, потому что я лежу совсем один — один в палате. Я здесь, в Военно-медицинской академии, стал чем-то вроде местной достопримечательности, и время от времени ко мне ходят целые делегации. В основном это курсанты, которые занимаются в академии, но приходят и офицеры, которые занимаются в аспирантуре, и просто врачи, и мой врач Василий Васильевич демонстрирует меня с таким видом, словно он меня выдумал. Нет, правда, — я здесь лежу, я подозреваю, потому, что я, может быть, единственный в городе человек, больной малярией. Причем не просто малярией, а в какой-то редкой ее форме, которая на практике не встречалась уже давно, и поэтому все, кто приходит к нам, считают своей обязанностью выразить совершеннейший восторг перед таким явлением. Похоже даже, что они завидуют Василию Васильевичу. Похоже, что они считают, что ему здорово повезло; более того, я почти уверен, они считают, что и мне повезло. Как я понял, малярия вообще стала очень редкой болезнью, почти во всем Союзе она уже побеждена и уничтожена, а в той форме, какая у меня, — и подавно, и медицина дошла до того, что ей хоть выписывай больных из-за границы на валюту, иначе студентам не на чем будет учиться. И тут подворачиваюсь я, и похоже на то, что, будь в этом воля Василия Васильевича, он, для торжества науки, держал бы меня здесь до скончания века, пока все его курсанты не изучили бы меня вдоль и поперек.
Нет, ничего не скажу — жаловаться грех. Режима у меня никакого тягостного нет — ходи, где хочешь, ешь, что хочешь, посещения не ограничены, кормят четыре раза в день, как на убой, и гулять можно в саду, в который выпускают беспрепятственно, — всей работы только, что принимать лекарства да демонстрировать свою желтизну курсантам и аспирантам; но мне это, по совести говоря, уже порядком надоело. И еще одно меня тревожит — вернется ли ко мне нормальный человеческий цвет. Потому что во время всех этих дел — и болезни, которая, как я считаю, у меня давно прошла, и во время последующего лечения и лежания (а я валяюсь тут, совершенно, как я уверен, здоровый) — я ужасно пожелтел. Ну, ужасно — не то слово. Просто пожелтел. Желтый стал, как лимон. Все желтое — руки, ноги, лицо. Все. Как будто так всегда и было. Может быть, это от акрихина, которым меня пичкали без конца, — не знаю. Это меня здорово заботит — вдруг желтизна не пройдет? Василий Васильевич успокаивает меня, но, знаете, даже он не может ничего гарантировать, хоть он и доктор медицинских наук и полковник. Да, сам видел, три звезды на погонах с двумя зелеными просветами — полковник медицинской службы Василий Васильевич Каладзе.
Так он мне представился — в первый раз, когда пришел ко мне в палату. То есть когда я его первый раз увидел, потому что, когда меня привезли — это я узнал потом, — я был в совершеннейшем бреду. Нес всякую чушь и никого не узнавал. Температура у меня была около сорока одного, и, как говорила мне потом нянечка, я вырывался и звал на помощь Геракла и все хотел куда-то с ним идти. Удивительно, правда? Удивительно, как у человека отшибает память. Я этого не помню совершенно. Вся моя память прервалась на том, как Катя наклонилась ко мне и спросила: «А кто такой Эврисфей?» А я еще вспомнил, какая она все-таки глупая, что не хочет ничему учиться (я имею в виду, ничему, что не относится непосредственно к ее занятиям в институте физкультуры и к ее гребле), считая, что раз от этой учебы прямой пользы нет, то нечего и время терять. А потом я вспомнил, что ведь я тоже до поры до времени так смотрел на все это, и сколько стоило труда Косте затащить меня первый раз в Эрмитаж, потому что я один раз уже был там и вовсе не собирался интересоваться искусством. Я собирался, да и сейчас, как я уже говорил, собираюсь стать биологом, и ходил тогда в зоопарк, в кружок юных натуралистов. Мы изучали жизнь и повадки различных животных — от гиппопотама до змей, — и это было здорово интересно, хотя, как сами понимаете, никакого отношения к искусству не имело. Так что Катю вполне можно понять, тем более что не только она одна так думает. У нас половина класса думает так: считает, что надо знать получше математику, там, и физику — вообще все технические предметы, которые придется сдавать при поступлении в институт, а историю, там, или географию можно волочить кое-как, пока не выставят оценки. И даже отец мой придерживается почти того же мнения и долго не одобрял того, что я начал ходить в Эрмитаж. Только мама меня поддерживала, да и то потому, что она считает — плохого здесь ничего нет. Но отец и не говорил, что это плохо. Он считает, что это бессмысленно, потому что времена гуманитарных предметов — считает он — прошли. «Сейчас, — при случае любит говорить он, — век НТР — научно-технической революции, и закрывать на это глаза бессмысленно». Он считает, что эта самая НТР требует и будет требовать все больше и больше математиков, физиков, химиков, биологов и специалистов на стыках разных наук — физико-химиков, физико-биологов и так далее. «Объем информации, — говорит он, — так велик, что невозможно тратить время на что-либо иное, кроме как на прямую специальность. И к этому взгляду на вещи, — говорит он, — надо привыкать уже с детства. Прямо сейчас. Потому что, мол, только так можно стать хорошим специалистом и занять приличное место в обществе».
Надо сказать, что у него, у отца, есть один пунктик. Это — о месте в обществе. У него там разработана целая система, как у Дарвина, — с самого низа до самого верха. Мне, по совести, непонятна вся эта штука. Как-то, сами понимаете, невесело смотреть на сооружение, где ты совсем не виден, потому что где же еще могут быть ученики восьмого класса, как не в самом низу. Я как-то высказался на эту тему, но у отца, оказывается, и это все предусмотрено. «Для того, — говорит, — это все и построено, чтобы человек мог определять свои задачи. Намечать, мол, очередные высоты. И драться за них. За эти высоты». И так далее. Нет, правда, ужасно грустно, что надо драться за высоты, — ведь ты даже понятия не имеешь, с кем тебе придется драться. Может, это отличный парень или девочка хорошая, а тебе надо с ними драться.
Словом, тяжелый момент, хотя не могу сказать, чтобы это было совсем лишено какого-нибудь смысла. То, что говорит отец. А уж он-то сам убежден насмерть, что только так можно чего-нибудь добиться. «Только, — говорит, — если бить в одну точку. Только так».
Не знаю. Только если это так, то непонятно, почему такие очереди в музеи. И в театры. И в кино. Ведь на балетном спектакле не улучшить свои знания по математике. А в филармонии? Туда ведь просто не попасть никогда. А я уверен, что и математики туда ходят, и простые рабочие, и кто хочешь. Вернее, кто билеты достанет. Так что здесь у отца что-то неладно. Чего-то он не учитывает. Ошибается в чем-то. Но удивительно, что он ошибается, потому что человек он умный, это я не потому, что он мой отец. Кроме шуток. И даже не потому, что он защитил кандидатскую диссертацию, — хотя и это тоже показатель. Потому что он занимался в аспирантуре заочно. Без отрыва от производства. Работал на прокладке трасс в совершенно гиблых местах и готовил материалы. Я еще думаю всегда, какое все-таки надо иметь упорство, чтобы заочно учиться в институте, а потом еще в аспирантуре, как это делал мой отец. Он вообще считает, что всем надо бы заниматься только заочно, потому что такую учебу могут, говорит он, выдержать только те, кому высшее образование действительно необходимо. Если, считает он, человек хочет получить образование, то нет такой силы, которая могла бы ему помешать. И при этом ссылается на себя — и тут уж действительно нечем крыть.
Нет, он действительно не совсем обыкновенный человек. И специалист самого высшего класса — иначе, я думаю, его не отправили бы за границу, в Афганистан. Он отвечает там за выбор трассы автодороги, которую потом будут строить специалисты из нескольких стран — Италии, Швеции, ФРГ и наши. А изыскания должны провести только наши — потому что сроки на изыскания дали такие, что ни одна страна не согласилась. Потому что, говорили тамошние специалисты, в такие сроки изыскания провести не удастся — и не удавалось еще никому. Никому в мировой практике. И тогда за это дело взялись наши. Сам министр автомобильного транспорта назначил отца начальником всех изыскательских партий, которые поедут в Афганистан. Всю дорогу они разбили на несколько участков, а координировать работу и принимать окончательное решение предстоит отцу.
Я помню тот день, когда это стало известно. Это было в тот самый день, когда накрылась наша мечта на поездку за границу, я уже говорил об этом. Я пришел тогда домой поздно и был, как вы понимаете, довольно расстроен, так что не обратил даже внимания на многозначительные взгляды, которыми обменивались мои родители. И даже когда мы сели за стол, я просто жевал все без разбора, и только когда стали пить чай и мама сказала: «Ну, что ты скажешь?» — я очнулся, потому что стал смотреть по сторонам, где же находится то, по поводу чего я должен высказать свое мнение, — и оказалось, что это был торт. Но не просто торт, не фруктовый даже, который я люблю больше всех других, и даже не «метро», который больше всех любит отец и поэтому он появляется по большим праздникам, нет. Этот торт был просто громадиной, килограммов в пять весом, явно выполненный на заказ в нашем кондитерском магазине «Юбилейный», что на площади Чернышевского, прямо у Чернышевского за спиной. Тот самый торт, который, если только можно было более или менее доверять фотографиям, висевшим на стене магазина, нравился мне больше всех других, — а их, других, было совсем не мало — штук двадцать, не меньше. Но этот был лучше всех. Он был посыпан сверху чем-то зеленым, так что получалась огромная поляна, вся в зеленой травке, а на поляне резвились гномы — натуральные гномы, в колпаках и кафтанах, одни изогнуты так, другие этак. Да, настоящая лесная поляна из сказок Андерсена, а на ней дюжина гномов.
Тут я, конечно, пришел в себя. Вот уж не думал я увидеть такое чудо у нас на столе. Он стоил уйму денег — рублей, наверное, пятнадцать. И если у нас в доме появился такой торт буквально средь бела дня, потому что мой день рождения уже прошел и больше никаких праздников не предполагалось, если это произошло, то причина должна быть уже совсем выходящая за все пределы. И тут у меня что-то екнуло внутри. Вроде сигнала тревоги. Какой-то голос мне подсказал, что неспроста все это. Я сразу понял, что-то произошло, а с тех пор, как меня забрали из интерната, я не хотел никаких перемен. Мне было так хорошо дома, что мне не нужны были никакие перемены, потому что любая перемена могла быть только к худшему.
— Ну что ты на это скажешь? — спросила мама.
Сказать мне было нечего, да, похоже, не затем она это сказала, чтобы я действительно что-то говорил. Скорее, это было вступлением перед каким-то разговором с их стороны. «Наверное, — подумал я тогда, — наверное, все-таки что-то случилось». Нет, нехорошо все это было, и никакого восторга я не проявил, хотя красивее торта я в жизни не видел.
— Мы с отцом хотим, — говорит мама, — с тобой поговорить.
Вот тут-то оно все и выяснилось. Про их отъезд и всякое такое. Нельзя сказать, чтобы я про все это не слышал раньше. Слышал. И про вызов к министру, и все такое. Только это было словно в книге прочитано. То есть я никак не мог отнести всего этого к себе. Не мог представить, что мои родители уедут. Потому что я тут же должен был ответить себе на вопрос: а что же будет со мной? Взять с собой они меня, ясно, не могли. Там, в тех местах, где и дорог-то нет, — где мне учиться? Но что тогда? Значит, опять в интернат. Но я для себя этот вопрос решил уже раз и навсегда. Я лучше из дома сбегу, а туда не вернусь. Никогда. Значит, один только выход — оставить меня одного. Ну, может быть, на кого-нибудь из родственников. У нас их куча целая — братья и сестры отца, братья и сестры мамы. Только толку от этого — от этого обилия родственников, я хочу сказать, — никакого. Не знаю, почему. У нас это абсолютно не принято — встречаться с родственниками. Одно только исключение — тетя Тоня. Это сестра маминой матери. Так что в принципе она мне просто двоюродная бабушка, хотя она даже на пенсию еще не вышла. Она единственная, кто к нам заходит примерно два раза в год. На дни рождения — мой и мамин. Словом, выбора никакого — только тетя Тоня или оставлять меня одного.
В общем, стали со мной родители говорить. «Как взрослые со взрослым», так они выразились. И как только они мне рассказали всю эту эпопею с отбором кандидатов, как только обрисовали мне те трудности, которые ожидают их в этом Афганистане, так сразу всплыли наши «стесненные обстоятельства», чтоб им провалиться, и то, что основное препятствие к отъезду — во мне. Им не хотелось бы (это им-то не хотелось бы), чтобы у меня омрачилось настроение, но я должен понять, что иного выхода, как интернат, нет. Даже если бы они и хотели меня оставить одного — они не могут. Потому что я — несовершеннолетний, даже паспорта нет, и без присмотра никто не разрешит им оставить ребенка. Ну, и так далее: снова про то, что эта работа — за границей — не только принесет им честь как специалистам, но и «разрешит все наши проблемы», хотя я и не понял, что именно они имели в виду. Я все слушал — и про обстоятельства, и про честь, и про тысячи других предметов, и думал. «За что, — думал я. — Ну за что мне такая судьба. За что…» И когда все разговоры кончились, я им сказал, что я по этому поводу думаю. «Конечно, — сказал я, — если надо ехать за границу — надо ехать. Если есть какие-то обстоятельства — их надо разрешать». Но я сказал им о том, о чем я подумал с самого начала. Я сказал, что в интернат не пойду. Тут отец посмотрел на меня так, как всегда смотрел, когда был чем-нибудь до крайности озадачен. «То есть как, — говорит, — не пойдешь? Как надо тебя понимать?»
Но мне было все равно. Я понимал, что могу даже прилично схлопотать. Нет, отец не трогал меня, потому что у него рука что молот, но когда он сердился — тут уже добра не жди. Поэтому я постарался ему объяснить. Конечно, сказал я, раз у меня нет паспорта, они — родители — имеют надо мною полную власть. Могут со мною делать, что хотят. Они только одного не могут — сделать так, чтобы мне было хорошо там, где мне плохо. А в интернат я не хочу. Это я говорю совершенно точно.
Нет, противный это был разговор. Кончилось это все тем, что я закатил истерику. То есть это случилось само собой. Я заорал не своим голосом — не помню даже что.
Жуткое дело. По-моему, они испугались. Я ведь никогда не плакал. Никогда не кричал ни на кого. И вообще у меня совершенно мягкий характер, но тут я словно с цепи сорвался — днем была эта история с Костей и его сочинением, вечером — этот разговор. Кончилось тем, что я очутился в постели, а родители удалились на совещание. Долго, похоже, им пришлось прорабатывать варианты, но я уже говорил, что выбора у них почти не было. Только тетка моя, которая на самом деле была мне двоюродной бабкой, и вот вариант с Катей.
Но конечно, никакой Кати сначала не было и в помине. Сначала решили, что я остаюсь под присмотром тети Тони. Но всем было ясно с самого начала, что этот вариант нуждается в каком-то подкреплении. Потому что эта самая тетка всегда занята на работе и никто даже приблизительно не может сказать, когда она освободится. Мне-то было совершенно все равно, конечно. Мне даже было лучше, что она так занята, потому что она всю жизнь, я имею в виду свою тетку, прожила одна и стала от этого какой-то странноватой. Она, по-моему, не видела большой разницы между взрослым пятнадцатилетним парнем, как я, и грудным младенцем; для нее, по-моему, они все, «дети», пока они не выходили замуж или женились, были на одно лицо. То есть малышами, с которыми надо ходить на прогулки, рассказывать им сказки, проверять, сделаны ли у них уроки, сходили ли они на горшок и так далее. Это и удивительно, и нет. Это неудивительно, потому что у тетки никогда не было детей, а теперь уже и не будет, пожалуй, потому что ей уже пятьдесят. Но это и удивительно, потому что ей почти уже пятьдесят и она всю войну воевала, а раз так, то должна же она понимать разницу, должна понимать, что я уже вполне взрослый человек. Но она этого не понимает. А ведь ей было всего на два года больше, чем мне сейчас, когда началась война.
Всего на два года меньше, чем Кате. Только Катя хоть ростом метр семьдесят четыре, а тетка — на сантиметр всего выше меня. И что же? Пошла в школу снайперов и всю войну воевала, до самого конца, только в самом конце ее контузило, и она уже не успела вернуться в часть.
Эти ее истории про войну я ужасно люблю слушать, только ее раскачать на них трудно. Она почему-то не любит рассказывать про те времена. Про то, как она охотилась за фашистами. Я в такие времена смотрю на нее, такую маленькую, и никак не могу представить ее с винтовкой в руках. Не могу — и все. И то, как она стреляет, — не могу. Но она не выдумывает. Она вообще, по-моему, не умеет врать. Она всегда все принимает всерьез и всему верит. Помню, как Костя однажды сказал, в шутку, конечно, что, мол, теперь во всем мире ученые ищут способ оживления мумий, — и, клянусь, она поверила.
Нет, она славная тетка, но совершенно не понимает, что человек может врать просто так, из любви к искусству. И сама тоже никогда не врет. Вот почему ей и вспоминать, наверное, трудно, как она воевала и сколько народу выволокла из-под огня. Может быть, она целый батальон спасла или полк. И я уверен, что это, скорее всего, был полк, потому что у нее орденов целых пять штук — два ордена Славы, два — Красной Звезды и один — Красного Знамени. И медалей штук двадцать. Геройская тетка. После войны она оказалась, как я понимаю, в тяжелом положении — орденов много, а образования никакого. Пришлось ей и учиться, и работать, и так она с тех пор и вкалывает.
Я специально употребляю такое слово «вкалывает», потому что никакое другое сюда не подходит. Она проводит там, у себя на работе, по сто часов в день, клянусь. Она у меня инженер-проектировщик, руководитель сектора, но, по-моему, в этом ее секторе она одна только и работает. Я был у нее однажды на работе — это надо самому проверить, что такое бывает. Они все — весь институт, как мне показалось, — сидят в одном помещении. Я таких комнат в жизни не видел. Как Дворцовая площадь, и все — каждый метр, — да что там метр! — каждый сантиметр заставлен кульманами. Кульман, как вы знаете, это всего-навсего обыкновенная чертежная доска, только она не лежит на столе, как нормальная доска, а стоит, и чертят на ней стоя; там есть две линейки, закрепленные под прямым углом, — очень удобно. Так этих кульманов там было больше, чем голубей в каком-нибудь сквере, когда какая-нибудь старушка приходит туда, чтобы покормить их крошками из кулька. Тысячи кульманов — просто лабиринт, и я полдня, наверное, там проблуждал, пока нашел свою тетку. Шум там стоит, как на Киевском вокзале в Москве, чтобы услышать что-нибудь, надо кричать, как сумасшедший, потому что, когда человек чертит, у него, как вы сами понимаете, заняты только руки, а язык весь день свободен. Нет, на самом деле, потрясающее зрелище, и я не знаю, только в этот день так было или в иные тоже, но до черта народу там слоняется из угла в угол с замечательно умным видом, а курильщиков в коридоре — просто не счесть. Жуткое местечко. Я бы за тысячу рублей в месяц, думаю, не стал бы там работать. Не выдержал бы, так я думаю. А может быть, и выдержал бы, кто знает. Человек, похоже, ничего никогда не знает толком, пока не попробует. Но выдержал бы я там или нет, в этом проектном институте, впечатление было дикое. Мне тогда стало ясно, почему тетка никак не может оттуда выбраться, даже после того как рабочий день окончен. Потому что она была одной из немногих, кто был на месте и работал. Уж не знаю, что она там делала, но я смотрел за ней минут пять, и все эти пять минут она даже не разогнулась. А когда разогнулась, когда ей сказали, что я ее разыскиваю, то несколько мгновений вид у нее был совершенно безумный, будто она с луны свалилась. Мне даже показалось, что она меня просто не узнала. Но, конечно, узнала она меня и даже нашла потом пять минут, чтобы отвести куда-то вниз, где была выставка их проектов. И я там, помню, проболтался полдня, разглядывая их проекты, хотя, конечно, для меня это был дремучий лес — все эти горнообогатительные комбинаты, во всех частях страны и во всех частях света, даже в Африке, по-моему. Но все равно это было интересно. Одного только я так и не понял — когда же они успевают эти проекты выпускать, если я собственными глазами видел сто тысяч курильщиков во всех углах, и на лестнице, и в коридорах — везде. Но это, впрочем, не мое дело.
Вот эта-то тетка и была оставлена присматривать за мной. Но мне, говорю я, было все равно. За мной хоть милиционера личного пусть бы приставили. Главное — что можно было оставаться дома.
Денег мне, конечно, никаких не оставили. Купили мне круглогодичный абонемент в школе — пятьдесят копеек в день, а ужинать я должен был с теткой. Вот тут-то и появилась Катя.
Это произошло буквально накануне того дня, что мои родители уехали. Дня за два до того. К этому времени я уже помирился с Костей. Вернее, он помирился со мной. Нет, и это неверно. Он со мною даже и не ругался. Просто мы с ним не виделись некоторое время — то, что он не ходил в школу, пока Б.Б. — наш директор — не вернулся из госпиталя и не прочистил нам всем мозги. И Косте в том числе — из-за того, что, мол, развесил нюни и надулся на весь свет. Это потом уже Костя мне сказал. Вот он, Костя, и вернулся, и все покатилось, словно и не было того гнусного собрания, на котором мы все вели себя как последние идиоты. И я — как все. Будто ничего никогда не происходило, правда.
И только все же я заметил, что для него самого, для Кости, эта история все еще не прошла. Как-то взрослее он стал, что ли. И больше никогда уже не валял вместе с нами дурака, как бывало, — ни в футбол не гонял, ничего. И учиться стал здорово. Раньше ему наплевать было на отметки — получит тройку, потом три пятерки, потом снова тройку, лишь бы по истории все было в порядке. А теперь все предметы стал тянуть. Сидит на уроке, слушает, ни с кем не шушукается, как бывало, а когда вызовут к доске, уже не валяет, как бывало, дурака, а ответит — и на место. И ни с кем в классе не разговаривает, будто никого вокруг нет. Девчонки в него стали влюбляться — слов нет. Даже Ирка Ковалева, первая красавица на всю школу, и то писала ему записочки, но он их, по-моему, и не читал даже. И на школьный вечер в день Восьмого марта не остался. И почему-то это на всех страшное впечатление произвело. Даже десятиклассники говорили с ним на равных.
Такие дела.
Когда весь пыл у меня прошел, я почувствовал себя свинья свиньей. Тем более, говорю, что райком и не подумал утвердить нашего решения, — понятное дело. Более того — и в том деле, с поездкой за границу, все лопнуло. Никто никуда не поехал. Уж не знаю почему, но так и не удалось это дело осуществить — то ли заявки не оформили, то ли еще почему. Но в это время Костя уже не ходил туда. Я имею в виду кружок любителей искусств. Нет, в Эрмитаж он ходил по-прежнему, но не к нам, а в археологическую секцию. Он и раньше ходил туда, занимался сразу и там, и у нас, а после того собрания исчез и больше не приходил, хотя я знаю, что Зинаида его звала. Но он человек гордый — и не пошел. Не сказал, конечно, Зинаиде, что, мол, обиделся, нет. Сказал, что тяжело ходить в оба кружка, и он выбрал теперь один — археологический. Я уже говорил вам, что он был помешан на истории и археологии и клялся, что найдет, где спрятано золото инков, которое они утащили куда-то в горы.
А некоторое время спустя ушла и Наташка Степанова. Она страшно переживала всю эту историю и, когда Костя перестал ходить, все сидела и дергалась. Думала, что вот-вот дверь откроется и он войдет, и поэтому уже не слушала ничего, а только вздрагивала и вертела головой на каждый там стук или скрип, — но он, Костя, так больше и не пришел.
И тогда она тоже перестала ходить. Одна неделя проходит, другая, а ее все нет. И только потом Надя Козлова, ее подружка, сказала Зинаиде, что Степа больше не будет ходить. Надо сказать, что мы все приуныли. Это, если подумать, даже странно. Нас в этом кружке почти сто сорок человек, а вот ушли двое, и стало много скучней. Может, это, кстати, потому, что мы уже не собирались больше у Наташки в ее огромной квартире, а может быть, и не в этом дело. Только стало много скучнее, хотя, конечно, все мы продолжали ходить.
Где-то в это примерно время мы и помирились с Костей. То есть выяснилось, что он и не ругался со мной, несмотря на то, что я вел себя как последний мерзавец. Я как раз достал одну редкую марку из советской серии «Всемирная спартакиада» — синюю, негашеную, ей цена по каталогу сорок шиллингов, то есть пять долларов шестьдесят центов. Я знал, что у него, у Кости, такой нет. И говорю ему, как бы случайно, — не нужно ли ему, мол, такую марку прибавить к своей коллекции. А он говорит как ни в чем не бывало: приходи после уроков, разберемся, что к чему. Вы поняли? И ни слова о всех этих подлых делах, словно я и не поднимал руку за его исключение перед всей школой какие-нибудь три недели назад.
Обрадовался я страшно. Еле дождался конца занятий. Забежал домой, взял все обменные марки, пару каталогов и — дворами — к нему, к Косте. Жутко обрадовался, что кончилась эта идиотская история. Даже набрался храбрости и начал объясняться было. Только он не стал, Костя. Не стал говорить об этом. Он сказал: «Знаешь, — говорит, — меня все это уже давно не интересует. Я, — говорит, — об этом и думать забыл».
Я говорю ему: «Но ты на меня сердишься, скажи?»
А он: «Да брось ты. Я, — говорит, — даже не понимаю, о чем ты. Нет, — говорит, — у меня времени на разные там пустяки. Я сейчас, — говорит, — совсем другим занят».
И тут оказалось, что он записался в секцию академической гребли. На том самом стадионе «Динамо», где его отец работает тренером. Только он работает тренером не по академической гребле, а по плаванию. Можно было бы предположить, что и Костя будет плавать, но он уже переросток. Как, впрочем, и я, да и вы тоже, любой теперь переросток, если ему чуть больше пяти лет. Это Костин отец сам говорит. Они там, в бассейне, чуть ли не с ясельного возраста учат плавать, правда. Такие карапузы, их и не видать вовсе, — а туда же. Совершенно неправдоподобно, но лет в пять они уже плавают двумя-тремя стилями совершенно четко и в соревнованиях участвуют по полной форме, а годам к десяти уже гоняют на первый взрослый разряд. Так что мы с Костей были бы самые что ни на есть форменные переростки, особенно он со своим длинным ростом, — вот он и записался в греблю. И только он начал мне рассказывать (как там интересно и какие соревнования предстоят летом — хотя, как потом оказалось, он никак не мог быть уверен, что его посадят хотя бы в учебную лодку, а пока он вообще ходил заниматься в зимний гребной бассейн: греб в «ящике» — в специальном аппарате для новичков, в который и сам я уселся в скором времени), только он обо всем этом начал рассказывать, как пришел его отец.
— О, — говорит, — Дима! Давненько тебя не было видно. Ты что же это забываешь друзей?
Не помню уже, что я там начал бормотать, а Костя говорит:
— Ты что, забыл? Я же тебе говорил, что он не может. У него родители уезжают за границу.
— Это интересно, — говорит Костин отец. — Ну-ка, ну-ка, рассказывай, какая злая доля лишает тебя твоих родителей.
Ну, я, конечно, рассказал. Начал я вроде бы нехотя, чтобы никто не подумал, что я хвастаюсь, но потом я вспомнил, что Костин отец, Павел Иванович, сам за границу гоняет каждый год со своими пловцами, — недаром мы с Костей обеспечены были жевательной резинкой на целые месяцы. И тут я уже перестал стесняться. Я только успевал рассказывать, еще одно не кончу, а Павел Иванович говорит: «Правда? (Совсем как маленький.) Правда, что они пойдут по безводным районам? Костя, ну-ка неси атлас, посмотрим на их будущее житье-бытье».
Тут Костя принес какую-то затрепанную карту, мы расстелили ее на полу и действительно стали ползать по Афганистану. Отец говорил мне, что они должны будут изыскать трассу дороги на юго-западе Афганистана, от Фараха до Чахансура. И вот мы ползали по полу, как маленькие ребятишки, и кричали наперебой: «Вот он, Фарах! А вот Чахансур! А вот река Хашруд! А вот еще река — Гильменд!» Форменный детский сад. И тут же мы решили, как бы мы провели трассу этой дороги, и в полчаса решили все вопросы, которые моему отцу и всем партиям еще предстояло решать долгие месяцы.
Но кто меня всегда удивляет — это Костин отец. Правда. Он всегда меня удивлял, с самого первого раза, как я его увидел. Он прямо как ребенок — ему все интересно и никогда не надоедает тебя слушать. Это удивительно, но при нем никогда не чувствуешь себя дураком, что бы ты ни говорил. Этого совсем нет, когда говоришь с другими взрослыми, с большинством из них, по крайней мере. Стоит тебе только рот раскрыть, как они всем своим видом дают тебе понять, что им совсем не интересно слушать то, что ты им рассказываешь. Даже если они тебя вежливо слушают. Но поглядишь на их лица и видишь скуку. То есть даже не скуку, а какую-то обязательную вежливость, а на самом деле им глубоко наплевать, о чем ты им толкуешь. А вот Павел Иванович не прикидывается. Каждый может подтвердить, что я прав, — когда человек прикидывается слушающим, а когда он слушает на самом деле — видно всегда. Вот мой отец — он ведь тоже всегда слушает. Но не так, вы меня понимаете? Я в таких случаях никогда на взрослых не обижаюсь. Я их даже понимаю, у них там свои мысли, взрослые мысли о взрослых делах, и так далее, еще неизвестно, будет ли нам самим интересно слушать о ребячьих делах, когда мы вырастем. Вполне может быть, что и неинтересно нам будет. А Павлу Ивановичу — интересно. Косте все-таки очень повезло с родителями. Я, конечно, не жалуюсь на своих, но ему повезло.
Хотя мой отец, скажем, не очень высокого мнения о Павле Ивановиче. Я сам слышал как-то. Это произошло однажды после того, как мы всей семьей ходили к ним в гости — года полтора назад. Все было ужасно хорошо. Мы с Костей прихватили шесть бутылок лимонада и огромный кусок пирога, который сделала его мама, и удалились по своим филателистическим делам, но через стенку мы слышали, как Костин отец рассказывал какую-то историю, и все даже не смеялись, нет — все просто заходились от смеха, а моя мама — та просто выскочила из-за стола и тихо взвизгивала в коридоре за дверью. Нет, правда, — он их всех просто уложил под стол. Костина мама тоже только всхлипывала и в перерывах кричала: «Паша, прекрати!» — потом снова заходилась смехом и снова: «Прекрати, говорю…»
Никогда не видел, чтобы так смеялись. Даже мой отец смеялся, а такого я просто не припомню. И вот когда мы вернулись домой, мать что-то вспомнила — и снова смеяться. «Ну, — говорит, — и артист этот Павел Иванович». А отец на это: «Артист-то артист. А видела, какие у них протечки на потолке?» Мама говорит, при чем тут, мол, протечки. А отец: «При том, — говорит, — что если бы он к своему веселому характеру еще руками поработал, — то было бы совсем хорошо».
Сказать вам по совести? Мне сначала было приятно его слушать. Как-то обидно было мне, что мама так смеялась, — я даже не подозревал, что она такая хохотушка. Я думаю, что и отец оттого так сурово отнесся ко всем этим протечкам — он никогда у нас не шутил. Не такой у него характер. Да, сначала мне это было приятно, а потом я понял, что ничего приятного здесь нет. Дело в том, что я понял уже к тому времени, что каждый человек считает себя правым, а других — нет. И если он, человек, видит, что у другого что-то не так, ему всегда хочется этого человека переделать. Переделать его на свой лад. И если это удается, значит, человек лишний раз убеждается — он был прав. А вот если нет — это плохо. Не вообще — плохо, а тому человеку, который не может теперь решить — кто же прав. Ведь если прав он, то другой человек должен перейти на его сторону, выслушать, что он говорит, и сделать так, как ему говорят. А он, другой человек, к примеру, этого не делает. И значит, тот, первый человек, должен тогда думать — почему второй не делает то, что ему говорят. Ведь прав-то кто-нибудь один. И тут он должен допустить мысль: а что, если он сам не прав? Значит, ему самому надо перестраиваться. Становиться другим. А может быть, он и во всем другом не прав… И тут эти мысли должны такого человека точить и точить, как жук-точильщик точит мебель, пока она не рассыплется в пыль.
Вот мой отец как раз таков. Я понял, что эта мысль запала ему в голову — про протечки и так далее. Он даже несколько раз возвращался к этой теме. «Как, — говорит, — взрослый мужик может видеть, что у него на потолке клякса, и не обращать на это внимания? Это, — говорит, — выше моего понимания. Ведь дело-то, — говорит, — плевое: взять кисть, промыть потолок как следует, замазать аккуратно цементным тестом, дать просохнуть, а потом развести немного мела и той же кистью пройти, сколько надо. А еще лучше — просто перетереть и перебелить весь потолок. Нет, я этого никак не пойму».
Я видел, что это его прямо гложет, и один раз говорю Косте, как бы случайно: «Слушай, — говорю. — Это у вас что — протечка, что ли?» А он: «Да, — говорит. — А что такое?»
— Давай, — говорю, — замажем. А то некрасиво — белый потолок, а на нем — клякса. Надо взять кисть…
— Да знаю я, — говорит Костя. — Эка сложность — затереть. Я бы сам уже тысячу раз затер, да отец не велит. Он ужасно не любит, когда мы вмешиваемся в такие дела. Это у него дело принципа.
— В чем, — говорю, — принцип? Чтобы протечки не убирать?
— Нет, — говорит. — Чтобы не делать это за жилконтору.
И тут я как-то почувствовал, что не так уж это хорошо — прийти к человеку в гости и замечать, что так, а что не так. Я подумал, что каждому надо давать возможность жить, как он хочет. При одном только условии — чтобы другому не во вред. И нельзя к человеку относиться хуже только из-за того, что он на протечки не обращает внимания или относится к ним с точка зрения воспитательной работы с ЖЭКом. Или, скажем, так: если обращать внимание — то уже на все. И тогда отец должен был бы сказать: да-а, с протечками у них неладно, и половицы со щербиной, и кафель отстал, но книг у них не в пример нашему больше, и картины у них по стенам развешаны. Не знаю, что это за картины и какая им цена, — но есть… Да, что-нибудь в этом духе. Конечно, он мог бы прибавить, что никакого порядка и здесь он не заметил, что книги везде — на столе, на шкафах, на серванте, в кухне, в передней и даже в туалете — просто такого места не назвать, где не лежали бы в полном беспамятстве книги: но ведь лучше пусть они будут и лежат в беспорядке, чем если их почти совсем нет в доме, как у нас.
Но отец ничего про это не говорил никогда.
В общем, Косте с родителями повезло. Особенно что мне нравится, это то, что они весело живут. Не весь день, конечно, они сидят и смеются, но, в общем, у них весело. Тепло как-то. Вы понимаете, конечно, что я говорю не о батареях центрального отопления. И я бы сидел у них с утра до вечера, если бы было можно. Как в тот день, когда мы ползали по карте Афганистана.
Потом Павел Иванович спросил, когда мои родители возвращаются с работы. Ему, сказал он, надо с ними переговорить. Я ему успел уже рассказать, что меня оставляют на тетю Тоню, и о ней я успел рассказать, что она работает в своем проектном институте как безумная. И тут он сказал: «Ты, что же, выходит, будешь целый день один?» И еще сказал, чтобы я приходил к ним почаще, а потом подумал вслух: «А может, тебе просто переехать на это время к нам?» И Костю спрашивает: «Ну как ты думаешь, прокормим мы этого джентльмена или не справимся?» Но я-то знал, что из этого ничего не выйдет, что не согласится отец, чтобы я жил у кого-то, когда свой дом есть, но все равно — даже помечтать об этом было приятно. Только я подумал тут же, что вряд ли Павел Иванович предложил бы такое, если бы знал, как я себя проявил в этой истории. Потом-то оказалось, что я и тут промахнулся, — в том смысле, что он все, конечно, знал, но тогда я подумал еще раз обо всех наших «подвигах», и мне стало еще муторнее, чем в тот раз, когда я попробовал начать курить, — просто с души меня воротило от самого себя. В конце концов Павел Иванович сказал, что у него мелькнула одна мыслишка и что он обязательно должен поговорить с моими родителями. «Может быть, — сказал он, — тебе вовсе не придется страдать в одиночестве».
Тут мы отправились в Костину комнату играть в войну оловянными солдатиками, и, пока мы расставляли наши армии, я все думал, что он, Павел Иванович, мог иметь в виду, и пришел к мысли, что, наверное, он хочет предложить нам завести собаку. Но и это, конечно, было обречено на неудачу, потому что мои родители уже не раз и не два отбивали мои просьбы завести собаку. Они почему-то совершенно уверены, что прежде всего собака сожрет всю мебель и всю обувь, а кроме того, ее не прокормить, и сколько я ни умолял их, ничего, конечно, не помогло.
Оловянные солдатики у Кости высшего класса. Ему отец привозил их отовсюду: из ГДР, Чехословакии, Польши. Пехота, артиллерия, кавалерия, танки. Костя достал своего совершенно затрепанного и зачитанного Тита Ливия, и мы разыграли с ним битву при Каннах. Костя был, конечно, Ганнибалом, а я сразу и консулом Варроном, и Луцием Эмилием Павлом. Мы все повторили — у римлян на правом фланге построились римская конница и пехота, в центре — пехота союзников, а на левом фланге — союзная конница, против которой у Ганнибала стояли нумидийские конники.
Вместо метательных орудий мы применили пушки, которые стреляли спичками. И моя артиллерия уже снесла половину карфагенского войска, когда Костя с вероломством, которым всегда отличались финикийцы, бросил в бой слонов. Слоны не сражались в битве при Каннах, это было просто жульничество, но Костя сбегал в большую комнату и приволок оттуда черепаху, которая, конечно же, поползла прямо на мой центр, где и так уже изнемогали легионеры, и пропахала среди войска глубокий ров, полный моих воинов. Мои римляне сражались как звери, но против черепахи были бессильны даже пушки. Тогда я понял, что терять мне нечего, и тоже сбегал в большую комнату и притащил оттуда кота Тимофея. Но поскольку это была кошка, а не кот, она ничего не поняла в тяжелой военной обстановке и принялась играть с моими собственными войсками, так что я и опомниться не успел, как она загнала половину моей конницы под кровать. Правда, надо отдать ей должное, — потом она все-таки поняла, что нельзя так уж решительно отдавать победу Ганнибалу, и принялась за его конницу, но как-то бессистемно, а Костя тем временем притащил ежа, от которого кошка исчезла мгновенно, и участь Луция Эмилия и римского войска была решена. Я потерял в этом сражении сорок пять тысяч пехотинцев и две тысячи семьсот всадников, и еще три тысячи пехоты попали в плен на поле боя. Все-таки этот номер с черепахой был исключительно нечестным, и, пока мы убирали погибших, а потом пили чай с черносмородиновым вареньем, я все думал о том, что как тут ни суди, а Ганнибал все-таки вел несправедливую войну, ведь он залез на чужую территорию, и сколько Ганнибал ни одерживал блестящих побед, все равно он проиграл эту войну, и Карфаген в итоге был разрушен.
И еще этот день запомнился мне не только тем, что после него в числе моих опекунов появилась Катя, но и тем, что я прочел одно стихотворение, которое с тех пор я люблю больше всех остальных. Мы уже напились чаю, и разобрали все марки, и успели сделать уроки, и провели два тура вольной борьбы, причем уронили на пол настольную лампу и чуть не опрокинули шкаф, — и тут мне захотелось что-нибудь почитать. Я пошел к полке с книгами и взял одну наугад — простенькую темно-зеленую книжку, на обложке которой было написано: «Ду Фу». Мне, я еще помню, показалось это очень забавным, потому что слова эти, я был уверен, не имеют никакого смысла. И я уже решил отложить, а потом открыл и тут сразу же увидел это самое стихотворение, и я его вам сейчас прочитаю, чтобы и вы поняли, что это такое.
Стихотворение называлось «Одинокий дикий гусь».
Дикий гусь одинокий Не ест и не пьет. Лишь летает, крича, В одинокой печали. Кто из стаи Отставшего спутника ждет, Коль друг друга они В облаках потеряли? Гусю кажется — Видит он стаю, как встарь. Гусю кажется — Где-то откликнулась стая. А ворона — Пустая, бездумная тварь, Только попусту каркает, В поле летая.Вы поняли, что это за стихотворение? Я просто обмер. Никогда и ничего я не слышал о Ду Фу, ни от кого на свете. Нет, я просто чуть не заревел в полный голос. Про все забыл, что домой пора идти, что родители через несколько дней уедут на два года. Сижу и читаю снова и снова — и с каждым разом оно, это стихотворение, нравится мне все больше и больше, — так, что я уже через десять минут знал его так, словно оно было вырезано у меня в мозгу. Словно я всю жизнь его знал, и трудно было даже подумать о том, что еще десять минут назад я не имел никакого представления о Ду Фу. Я даже вспотел, ей-богу, и даже страшно стало мне подумать, что я мог бы случайно вытащить совсем другую книжку, а на Ду Фу не обратить никакого внимания.
И как-то так грустно мне стало, что я распрощался и пошел домой, а когда шел дворами, вдруг почувствовал себя совершенно одиноким, как тот дикий гусь, который отбился от стаи и теперь все кружит над одним местом, — не потому, что не знает, куда ему лететь, а потому, что думает все время: ну как там они без меня, наверное, уже спохватились и будут искать, и поэтому нельзя отсюда улетать. И вот он все кружит и кружит и не знает, что вся стая уже далеко-далеко и ему не догнать ее никогда.
И вдруг я заплакал. Вы не поверите — я никогда не плачу. Даже когда мне зашивали пропоротую стеклом ногу. Даже когда мне однажды коренной зуб пришлось рвать без наркоза, когда раздался противный звук, словно не зуб выходил из челюсти, а ржавый гвоздь из доски, — и то я не плакал, честное слово. А тут стою, и слезы так и катятся, и я ничего не могу с собой сделать. Поэтому я и домой сразу не пошел, а решил пройти через парк; и полчаса, наверное, ходил по нашему парку Победы, пока успокоился; походил по замерзшим прудам, где из-подо льда торчат засохшие камышинки, прошелся по аллеям, таким пустым, словно по ним никогда не ступала нога человека, а потом целую вечность стоял и смотрел, как маленькие ребятишки съезжают с ледяной горки — кто на санках, кто на дощечках, кто на собственном пальто, — и впервые, кажется, за всю жизнь я пожалел, что у меня нет ни сестры, ни брата.
Наконец я замерз так, что перестал чувствовать кончики пальцев. И тогда, снова по аллеям, засыпанным мягким, не слежавшимся еще снегом, мимо прудов, мимо застывших деревьев я побрел домой.
Я вошел в ту минуту, когда мой отец разговаривал по телефону с Павлом Ивановичем, и, судя по тому, что он сказал «а вот и он сам», я понял так, что разговор идет обо мне. Но я, похоже, ошибался, потому что, кроме этого короткого восклицания, обо мне больше упоминания не было. Я слышал, как они — мой отец и отец Кости — долго еще о чем-то толковали, а потом тот же разговор продолжался между отцом и мамой, и долго-долго раздавались всякие «а что, если он» и «а что, если она». Так что я понял в конце концов, о чем идет речь. Для этого мне пришлось вспомнить, как Павел Иванович сказал об идее, которая у него родилась, и идея, оказывается, была в том, чтобы в освободившуюся комнату, когда мои родители уедут, пустить кого-нибудь жить, и, насколько я мог понять, мои родители ничего против этого не имели. Я вообще-то подумал, что они могли бы — хоть для приличия — спросить меня, хочу я или нет, чтобы в нашей квартире жил еще кто-нибудь, но им, моим родителям, эта мысль, похоже, и не приходила в голову. Их беспокоило совсем другое — кого пустить в нашу маленькую комнату, где обычно жил я, — девушку или какого-нибудь парня. Я уже засыпал, а они все говорили и говорили, и я никак не мог понять, из-за чего сыр-бор, и тут до меня донеслись снова какие-то отрывочные слова, и я понял, что на этот раз сыр-бор был из-за меня. Но вы очень ошибетесь, если предположите, что моих родителей беспокоил вопрос, с кем мне будет веселее оставаться. Вы чертовски ошибетесь. Их беспокоил совсем другой вопрос, и когда я понял это, мне стало сначала стыдно, а потом так смешно, что я уже позабыл, что несколько часов назад плакал, стоя во дворе.
Потому что, как я понял, мои родители обсуждали вопрос о моей безопасности. Вы поняли? Они, оказывается, ужасно боялись, как бы со мною чего не случилось. Нет, правда, — я ужасно развеселился, а они — там, за стенкой — совершенно серьезно обсуждали, при каком варианте мне угрожает меньшая опасность. При этом мама говорила, что лучше все же поселить девушку. Уж если она и будет водить парней, то уж, во всяком случае, не столько, сколько девчонок может привести парень. Да и вообще все-таки стыдливость более свойственна женщинам. А поскольку тут время от времени, как она надеется, будет все же появляться моя тетка, то уже и вовсе опасность сводится почти к нулю… И в то время, как она это говорила (часть я слышал, а часть нет), и в то время, как отец что-то отвечал ей своим басом, я лежал, закрывшись с головой, чтобы не заржать во все горло, — так меня душил хохот. Потому что если бы послушать это со стороны, то можно было бы точно решить, что речь идет о годовалом младенце, который в первый раз в своей жизни спросил, откуда берутся дети, и вот ему теперь надо рассказать сказочку об аистах и капусте. Нет, это просто помереть можно со смеху, как мало родители знают о своих детях, и я уверен, что у них, у моих, в частности, родителей, вытянулись бы лица, если бы они узнали или догадались о том, что мы знаем на самом деле. Я не говорю сейчас о похабщине, что пишут испокон веков на стенах уборных. Я не говорю уже об уроках биологии, где все эти самые процессы оплодотворения и зарождения нам объясняли и рисовали по десять тысяч раз за урок. Но ведь о том, что я несколько лет проторчал в этом проклятом интернате, они что — забыли? Да там, как только погаснет свет и прекратится битва подушками и полотенцами, — обязательно кто-нибудь из ребят постарше тут же заведет разговор о девчонках. Там были самые разные разговоры, и много было интересного, хотя я и не все тогда понимал. Но это было тогда. А теперь мне пятнадцать лет — неужели непонятно, что я знаю уже все. Кроме, скажем, одного, самого последнего. Да и то потому — но это, может, я сам себя убеждаю, — что я ужасно боюсь попасть в какую-нибудь историю. Это вообще-то совершенно точно — боюсь. А кроме того, мне не очень хочется. Потому что после этого надо жениться, а мне как-то не хочется сейчас жениться, правда. И вообще я стараюсь от девчонок держаться подальше, но это вовсе не значит, что я грудной младенец, как об этом думают мои почтенные родители. Представляю, что бы они сказали, если бы знали, как мы целовались во время этого Нового года. Просто как безумные, черт знает, что на нас напало, особенно на девчонок. Мне-то, по правде, было все равно, целоваться или нет — эка невидаль, но девчонки просто с ума посходили. В таких случаях с ними, я понял, лучше не спорить. Мы собрались у одной девчонки, у Лены Уфимцевой — тихой такой девочки и довольно хорошенькой, только она вся в веснушках. Ее родители уехали до утра куда-то, и вся квартира была в нашем распоряжении. И вот мы принялись валять дурака, играть во всякие игры и в том числе в «бутылочку». Ну, это каждый знает… В общем, сначала мне выпало целовать Трофимову, — и, клянусь, в этом ничего хорошего не было, потому что, во-первых, она выше меня на три метра, а во-вторых, ей вовсе не со мной хотелось поцеловаться, а с Толей Макаровым, так что мне пришлось стать на цыпочки, а она, Трофимова, подставила щеку — и поскорее на свое место. А потом уже Деминой выпало меня поцеловать, и тут мне было очень интересно, потому что она член нашего школьного бюро комсомола, а кроме того, в течение всего года она нас с Костей прямо изводила своими ябедами, и вообще она жуткая воображала, хотя и неизвестно, отчего. Но кто бы мог подумать — она, Демина, так прямо и чмокнула меня промеж глаз, а когда все закричали, что это не в зачет, что это нечестно, она, не моргнув, объявила, что поцеловала меня по-матерински. Ну и змея! Ну и так далее все продолжалось — сначала при свете, а потом, словно случайно, его потушили, и тут уже я не знаю, что происходило, только было во всем этом что-то пошлое, а что — не могу сказать. И вот тут произошло одно событие, о котором не стоило бы говорить, но я скажу, потому что дурного тут ничего нет. Мне надоело, по правде говоря, слушать, как наши безумные ребята возятся в темноте, точь-в-точь как поросята, а кроме того, у меня вдруг жутко заболела голова — так всегда у меня бывает, стоит мне сделать хоть глоток вина, и я потихоньку отвалил в другую комнату. Сказать по чести — я просто хотел поспать, завалиться куда-нибудь подальше и задрыхнуть, — и только пробрался в самую дальнюю комнату и хотел было уже свалиться на диван, как понял вдруг, что в комнате кто-то есть. Так оно и было — кто-то стоял у окна, за портьерами, и когда я подошел, то увидел, что это Ленка, та самая, с конопушками. Стоит ко мне спиной, а когда я подошел, то сказала: «Дима, это ты?» Я просто обомлел. А она как ни в чем не бывало: «Смотри, — говорит. — Смотри, как красиво».
И правда красиво было, до обалдения. Какой-то зеленоватый лунный свет — и мелкий-мелкий сверкающий снег, нет, чертовски красиво, на самом деле. Но я все еще никак не мог понять, как это она поняла, что это я, а не кто-нибудь другой. И тут я взглянул на нее, на Ленку, искоса — и просто обмер. Клянусь, она была просто красавицей, черт бы меня побрал, — тоненькая, прямая, и вся какая-то натянутая, как струна, и я только через тысячу лет вспомнил, что она имеет первый взрослый разряд по гимнастике, но тогда мне, клянусь, было не до гимнастики, потому что я смотрел на нее не отрываясь и мне казалось, что я вижу ее в первый раз. Ресницы у нее были — в полметра длиной и густые, как махровая гвоздика… И вообще она мне кого-то страшно напоминала, чье-то лицо из эрмитажных картин, но я даже и тут не успел сообразить, чье, потому что во мне что-то лопнуло и вдруг стало внутри тепло-тепло, а потом я словно увидел себя со стороны — увидел, как поворачиваю ее к себе и целую. Я до сих пор об этом не могу забыть — во-первых, как я решился, а во-вторых, не могу забыть, как это все было хорошо. Не понимаю, как я решился ее поцеловать! Но может, это был и не поцелуй вовсе — то есть, я имею в виду — не настоящий поцелуй. Потому что я только успел прикоснуться к ее губам — и все. Они были удивительны, Ленкины губы, они были упругие и холодные в тот момент, когда я приблизился к ним настолько, чтобы понять это, но в следующее же мгновение они словно отошли, как-то раскрылись и дрогнули. И уже не были холодными. Черт знает когда, за такую малость, они потеплели и стали такими нежными, что у меня до сих пор мороз по коже, стоит мне только вспомнить об этом. Но все это длилось одну секунду.
И тут я понял, что стою с закрытыми глазами. Сам не знаю, когда они у меня закрылись и почему. И я открыл их. И увидел, что у Ленки они тоже закрыты, и так она стояла, словно там, за опущенными веками, вглядывалась во что-то, видное ей одной.
Но самое удивительное было не это. Удивительнее всего было какое-то прекрасное ощущение. Вы понимаете, о чем я? В этом не было ничего пошлого. Все было чисто, без всякой грязи — как если бы я поцеловал маленького ребенка, маленькую девочку. И в то же время совсем другое — не так, когда целуешь ребенка, — но так же хорошо.
Но тут я оплошал. А может быть, и нет — не знаю. Я уже говорил, что стоит мне хотя бы пригубить вино, как на меня нападает дьявольский сон. Словно клею мне в глаза наливают. И вот после всего этого — я имею в виду, после того как мы с Ленкой так славно поцеловались, — я вдруг понял, что если я через полсекунды не попаду на диван, я усну просто на полу, здесь, у окна. Можете смеяться, если хотите, но так оно и было. И я сказал: «Лена. Ты не сердись. Можно, я прилягу? Я лягу на этот треклятый диван и хоть на десять минут закрою глаза. А ты — если ты только не против — посиди рядом. Ты только не сердись, ладно?»
Да, не знал я тогда, что это за человек. Это сейчас, когда я узнал ее поближе, я понял, что это была за девчонка. Куда мы все эти годы смотрели? Я говорю — была, потому что через несколько дней она уедет из Ленинграда в Кириши. Вместе с родителями. Они у нее какие-то химики, черт бы их побрал, а там, в Киришах, строится какой-то химический комбинат. Где, спрашиваю, были наши глаза все те годы, что мы вместе учились. Это только теперь мне стало ясно, какого мы сваляли все дурака, — ведь мы же не обращали на нее никакого внимания. И все из-за веснушек, чтоб нам провалиться. Но я сам-то узнал о том, что она за человек, только после того случая, о котором я рассказал, а тогда я еще не знал ничего, разве только, что я о том, что произошло, не забуду никогда, проживи я хоть триста пятьдесят лет.
Но удивила она меня сразу. Она не стала ничего говорить, по ней незаметно было — ни тогда, ни потом, — помнит ли она, как хорошо все было, считает ли она вообще, что что-то было, — ничего нельзя было увидеть. Это можно было только ощутить — я это мог ощутить. И впервые я ощутил это сразу. Потому что она нисколько не удивилась моим словам. Не стала изображать какое-нибудь оскорбленное самолюбие и так далее. Она и в самом деле почувствовала, что я действительно валюсь с ног, и просто сказала:
— Конечно, ложись. — А потом еще: — Подожди, я достану подушку. — А потом, когда я уже лежал и проваливался, проваливался, проваливался: — Подвинься. Вот так. Я тебя разбужу, не бойся. — И еще: — Дай мне руку. Вот так. — И уже последнее: — Спи.
— Спи…
И он уснул. Ночь была теплая, и костер был не очень даже нужен, но, конечно, он не был лишним. И, поворачиваясь во сне то на один бок, то на другой, мальчик плыл в густом и сладком тумане усталости и здоровья, и ночь казалась лишь мгновением, потребным для того, чтобы закрыть и открыть глаза. А когда он проснулся, солнце — Гелиос — стояло уже высоко, и вовсю пели птицы, и вкусный запах жареного мяса шел от горячих угольев, а через листву — можно было даже не раздвигать ветви — были видны вдалеке еще, но отчетливо и ясно, темные, непомерной высоты стены Микен.
Вот они и вернулись.
Сколько раз за эти годы мальчик представлял это мгновение. Сколько раз вспоминал он, как медленно, постепенно понижаясь, но не исчезая, долго-долго видны были — стоило лишь обернуться — эти темные стены, когда он едва не рысцой поспешал за широко шагающим Гераклом. И потом, во время долгих скитаний, засыпая у костра — такого вот, как сейчас, приятно согревающего теплой ночью, или дрожа от холода в сырой и темной пещере, или бредя по щиколотку в обжигающем песке, где яйцо становилось крутым за десять минут, — сколько передумал он о том, что оставил по собственной воле: надежные стены, добрых друзей, Эврисфея, великого ученого и царя, рисующего свои теоремы на грифельной доске, — и все остальное в придачу. Но ни тогда, ни сейчас, ни в минуту самой страшной опасности, когда жизнь висела на волоске, он ни разу не пожалел о своем решении.
И вот он вернулся. Теперь он уже не был легконогим шустрым мальчишкой, который некогда догнал Геракла и сказал, как мог бы сказать только ребенок: «А ну-ка, согни руку». Он вырос за эти годы, вытянулся и окреп и напоминал сейчас молодое деревце, которое со временем обещало превратиться в могучее создание природы. Теперь он умел не только быстро бегать. Годы, проведенные бок о бок с величайшим воином мира, не прошли бесследно. В короткие минуты отдыха его великий покровитель охотно делился с ним всем, что узнал он сам и чему научили его бессмертные боги; теперь мальчик, которого никто не называл уже иначе, как Гомер, научился всему, что могло ему пригодиться в этой полной опасностей жизни. Он научился метать копье в цель. Он умел затачивать наконечники из бронзы таким образом, что они, входя в тело животного, не давали копью выпасть и причиняли жестокую боль. Если надо, он мог быстро заменить тетиву на луке, сменить оплетку, устранить обрыв. Он мог обмотать седло — то место, куда вставлялась стрела, он мог сам изготовить древко стрелы, протащив кусок прямослойного дерева последовательно через восемь уменьшающихся отверстий фильер. Он мог починить наконечник стрелы и сменить хвостовик, он научился стрелять навскидку, целясь по кончику стрелы, он мог попадать в цель с колена, на скаку, верхом. Он мог объяснить разницу в выпуске азиатским методом и европейским, и дело дошло до того, что однажды во время очередной тренировки он едва не обстрелял Геракла — и не сделал этого лишь в последней серии. Кроме того, он познал премудрости сражения мечом и щитом, он научился по форме щита отличать различные народы задолго до того, как они успевали раскрыть рот. Он выучил различные виды борьбы — и тут немыслим был лучший специалист, чем Геракл: он показал мальчику борьбу классическую, с захватами и работой на туловище, и борьбу вольную, с ее многочисленными захватами, подножками, подсечками… Геракл вообще был помешан на борьбе, и, не будь он обязан доводить начатые предприятия до конца, он непременно основал бы школу борьбы — это была его заветная мечта. «Чистое дело», — говаривал он, припечатывая очередного противника к земле. Да, за эти годы мальчик хорошо узнал великого Геракла, этого наделенного чудовищной силой ребенка, этого непобедимого борца, обладавшего нежными, как у девушки, руками, когда надо было укачать младенца, — теми самыми руками, которыми он на спор вдавливал в бревно металлический гвоздь по самую шляпку, а затем вытаскивал его оттуда.
Но даже это не было самым главным, самым важным.
Самым важным, самым главным был он сам — такой, каким он стал за эти годы. Где только не побывал он на пути в страну Гесперид, шагая вслед упрямо согнутой спине Геракла. На севере, где дыхание замерзало, едва успев вырваться изо рта, и на крайнем юге, где от жары гортань казалась сделанной из наждака и кровь только что не закипала. На востоке, где в жертву кровожадным божествам в чрево медного идола, раскаленного докрасна, бросали живых людей, и в стране, где богами были крокодил и кошка, козел и корова. И все это: пестрые картины, говор, наречия, которые он усваивал со свойственной ему быстротой и основательностью, чужеземные обычаи и легенды, предания, сказки, литературные создания отдельных людей и незапамятно-древние мифы исчезнувших уже давно с лица земли народов — оседало и оседало в его восприимчивой и открытой всему новому и необычному душе, как плодородный ил разлившихся рек оседает на полях, ожидающих плуга. Да, поле его души было плодородным полем. Плугом было его любопытство, а в борозды, пропаханные случаем, все падали и падали семена мыслей, которые были вложены в него, оказывается, давным-давно Эврисфеем, который, не уставая, твердил ему одно и то же, такое знакомое и такое надоевшее: «Учись — и думай. Думай — и учись».
Он даже не заметил, как они пришли. Он столько думал об этом, но как они прошли сквозь Львиные ворота, никем не встреченные, пристроившись в хвосте какого-то каравана, он даже не заметил. Он пришел в себя, только когда они, сопровождаемые десятком любопытных мальчишек, подошли ко дворцу и приказали доложить о своем прибытии царю. Привратник выслушал их, что-то пошептал на ухо слуге, вертевшемуся тут же, — и слуга исчез, чтобы вскоре появиться снова. Теперь уже он пошептал что-то на ухо привратнику; тот покивал, но не стал отворять ворота, а отомкнул на боковой калитке огромный замок. «Проходите, — сказал он хмуро и окинул взглядом их пропыленные плащи. — Могли бы хоть рожи сполоснуть…»
Верткий слуга, не говоря ни слова, замелькал впереди. Что-то неуловимо изменилось во дворце, который мальчик, живя здесь, знал как свои пять пальцев, но что это были за изменения, он понять не мог. Они долго петляли среди извивающихся коридоров, пока слуга не сказал: «Вам сюда».
И исчез.
Они стояли в недоумении, и кто знает, сколько бы они еще переминались с ноги на ногу, если бы из-за портьеры, закрывавшей проем, не раздался такой знакомый мальчику голос царя:
— Да входите же наконец.
Они вошли. Эврисфей стоял к ним спиной возле странного сооружения, похожего на человеческую фигуру без головы. В руках у царя был сосуд, похожий на ковшик. Вот он поднял руку, сунул какой-то предмет в отверстие странного сооружения, вслед за этим раздалось бульканье, и в ковшик, урча, потекла вода.
— Видели? — воскликнул Эврисфей и обернулся. Лицо его с большими отечными мешками под глазами сияло. — Вы видели? Работает, как часы… Послушай, Геракл, у тебя есть обол? Дай мне, а то я перекидал уже все свои монеты.
Геракл, который смотрел на все это остолбенев, пришел в себя.
— Великий царь, — начал он, откашлявшись, — великий царь…
Но Эврисфей с досадой замахал на него рукой.
— Можно без формальностей, — сказал он и повторил нетерпеливо: — Дай же мне обол. О Зевс, как ты медлителен, как же ты успеваешь справляться со своими противниками…
Мальчик смотрел и узнавал все — этот резкий, насмешливый голос, эти быстрые, точные движения, эти насмешливые интонации. Что-то теплое поднялось у него в груди, и совсем по-детски защипало в носу. Он тоже сделал шаг вперед и сказал, в свою очередь:
— Великий царь Микен…
Быстрый, как молния, взгляд.
— А, малыш Майонид. У тебя тоже нет обола? Есть? Давай. А теперь смотрите. Вы присутствуете при испытании первого в мире автоматического устройства для продажи воды. Да перестань ты пялиться на меня, Геракл. Я знаю, знаю, ты хочешь по всей форме доложить, что ты совершил свой последний, двенадцатый подвиг. Считай, что ты доложил по полной форме. Принцип действия автомата предельно прост. Он действует по принципу коромысла — ты не забыл, малыш, как работает подобное устройство? Геракл, если ты не положишь вон в тот угол свою дурацкую дубину, я решу, что ты и вправду поглупел у меня на службе, а это был бы первый случай такого рода. Так, смотрите: вы бросаете медный обол вот сюда, он давит на уравновешенное плечо, которое другим концом закрывает отверстие крана, второе плечо поднимается, и весь объем воды между поднявшейся пробкой и отверстием устремляется в сосуд. Вот так.
И он поднял наполнившийся ковшик.
— Это изобретение, — сказал он небрежно, — которое я сделал несколько месяцев тому назад, — случайно сделал, должен признаться, — будет приносить ежегодно доход в триста шестьдесят таланов меди. Я не говорю уже о том, что любой из владык южных стран отдаст за такой автомат, чего бы у него ни запросили. Вы вполне можете считать, что из крана в данном случае у вас льется не вода, а чистая прибыль — стоит только объявить все источники принадлежащими государству. Ну, ладно, — прервал он себя. — Ты, я вижу, не успокоишься, Геракл, пока не настоишь на своем. Где мое кресло? Вот оно. Малыш, подай мой скипетр. Великий царь Микен Эврисфей слушает тебя, Геракл. Начинай.
И Геракл начал. Он говорил медленно. Эврисфей сидел на троне, прикрыв глаза.
— Выполняя твой приказ, — говорил Геракл, — мы посетили много стран. Мы были на севере и юге, на востоке и, наконец, согласно указаниям всевидящего Нерея, отправились на запад. Наш путь был труден. Много препятствий должны были преодолеть мы на этом пути, выполняя твое приказание. У берегов Понта Эвксинского мы попали в бурю и едва спаслись. В стране гипербореев мы только чудом не замерзли. Это было неподалеку от реки Эридан.
— Там, кажется, ты и имел беседу с одним из семи величайших мудрецов света Нереем?
— Да, великий царь. Он-то и сообщил нам, что мы сбились с пути. Надо сказать, — добавил Геракл совсем другим, неофициальным тоном, — надо сказать, что мы здорово сбились с пути. Но, — продолжал он снова торжественно, — ведомые волею отца нашего Зевса, мы направились в Ливию, где на нашем пути…
— Да, — живо перебил Геракла Эврисфей. — Это была славная страница ваших подвигов. На вашем пути, хочешь сказать ты, Геракл, встретился чемпион в абсолютном весе Антей — и, похоже, это был один из твоих самых тяжелых поединков, не так ли?
— Он применял запрещенные приемы! — крикнул мальчик. — Если бы ты видел это, великий царь. Все судьи были местные, и конечно…
Эврисфей погрозил ему пальцем.
— Помолчи, — сказал он. — Разве я не учил тебя, что перебивать взрослых — просто невежливо. Продолжай, Геракл. Ты действительно совершил чудо в этом поединке. Пожалуй, никто не держал на тебя пари даже на равных. А?
— Он был сильным борцом, — признал Геракл. — Вообще-то, вся эта затея была мне ни к чему. Но ему — я имею в виду Антея — обязательно нужно было блеснуть. У него весь авторитет держался на этом. Надо сказать, что такого тяжеловеса я еще не видел. Его захват обеих рук был почти без изъяна. Только резкости ему не хватало. Ну и, конечно, малыш прав — судьи там все были подкуплены. Впрочем, их не надо было даже подкупать — они все были местными, они были подданными Антея — где же тут было ожидать объективности. Зрители просто сходили с ума, когда он бросил меня через бедро в первой схватке. Фу, даже сейчас пот прошиб — я не ожидал от него такой прыти.
— А разговоры, будто он набирается сил от земли?
Геракл вздохнул.
— Это правда. Я слышал об этом раньше, но не мог поверить. Да и малыш сказал мне, что этого не может быть, что это противоречит научным данным. Я долго наблюдал за ним, и, поверишь, этот правдивый секрет оказался до смешного простым.
— Так обычно и бывает с секретами, основанными на недоразумении, — заметил Эврисфей. — Что же это было на самом деле?
— Он просто отдыхал! — воскликнул Геракл. — Я же говорил тебе, что ничего подобного я еще не видел. Он весил по меньшей мере четыре центнера, и когда он уставал — он попросту садился на землю и отдыхал. Он сидел, как овощной бурт, и ты мог делать с ним все, что хотел, — и так продолжалось, пока он действительно не набирался сил. А когда это случалось, он вскакивал и, совершенно свежий, дожимал любого противника. А при тамошнем судействе его сидение на земле вполне проходило, как борьба в партере.
И Геракл вытер пот со лба.
— Пришлось его придушить, — сказал он скромно.
— Он поднял его на вытянутые руки, — снова не вытерпел мальчик. — Он поднял его на вытянутые руки и держал так, пока у Антея изо рта не полилась кровь и он не задохнулся. Мы, конечно, тоже сделали ставки, и если бы в этой проклятой Ливии, где рогатыми агнцы родятся, существовало бы хоть какое-то подобие справедливости, мы должны были унести оттуда все, что там было, вплоть до глиняных чашек. Но там такое поднялось, что мы еле ноги унесли, сам понимаешь.
— «Где рогатыми агнцы родятся» — это что такое?
Мальчик покраснел.
— Это так, — сказал он. — Это мне пришло в голову однажды, когда мы не могли уснуть в пещере. Помнишь, Геракл? Мне пришло вдруг в голову, что не худо бы придумать какую-то другую форму рассказа, чем та, которой мы пользуемся сейчас во всех случаях. Ты понимаешь меня, великий царь? Нужно чем-то задержать внимание слушателя, а это можно сделать только при помощи формы — подобно тому, как сосуд удерживает налитую в него воду. И тут я попробовал передать свои впечатления такими вот длинными ритмичными фразами… Я еще не понял, что из этого получится, но меня все это ужасно интересует. Дело в том, что меняется весь смысл сказанного. Ты можешь просто сказать про то, что настало утро: «Ночь прошла, и горизонт порозовел» — и это будет верно. Но ты можешь сказать про это и так: «Эос, покинувши рано Титона прекрасное ложе, на небо вышла сиять для блаженных богов и для смертных» — и это, по смыслу то же самое, звучит совсем иначе. Вот об этом я тебе и говорю.
— Это что-то новое, — задумчиво сказал Эврисфей. — Внутренний ритм… да, малыш, ты меня озадачил. Кажется, ты сделал открытие не менее интересное, чем мой автомат для продажи воды. Как ты сказал: «На небо вышла сиять для блаженных богов и для смертных»? Немного длинновато на мой вкус, но ритм отменный…
— Мне дадут досказать или нет? — сказал совершенно забытый Геракл.
— Эос, покинувши рано… Конечно, — сказал Эврисфей. — Конечно, мой великий родственник. Рассказывай все, как было. Но если верить тому, что подсказывает мне сейчас сердце, открытие, которое сделал наш маленький Майонид, — ах, да, ты ведь зовешь его Гомером — клянусь, оно, похоже, затмит все наши с тобой подвиги. Да и сами наши подвиги смогут, пожалуй, сохраниться лишь в его пересказе. Но продолжай, продолжай, Геракл… Пора нам покончить с этой стороной дела.
И Геракл продолжал. Он рассказывал долго, и слова его были просты и неприхотливы, как и он сам. Он рассказывал о долгом пути через Египет и о вероломстве тамошнего царя Бусириса, чуть не принесшего их в жертву, чтобы спасти страну от неурожая. Он рассказывал о многих других приключениях, приведших его наконец на край, света, к прекрасному саду Гесперид, в том месте, где брат Прометея, Атлант, согнувшись, поддерживал край неба, и о том, как довелось ему, Гераклу, на несколько минут заменить Атланта, — но он ничего не мог рассказать о своих ощущениях, о том, как дрогнули его колени, вздулись жилы на лбу и прервалось дыхание, когда немыслимая, непередаваемая тяжесть навалилась на него и стала медленно и неуклонно прижимать к земле, сгибая его, сгибая все сильнее и сильнее, как сгибает человека сама судьба, пока Атлант не вернулся, неся в огромной ладони три золотых плода. Нет, ничего из испытанного им не мог передать великий герой, но Эврисфей даже не попытался спросить его об этом. Он смотрел на мальчика и видел, как непроизвольно движутся его губы, не потерявшие еще детской припухлости, и он понимал: все то, о чем не сумел сказать великий герой, — скажет этот мальчик. И сказанное им переживет, быть может, и его самого, и Геракла, и уж, конечно, его, великого царя Микен Эврисфея; переживет его труд о бабочках, который современники не в силах оценить, переживет его заботы по разведению высокопородистых поголовий крупного рогатого скота, который, в случае войны, станет добычей победителей или пойдет под нож для прокорма осажденных… Все переживет слово, отлитое в твердую, но вместе с тем и такую подвижную, что она кажется живой, форму…
— И вот мы принесли их тебе, — донеслись до него заключительные слова Геракла; произнеся их, он точно тем же жестом, что и Атлант, достал из своей сумки три отливавших золотом яблока.
— Ну, что же, — сказал Эврисфей, прищуренно глядя на яблоки. — Ну, вот, значит, и все. Вот и все, Геракл. Отныне ты свободен. Свободен, свободен, — замахал он рукой, видя, что герой хочет что-то добавить. — Навсегда свободен. Ты принадлежишь теперь только самому себе и своей судьбе, а отнюдь не зловредному Эврисфею. Нет, нет, не надо слов. Это стало теперь общим местом: жалкий и злой Эврисфей — и великодушный, великий Геракл. Свободен. Спасибо тебе за все. Греция не забудет тебя — если она в состоянии будет вообще уцелеть в этом мире. Свободен для новых подвигов — только тебе придется теперь искать их самому. Впрочем, тому, кто так владеет дубиной и луком, как ты, долго не придется искать. Иди. Отныне тебе открыты все пути. Иди в семивратные Фивы. Иди в Тиринф. Ты слышал, — мой преемник Агамемнон собирает греков для похода против троянцев? Не слышал? Парис, сын Приама, украл жену Менелая Елену — да, да, ту самую. Это случилось совсем недавно — месяца не прошло. Как причина для захвата малоазиатского побережья годится и Елена — она, надо сказать, подвернулась очень кстати. Майонид, малыш, ты ведь родом из Смирны. Ты не хочешь посетить родные места? Я тебе советую это сделать. Эта война с Троей не кончится мгновенно, как об этом принято думать. Поспеши туда. Посмотри все своими глазами. Запомни все. Все запиши. Иди своей дорогой. Я не беспокоюсь более за тебя, ты нашел свой путь. Все вы свободны — все, кроме меня. Я обещал передать подробный инвентарный список всего имущества Агамемнону до того, как он отправится в путь. А я еду отсюда. Я отправлюсь в далекое путешествие. Я уезжаю в Вавилон к своему великому другу Энлиль-надин-ахи. Я буду жить там. А может, мне удастся уговорить его, и мы совершим путешествие на Восток, в страны, о которых я столько слышал… Впрочем, это вас уже не касается. Ну, что вы стоите? Вы мне не нужны больше. Вы же свободны… прощайте.
Он почти кричал на них, а они молча смотрели и видели маленького, с редкими пучками волос на почти что голом черепе одинокого человека: вот он сидит на своем троне со скипетром в руках и что-то резко кричит им и гонит их прочь — и каждый из них знает, что они видят друг друга в последний раз…
* * *
Вот такой мне приснился сон — не тогда, конечно, как вы поняли, не тогда, под Новый год, вернее, в ночь со старого года на новый, когда я заснул, как покойник, почти что вечным сном, а Лена сидела полночи рядом и держала меня за руку. Наверное, держала, потому что меня не покидает до сих пор какое-то покойное ощущение, но так ли это было на самом деле, сказать я, конечно, не могу, потому что, проснувшись, я никого рядом с собой уже не увидел. Нет, тогда мне никаких снов не снилось. В тот момент я просто провалился в какой-то жуткий омут, в темную яму, в преисподнюю, ко всем чертям — а я говорю, как вы понимаете, о том сне, который мне приснился здесь, в палате. Я лежал и думал, как шептались мои родители за стенкой о том, грозит ли мне что-либо, если, уехав, они пустят в освободившуюся комнату какую-либо девушку, или им лучше пустить туда парня. И что будет в одном варианте, а что в другом. Но больше всего, как я понимаю, им хотелось бы знать — или узнать, или догадаться, по крайней мере, — чего им следует бояться или ожидать от меня самого, что я уже знаю, а что мне еще грозит узнать, и от чего меня надо оберегать и тем самым спасать в первую очередь. И тут я, конечно, не мог не подумать о Лене и о том, что между нами произошло в ночь после Нового года. А когда я стал думать об этом, я, конечно же, дошел до того места, когда я так позорно заснул, что было, конечно же, свинством, и только Лена могла не обратить на это никакого внимания, потому что любая другая девчонка на ее месте… Да что там! Я сам, будь я девчонкой, никогда бы не стал даже не то что разговаривать, глядеть бы в сторону парня не стал, который сначала целует тебя, а через минуту валится на диван и спит всю ночь напролет. Но самое удивительное здесь не то. Самое удивительное, что стоило мне дойти до этого места, до того, как я, добравшись до дивана, мгновенно засыпаю…
Я и в самом деле засыпаю, причем это со мной уже не первый раз. Однажды я точно так же заснул в трамвае и уехал черт те куда, а другой раз в метро — и проснулся только на кольце, на станции Купчино.
Но и это даже было не самое удивительное, а то, что мне приснился сон, и то, что я его запомнил. Не знаю, снятся ли сны вам. Мне они не снятся никогда. Так, по крайней мере, было в предыдущие годы. Точнее, пожалуй, было бы сказать так: я не знаю, снятся ли они мне, — может быть, и снятся; но они исчезают начисто из памяти, стоит мне только открыть глаза. Так что я не знаю, можно ли такие сны засчитывать за настоящие. Но этот, про который я сейчас попробую вспомнить, я видел так же явственно, как вижу вас.
Да, это был отменный сон. Я помню, что мы стояли в маленькой комнате — чуть, может быть, побольше нашего класса — и ощущение было таким, будто я в ней, в этой комнате, не первый раз, а рядом со мной стоял Геракл, очень похожий на того, который изображается на статуях, у Михайловского замка, например; но и не совсем такой — этот был выше и не такой, знаете ли, мрачный. И его знаменитая дубина была здесь — действительно, огромная отполированная дубина со срезанными сучками, из какого-то плотного дерева, по структуре и цвету похожего не то на дуб, не то на орех. И шкура льва была накинута на плечи, но шкура меня не удивила, потому что у Степы, у Наташки Степановой, если вы помните, я говорил, тоже можно увидеть шкуру, только не льва, а леопарда — огромную шкуру, чуть не в два метра, и выделанную так хорошо, что она, эта шкура, скорее похожа на замшу, так что носить такую шкуру было бы и тепло, и красиво во все времена. И вот мы стояли перед креслом, а в кресле сидел человек маленького роста с плешивой, почти что голой головой и с таким знакомым лицом, что я даже в первое мгновение не поверил своим глазам, а потом вгляделся — и тогда уже не было никаких сомнений. Потому что у этого человека на стуле — только потом выяснилось, да и то я скорее догадался сам, что это был не просто стул, а трон, — у этого человека было лицо Ролана Быкова… Помните тот прекрасный, к слову сказать, фильм, где Быков играет Бармалея? Так вот вспомните то место, где он, Быков, приходит к Айболиту и говорит: «Я ужасный, я кровожадный, я просто необыкновенно коварный людоед», — а у самого глаза печальные-печальные, и всем видно сразу, что он просто страшно одинокий и несчастный, и ему больше всего хочется, чтобы кто-нибудь его полюбил, как обыкновенного человека, и все эти его слова — просто маска. И точно такое, абсолютно такое же было лицо у человека на троне, хотя и он кричал, чтобы его оставили в покое, чтобы убирались от него ко всем чертям, потому что ему некогда, надоели ему все до печенок — и так далее. А мы с этим огромным Гераклом стоим и смотрим, и чувствуем, что кто-то из нас сейчас не выдержит и подойдет к нему, к этому человеку с лицом Ролана Быкова, и скажет: «Ладно, не надо так переживать. Не надо огорчаться. Не надо. Давай, быть может, объединимся. Пойдем вместе куда глаза глядят. Плюнем на все и заживем в свое удовольствие…» Но никто не успел, а может быть, и не догадался это сделать, потому что человек на своем троне отвернулся и сказал: «Я, великий царь Микен Эврисфей, прощаюсь с вами. А теперь — уходите». И тут Геракл положил мне руку на плечо и сказал: «Ну что же. Прощай, Эврисфей». А потом обратился ко мне: «Ну, Гомер, пошли…»
Вот здесь я и проснулся.
Я лежал в своей палате один, как всегда, но сон стоял у меня перед глазами яснее всякой яви, и слова еще звучали у меня в ушах, так что я некоторое время не мог просто понять, что мне снилось, что есть, — может быть, мне просто приснилась эта белая палата, где стояли стул и тумбочка, а на тумбочке лежат три золотистых яблока. И тут я совсем чуть не спятил, потому что я четко увидел эти же три золотых яблока, и печальный голос произнес: «А яблоки оставьте. Положите их сюда. Спасибо. Это, как вы понимаете, не простые яблоки. Это своего рода загадка природы. Нечто подобное можно встретить в старых трудах по медицине Востока. Там пишется о некоем корне, обладающем чудодейственным свойством сохранять молодость — не вечно, нет — это, как мы понимаем, — абсурд, но довольно продолжительное время, что совпадает с выводами современной науки. Эти яблоки по своему действию превосходят тот знаменитый восточный корень. В древних шумерийских фолиантах я нашел рецепт изготовления лекарства, которое отдалит приближение старости на сто, быть может, даже более лет. В Вавилоне уже все готово к постановке опыта, и если вы пойдете со мной, — тут голос этого человека на троне дрогнул, — если бы вы пошли со мною — ты, Майонид, и ты, Геракл, мы могли бы прожить еще по двести лет — вы-то во всяком случае — и посмотреть на мир новыми глазами. Соглашайтесь. Не упускайте такой возможности. Ведь жизнь — это единственная действительная ценность, которой обладает человек, и ничто на свете не способно эту ценность превзойти. Вы согласны?»
— А слава? — сказал Геракл.
— А стихи? — спросил мальчик.
И тут я уже проснулся окончательно и понял, что мне снилось, а что существовало наяву: белые стены, занавеска на окне, за которым плескали серые волны Невы, а там, далеко, сверкали два золотых шпиля, Адмиралтейства — слева и Петропавловской крепости — справа, это была явь, а все остальное сон, сон, сон… Но… яблоки, яблоки, золотистые яблоки лежали на тумбочке у изголовья, и это был последний мираж, который мне предстояло развеять. Я взял одно яблоко — придаст ли оно мне долголетие, проживу ли я молодым до ста, до двухсот лет?.. Яблоко было упругим на вид, но чуть-чуть вялым, это было обыкновенное яблоко сорта «джонатан», прошлогоднего урожая, его доставили из Венгрии, и трудно сказать, как им там удается так хорошо сохранять яблоки, что они только чуть-чуть становятся вялыми внутри, и то самую малость. Если и было в этих яблоках какое-нибудь волшебство, то только то, которое я сейчас назвал, — что они сохраняются более года, не теряя свежести.
Я подошел к окну. На улице было жарко. Даже листва на деревьях не колыхалась, ни ветерка не доносилось с реки. Приятно было стоять на прохладном линолеуме и смотреть на серую воду, которая вспыхивала вдруг серебром, на речные трамвайчики, которые, раздувая под носом белые усы, важно ползли по сверкающей глади, — смотреть и смотреть на самый красивый в мире город и отыскивать взглядом все, что ты исходил своими ногами десятки раз: слева — Литейный мост, чуть направо — крейсер «Аврора», а сквозь него — Кировский мост, а еще дальше — белые колонны Эрмитажа, где несколько месяцев назад ко мне подошла Зинаида и сказала, что она — от имени всего нашего кружка любителей искусств — поручает мне подготовить сочинение на тему: «Что мы знаем о Гомере». И прибавила при этом — для того, наверное, чтобы я проникся важностью задачи, — что эти сочинения будут (после их утверждения, конечно) отосланы на международный конгресс по Гомеру, который состоится следующей зимой на Кипре, и что такой конкурс объявлен Организацией Объединенных Наций, и что конгресс будет присуждать медали за лучшие из этих сочинений… ну и так далее… И с того времени я хожу и, чем бы ни занимался, постоянно чувствую, что это сочинение висит у меня на душе, как ядро на ноге у каторжника.
И что, подобно этому каторжнику, я начинаю постепенно привыкать к своему ядру, и даже любить его или гордиться им. Ясно, конечно, что на все дела никакого времени не хватит, так что в связи с этим сочинением и тем, что надо сидеть в библиотеке и читать всю эту необъятную литературу, все эти сочинения философов древности и ученых позднейших времен, которые даже перечислить нельзя, мне пришлось забросить кое-какие дела — например, мой кружок юных натуралистов, моих змей, которых я наблюдал целых два года. Более того, я даже маркам стал уделять меньше времени и пропустил новый каталог Цумштейна за этот год, а если учесть, что ко всем моим прежним занятиям прибавилась еще гребля — то можно легко себе представить, что у меня была за жизнь все те месяцы, после отъезда родителей и до того момента (которого я, к сожалению, не помню), когда меня привезли сюда — привезли в сопровождении Кости и кота, которого Костя принес по моей просьбе, — я жутко просил, просто умолял врачей, чтобы они разрешили коту пожить со мной в палате, но разве у них допросишься. Да, я теперь только понимаю, что это была у меня за жизнь, без малейшей передышки: с утра, естественно, школа, затем два раза в неделю Эрмитаж, два раза — тренировки в гребном бассейне, в воскресенье — лыжные вылазки, а все остальное время — сидение в Публичной библиотеке, где каждый раз обнаруживалось, что на каждые пять прочитанных тобою книг отыскались еще десять — тех, что тебе необходимо еще прочитать. И так длилось до тех пор, пока я не понял, что, идя по этому пути, я никуда не приду и никто не придет и что прочитать все книги, посвященные гомеровскому вопросу, — попытка совершенно безнадежная. Я даже отчаялся было и хотел сказать Зинаиде, что отказываюсь от всякого участия в конкурсе, и даже сказал об этом Ленке, с которой я к тому времени уже делился всеми своими замыслами, но она сказала, что мне самому потом будет за это стыдно, и что другим ничуть не легче, и еще сто тысяч правильных слов, а под конец сказала, что будет мне помогать делать выписки из разных книг, — словом, еще раз подтвердила, что она за человек, и я как вспомню, что не сегодня-завтра она уедет в эти дурацкие Кириши, так выть хочется.
Нет, правда: я не знаю, что бы я делал без нее. Светлая голова — другого не скажешь. Без нее я просто пропал бы — не стал бы мучиться изо дня в день, особенно в первое время, когда ты глядишь на этот список книг, которые тебе надо прочитать, и видишь, что нет ему ни конца ни края, и приходишь к мысли, что все бесполезно, что тебе не одолеть этого никогда, — а она, Ленка, тут же, под рукой, не говоря ни слова, начинает выписывать индексы книг, один за другим, чтобы на следующий день можно было заказать первую порцию, и утешительно шепчет, что это все страшно только потому, что ты еще ничего не знаешь, а стоит вчитаться — станет интересней, и чем больше ты будешь узнавать, тем легче и интересней тебе будет. «Это как в гимнастике, — сказала она, — приходишь, такая маленькая, такая неуклюжая, и как посмотришь на других девочек, как они ловко, как красиво все делают, то хочется плакать, потому что, думаешь ты, никогда-никогда у тебя самой так не получится, но проходит год, тем более два — и если ты не бросил, если не поддался слабости, то все, рано или поздно, начинает получаться. Только надо характер выдержать — вот и все».
Нет, она железный человек. Она — как каменная стена, такой надежности. Не знаю, откуда это у нее. Но точно знаю — без ее поддержки я бы сдался. Нет, не так — скорее всего, сдался бы. Махнул бы на все рукой, потому что, если говорить по совести, по-настоящему в этом вопросе уже не разобраться. Одно только меня и удерживало от того, чтобы бросить, — Ленка; ужасно не хотелось выглядеть глупо, и тут мы начали потихоньку читать — просто так. Это я убеждал себя, что это просто так, что в любой момент, когда пожелаешь, можно взять и бросить, и мы, повторяю, стали сначала читать все, что попадалось под руку. Многие книги вообще ничего о Гомере не писали, но мы их читали все равно. Надо сказать, что все мы, конечно, не имеем никакого представления о жизни древних греков. Абсолютно никакого. Нас, похоже, сбивает с толку слово «древние». Но это ведь ни о чем не говорит. Абсолютно ни о чем. Они во многом были точно такие же, как мы. Только верующие — ну так и сейчас еще во всем мире полно верующих — даже в Ленинграде. Сходите на пасху куда-нибудь, к Никольской церкви, например, — полно старушек. Но у них, у греков, была совсем другая, как вы понимаете, вера. У них все было связано с природой, а боги у них ужасно похожи были на людей — так же ссорились, ругались, обманывали друг друга, строили различные каверзы — точь-в-точь как школьники какие-нибудь. И даже верховного своего бога Зевса они, остальные боги, обманывали частенько, а он покричит-покричит — и успокоится. Только если его разозлить как следует, когда он выйдет из себя, он действует решительно — например, Геру, свою жену, заковал в золотые оковы и подвесил между землей и небом. А так вообще Зевс показался нам мужчиной весьма добродушным — если бы надо мной кто-нибудь учинял такие шутки, как с ним, я бы тоже долго терпеть не стал.
Нет, нельзя греков винить, что они верили в своих богов. Среди этих богов были просто симпатичные личности. Афродита, например, — первая красавица. И как верно, что она влюбилась в Марса. Это же до сих пор всем известно, что многим девчонкам нравятся военные, особенно военно-морские курсанты. Да чего далеко ходить. Я рассказывал о нашей Кате, как она не обращала якобы внимания на своего морячка. А стоило ему отбыть в свои лагеря, как она быстро поняла, что жить без него не может. А теперь она говорит — она приходила в начале недели, — что осенью, наверное, они с этим морячком поженятся — вот вам пример, и не древний вовсе. Нет, эти древние греки были чертовски наблюдательны, и то, что они не знали, как объяснить, они объясняли при помощи богов. Любовь например. Вот как можно это объяснить? Я серьезно спрашиваю. Вот мы вовсе не древние, мы современные, но разве наука может объяснить, почему один человек любит другого, а тот его вовсе не замечает. И тут никакая наука, я подозреваю, не поможет. Никакие вычислительные машины, никакие компьютеры. Нет, кроме шуток, — это вопрос номер один. Мы с Ленкой говорили об этом до хрипоты, но ни к какому выводу не пришли. Разве может один человек заставить другого человека полюбить его? Или, скажем, разве достаточно обладать какими-нибудь достоинствами для этого? Я вам точно скажу — ничего этого не достаточно. Знаете, какие случаи бывают? А такие, что отличная девчонка вдруг влюбится в какого-нибудь гада, и, сколько бы хороших ребят ни было рядом, ей на всех наплевать. Она будет ходить со своим гадом, потому что он ей нравится. И тут можно убить ее или самому убиться, но изменить ничего нельзя. Ленка мне говорила на это, что, по ее мнению, это потому, что если, мол, человек любит, то ему вовсе не кажется, что человек гад. Но это, конечно, не так. Стоит только подумать — и сразу станет ясно, что такой девчонке просто все равно. Все равно, гад или нет, и вообще все равно, и даже если ей сто тысяч раз станет ясно, что этот парень — ну, хуже всех, она и бровью не поведет и не подумает променять его, этого гада, на кого-нибудь получше.
Вот и попробуйте объяснить такое. Вы не сможете, я уверен. И если бы мы с пеленок не знали, что богов нет и все это — позорные суеверия и так далее, — клянусь, я сам первый выдумал бы какого-нибудь бога — хотя бы того же Эрота, который пускал в людей стрелу любви — и человек погибал от любви, а если в человека попадет стрела ненависти — то никакой ответной любви он не узнает. Я понял, что дело происходило у древних греков именно так: что они не могли объяснить, то они приписывали богам. И это очень даже понятно.
А во всем остальном они, эти древние греки, жили очень даже похоже на нас. Скажем, мебель. У них были кровати. Они так и назывались — краббатос. И табуреты у них были — похожие на наши складные стулья — дифросы. И стулья были, они имели смешное название «клисмос». И столы, и лари, и светильники всякие. И голыми они, конечно, не ходили — и одеты были, и обуты. И к парикмахеру они захаживали частенько, особенно женщины. И даже волосы они подкрашивали, особенно те, кто хотел казаться блондином. А дети играли такими же игрушками, которыми играли мы, когда были маленькими. Ну и конечно, физкультурой они занимались не в пример нам. Это уж точно — я по нашему классу знаю. У нас ведь, честно говоря, и посмотреть не на кого, за исключением трех-четырех человек. На одном уроке физкультуры нам предложили влезть по канату без помощи ног. Что бы вы думали? Влезли три человека. Из тридцати восьми. Все остальные извивались где-то внизу, не выше, чем на полпути, и я тоже. Это ужасно противно, правда — висишь и ничего не можешь. Ну, понимаю, были бы мы какие-нибудь сверхспециализированные, физматы какие или что, — но ведь у нас обыкновенная школа. Конечно, нам пришлось бы туго среди этих самых греков, будь они хоть трижды раздревние.
В этом, скажу вам, есть все-таки что-то неправильное. Что-то обидное для нас. В том, что мы такие слабаки. Пусть мы даже более образованные и то, что у греков знал один Пифагор, теперь знает каждый малыш. Но мы слабаки, и, думаю, никто из нас не продержался бы и десяти минут, доведись нам соревноваться с греками в беге или борьбе. У нас как-то так получилось, что вопрос физического развития оторвался полностью от общего развития человека. Если, скажем, у какого-нибудь тупицы пара по физике, его тянут изо всех сил, и шефа к нему прикрепляют, и преподаватель останется после уроков, чтобы объяснить ему, болвану, то, что он проспал на уроке; а если человек не умеет плавать и утонет в первой попавшейся луже и никакие даже круглые пятерки не помогут ему выплыть, — на это всем наплевать. А ведь в нашем классе только половина и умеет плавать. Да где там половина! Треть. Мы как-то выехали всем классом в Разлив — смотреть было стыдно.
Нет, эти самые греки кое-что понимали, не только насчет физкультуры. Они и путешествовали совсем не мало. Мы с Ленкой поняли это, когда добрались до Геродота. Он жил почти что две с половиной тысячи лет назад. Клянусь, он знал географию ничуть не хуже нас. Он побывал в тысяче стран и все описал — нравы, обычаи, историю.
Нет, Ленка была права на триста процентов! Действительно, пока не знаешь ничего, тяжело браться за что-то новое. А как посидишь месяц-другой — и все меняется. Уже ближе к лету я знал о древних греках уйму всего. Как будто мы жили в одной коммунальной квартире, честное слово. И что они ели, и что они пили, и какие у них были привычки, и что считалось у них достойным, а что нет. И так, постепенно, я уже привык, что в любую свободную минуту надо бежать в библиотеку, а там уже нас знали. И как приятно было ощущать, что, сколько бы ни было у тебя свободного времени, тебе всегда есть чем занять его — и не только занять, как занимаешь его, скажем, когда просто шатаешься с ребятами по парку или по улицам, а занять, я бы сказал, осмысленно. Таким занятием, после которого узнаешь еще что-то. И с каждым днем все это складывается и складывается, как если бы ты строил дом и добавлял бы по десять кирпичей. Наверное, это сначала было бы незаметно, а потом, глядишь, — и стены уже стоят.
Ну и конечно, тут было и другое. То, что у тебя есть какая-то тайна. Не знаю, как это объяснить, но это так. Надо, чтобы эта тайна была. Хотя, конечно, ничего таинственного в том, чтобы сидеть в библиотеке и читать, скажем, «Античную цивилизацию» или «Искусство древнего мира», — ничего, повторяю, таинственного в этом нет. И все же есть. И я думаю, что на сто процентов это было связано с Ленкой. Мы даже не говорили об этом никогда. Это получилось само собой — но в классе никто не знал, что мы так железно дружим, не говоря уже про другое. Даже Костя — и тот не знал сначала. Долгое время. Он-то говорит, что подозревал с самого начала, но это он просто придумывает, потому что с самого начала, то есть с Нового года, об этом не знал никто. Даже я сам. Клянусь.
Это потому, что я такой болван. Это от темноты. Потому что на следующее утро, когда я проснулся и вспомнил, что было, я страшно испугался. Не оттого, что я ее, Ленку, поцеловал, а оттого, как это произошло. Вы понимаете? Одно дело, когда ты валяешь дурака, играешь там в разные пошлые игры вроде фантов или в «бутылочку», и совсем другое, когда ты с девочкой совсем один на один, и целуешь именно ее, и знаешь, что ты ей нравишься, и что если ты очень захочешь, то, может быть, тебе удастся поцеловать ее еще раз. Вот тут-то я испугался, потому что я слышал, что стоит только девчонке понять, что она тебе нравится, как ты пропал. Что она от тебя не отстанет. Будет смотреть на тебя как на свою собственность и демонстрировать это при каждом удобном случае, особенно при других. Клянусь, я этого не выношу. Я говорю это, потому что видел такое. Я имею в виду Наташку Степанову из нашей эрмитажной группы, я уже говорил о ней не раз. И тут самое время сказать о ней еще. Потому что после того как мы стали дружить с Леной, я многое понял. Понял, в частности, что все это время был, как последний дурак, влюблен в Наташку. Удивительного в этом нет ничего, я еще не встречал человека, который, увидев ее, не влюбился бы тут же. Все наши мальчишки по ней с ума сходили и наперебой предлагали ей свои услуги, готовы были сопровождать ее в любое место, куда б она ни захотела пойти. Но главное даже не это. Главное, что она знала это, я имею в виду, она знала, что ни один мальчишка не сможет ей отказать ни в чем. Она, я полагаю, просто не понимала, как может быть иначе, то есть как она может кому-нибудь нравиться не настолько, чтобы он, каждый из нас, не бросил тут же все свои дела, чтобы побыть с ней или проводить ее куда-нибудь — скажем, в Комарове, где у ее родителей была шикарная дача. Нет, я соврал бы, если бы вы поняли меня так, что она задавалась, я уже говорил об этом, но то, что она сознавала свою власть над всеми мальчишками — не только такими, как она сама, восьмиклассниками, но даже студентами, — вот это сознание действовало куда сильнее чего бы то ни было. Я думаю, это и погубило ее; вернее, в этом была причина того, что она в конце концов, как я уже говорил, сама влюбилась в Костю, и все потому, что он не заглядывал ей в глаза, не ждал, затаив дыхание, пригласит она его к себе в гости или на день рождения или еще как, а вел себя так, словно ее и вовсе не существовало на свете. Вернее, как если бы она ничем не отличалась от любой другой девочки и ее чары вовсе не действовали на него, Костю, так, как на любого из нас, — то есть как выстрел в упор.
Оглядываясь, так сказать, на прошедшие времена, я теперь ясно вижу, как я был влюблен в Наташку. Мне и в голову не пришло бы не пойти с ней в театр из-за какого-то мотыля для каких-то аквариумных рыбок. Да я и не вспомнил бы о рыбках, будь то не просто гуппи там или вуалехвосты, а даже если бы они все до одной были золотыми рыбками из сказки. Мне, как я понимаю, хотелось ее видеть каждый день по сто пятьдесят часов в сутки. Я, как теперь понимаю, и на Невский потому так часто ездил, чтобы как бы случайно пройти лишний раз возле ее дома — не с надеждой даже встретить ее, а просто так. Вы меня понимаете? Вот почему я так испугался тогда, после новогоднего вечера — мне показалось, что теперь Ленка заберет надо мною власть и будет демонстрировать это на виду у всего класса. Нет, я совершенно не разбираюсь в людях. Я, наверное, порядочный мерзавец все-таки, потому что всегда, выходит, готов подумать о другом человеке всякую пакость, и как хорошо, когда ты думаешь о человеке что-то, а он оказывается в тысячу раз лучше. Стыдно при этом всегда совершенно жутко, а все-таки хорошо. И лишний раз я убедился в этом на примере с Ленкой. Потому что я долгое время наблюдал за ней, как она будет относиться ко мне после всего этого, и был все время настороже, чтобы дать ей отпор, как только она посягнет как-нибудь на мою свободу и независимость. Но дни проходили, а она вела себя как ни в чем не бывало. Словно ничего и не было между нами, и словно это не я поцеловал ее тогда у окна. Она вела себя, на мой взгляд, совершенно странно, так что мне в конце концов стало даже как-то обидно, но я решил проявить железную волю и не подходил к ней еще неделю — только посматривал на нее время от времени, но долгое время не мог поймать ее взгляд. А потом поймал. Как сейчас помню, это было на уроке литературы, когда мы проходили Лермонтова, его лирику. И вот наша литераторша все говорила и говорила о тоске, чувстве одиночества и так далее, а потом стала читать стихи, и в тот момент, когда она прочитала:
Пусть я кого-нибудь люблю: Любовь не красит жизнь мою, —я вдруг посмотрел на Ленку, которая всегда сидит наискосок от меня, и в то же мгновение увидел, как ее ресницы поднялись и она посмотрела мне прямо в глаза, — это длилось даже меньше, чем мгновение, но клянусь, за это время я все понял. Прежде всего я понял, что я совершеннейший болван и таким был все это последнее время. А во-вторых… Ну, словом, это уже все неважно. Я только не могу себе простить, что не разговаривал с ней почти что месяц — вы понимаете? А ведь я мог проводить с ней целые вечера — и как вспомню об этом, так мне сразу худо. Потому что мне теперь трудно представить, как она уедет, я не могу этого вообразить, и знаю, конечно, что мы будем писать друг другу письма, да и вообще, конечно, что такое Кириши — это же здесь, под боком… Но месяца того, что я был полным идиотом, мне ужасно жаль.
Ну, а потом уже мы все время были с нею вместе. И я скажу, если хотите знать, что дружить вот так с девчонкой очень даже славно. Я был просто уверен, что дружить можно только с ребятами, но это неверно. С девочками тоже можно, только в этом еще есть что-то другое, чего нет, когда дружишь с мальчиком. Я не хочу говорить сейчас про любовь, потому что я толком не знаю, что это такое. Но этого, как я убедился, и никто не знает; даже взрослые, и те, по-моему, немало путают в этом вопросе — по крайней мере, я смотрел во все словари и в энциклопедию, и даже в Брокгауза и Ефрона, где, по-моему, есть все, — и нигде не написано, что же это такое. Нигде. Не верите — проверьте сами.
Но я даже сейчас не об этом. Я о том, как славно ходить с такой вот девочкой, как Ленка. Она понимает буквально все. Это даже удивительно. Сколько раз так бывало: я только додумаюсь до какой-нибудь мысли, только открываю рот, — а она говорит — «да» и продолжает с любого места, как если бы голова у меня была стеклянная и все, что я думаю, видно было бы снаружи, как в витрине.
Первый раз я с этим столкнулся как раз на этих древнегреческих делах. Я помню, это было поздней весной, вернее даже в самом начале лета; мы засиделись в библиотеке до чертиков в глазах, и тут мне пришла в голову, как я понял, гениальная мысль — съездить с ней на Каменный остров. Я считаю, что это самое красивое место в Ленинграде. Знаете, о чем я говорю? О том канале, что идет вдоль Березовой аллеи, по левую сторону, если идти от Крестовки. Особенно там здорово вечером, когда в самом разгаре белые ночи, и все это место, кажется, появилось прямо из сказок Андерсена — странные такие дома с черепичными крышами, с маленькими вытянутыми окошками, похожими на бойницы древнего замка, — не хватает только сов, чтобы ухали, сидя на флюгерах, потому что там на каждом доме есть и флюгер — то в виде вымпела, то — петуха, а то — кораблик, как на Адмиралтействе, — дивная красота. Я хотел, чтобы для нее это все открылось сразу, одновременно и неожиданно, потому что я еще раньше узнал, что она никакого представления об этих местах не имеет вообще. И вот мы сели на сорок шестой автобус и доехали как раз до Второй Березовой аллеи — как вы поняли, это со стороны Кировского проспекта, так что и канал этот, и дома оставались невидимыми для нас справа, — а шли мы по направлению к Крестовке, как раз к тому островку, что напротив гребного клуба «Энергия», и вся хитрость заключалась в том, чтобы она, Ленка, ни о чем не догадывалась раньше времени. Вот потому-то я и повел ее сначала чуть левее, в парк, как бы уводя от этой самой Голландии, и тут я стал думать о том, что мы прочитали, отсидев очередную тысячу часов в библиотеке. Я подумал о том, что уже пора бы нам прийти к какому-то мнению об этом самом Гомере, понять хотя бы для нас самих, когда же он все-таки жил, и тут я раскрыл рот, чтобы заговорить об этом, как Ленка в ту же секунду говорит:
— Я, — говорит, — думаю, что прав все-таки Гелланик.
У меня даже слова, которые я хотел сказать, застряли в горле — настолько, что я даже закашлялся. Потому что я хотел сказать буквально то же самое. Я хотел сказать: «А знаешь, Ленка, по-моему, наибольшее доверие вызывает у меня лже-Плутарх». Но хоть она сказала про Гелланика, а я — про лже-Плутарха, просто удивительно, как мы пришли к одному и тому же, потому что из всех десяти миллионов мудрецов, которые на протяжении двух с половиной тысяч лет не могли прийти к какому-нибудь общему выводу о времени жизни Гомера, только эти двое — Гелланик, живший в александрийские времена, и этот самый псевдо-Плутарх, живший вообще неизвестно когда, — считали, что Гомер жил во времена Троянской войны. Только эти двое — и надо сказать, что в этом, как видите, обоим нам показалось больше смысла, чем во всех остальных бесчисленных вариантах. Потому что ни Кратес, ни Эратосфен, ни Аристотель с Аристархом, которые считали, что Гомер жил лет на двести позднее, ни тем более Геродот и Фукидид, которые считали, что он вообще жил лет через четыреста после этой самой войны, не могут объяснить внятно, откуда же он, Гомер, знал все так точно, с такими потрясающими подробностями — всё, даже самые мелкие случаи, которые во время этой войны происходили, откуда знал он все до мельчайших подробностей, вплоть до того, как выглядел этот замечательный щит у Ахилла. Ну, понятно, одну-две подробности можно выдумать, но нельзя выдумать всех героев, из которых ни один не похож на другого, нельзя выдумать все их биографии, все их поступки, нельзя всего этого выдумать из ничего. Это, по-моему, совершенно ясно. А если учесть, что до него, до Гомера, вообще никто — понимаете, никто — не описывал подобных вещей, то ему и подсмотреть, прочитать это было негде, не у кого; не у кого ему было учиться, как писать, и тут, как ни крутись, придется признать, что он мог описать все это, только увидев. Вот почему так верил каждому слову Гомера великий археолог Шлиман. Он, как вы знаете, не был ученым — в том смысле, что он просто любил свою археологию и верил в Гомера, как в господа бога, и считал, наверное, что ему, Гомеру, совершенно незачем было врать, выдумывать из головы, если можно было писать чистую правду — и что же? Те, кто сомневался, оказались не правы, а Шлиман, который поверил Гомеру, оказался прав и открыл Трою и нашел золотой клад царя Приама. Нет, Шлиман тоже присоединился бы к Гелланику и лже-Плутарху и к нам с Ленкой, хотя все остальные — и Аполлодор, и Ксенофан, Акций, Филохор, Эфор и Симонид — все они и десятки и сотни других древних историков, конечно же, подкрепляли свои доводы какими-то доказательствами, — но главного они все-таки объяснить не могли: откуда он, Гомер, все это взял с такими потрясающими подробностями и почему после него никто не мог уже подняться на такую высоту.
Здесь может показаться, что напрасно мы потратили столько времени, чтобы выяснить, когда он жил. Например, может кто-нибудь сказать, что неизвестно, и где он жил — в Смирне или на Хиосе, или на Итаке, или в Афинах, Колофоне, Пилосе… Да, и это неизвестно, но это понятно, что если место, где человек родился, имеет какое-то значение, то насколько же больше имеет значение время — время рождения и время жизни. Пусть каждый из вас попробует представить, что он родился на том же месте, только лет триста назад, — и вам станет все ясно.
И тут произошло то, что всегда происходит, когда начинаешь говорить не всерьез, а потом увлекаешься. Мы так увлеклись этим делом и так обрадовались тому, что пришли к одному и тому же выводу, что я уже и забыл, что привел Ленку сюда показать Голландию. Мы присели с ней на скамейку, и тут она мне выложила все, что, по ее мнению, вытекает, если мы поверим лже-Плутарху. Во-первых, сказала она, если я помню, то Геродот утверждает, что всех богов выдумал сам Гомер. А если это так, то и тут надо признать, что он не с потолка все это брал, а откуда-то. И если признать, что все это придумал какой-то человек, то надо или верить всему, или ничему не верить, это же логично. А поскольку наукой доказано, что Троянская война была на самом деле, то мы вполне можем поверить, что и Геракл не выдуман, что не выдуман и Тезей, и Елена была на самом деле, и Эврисфей, и тут она говорит мне потрясающую вещь: она говорит, что Гомер должен был все это видеть тоже.
— И Геракла? — говорю.
— И Геракла. И Эврисфея. И Елену. И Одиссея. И всех, всех.
— Но ведь писать об этом, — говорю, — нельзя.
А она говорит:
— Это ж почему? Это ж, — говорит, — ясно само собой. Эврисфей жил в Микенах. Геракл служил у Эврисфея. У Эврисфея детей не было. После Эврисфея царем стал Агамемнон. А представь себе, — говорит она, — что в это время и жил Гомер. Откуда мы знаем, сколько ему было лет? Никто ведь не знает. Ну, а если он жил? Ведь кто-то же написал, в конце концов, «Илиаду». Написал или нет?
— Ну, написал.
— Не «ну», а написал. Так как же, — говорит, — он мог все это написать, если не с натуры? Он, — говорит, — и мифы все сочинил. Он, — говорит, — тот человек, которого потом прозвали Гомером, не всегда же он был старым и слепым. Он был — как мы с тобой. Он был, как Пушкин. Он понял, что надо писать стихи. Вот он и стал все описывать. Думаешь, ему было неинтересно? Конечно, ему было интересно. А потом началась Троянская война…
— Но, — говорю я, — это ж когда было!
А она прямо зажглась, уже она и на скамейке усидеть не могла, схватила меня за руку и тянет куда-то и все мне говорит: «Нет, ты все-таки подумай, — говорит, — как тут все увязано».
— Что? — говорю. — Что увязано? — Я уже немного обалдел от такого напора. Никогда не видел ее такой возбужденной, обычно она и говорит-то в два раза медленней, а тут она прямо завелась и все говорит, говорит мне, какое это будет прекрасное сочинение, потому что стоит только решить, что Гомер все это видел, как все становится на места. Это она, оказывается, просто с карандашом в руках высчитала.
— Ты следи за моей мыслью, — говорит она. — Геракл знал Тезея?
— Ну, знал.
— А Тезей украл Елену?
— Украл.
— Теперь ты понимаешь?
— Чего ж, — говорю, — не понять. — И тут я действительно стал шевелить мозгами, и хотя в тот момент я еще не слишком все понимал, но просто удивительна была та быстрота, с которой я начинал все понимать, когда она, Ленка, начинала наталкивать меня на какую-нибудь мысль. Так и тут: в то мгновение, когда я довольно смело сказал — чего, мол, тут не понять, я, по правде говоря, еще не совсем понимал, куда именно она меня толкает, но колесики в моей голове уже начали вертеться, и я даже поразился, как все-таки много я успел узнать за это время — не то за три, не то за четыре месяца с тех пор, как мы выписали в библиотеке первую книгу и пришли к печальному мнению, что от школьной программы о древних греках у нас в голове не задержалось абсолютно ничего. А ведь я, хоть об этом даже стыдно и говорить, считаюсь отличником — и тут можно только предполагать, чего же стоили все эти мои пятерки, и еще — что же задержалось в головах всех других, если такие, с позволения сказать, круглые отличники ни черта не запомнили о таких интересных делах. Правда, интересных — вернее, то, что они интересны, я лично понял только в то время, когда мне пришлось заниматься этим делом вплотную, но, ей-богу, в этом самом случае происходит что-то вроде чуда: читаешь, читаешь и вроде бы не видишь, не замечаешь никакой связи между разными книгами и разными кусками, так что иной раз думаешь — все напрасно, все ни к чему, бесполезно. Но вот тебе даст какой-то начальный толчок для размышления девочка вроде Ленки, такая, чтобы ей нельзя было просто сказать — понимаю, мол, и все, — смотри ты, как быстро начинаешь соображать, как быстро все понимаешь и как аккуратно все становится на свои места — Геракл и Эврисфей, Агамемнон и Менелай, Елена и Парис, и этот неудачник Тезей, и Троянская война, и Гомер — всему тут же находится свое место, все выстраивается в железную шеренгу, и все это в такой короткий срок, что ты не успеваешь даже отшагать десяти шагов.
И в тот раз было именно так. Я, конечно, ухватил ее мысль, и я вам скажу, что если бы Ленка всерьез занялась историей, клянусь, она заткнула бы всех нас за пояс — всех мальчишек, каких я знаю, такая у нее была хватка. Да, десять шагов мне понадобилось для того, чтобы не только понять, что она хотела сказать, но и восхититься, как она до этого дошла. Только высказать я ей это не успел. Я уже хотел сказать ей, как здорово она все придумала, но тут эта аллея окончилась, и она вцепилась мне в рукав. И замерла.
Вот так и получилось, что она увидела Голландию. Это просто удивительно, но все получилось в тысячу раз лучше, чем я мог даже ожидать. Она просто обмерла, клянусь. Вцепилась мне в рукав, и только прошептать успела: «Смотри», — и даже язык прикусила. И замерла.
Не знаю, сколько мы простояли так — наверное, десять часов, — да это и не имеет значения. Потому что приятно мне это было, как никогда. Впервые я понял, как приятно делиться чем-нибудь, что тебе дорого, с человеком, который понимает, чувствует все это точно так же, как ты. Нет, правда, до того приятно, что она, Ленка, в одно мгновение поняла, как неуместно здесь произносить какие-либо слова, — потому что кругом действительно было как в самой взаправдашней сказке, но, понятно, это была лишь видимость, а с видимостью, вы знаете сами как: скажи одно лишнее слово — и все исчезнет. Но она не сказала ни одного лишнего слова — раскрыла свои глаза, которые днем были просто глазами, рыжими огромными глазами в мохнатых ресницах, но вечером становились внезапно блестящими и загадочными; смотрит, вцепилась мне в рукав, — и мы сами стали в этой сказке, словно принц и принцесса, которые потерялись в лесу… Видите, до чего человек доходит, дай ему волю повоображать, дай ему пофантазировать, — а ведь ни я, ни она не какие-нибудь дети, а вполне взрослые люди. Да, принцесса и принц — это если подумать при дневном свете, то ведь не откраснеешься и за год. Но вы заметили, что днем — одно, а вечером — совсем другое, и мы стояли и глядели на еле видные в зелени островерхие крыши и слышали шорох и обрывки голосов, и какие-то тени мелькали… Все это я говорю к тому, чтобы вы поняли, как это было здорово на самом деле и как Ленка должна была поразиться всему этому, особенно если учесть, что она видела это впервые в жизни, и где — в центре Ленинграда.
А потом мы двинулись вперед и вышли как раз туда, куда мне хотелось, чтобы мы вышли, — к островку, перешли через маленький, ну прямо-таки игрушечный мостик и прошли на островок — тоже кукольный, десять, наверное, метров в диаметре. Ночь была такая теплая, что воздух был похож на парное молоко, и вокруг стояла совершеннейшая полутьма, и мы сидели на земле, на откосике, свесив ноги, а под ногами плескала вода, и — тут я должен сказать всю правду — мы с ней начали целоваться уже по-настоящему. Не так, как тогда, под Новый год, совсем по-другому; и вот я вам скажу: никогда такого не испытываешь, когда дружишь с мальчишкой. Я говорю, конечно, жуткую банальщину, общие какие-то места — но если можно дружить с девочкой так же хорошо, как с парнем, и в то же время если она тебе нравится как девочка — никакая замена тут невозможна. Больше я на эту тему распространяться не собираюсь, скажу только, что, когда мы шли домой, я просто губами не мог пошевелить. Не знаю, говорит ли это о чем-нибудь. Думаю, что это вовсе не такая доблесть, как мне казалось в те минуты, скорее наоборот, но тогда мне было решительно наплевать, доблесть это или что иное. Мне было так хорошо, как может только быть человеку, — вот и все, и больше об этом я не произнесу ни слова, хоть вы меня убейте.
Я начал с того, что сказал, как удивительно мы понимали друг друга, и привел этот пример. Один всего лишь. Я мог привести их десять или двадцать. Только зачем? И еще я сказал, как приятно было мне поделиться всей этой красотой, о которой я знал, а она нет. Странное дело, поделиться — ведь значит поделить что-либо, а когда делить, то становится меньше. А тут совсем наоборот: поделишься, а становится больше. Потому что то, что было у тебя, — не уменьшилось, осталось таким же, а у нее, у того, скажем, с кем ты делишься, из ничего становится столько же — вот и получается, что ты поделился, а того, чем ты делился, не только не убыло, а стало вдвое больше. И в сто раз приятней.
Я потом поделился с ней всем. Всем, что я знал, всеми секретами. Я показал ей такие уголки, о которых она и не узнала бы, доживи она до ста пятидесяти лет. Их в городе сколько хочешь — таких красивых мест, прямо посреди города, где-нибудь на Крюковом канале и на маленьких островках в устье Невы, куда мы ездили на спуннинге — маленькой учебной парной лодке, которую я выпросил однажды у нашего клубного боцмана дяди Васи — я перетаскал ему, наверное, ящик пива, прежде чем он счел меня достаточно подготовленным к вождению спуннинга, а мне помогло то, что я много греб там, на Днепре, когда жил у деда и бабки, — и об этом, о всей моей предыдущей жизни я тоже рассказывал Ленке — и вы знаете, это у нее, наверное, тоже был особый талант — слушать. Когда тебя так слушают, ты поневоле начинаешь и сам верить, что все это интересно, — так что я рассказал ей без утайки даже про интернат, — а об этом я стараюсь не распространяться.
Да, я рассказывал ей, словно я сам готовился стать Гомером, древним певцом — только лютни какой-нибудь мне не хватало. И в Эрмитаж я с ней сходил — и долго, пока ноги не отнялись, таскал ее по залам — так мне хотелось показать ей все наши любимые уголки. Не то чтобы ей было это в новинку, была она, конечно, несколько раз в Эрмитаже, но когда мы с Костей повели ее — это было совсем другое дело. К этому времени Костя уже все знал про нашу дружбу — почти все, а почти — потому что я считаю, есть вещи, о которых говорить никому не то чтобы нельзя, а просто не следует. И вот мы вдвоем в один прекрасный вечер повели ее с собой и уже у самого входа небрежно так вытащили свои эрмитажные пропуска и показали их контролерам, которые за эти три года уже знали нас всех, как облупленных, потому что мы часто помогали им после того, как нашествие кончится и остаются груды мусора, как если бы это был не музей, а курятник, — да, они вполне знали нас, и мы могли провести с собой хоть пять человек, и никто бы не спросил нас ни о чем. Но тут мы нарочно, для форсу задержались, помахали своими пропусками, а про Ленку сказали: «А это — с нами» — и только тогда уже пошли за контроль. В тот раз мы показали ей нашу любимую мумию, которая лежит в Египетском отделе, потому что другую, ту, что найдена была на Алтае, мы не любили и смотреть на нее не ходили, а на египетскую — каждый раз, и Костя с жутким блеском рассказывал про то, как в Древнем Египте бальзамировали этих мумий, так что, казалось, дай нам волю — и мы сами забальзамируем кого угодно, хотя, как вы знаете, секрет бальзамирования утрачен навсегда. А потом мы повели ее к Пантохе де ла Крусу, на которого она в жизни не обратила бы внимания, и долго стояли перед этим рыжим гадом с красными, как у альбиноса, глазами; и мне все казалось, что если дать ему волю, то он выскочит сейчас из рамы и разнесет всех на куски — так ему нравилось, что мы стоим перед ним и прохаживаемся насчет его достоинств. И про Ду Фу рассказал, про великого китайского поэта, о котором она, конечно, не имела никакого представления, точно так же, как не имел его я, пока не вытащил его стихи из кучи книг однажды, когда мы играли с Костей в Пунические войны. Я показал ей это стихотворение об одиноком гусе. Но я ничего не сказал ей, как я тогда плакал, стоя во дворе, — не знаю почему, но не сказал. И мы потом читали этого самого Ду Фу до одурения и теперь, наверное, являемся с Ленкой самыми начитанными специалистами по Ду Фу, потому что мы эту книжечку выучили только что не наизусть, а потом я потратил десять астрономических лет, чтобы перерыть все книжные развалы — и отыскал все-таки потрепанную от многолетнего лежания зеленую книжку, на которой была изображена золотая луна размером меньше копейки и волосяными запутанными линиями нарисован пруд с цветками лотоса, и если вы увидите где-нибудь такую книжку — хватайте ее, не задумываясь, несите домой и наслаждайтесь — если только у вас хватит терпения дойти до дома и не заглянуть в нее.
И так, я думал, будет все время. Трудно было даже представить, что она, Ленка, может куда-нибудь деться; на короткое время каникул — и то трудно было представить, а когда она сказала, что вся их семья на целых три года уедет в эти чертовы Кириши, — у меня внутри прямо что-то оборвалось. Нет, я не мог себе этого представить, не мог вообразить, что вот начнутся занятия и я приду в класс, а там, в третьем ряду справа, если скосить глаза от того места, где я сижу, будет свободное место или, что еще хуже, будет отсвечивать кто-нибудь вроде Геры Попова — как представишь себе, так и в школу ходить не захочется. Но постепенно я стал думать об этом все меньше и меньше, потому что время проходило и она, Ленка, об этих трижды проклятых Киришах больше не заговаривала, и я, подозреваю, стал думать, как тот страус, который сунет свою голову под крыло и считает, что если он закрыл глаза и ничего не видит, то и его не видит никто.
Так было и со мной. Я просто отказался верить в Кириши. Еще немного, и я убедил бы себя, что мне все это приснилось и что такого места, такого города вообще не существует в природе, что мне примерещилось все это, и так будет длиться всегда — всегда, до конца каникул мы будем бродить с Ленкой по всяким прекрасным местам, а когда каникулы окончатся, как ни в чем не бывало вернемся в свой класс.
Но если я и думал так, то, значит, я еще глупей, чем кажусь. Потому что думать так — это значило надеяться на чудо, — а кто может сказать, что в его жизни было хоть одно чудо. Хоть одно-единственное, хоть маленькое. Взрослые — да. Со взрослыми, я полагаю, иногда еще случаются чудеса, но с ребятами — никогда. Я, по крайней мере, ни от кого из ребят о таком не слышал. А раз так, значит, не будь я круглым дураком, я должен бы помнить об этом. О том, что с ребятами не бывает чудес, и не уподобляться страусу.
Потому что она уехала.
Да, уехала.
Это произошло в тот день, когда я ждал выписки. Вернее, я ждал, что меня выпишут на следующий день, а тот день, о котором я сейчас говорю, был воскресным, а по воскресеньям, как вам известно, никого не выписывают. В больнице, даже такой шикарной, вообще-то изрядная скучища, а в воскресенье — в квадрате, особенно если ты отлежал там все бока — как я отлежал их. Я весь день бродил по коридорам, не зная, чем бы заняться, и сунул нос, кажется, уже во все мыслимые и немыслимые углы, и поспал даже, хотя в этой Военно-медицинской распрекрасной академии я, как мне казалось, отоспался на пятьсот лет вперед, до конца моей жизни. Да, я часочек все-таки поспал, но сон был какой-то муторный, потому что в этот день стояла страшная жара, и если здесь, за толстыми старинными стенами, было так жарко, то можете представить, что за преисподняя была на улице, где даже асфальт потек и из окна видно было, как у женщин каблуки застревают в тротуаре. Жуткий был день, и кончилось тем, что голова у меня заболела, словно мне свалилось на нее бревно, и я еще более уныло стал бродить, как привидение, и всем мешать, пока не нашел какую-то газету трехсотлетней давности, где была напечатана партия из матча претендентов, и я взял у дежурной доску и битый месяц играл за Спасского против Бирна и всаживал ему один мат за другим, жертвуя ферзя за две легкие фигуры.
А потом меня навестила моя тетка, о которой я, по-моему, начал как-то рассказывать, но так и бросил. Сколько я ни просил ее не приносить ничего — совсем ничего, сколько ни убеждал, что сам могу прокормить еще двоих, — она знать ничего не знала и только одно твердила: «Больному надо есть, ешь побольше, быстрее поправишься». Так что, возвращаясь после теткиного посещения к себе в палату, я тащил за спиной мешок с провиантом — точь-в-точь, как Дед-Мороз в рождественскую ночь.
Я даже заглядывать внутрь не стал. Я уже говорил — духота была в тот день страшная, но я все равно пошел снова в наш садик, потому что палата моя мне тоже уже надоела, и если бы не уверения Василия Васильевича, моего лечащего полковника медицинской службы, что мой вклад в науку совершенно неоценим, — клянусь, я уже давно сбежал бы отсюда — прямо в этой своей дурацкой больничной куртке и коротких штанах, которые делали меня похожим на чемпиона по дзюдо. Но не успел я устроиться поудобнее, как к самому входу подкатывает такси, и я еще, помню, удивился, потому что на этой тихой улочке, куда выходит ограда, такси — редкое явление. Но у меня глаза на лоб полезли, когда из него, этого такси, выскочила Ленка и — бегом к калитке. Я рванулся к ней навстречу, обрадовался жутко и даже сдуру не подумал, с чего это она средь бела дня раскатывает на такси, и тут она меня увидела.
Тут я наконец и сам понял, что здесь что-то не так. Но я был так рад, что еще по инерции закричал, как болван:
— Ленка, — кричу, — вот молодец!..
А она говорит:
— Дима. Я уезжаю.
Я остановился, будто со всего размаху наткнулся на забор.
— Как, — говорю, — уезжаешь? То есть ты хочешь сказать…
А она:
— Димка. Я уезжаю. Сегодня, сейчас… Я не могла тебе ничего сказать. Я сама не знала. Сегодня… сегодня прислали грузовик и «Волгу» и уже все погрузили… а я… я сказала, что поеду проститься с девочками… а это… я тебе, на память, — и тут только я заметил, что в руках у нее здоровенный пакет и она сует его мне, и я вижу, что она возбуждена и расстроена, и хоть я сам просто остолбенел, хоть один раз в жизни я понял, что должен проявить мужество, не распускать нюни, мне просто хотелось завыть, я сказал ей: «Подожди. Подожди, — говорю я ей, — подожди минутку».
Схватил этот пакет — и бегом к себе. Кинул пакет на кровать, вытащил из тумбочки свой тренировочный костюм и все деньги, что у меня накопились, — рублей восемь, переоделся за четверть секунды — и вниз, мимо обомлевшей нянечки.
— Поехали, — говорю. — Поехали, я тебя провожу.
И мы — бегом к машине, и я изображаю из себя такого молодца, а на душе так скверно, прямо кошки скребут, и мы подбегаем к машине, а оттуда — кто бы вы думали смотрит на меня? Костя.
— Ах ты мерзавец, — говорю.
А он смеется: «Решился, — говорит. — Значит, я проспорил коробку конфет. Правда, Ленка?»
Но тут мы уже понеслись, вывернули из тоннеля на Литейный мост, и Костя сидит впереди с шофером, занимает его каким-то разговором, а я даже не сообразил сначала, куда мы едем, и только стараюсь не выдать себя, только что зубами не скриплю, собрал всю волю в кулак, потому что вижу, что Ленка вот-вот расплачется и слезы уже дрожат у нее — да, огромная слезища так и повисла, и тут я уже обо всем позабыл, тут я обнял ее и говорю:
— Ничего, — говорю, — ну, ничего. Ты напиши мне. Напишешь?
А она, Ленка, даже и не говорит ничего, а только кивает — и так она кивала, пока я не увидел, что мы приехали.
Да, приехали. Она жила на углу улицы Севастьянова, и мы остановились, не заворачивая на Кузнецовскую, но и с того места, где мы стояли, видны были огромный крытый грузовик и вишневая «Волга» — прямо у Ленкиного подъезда, и вот тут-то только я понял, что это мне не снится, а что это все наяву и Ленка уезжает. В это время шофер вышел, поднял капот и нырнул туда, и Костя присоединился к нему, и вот мы остались с Ленкой вдвоем, а потом она встанет и уйдет. Я даже смотреть ни на что не хотел. Опустил голову и сижу. И чувствую, что от моей хваленой силы воли сейчас останется только мокрая лужа. И тут я слышу:
— Дима… — и не успел я еще сообразить, что к чему, как Ленка поцеловала меня. Я не знаю, куда она хотела меня поцеловать, но получилось где-то между углом рта и носом, а потом она сказала мне прямо на ухо: — Димка… Кириши — это же совсем рядом… я напишу тебе, а зимой я приеду — на все каникулы. — И она выскочила из такси. Я видел, как она отбежала шагов на десять, потом, словно вспомнив что-то, повернула на полном ходу, подбежала к Косте и чмокнула его в щеку, — видел, как она поднялась на цыпочки, — а потом она перебежала улицу и исчезла.
А потом мы поехали обратно. На том же такси. Костя сидел снова рядом с водителем, а я болтался сзади, и мне было как-то все равно, будто это не со мной все происходило, а с кем-то совершенно посторонним, и я снова не заметил, как мы отмахали через весь город, и я поплелся к себе в палату, а Костя крикнул мне вслед: «Эй, не вешай нос…»
И уехал.
И в это время начался дождь. Я говорил вам, что весь день жарило, как в преисподней, духота стояла смертельная, и вот теперь где-то прорвало и дождь обрушился на город, как если бы снова начался всемирный потоп, — так что когда я добрел до палаты, меня можно было выжимать.
Но мне было все равно. Если бы меня сейчас застрелили, я бы и не заметил. До меня только сейчас стало все доходить, и вот тут-то я и почувствовал, как мне плохо. Я добрел до своей палаты, стянул тренировочный костюм и влез в куртку дзюдоиста. Окно было открыто, за окном громыхал гром, и молнии блестели так, как если бы действительно существовал какой-то громовержец Зевс, повелевавший молниями. Я сел на кровать и увидел пакет, который мне дала Ленка, и стал его развязывать чисто машинально, а сам все вспоминал ее слова, — то, что она обещала приехать зимой на каникулы, и все пробовал понять, когда же это будет, если теперь август, — пробовал и не мог, и в это время я развязал пакет. И что бы, вы думали, там было? Роскошная книга — «Одиссея» в старинном издании Девриена с гравюрами необыкновенной красоты…
И это было уже слишком. Я чувствовал, что сейчас что-нибудь сделаю. Выскочу в окно. Разобью стекло. Завою. Я схватился за спинку кровати и стал трясти ее, словно она была в чем-то виновата…
И тут я увидел яблоки.
Они лежали у меня на тумбочке — ровные, одинаковые, золотистые. Я сразу узнал их — это были яблоки из сада Гесперид, и кто владел ими, мог рассчитывать на вечную молодость. Тут-то я все и понял. Потому что мне не нужна она была — молодость. Она мне не нужна была никакая — ни простая, ни вечная. На кой черт она мне была. Я не хотел быть молодым. Я хотел быть взрослым, потому что взрослый — и только! — не зависит ни от кого, и ему не надо ждать никаких каникул, и от него никто и никуда не уезжает, если не хочет. Нет, вся эта молодость мне была не нужна. И тогда я понял, что мне нужно сделать. Я схватил эти яблоки и что есть силы запустил их в окно. Сначала одно, потом другое, потом третье — они ударились об асфальт, подпрыгнули, покатились и исчезли. И тут я услышал снизу голос. Я даже не поверил себе — высунулся в окно и гляжу — а там, прямо под окном, весь мокрый, как сатана, Костя, и он кричит мне:
— Ты что, совсем из ума выжил? Чуть не проломил мне голову своими дурацкими бананами.
А я кричу:
— Костя, дуралей, какого черта ты здесь делаешь?
А он:
— Я, — говорит, — подумал: а вдруг ты захочешь прыгнуть из окна. Тут я тебя и поймаю.
Тогда я ему говорю: «Все, — говорю, — в порядке».
А он: «Ну, тогда, — говорит, — я пошел».
Вот такая произошла со мной история.
Помню, я тогда до полуночи все читал и читал, да так и уснул. Проснулся на рассвете — лежу, скорчившись, а под головой «Одиссея». Я встал и подошел к окну. Дождь уже давно кончился, и было совсем светло. Небо было ясным, и похоже на то, что днем снова будет несусветная жара. На душе у меня было совсем спокойно и чисто, словно меня промыло дождем, и чего-то мне хотелось, как если бы там, внутри, где положено быть душе, есть какое-то маленькое незаполненное пространство, которое обязательно нужно заполнить. Только что же это такое — я не знал.
Так я стоял, наверное, более часа, стоял и смотрел на воду и на небо, которое светлело все больше и больше, на вымытые дождем деревья, застывшие в ожидании жары, и все думал — чего же я хочу, чего ожидаю… И тут я поймал себя на том, что мне хочется зимы и снега.
1976 г.
Доказательства
Сначала он пел так: я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров. Затем он решил несколько изменить слова, и получилось: я птицелов, я птицелов, я бодр, и весел, и здоров. И тут он представил себя птицеловом — клетка в руках и силки. А в силках бьется беспомощная птица, которой едва ли до песен. Какой-то элемент преднамеренной жестокости проглядывал здесь, и, чтобы смягчить его, он снова изменил и спел так: я старый добрый, — именно старый и добрый, — этими словами элемент преднамеренной жестокости если не уничтожался совсем, то в значительной степени смягчался, — я старый добрый птицелов, и всяк вокруг меня здоров… И все то время, пока он пел то на один манер, то на другой, он продолжал топтаться на месте, и остановился только тогда, когда на зеленом дерне вытоптал — как он того и хотел — две маленькие черные площадки. Только тогда он перестал топтаться и петь и огляделся…
1
На зеленой траве стояли они, на зеленой траве под синим утренним небом, трава была густой и влажной, роса еще не высохла, солнце поднималось слева, откуда время от времени налетал ветер. Ветер прилетал издалека, он скользил по траве, шевелил листки протоколов, он взвивался к небесам, синим и спокойным, транспаранты надувались, как паруса каравелл, они хотели унестись вслед за ветром — но того уже не было, он умчался дальше, и снова повисали флаги; на транспарантах на двух языках — русском и английском — было написано: «Привет участникам международных состязаний» Участники состязаний стояли на влажной зеленой траве и смотрели вслед ветру — он будоражил воображение, он был наполнен тревогой предстоящих боев. Им предстояло участие в первенстве мира, их было много, мест было всего три, трое мужчин должны были отправиться далеко, в заморские края, в Америку, куда давным-давно надутые другим ветром паруса каравелл принесли Колумба, — не туда ли проторенным путем унесся ветер…
Объявляется пятиминутная готовность!
Ветер унесся, флаги повисли, но волнение осталось. Все волновались, все — с его места на двенадцатом щите, прямо посередине общей линии было особенно хорошо видна, что творилось вокруг, слева и справа, но первое, что он увидел, был Феликс. Феликс Крее, Феликс Освальдович Крее, главный судья международных соревнований, судья международной категории. Конечно, никто и не подумал бы назвать его сейчас просто Феликсом: он был велик и недоступен, замкнут и отрешен, словно Великий Инквизитор; он совершал свой путь вдоль линии стрельбы, передвигаясь отчужденно и прямо, наметанный взгляд его в последний раз проверял, все ли было в порядке, все ли было в соответствии с международными требованиями; он был непохож на веселого, смешливого Феликса иных дней, и его замкнутость отрешенность едва ли не больше всего другого показывали степень волнения, раз даже Феликс мог измениться настолько, что стал похожим на Великого Инквизитора, — так на кого же стали похожи все остальные, все мы, и на кого стал похож он, Сычев.
Потому что Феликс…
Потому что в обычное время Феликс — это само радушие, ты сидишь у него в кабинете, он занят, как всегда, ты ждешь, пока он освободится, и смотришь в окно; окно выходит на залив, и ты видишь выкованное из серебра пространство, среди которого неожиданно, всегда неожиданно, возникает вдруг и вновь исчезает, словно забытое и вернувшееся на миг воспоминание, что-то трогательное — то ли крыло чайки, то ли далекий парус.
Или ты приходишь к нему домой; маленький деревянный домик стоит в гуще старого парка: он живет на улице Лейнери; перед домом у него цветы, и во дворе — тоже цветы, в домике — стерильная чистота и, конечно же, цветы, только что срезанные цветы в толстом глиняном кувшине, радушие и покой. Ты пьешь кофе со сливками, сливки в серебряном сливочнике. Не пойти ли нам сегодня в «Варьете»?
И вы идете в «Варьете».
Или ты идешь с ним по Старому городу. Старый город у тебя под ногами, слева и справа, узкие улочки вымощены тесаным камнем, серые стены башен сложены из камня; крепость, что высится над городом, тоже из камня. Ты был в этом городе десятки раз, — что здесь осталось такого, чего бы ты не видел? Но ты с Феликсом, и он ведет тебя куда- то, куда ты сам не пошел бы; он здесь родился и прожил сорок лет, и у него всегда есть что показать тебе, даже если ты здесь в сотый раз и в двухсотый тоже.
Или вы — уже втроем, потому что с вами Ингрид, — гы, Феликс и Ингрид. Вечер, темно, зажигаются фонари, вы сидите в кафе, одном из бесчисленных кафе, скажем — в «Пегасе». Тающие во рту булочки высятся горой, на пятачке размером с тетрадный лист — фортепьяно, ударник и саксофон играют весь вечер чистые и грустные мелодии, и ты видишь, как теплеют серые глаза Ингрид. Феликс поправляет свой галстук бабочкой. Теперь он не похож уже на главного инженера завода «Терас», кто может догадаться о его профессии инженера-механика? Быть может, он кондотьер, ил он дипломат, вернувшийся из заморских далеких стран, а может быть, и кафе это, чуть подсвеченное скрытыми огнями, не кафе вовсе, а корабль, плот, ковчег, и вот он плывет себе и плывет меж серых каменных домов в далекую и таинственную страну — и нет ничего вокруг, только грустная мелодия, что выводит саксофон, только темные черепичные крыши, только серые глаза Ингрид…
Так было — недавно и давно, так, возможно, будет, но не теперь, не сейчас, сейчас всего этого нет, как не было, а если и было — то в другом измерении и другой жизни. Неужели все изменилось, трава и ветер, ветер и солнце, — что причиной? Оглянись, сказал себе Сычев, неужели вокруг то же самое?
То же самое. Ветер, солнце и зеленая трава, и люди, которых он знал не первый год, впрочем здесь все знали друг друга не первый год, звезды мирового спорта; они знали друг друга задолго до того, как познакомились, их было не так уж много, в Европе и Азии, Африке и даже в Австралии. Их было так немного, что они знали друг друга по именам, поздравляли с Новым годом, обменивались подарками… И все-таки они менялись в тот самый момент, когда раздавался свисток — объявляется пятиминутная готовность — и в этот самый момент они менялись, и Феликс становился похожим на Великого Инквизитора, и рука сжимала рукоятку «марксмана» или «ягуара», «хойта» или «черной вдовы»; Мариан Парульский все снимал и натягивал на самые уши свой всему миру известный потертый зеленый картуз; маленький Бужо, чемпион Франции, свирепо вдыхал и выдыхал воздух, косясь налево, где длинный и рыжий Мэтьюз, чемпион Великобритании, втирал в тетиву воск; так, может быть, поступал и его предок при Азенкуре или Кресси, а может быть, и при Пуатье. В таком случае прогресс был налицо; налицо было облагораживающее веяние нового времени: вековые враги с луками в руках стояли теперь не друг против друга, а плечом к плечу, англичанин рядом с французом и монгол возле русского. Газеты писали: спорт сближает сердца. Вероятно, это было правильно, жаль только, что генералы не увлекаются спортом. Хорошо бы генералам состязаться в беге и метании копья, адмиралам — в плавании; хорошо, если бы единственным оружием на земле остались луки и стрелы. Луки и стрелы стоили совсем не мало, но, конечно, много меньше, чем танки и подводные лодки, не говоря уж о бомбах, простых и атомных. Вопрос о разоружении стал бы много проще. Каждый из них мог бы стать по праву генералом, и уж между собой они как-нибудь договорились бы. Но все это были мечты, эмпиреи, пока что генералы прочно сидели на своих местах, орудия массового Уничтожения успешно совершенствовались, над этим работали лучшие умы человечества, дипломаты проводили свои совещания в обстановке полнейшей секретности, напалм прожигал человека насквозь, шариковые бомбы разносили его в клочья. Лук и стрелы были игрушкой, анахронизмом, странной причудой, и сами они были чудаками: удивительно было, что им пришло в голову заниматься стрельбой из лука, еще удивительней было то, что, занимаясь этим, они проделывали все это всерьез. М уж вовсе непостижимым было их волнение, — ведь причин для волнений не было, дипломатические недоразумения были абсолютно исключены и денег за это они не получали.
И все же они волновались, даже великий Остапчук, шестое место в мире, второе в Европе; он хмуро поигрывал литыми плечами и слишком уж тщательно втирал тальк в рукоять своего «хорна». И уж на что невозмутим был О. Финкелынтейн (сборная Советского Союза), и он, сидя, как обычно, до самой последней секунды на скамье в нейтральной (пять метров от линии стрельбы) полосе и ловко орудуя спицами, на этот раз без конца шевелил губами, пересчитывая петли, и вот уже который раз начинал сначала.
Ну а он, Сычев? Выходило, что он только один и не волнуется, один среди звезд, ведь он тоже был звездой, не первой, конечно, и не второй величины, и даже не третьей, он был «одним из лучших» — так это говорится, — но вовсе не лучшим, он был звездой из туманности, он составлял Млечный Путь. Он был неразличим на общем фоне — может быть, поэтому он не волновался, потому что ни сам он, ни его волнение не были никому заметны, интересны, он был звездой десятой величины — средняя середина, в звездных каталогах Европы и мира он не значился — действительно, с чего бы ему волноваться… Тут губы его дрогнули и предательски скривились.
Да, ему нечего было волноваться. Выиграть он не мог, проигрывать ему было нечего. За десять лет если он к чему и привык, то это к проигрышам, тут он мог поспорить с любым. Тут он стоил не двух, а шести небитых; единственное, что ему оставалось, — это терпение, и похоже, оно у него было безграничным. Иногда оно даже вознаграждалось, его терпение, судьба была слепа, и время от времени удавалось примоститься где-нибудь на третьей ступеньке пьедестала; но это бывало так редко, что и вспоминать не стоило; здесь же, в этой компании, ему ничего не светило. И даже надеяться ему было не на что, это было элементарно, это было ясно хоть дураку, хоть умному, хоть трезвому, хоть пьяному, а он, на свою беду, не пил вовсе.
Так говорил он сам с собой, так убеждал себя, убеждал и успокаивался. И это так понятно. Мы редко позволяем себе признаться в истинных мотивах, которые движут нами, если эти мотивы почему-либо представляются нам сомнительными. Вместо этого мы принимаем успокоительные таблетки собственного изготовления. Мы наводим тень на плетень и бормочем что-то о недозревшем винограде. Ну и Сычев туда же — он, оказывается, и не собирался блеснуть чем-нибудь на этих соревнованиях, ему главное было — принять участие, а если так, если просто участвовать — чего волноваться.
Вот только губы у него дрожали…
Но тут Феликс, Феликс Крее, некогда старый друг, а ныне судья и Великий Инквизитор, добрался наконец до полосы, отделявшей женский сектор от мужского. И в то время как правая рука его с мегафоном медленно поднималась ко рту, он успел бросить быстрый взгляд влево — туда, где стояла Ингрид; но напрасен был этот взгляд, он был безответным, Ингрид стояла совсем рядом, но не видела его, она смотрела перед собой, прикусив нижнюю губу, и не видела ничего. Тогда он повернулся, приложил мегафон к губам, и над полем пронесся металлический голос: «Внимание!»
Тут Сычев почувствовал, как мелкая дрожь побежала у него по телу, от шеи к ногам. Левая рука его, державшая лук, вспотела, и рукоятка сразу стала скользкой. «Тальк, надо взять тальк», — подумал он, но как-то бессильно подумал, мысль эта появилась на обочине сознания, сознание было ленивое, чужое, не его. Его была потная ладонь, скользившая по рукоятке, и ему был нужен тальк, но словно сон овладел им, словно столбняк. «Тальк», — еще раз подумал он; затем эта мысль лениво, как пьяница в жаркий день, пробрела мимо и скрылась из виду, а он вознесся вдруг над землей и увидел эту всю картину сверху: огромное зеленое поле и две неподвижные линии. Одна линия — линия мишеней — была прямая, отчетливо видны были и щиты и сами мишени с огромными разноцветными кругами, другая линия была изломанной. Это были стрелки, мужчины и женщины; мужчины стояли за девяносто метров от мишеней, женщины — за семьдесят, посередине был излом; и вот в этом-то изломе и стоял Феликс Крее, который сверху был похож на смешное насекомое с вытянутым хоботком.
«Внимание! — кричал металлический голос с эстонским акцентом, и пустые трибуны послушно повторили это за ним. — Внимание!.. Первая зачетная серия… стреляют индексы „А“ и „Б“…»
И тонкий пронзительный звук свистка ножом отрезал прошлое от настоящего. У каждого из них, у каждого из тех, кто стоял сейчас на линии, были в прошлом, до этого свистка, свои дела и свои заботы, разные дела и разные заботы; в настоящем, которое началось сразу вслед за свистком, ничего этого уже не было. Теперь у них в ближайшие четыре дня было только одно — двести восемьдесят восемь стрел, по тридцать шесть стрел на каждой дистанции, двенадцать серий по три стрелы на девяносто метров, столько же — на семьдесят (тут закончится первый день); тридцать шесть стрел на пятьдесят метров и столько же — на тридцать (тут закончится второй день и первый круг); в третий день — снова девяносто и семьдесят, а в четвертый — опять пятьдесят и тридцать, всем осточертевшее упражнение, двойной международный круг ФИТА. И из всех этих двухсот восьмидесяти восьми стрел всегда запоминаются только две; самая первая стрела первой серии на девяносто метров и самая последняя на тридцатке, что, впрочем, и понятно, ибо с ними связаны начало и конец ваших надежд.
Эта минута… Даже ветер стих, словно из любопытства. И было тихо кругом… так тихо. Сейчас надо было сделать как раз тот самый первый выстрел, вот отчего стояла такая тишина. Они стояли молча, собирая вместе умение и нервы; за этим первым выстрелом стояли тысячи часов тренировок — долгие часы, дождь и жара, стертые в кровь пальцы, незримо витали надежды и мучительные сомнения. Им пора было начинать, а они все не решались, а стрелка уже бежала по кругу, отсчитывая первые секунды из тех двух с половиной минут, после которых на светофоре зажжется красный свет, и тот, кто не успел, должен уйти с линии и уступить место другим. Так стояли они и вели счет своим секундам, и Сычев среди них, пока наконец то, что можно было выждать, ушло.
Тогда он вложил стрелу в гнездо на тетиве. Хвостовик вошел и щелкнул, как взведенный курок. И если то, что мы есть, определяется нашим прошлым, — с этого мгновения он перестал быть самим собой. И уже неважно было, что именно для него имело цену и значение в этом недавнем прошлом, — круг повернулся, декорации исчезли и появились снова, но это были уже другие декорации, и роли у актеров были другие — разбойник играл добропорядочного семьянина, а Золушка — Бабу-Ягу. Кем был Сычев на зеленой арене — он не знал, представление захватило его; он весь предался во власть ощущений, в основе которых лежал тончайший расчет, доведенный на тренировках до автоматизма. Левая рука его с луком стала медленно подниматься, рука поднималась плавно — плавность была главным условием хорошего выстрела. Далеко от него стояла мишень с золотым яблоком посередине, и к этому-то яблоку и двигался его прицел, прицел и левая рука, а правая мягко вела тетиву к подбородку. И в эти считанные мгновенья, пока руки, независимо от него, поднимали лук и тянули тетиву, он успел заметить флажок, шевельнувшийся от порыва ветра за девяносто метров от него; слева на солнце наползала тучка; рукоятка лука скользнула у него в руке, давление приходилось немного выше основания большого пальца, мысль о тальке снова появилась где-то сбоку, появилась и исчезла, он только успел подумать, отрешенно, как и в первый раз, — надо, надо было взять тальк; тетива легла не по месту, не коснулась самого кончика носа, а легла справа, он не думал обо всем этом, автомат, сидевший внутри, справился без него, сам все проанализировал, почувствовал, в то время как прицел — черная точка — тихо полз по раскрашенным кругам к центру. Белый, черный, голубой… красный и наконец золотисто-желтый; дополз и замер, и тут же автомат дал поправку — на тучку и на ветерок. Прицел нехотя шевельнулся, сполз с середины вправо и вниз, дрогнул и снова замер. «Проверка, — сказал он себе, — проверка…» Всё было в порядке. Всё было в порядке, прицел не дрожал, вынос был определен правильно, секундная стрелка бежала, время шло можно было стрелять, нужно было стрелять, оставалось только произвести выстрел, левую руку надо было удержать там, где она и была, справа и ниже золотисто-желтого круга, правой рукой потянуть тетиву, тянуть и тянуть, включить спину, завершающее усилие должно было выполняться как бы само собой: незаметное движение лопатки, мягкое и мощное, и в тот момент, когда щелкнет кликер, кисть должна сама расслабиться, пальцы отпустят тетиву, она уйдет с мягким шипением, она рванется вперед, она выбросит стрелу в пространство, но тебя это уже не касается — ты должен остаться недвижим. Да, ты не должен даже шевельнуться — до тех пор, пока стрела с характерным звуком — «тук-к-к» — не воткнется в мишень.
Что он и сделал. Он протащил стрелу. Он замер. Теперь потянуть. Он потянул. Теперь лопатка. Лопатка пошла, пошла, сейчас щелкнет кликер, он щелкнул, и в тот момент, когда пальцы, расслабившись, должны были отпустить тетиву, они вдруг словно одеревенели, они прилипли к тетиве, левая рука уже сдвинулась с места, прицел покатился вниз, а он все тянул и тянул, понимая со странной смесью ужаса и изумления, что сейчас, вот сейчас произойдет непоправимое, но он не мог разжать пальцы, не мог, не мог. Это было нелепо, то, что он не мог разжать их, это было так нелепо и бессмысленно, что удивление в нем победило ужас, он смотрел на себя со стороны, со стороны это выглядело еще более нелепо, и он едва удерживался, чтобы не покачать головой. Прошло мгновение, не больше — и тут до него дошли все ужасные последствия такого положения. «Снять, снять выстрел!» — крикнул он себе, но сделать ничего не успел, левая рука была согнута, он уже не видел прицела, он знал только, что стрелять нельзя, — в это время пальцы наконец раскрылись, он почувствовал толчок, он дернулся весь, словно этим отчаянным движением хотел выпрямить путь тетивы, но уже было поздно, он мог только выглянуть из-за покосившегося лука, он выглянул и увидел, как некрасиво, боком, виляя, стрела понеслась к мишени, пытаясь в воздухе выпрямить свой полет. Ему было нестерпимо больно смотреть на это, и он закрыл глаза.
И тут же звук — жалкий, словно лопнула где-то струна, долетел до него.
Все было кончено. Не стоило открывать глаза. Не стоило даже брать бинокль, чтоб посмотреть на такой выстрел, но он, чисто механически, сделал это — снял бинокль с пояса и посмотрел: стрела его была в щите. Она воткнулась в щит так, как она и летела, — боком, жалко, и теперь понуро висела у самого края мишени. Руки у него тряслись, бинокль прыгал, и некоторое время он не мог даже понять, задел он хотя бы единицу или нет, и ему пришлось опереть бинокль о лук. И тогда он увидел, задел.
Единица!
Не десятка и не девятка, и даже не шестерка на худой конец — единица, одно несчастное очко, но он обрадовался так, словно попал в самый центр десятки. Единица — это все-таки был не ноль, это было попадание, это было очко, но ведь очко, не промах, нет, не промах…
Нет, его так просто не возьмешь. «Спокойно, — сказал он себе, — спокойно». Вторая стрела; рука вынула ее из колчана, стрела легла на тетиву, и хвостовик щелкнул; он делал это сотни раз, он делал это тысячи раз, он не был звездой первой величины, но и последним он тоже не был. «Так, — сказал он себе, — ну, давай». Веселая злость пузырьками поднималась у него в груди. «Значит, единица», — сказал он себе, и левая рука его мертво стала в центре.
«Единица». И пальцы мягко легли на тетиву.
«Единица». И лопатка пошла назад. «Контроль», — сказал он себе, но больше уже по привычке, злость кипела и поднималась; контроль, проверка — но все было в порядке, левое плечо было на месте, кисть лежала в рукоятке, словно младенец в колыбели, кончик носа чуть касался тетивы, а прицел все стоял в центре; так рыба стоит над камнем, живая и неживая в одно и то же время, и двигаясь, и стоя на месте; все было в порядке, и он дотянул еще чуть-чуть. Тут щелкнул кликер, — тяга шла, пальцы раскрылись сами собой, движение было мягким и неуловимым для глаза, правая кисть свободно ушла назад, прицел все еще стоял в центре, а стрела исчезла, она рванулась и исчезла из поля зрения, раньше чем он успел бы моргнуть. Только он ведь и не моргал, моргать ему было вовсе незачем, как незачем было ему глядеть, куда летит его стрела и куда она попадет, ибо в тот самый момент, когда он выстрелил, в тот момент, когда разжались пальцы и соскользнула тетива, — он почувствовал и понял, он был совершенно уверен, что эта стрела будет «там», в середине, в самом центре, и так оно и случилось, — так что когда издалека донеслось до него столь сладостное — «тук-к-к», ему на этот раз не пришлось ни пересиливать себя, ни тратить время на то, чтобы смотреть в бинокль. Нет, здесь он времени терять не стал, веселые и злые пузырьки все еще поднимались в нем, это было восхитительное чувство, и пока оно не прошло, не стоило терять ни секунды. И он просто повторил все, как автомат: левая рука, правая рука, прицел, проверка, тяга, лопатка, щелчок и выпуск. И снова издали донеслось до него — «тук-к-к»… Он только зубы сжал, повернулся и пошел с линии стрельбы на свою скамейку. И только тут, теперь только он по-настоящему испугался, вот тут-то на него накатил настоящий страх, как если бы он выскочил удачно прямо из-под колес машины и пошел бы себе как ни в чем не бывало и, может быть, даже посвистывая, а потом остановился бы, и ноги подкосились, и пот побежал по груди и по спине; стоял бы весь мокрый и думал бы: «Да, пронесло. Но могло-то быть и иначе».
Точно так и здесь — все могло быть иначе, и Сычев не дошел еще до скамейки, а уж колени у него подогнулись. И все-таки он уже выскочил, а вот Зайдниексу, который шел ему навстречу, все еще предстояло. Зайдниекс шел ему навстречу, улыбаясь белыми от волнения губами; он стрелял по тому же, что и Сычев, щиту, он был «литер В». Он был парень что надо, Аугустинус Зайдниекс из Даугавпилса, он был слесарь-ремонтник, он всегда владел своими нервами, он и сейчас владел ими, когда попробовал улыбнуться Сычеву. Сычев же только и мог что моргнуть в ответ.
На скамейке сидел веселый, как всегда, Шарафутдин Ташибеков и смотрел в подзорную трубу.
— Ну, — осипшим голосом спросил его Сычев, — Ну, Шурик?
Шарафутдин открыл зажмуренный глаз и посмотрел на Сычева. Глаза его были темно-карие, твердые и веселые. Смотреть на него и то было приятно. Это были глаза веселого и доброго человека, добрым и веселым человеком был Шарафутдин Ташибеков, он был мастером международного класса, Шарафутдин Ташибеков, он был учителем средней школы; наверное, там, в горах, где он был учителем, иным и нельзя быть, и Сычев подумал вдруг, что хорошо, должно быть, ребятам иметь такого учителя, как Шурик. От сердца у него отлегло, и он улыбнулся. Он улыбнулся Шарафутди- ну, как улыбнулся бы любимому брату, и Шарафутдин, Шурик, улыбнулся ему в ответ, и тут Сычев подумал снова, что будь у него такие зубы, он вообще не смыкал бы губ, улыбался бы без остановки с семи утра до двенадцати ночи, и даже перерыва на обед не стал бы просить.
— Ну, — сказал Сычев, улыбаясь, — ну, Шурик?
— Очко, — сказал Шарафутдин. — Хорошо, а? — Ему, похоже, очень хотелось засмеяться, он даже словно подпрыгивал от нетерпения, так его распирала радость — ведь жизнь была так хороша; и, глядя на Шарафутдина, нельзя было не признать правильности этого несколько общего положения. И Сычев согласился и сказал:
— Да, Шурик, вроде и в самом деле неплохо.
— Неплохо? — сказал Шарафутдин. — Нет, это просто хорошо, а?
И они рассмеялись, и тут Сычев окончательно пришел в себя. Шурик был прав, конечно. Это было хорошо, это было замечательно, замечательно было, что он попал оба раза в десятку, злые пузырьки у него в груди исчезли, злости не было, а была уверенность и теплота. «Все хорошо, — говорил он себе, — все хорошо».
Он хотел было сказать об этом Шарафутдину, но тот уже исчез, унесся, убежал, и Сычеву ничего не оставалось, как вытащить из колчана записную книжку и карандаш и твердым вертикальным почерком вывести: «Первая серия. 1 + 10+10 = 21».
Ну, так вот оно и началось. Сначала ты делаешь то, что должен сделать, потом уходишь, потом возвращаешься и делаешь это дело снова. И еще раз. И еще… уходишь и возвращаешься, но разве это в первый раз? Разве не это мы делаем всю свою жизнь? Между солнцем и зеленой травой, под голубым небом, сверкая, проносятся стрелы, ты уходишь и возвращаешься и снова уходишь, и солнце освещает тебя, а может быть, через минуту польет дождь — разве в этом дело? Ты — часть большого мира, ты делаешь свое дело, земля вращается, где-то ночь, в земле лежит зерно, где-то холод, где-то зной, варится сталь, добывается уголь, добывается нефть, мудрец сидит согнувшись над листком бумаги, спит женщина, вернувшаяся с ночной смены, где-то родился ребенок, кто он — будущий Сократ, Заратустра или новый доктор Менгеле; летят стрелы, жизнь идет своим чередом, жизнь вечна, но неизменным в ней остается только одно — ее изменчивость.
А ты стоишь на линии, ты литер «А» или литер «В», ты инженер, учитель, портной, архитектор, милиционер, слесарь или летчик, ты живешь в Англии, ты живешь в Сиднее, Ленинграде, Копенгагене, Москве, Антверпене, в горном кишлаке.
Ты держишь в руках «хойт», или «марксман», или «голдн игл», или «грин хорн», или «блэк видоу».
Ты идешь к щиту по зеленому полю, по упругой траве, над тобою ветер развернул флаги, транспаранты рвутся вдаль, «привет участникам международной встречи», ты идешь к щиту, чтобы выдернуть стрелы.
А потом ты снова идешь, чтобы через несколько минут начать все сначала, и думаешь о мире, таком большом и таком непохожем.
Ты думаешь о том мире, что меняется каждую секунду, о потоке, в который нельзя войти дважды, и о том, что ты сам — это капля в безграничном океане. Можно было бы предположить, что капля никому не интересна, что ею можно пренебречь. А потом ты вспоминаешь, что без капли нет ручья, без ручья нет реки и нет океана. И ты начинаешь думать о своем мире, в котором ты живешь сейчас, когда ходишь по зеленой, уже успевшей высохнуть траве. Но ведь не всегда ты живешь в этом мире, мире стрел и флагов, есть еще другой, на время оставленный тобою мир, и вот о нем-то неожиданно для себя и вспомнил Сычев, вспомнил и забыл, и снова вспомнил, и стал думать о нем, вспоминать о нем, и уже не забывал, не забывал о том мире, из которого он уехал три дня назад; мир был тогда другим, он, Сычев, был тогда другим, и другой была вода в потоке.
2
Поток существовал всегда, всегда существовал мир, солнце над головой, ветер и звезды и тропа у ручья, витязь ехал по тропе темным лесом, чистым полем, зеленая трава и синее небо, лук за спиной, в руке копье, витязь ехал по белу свету и доезжал до развилки, тут он замечал, что дорога разделяется, направо пойдешь — коня потеряешь, конь пятился, колебалось в руке копье, пасмурно становилось на душе, налево пойдешь — домой не придешь, белели обглоданные ветром кости и ворон мерзко хохотал в вышине. Проходили минуты и часы, надо было выбирать, проблема выбора возникала рано или поздно перед каждым, и каждый рано или поздно делал свой выбор.
Проходили дни, месяцы, годы и столетья, менялись формы правления, появлялись и исчезали религии, экономические учения, менялись авторитеты, проблема выбора оставалась, хотя витязь был уже другим…
Существовало несколько путей, и выбор каждого из них был в равной мере случаен и закономерен. Если бы пришлось подыскивать названия, то один из них можно было бы назвать путем необходимости. Он, Сычев, так и назвал бы его, будь он склонен к скрупулезному анализу своих действий, но он не был к этому склонен — особенно если ему и в самом деле приходилось выбирать.
Этот путь состоял, в основном, из аритмичных бросков через переполненные людскими телами пространства; пересадки были похожи на штурм редута, короткие, как удар клинка, реплики парировались молниеносными взглядами. Тяжелое дыхание, медленно раскрывающиеся двери вагона, водоворот встречных противоборствующих течений. Искусственный воздух подземного помещения и быстрый, чересчур быстрый бег стрелок на часах; время летит, время приближается к девяти, стрелки не ждут, волнение повисает в воздухе, как невидимый, но реальный туман, из тумана появляется красная шапочка, красная шапочка кокетливо посажена на обесцвеченные кудри, высокий от напряжения голос уговаривает: «Граждане, не толпитесь, становитесь на ступеньку эскалатора по двое…»
Эскалация нетерпения. Стрелки бегут.
Эскалатор не торопится, его движение задано наперед, эскалатору чуждо нетерпение, лениво движутся вверх рифленые ступени, люди вняли голосу, они стоят на рифленых ступенях по двое, а кое-где и по трое, но красная шапочка этого уже не увидит. Вверх, вверх, медленно вверх, господи, как медленно вверх; каждый, кто стоит на ступенях, рад бы помочь медленным, неторопливым ступеням, каждый рвётся туда, к выходу, хорошо бы иметь крылья, хорошо тому, кто имеет крылья, хорошо бы не зависеть от техники, расправить крылья и полететь, но человеку не дано летать. Эскалатор ползёт. Медленный, размеренный подъем, полупустые чёрные ступени, ползущие навстречу, уходящие вниз, в душную даль тоннеля. Не спеша уходят вниз бронзовые массивные светильники.
«Прослушайте объявление. Ленинградскому метрополитену для постоянной и временной работы требуются рабочие, мужчины и женщины. Для лиц, не имеющих специальности, организовано производственное обучение. Холостые обеспечиваются общежитием. Там же требуются уборщицы производственных помещений, заработная плата сто четыре рубля в месяц. Обращаться по адресу: Московский проспект, сто двадцать восемь. Повторяю…»
Девушка с чёрной сумочкой думает — я могла бы пойти уборщицей. Девушке двадцать четыре года, она инженер, её зарплата девяносто рублей. Её не примут уборщицей, ей не дадут сто четыре рубля, у неё диплом, она так и будет работать инженером, но она на всякий случай запоминает адрес: Московский проспект, сто двадцать восемь.
Но в этот момент уже светлеет, фиолетовый свет люминесцентных ламп сталкивается с ярким природным светом, искусственный свет, казавшийся там, внизу, таким ярким, тускнеет, бледнеет, исчезает совсем. Последние ступеньки. Они оседают, рифлёный поток исчезает в глубине машины. Неловкий, спотыкающийся шаг — и ты наконец наверху, на твёрдой и ровной земле, ты можешь продолжать свой путь.
Вперёд.
И ты устремляешься вперёд. Как жаль, что у тебя всё- таки нет крыльев. Быстро, быстрее, ещё быстрее, секундная стрелка несется галопом, ты не должен отстать, лететь ты не можешь, перед тобой парк, дорожки переплетаются, на траве еще не высохла роса, но ты бежишь, ты вынужден бежать вслед за стрелкой, наперегонки с безжалостным механизмом, и ты не видишь, не замечаешь уже ничего; цветы распластались в чашах из серого гранита, изумрудная зелень пронизана утренним солнцем, золотистые дорожки присыпаны свежим хрустким песком, но ты не видишь этого, ты бежишь, лёгкие жадно вдыхают прохладный утренний воздух: вдох, выдох, снова вдох, рубашка на спине уже промокла от пота.
А вот уже кончается желтая похрустывающая дорожка. За ней — набережная, кованая решетка, двуглавые орлы опустили длинные печальные шеи. Но ты не замечаешь ничего, незамеченной остается и ширь темно-синей воды, внезапно и остро открывающаяся взору там, слева, и краснокаменная туша Артиллерийского музея, и уходящий вправо узкий и изогнутый канал. Ты не видишь ничего, даже неба над головой у тебя нет, даже земли под ногами.
Бегом, бегом, бегом, по гулкому мостику, под желтую арку ворот, над воротами выбита дата —1740 год, мимо экскурсантов, бог весть каким образом оказавшихся здесь в такую несусветную рань, — и чего им не спится? Мимо них, мимо них, мимо, лиц он не различает, лица неразличимы, лица — словно туман, общий невнятный мазок кисти, только золото тюбетеек, только темнота кожи, знакомой с иным, нездешним солнцем, мимо, мимо них. И уж совсем случайно, на бегу, сверхъестественно, боковым каким-то зрением ухитрился он однажды зацепить и запомнить темно-русую прядь коротко стриженных волос и стройность тонких ног, высоко отчеркнутых строгой черной юбкой.
И еще — но это уже наверняка из области догадок, домыслов и сладостной вольной фантазии: негодующий взгляд зеленовато-коричневых глаз, взгляд этот долго еще помнился дурно воспитанному человеку, толкнувшему женщину, он бежал, он спешил, он не успел даже пробормотать извинение, или оно не было расслышано, этот вопрос будет выяснен много позже — пока же он только смог обернуться, но второго такого взгляда суждено ему было дождаться не скоро.
А тут ещё этот прыжок…
Этот прыжок всегда приходилось делать в конце жестко очерченного пути, это был прыжок через вытоптанный, с редкими зелеными проплешинами газон, и он был совершенно естествен и необходим, как точка в конце сочинения, ибо после него ты оказывался в самом хвосте огромной толпы. Ты вливался в толпу, как ручей в реку, исчезал, растворялся, становился подобным, объединялся, сливался и исчезал, «я» менял на «мы», прикрываясь множественным числом, как щитом, чувствуя себя неуязвимым, защищенным и невидимым; «я» исчезало, оставалось только тяжело дышащая многоголовая гидра, которая спешила, пыхтела, шаркала десятками ног, бежала последние метры наперегонки с секундной стрелкой, она делала это вчера и позавчера, будет делать завтра и послезавтра, а может быть, и через месяц, через год, через сто лет будет продолжаться эта игра, пока кому-нибудь не надоест. Я бегу, ты бежишь, мы бежим, вы бежите, они бегут, чередуются мужчины и женщины, чередуются «ж» и «г», чередуемся мы и вы, ты и я, молодежь вырывается вперед, крепкие мышцы и здоровое сердце приспособлены для финишного рывка, дверь проходной автоматически захлопывается в тот момент, когда секундная стрелка пробежит последний круг, еще рывок, стрелка финиширует, финиш ровно в девять у двери проходной — на этот раз она не успела захлопнуться, соперник посрамлен, увлеченная твоим примером гидра набрала скорость, она толпится в дверях, пересекает спасительную черту, — так финишируют велогонщики в групповой гонке, места у всех разные, а время одно, и только первые три получают бонификацию.
Так заканчивался этот путь, обрывалась караванная тропа, трасса марафонского бега. Никто не кричал: «Мы победили», никто не падал и не умирал, гонки продолжатся завтра и послезавтра, победитель не получал ничего. А завтра начнем сначала — я и вы, мы все, нам еще потребуется все наше умение, вся выносливость, хорошо, если нам, как сегодня, будет сопутствовать удача. Теперь можно утереть пот, пойти умыться, поделиться впечатлениями, перевести дух и закурить. Мы победители, и мы сами назначаем себе бонификации и награды; пять минут, чтобы прийти в себя, пять минут — умыться, пять — покурить, синий дым сигарет заменяет дымы жертвоприношений, еще десяток минут — и можно работать.
Сычеву был знаком этот путь, очень, очень хорошо знаком, но он не включал его в обширный реестр рассматриваемых вариантов. Он делал это намеренно: необходимость не поддается рассмотрению. Бессмысленно говорить о варианте, не оставляющем выбора. Вы можете купить у нас машину любого цвета, при условии, если этот цвет будет черным, говорить следовало совсем о другом, потому что иногда, редко, но бывали и другие пути. И вот о них-то и следует говорить, ибо они принадлежали к той стороне жизни Сычева, в которой понятие необходимости если и не отсутствовало вовсе, то расширялось до тех мыслимых границ и пределов, где оно переходило и как бы сливалось с понятием свободы.
В любой свободный день все эти пути начинались сразу же за дверью подъезда. Неспешными шагами выходил он во двор. Четырехугольный колодец тянулся вверх своими девятиэтажными стенами, стены были тусклыми и серыми, синей эмалированной крышкой лежало небо; груда ящиков громоздилась посередине двора. Ящики были похожи на обломки рухнувшей башни. Пестрая толпа, теснившаяся у серой стены, вызывала в памяти вавилонское столпотворение, но смешения языков не было. Молчание было общим языком. Очередь не любила пустопорожних разговоров, очередь сдавала посуду: блестели ярлыки, вились надписи, подрагивали в руках сетки и чемоданчики, рюкзаки и корзины; двор, начало пути, начало всех путей, имел довольно гнусный вид, серый цвет доминировал, мелодично позвякивало стекло, кошки бежали по своим делам, корчился в огне выброшенный кем-то старый диван, черный дым красиво вливался в небесную синь. Путь уводил со двора, серый доминирующий цвет оказывался временным явлением, он преобладал лишь временно, впрочем, иначе и быть не могло, серое — цвет тлена и смерти, цвет небытия, это становилось ясным сразу же за углом, где сквозь черные асфальтовые щели неоспоримым торжеством живого над крепостью мертвого и бездушного пробивались зеленые струйки травы. Тут был еще один поворот, и еще — свернув направо, можно было выйти на улицу, тут же, через какой-нибудь десяток метров впадавшую в огромный проспект, тянувшийся через весь город с севера на юг. Здесь-то и появлялись первые варианты, здесь начинала двоиться и троиться дорога, в этой исходной точке окончание пути скрывалось во мраке, в тумане, в неизвестности; в неизвестности таился элемент риска, здесь, на углу был тот берег, от которого отплывали каравеллы, все пути были открыты и доступны, и все они были одинаково радостны и одинаково желанны.
Все решало мгновение, случайность, импульс. Взгляд мог упасть на темно-зеленую стену парка, и тогда, отдавшись мгновенному порыву, можно было идти и идти, похрустывая неукатанным гравием по горбатой дорожке, по тени, из которой солнцем то здесь, то там были выхвачены зубчатые куски, можно было идти по аллее или тропинке, пересекать другие аллеи и тропинки, то узкие, то широкие, мимо бюстов на массивных постаментах, мимо фонтана — огромного венка из бронзовых листьев, ощущая на лице мелкую пудру рассеянной в воздухе влаги, идти и идти, вплоть до того места, где гипсовые львы, пятнистые от облинявшей бронзовой краски, недоуменно и чуть обиженно смотрели слепыми глазами в стоячую воду искусственного озера.
Заманчив был этот путь, но он был слишком короток, станция метро круглилась рядом со львами, ветер гнал по дорожкам промасленные бумажки, летом и зимой здесь шла бурная торговля пирожками, путь заканчивался у плетеных корзин, а дальше путешественника ждала столь знакомая ему по предыдущим дням подземная проза метро.
Не потому ли предпочитал он поддаваться иным импульсам, толкавшим его на другой путь — пусть даже он уводил его прочь от аллей, манивших своей зубчатой и широколиственной тенью. Прочь. И он поворачивался к парку спиной, копье выбора склонялось направо, путь вел его туда, где улица становилась проспектом. Проспект был рекой, тротуар заменил дорожку, трава на узком газоне была бурой. Он не спешил, он двигался осторожно: шаг, остановка, еще шаг, еще остановка, путь был известен и в то же время нов, он проносился здесь некогда, он пробегал здесь недавно, мимо, мимо, мимо, не глядя по сторонам, не видя, не замечая ничего вокруг, не догадываясь о существовании всего того, на чем теперь с изумлением останавливался его неторопливый взгляд — можно ли было сказать, что он знал этот путь? Нет, он его не знал. Он убеждался в этом на каждом шагу, остановки были продиктованы любопытством первооткрывателя: он открывал заново мир, в котором жил давно, для открытия которого ему вечно не хватало времени. Предметы и явления, останавливавшие теперь его внимание, были, по правде сказать, достаточно обыденными и простыми, но это ни о чем не говорило; более того, обыденность, которую он не мог разглядеть ранее, содержала в себе прелесть новизны.
Он остановился сразу за углом, первый же взгляд приковал его к тротуару, первый же поднятый взгляд, что-то ползло по стене, это были остывшие неоновые трубки. Свиваясь и развиваясь, они образовывали бесконечную надпись, которая тянулась над запыленными витринами и исчезала вдали: ткани-трикотаж-белъе-чулки-галантерея. Неоновые трубки были серыми, они были мертвы. Мертвые неоновые слова, появившиеся неведомо по чьему желанию. А рядом было еще одно слово, короткое и странно загадочное, звучавшее таинственно и грозно. Это слово могло быть заклинанием халдейского мага, приносящего жертву небесам, — то было слово УРС. УРС! Здесь таилась загадка, может быть где-то была скрыта пещера, полная сокровищ, которая ждала своего «Сезам, откройся».. Слово УРС было тоже покрыто пылью, наверное это была пыль веков. И он, Сычев, был единственным, может быть, человеком, обратившим внимание на это слово. Он ясно сознавал, что только неограниченная свобода, которой он сейчас располагал, только она позволила ему оторвать взгляд от земли, заметить это слово, увидеть в нем загадку и насладиться ею. Это слово вернуло его в детство, в ту невинную пору веры в существование чудес, которые некогда тревожили его воображение, в пестрый мир необыкновенного, где серый цвет обыденности еще не проступал, — в мир, в границах которого были высечены слова рух, джинн и сезам. Эти слова были той же породы, того же происхождения, что и УРС, они с тех давних пор остались в его памяти и до сих пор вызывали сладкую и томительную дрожь.
Жаль, что нельзя было остаться здесь навсегда, прекратить свой путь, отдаться созерцаниям и размышлениям. Асфальтовая река текла дальше, асфальтовая тропинка звала вперед, откровение еще не пришло, возможно, дракон ждал его где-то впереди, где-то притаился он, готовый к схватке, расправляя на солнце перепончатые крылья. Витязь был уже не волен над собой, путь должен был продолжаться — и он продолжался, хотя и не без сожаления; таково было условие игры. Но уже и того, что было увидено на первом шагу, достаточно было, чтобы понять слепоту предыдущих торопливых дней. Теперь он заново открывал и по крупицам собирал то, что многие годы терял широко, щедро и бездумно, — но кто мог знать, что настанет время, когда чистейшая поэзия откроется ему в слове «БАКАЛЕЯ», а за словом «ОВОЩИ» прозвучит музыка сфер.
Продавец овощей был посланцем небес, по крайней мере внешне, за широкими плечами, вероятно, скрывались сложенные крылья, вились кудри, голос его был подобен трубе, созывающей грешников на божий суд. «Помидоры, — взывал он, — помидоры, покупайте, граждане и гражданки, — голос ширился, разносился дальше и дальше, захлестывал и усыплял, голос звенел, он был наполнен угрозой и страстью, — прекрасные, несравненные помидоры по редким, доступным, по сниженным ценам, — голос гремел и останавливал, он предвещал что-то неслыханное, руки архангела шутя перекидывали тяжелые ящики, — всего шестьдесят копеек за килограмм». Архангел был горд собой и имел для этой гордости все основания: вечером у него было назначено свидание с девушкой нечеловеческой красоты, позавчера он купил себе мотоцикл «ЯВА-350», он зарабатывал более двухсот рублей в месяц, девушка с черной сумочкой, что сидела сейчас, склонившись над чертежом, и мечтать не могла о такой зарплате. Помидоры вели его к счастью прямой дорогой. Он ни разу не пожалел о своем выборе, сфера обслуживания была его небесами, его путь к счастью был вымощен помидорами и картофелем, капустой «кольраби» и баклажанами. «Замечательные, несравненные, непревзойденные помидоры!»
Голос архангела уже охватывал землю и небо, страсть вела его, страсть покоряла сердца прохожих, открывая их взору то, что было скрыто в глубинах недр. Было утро, возможно, это был один из первых дней творенья, возможно, земля была еще раем, человечество еще прозябало в невинности, вечер грехопадения был еще далек. Помидоры и впрямь казались прекрасными; нетрудно было найти извиняющие причины, трудно было противостоять музыке сфер. Кудри вились, грешники, поеживаясь, сводили дебет с кредитом, незрелость помидоров никак не могла быть поставлена им в упрек. Незрелость вообще не может быть поставлена кому-нибудь в упрек, ибо всегда является лишь следствием пороков заготовки. Часто, впрочем, незрелость удобна. Она позволяет обходиться с товаром без особых церемоний.
Только тут Сычев заметил, что мысль его, оттолкнувшись от осязаемых и вполне определенных субстанций, странным образом воспарила к отвлеченным эмпиреям чистого духа. Это иногда случалось с ним, и сейчас с ним случилось то же самое, стоило ему только подумать о незрелости вообще; хорошо, что он еще вовремя остановился; кто знает, куда мог завести его увлекающийся абстракциями ум? — неведомо куда.
К счастью, этого не случилось, и не случилось по причине глубоко реалистической, ибо глубоко реалистической и материальной была раскрывшаяся перед ним картина, и в один миг она возобладала над отвлеченными, сомнительными и никому не нужными умствованиями. Мгновение — и он оказался далеко за пределами недозрело-помидорных сфер; замерев, он стоял уже у границы иного мира, и иное солнце освещало его. Люди были перед ним, божественное нисколько не осеняло их своим крылом. Но змий-искуситель угадывался, змеевидность формы уживалась с примиренной покорностью содержания. Трогательной была един ость и единовременность, заставившая этих совершенно разных людей в этот ранний еще субботний, нерабочий час покинуть теплые постели. Картина была трогательной. Она была поучительной, не говоря уж о живописности: раннее утреннее солнце просвечивало янтарную жидкость, пиво в кружках казалось расплавленным золотом, движения людей напоминали древний ритуал поклонения огню. Осторожными и бережными были их движения, они говорили о скрытой в недрах души и не нашедшей выхода нежности; не исключено, что нежность эта была не осознана и лишь случайно прорывалась наружу, открываясь стороннему взгляду невольного соглядатая, малопочтенную роль которого исполнял в данном случае Сычев.
Он побрел дальше, он был смущен, окружающий мир смущал его чрезмерным, сверхобильным многообразием, он таил в себе несметные сокровища и готов был одарить ими любого, требуя за это, или даже не требуя, а умоляя лишь об одном — о внимании.
И Сычев, покорно уступая этому зову, поднял глаза — в предстоящем ему откровении сомневаться уже не приходилось.
«РЫБА», — прочел он и вслушался в отзвук собственного голоса. А потом еще раз повторил по складам: «Ры-ба…»
И тотчас за стеклом появилось:
СКУМБРИЯ
Из скумбрии можно приготовить разнообразные рыбные блюда.
В НЕЙ СОДЕРЖИТСЯ 20 % ЛЕГКО УСВАИВАЕМЫХ БЕЛКОВ И В СРЕДНЕМ 5–5,2 % ЖИРА.
ВИТАМИНЫ В, — В, — В,2 — РР И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.
Вот что суждено ему было узнать. Он увидел все это на расстоянии какого-нибудь полуметра, и тут ему показалось, что до откровения, которого он так жаждал, совсем близко.
3
Зависть, зависть, обыкновенную черную зависть — вот что он почувствовал прежде всего. Может быть, он хотел бы стать рыбой? Да, сказал он сам себе, хотел бы. Старший инженер Сычев — скумбрия. Он сам превратился в полосатую проворную рыбу, он мчался куда-то в общей стае, он уже не завидовал, он свободно перемещался в безграничных водных просторах, границы государств не сдерживали его, заработная плата его не интересовала, таможенные сборы отсутствовали. Он преодолевал огромные пространства, он спасался от опасности, избегал тралов и акул, он подчинялся лишь собственному инстинкту, а когда его вылавливали, его изучали, он был в центре внимания мировой общественности. Все живое смертно, и после смерти полосатая рыбка — Сычев становился предметом пристального и кропотливого исследования, после чего весь мир узнавал об изумительной полезности существования Сычева, это в нем содержались легко усваиваемые белки и жиры, это он был необходим для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, это он… впрочем, уже перечисленного вполне достаточно для удовлетворения любого честолюбия. Сычев был горд и удовлетворен, это удовлетворение могло придать смысл его жизни, будь он рыбой. К сожалению, он не был ею и гордости не чувствовал. Удовлетворения он не чувствовал тоже — по той же причине, он не чувствовал ни того ни другого; и зависть переполняла его. Неужели это и было откровением, которого он так долго ждал? Если да, то у откровения был горьковатый привкус. Зависть была вполне человеческой, она касалась самого Сычева, она касалась его самого и его жизни, он прожил на свете тридцать с лишним лет и до сих пор не мог бы ответить на вопрос: нужна ли (слово «необходима» он не осмеливался даже произнести) — нужна ли была кому-нибудь его жизнь, нужен ли был кому-нибудь он сам, и если да — то зачем. Каков был скрытый от него смысл его жизни, какой от нее был прок ему самому и всему человечеству — он хотел быть полезным, он непременно хотел быть полезным всему человечеству, он жаждал быть нужным кому-нибудь, кроме анонимных отделов по кадрам с их написанными от руки «Учреждению требуются…» Это желание мучило его и жгло в дни его жизни, наполненные торопливым круговоротом деяний, неотличимых одно от другого. «Требуется Сычев», — хотел бы прочитать он однажды, но требовались только опытные инженеры.
Каковым он и являлся…
Здесь, кажется, приспело время сказать несколько слов о герое сего повествования, оговорив заранее, что ничего геройского в нем нет и не будет, ведь о нем читателю пока известно лишь то, что его фамилия Сычев. В самом начале он, кажется, пел песенку о веселом птицелове, да еще имел некоторое, до поры до времени не уточняемое отношение к стрельбе из лука. Хотя и это уже — смотри ты — совсем не так уж мало, есть люди, которые и известны лишь тем, что носят какую-то фамилию, а тут мы можем добавить, что Сычева звали Игорь, и с учетом того, что ему было уже за тридцать, пожалуй уместно будет называть его Игорем Александровичем, хотя средства массовой информации, радио и телевидение вкупе с борзыми на слово журналистами предпочитают называть мужчин его возраста объединяющим словом «ребята» — например: «Наши ребята во втором тайме показали…» и так далее. Игорь Александрович Сычев, тридцати с лишним лет, один из «наших ребят» — а что же далее? Он избран быть героем — за что, чем он знаменит, чем отличен от других, в чем послужит примером? Кто сделает себе идеалом его жизнь, кто, замерзая, будет повторять его имя, чему он может научить, что есть в нем такое?
Ничего. Ничего в нем такого нет — автор, знакомый с героем лучше всех, говорит это совершенно честно, ему жаль, но это наш сосед по коммунальной квартире, речь пойдет о самом обыкновенном человеке, о самом обычном, о тех, кого в дюжине двенадцать, а в сотне девяносто восемь, и будь автор посмелее, он назвал бы свои рассказ «Повестью об обыкновенном человеке». Именно таким был Игорь Александрович Сычев — по крайней мере ничто в его жизни не позволяло ему думать иначе, ни ему, ни другим, ничто не давало ему повода или предлога выделять себя из дюжины или сотни, он был такой, как все, и уже по одному по этому решительно не годился в герои. Он и сам так думал, тут он не заблуждался, уж он-то знал себя, уж он-то знал себе цену. Цена была умеренной. Она чуть-чуть была выше той, что он получал в виде месячного вознаграждения за свой нетяжелый труд. Он получал сто сорок пять рублей в месяц — без премий.
Кто же он был? Самый обыкновенный человек, мы об этом уже говорили. Нет, дураком он не был, он был нормального, среднего ума, он был честен, он был прям, он был не способен на подлость, он не был подхалимом — и в тех пределах, в тех берегах, что оставляла ему жизнь, был независим — разве этого мало? И еще он был горд. Может быть, поэтому он никого ни о чем не просил — просить для него было нож острый. Пожалуй, он был не по чину горд, но и это не порок и не геройство. Просто он был «из тех ребят». Его детство пришлось на войну — наверное, это может послужить объяснением. В остальном и жизнь его была обыкновенна. В школе он учился без троек — но не более, в институт он поступил, выбирая, где поменьше конкурс, — и поступил. В институте учился ни шатко ни валко, и на двадцать пятом году закончил высшее образование с запасом знаний, по его собственному мнению, весьма умеренным, которого, однако же, к его удивлению, оказалось вполне достаточно для работы. Год после окончания института он проработал Мастером на стройке, он строил аэродром в большом южном городе: сначала там были кукурузные поля, тянувшиеся до самого горизонта, но затем появились зеленые вагончики, чуть позже — вечные времянки, потом — бараки для строителей, подъездные пути, узкоколейка, он ходил с теодолитом и нивелиром, долго путался с установкой уровней: все было так не похоже на институтские практики. Он ходил в ватнике, реечник качал рейку. Копались котлованы, росли стены из тесаного ракушечника, сроки торопили. Осенью кукурузу убрали, и черная земля предстала перед ними в печальной наготе. Он разбивал железнодорожную ветку, укладывал трубы, выписывал наряды. Тут у него произошел первый производственный конфликт: нормы и расценки были несовершенны, в наряды записывалось все, что хоть отдаленно относилось к делу, рабочие были нездешние, и обещанные сто пятьдесят рублей им надо было вывести, хоть умри. Он еще соглашался чуть изменить категорию грунта, он еще мог записать: «Относка грунта вручную на расстояние до десяти метров», — но выдавать чернозем за скалу или допускать ручную переноску грунта едва не на километр — на это он согласен не был. Конфликт был локальным, ничего страшного не произошло, наряд подписал за него старший прораб. А он перешел в лабораторию: определял лучший состав бетона, брал пробы, рекомендовал растворы. Наверное, он неплохо справлялся и с этой работой. Испытания бетонных йлит для взлетной полосы прошли успешно, аэродром был построен в рекордный срок, а Сычев вернулся домой и пошел в изыскательскую партию — семьи у него не было, стране нужны были дороги, каждый год из- за отсутствия дорог страна теряла миллиард рублей. Сычев был специалистом широкого профиля, к тому же в изысканиях платили шестидесятипроцентную надбавку. Он работал в лесу: институт обслуживал Север и Северо-Запад. Вологодские, кировские, карельские леса были исхожены если не вдоль, то поперек уж точно, он уже не путался в уровнях, он работал быстро и хорошо, уровни в теодолите и нивелире устанавливались сами собой, чавкала болотная жижа под ногами, огромные резиновые сапоги доходили до бедер. Славное было время — он понял это много позже, а тогда он вживался в работу дорожника-изыскателя. Народ в партиях бывал всякий, в городе о таких людях и не слыхали — от спившихся и выгнанных из института студентов до отцов семейств, от охотников, не расстававшихся с ружьем, до раскаявшихся рецидивистов. Времени, как всегда, не хватало, сроки, как всегда, поджимали, людей, как всегда, было мало, так что капризничать не приходилось; в дело шли и отцы семейств, и рецидивисты, и охотники, да и сами они, два инженера и три техника, рубили просеки, разбивали трассу, вели пикетаж, нивелировку, производили съемки водотоков, если надо — копали шурфы и там, где не могла пройти лошадь, тащили трубы, ящики с геологическими образцами, палатки, ящики с инструментами, буханки хлеба, сахар и соль, муку и крупу. Если можно было — они останавливались в деревнях, нет — разбивали палатки. И так длился год, и еще год, и еще. Сычев прижился в изыскательских партиях, работа была тяжелая, но несложная, оказалось, что он умеет работать с людьми, он был неплохим организатором, он взваливал на плечи самый тяжелый мешок и шел первым. Конечно, его, мешок был не просто самым тяжелым, а самым тяжелым из того, что он мог нести, конечно, какой-нибудь Дима-болыпой мог унести на своих широченных плечах самого Сычева вместе с мешком, было просто удивительно, какие люди жили вдали от городов. Да, думал Сычев, удивительно все же, какие сильные есть люди, вот бы ему такую силу: он стал бы чемпионом мира по борьбе уж точно, он не пыхтел бы, не сгибался в три погибели под сорокапятикилограммовым мешком. Но он сгибался, он шел, пот катился по лицу, затекал в глаза, гнус вился вокруг них темным облаком, оседая на кожу, впиваясь, кусаясь, присасываясь, а они все шли и шли.
Год и еще год, лето и зима, весна и осень, Север и Северо-Запад, вологодские, костромские, карельские леса, архангельские болота. Трассы, площадки, мостовые переходы. Колючая хвоя, пряная листва берез, рубленые бани, резиновые сапоги до бедер, сбитые ноги, тренога с теодолитом, бритье холодной водой, дни и месяцы, месяцы и годы, километры и сотни километров, Сычев — начальник изыскательского отряда, Сычев — помощник начальника изыскательской партии, их партия — лучшая в институте, безотказные работники, гарантированная досрочность выполнения задания, трассы, трассы, трассы. «Что же дальше? — спросил он себя однажды. — Что дальше?» Он лежал на печи на овчине, глаза у него смыкались, на дворе задувал ветер, сухие снежинки катились по застывшей земле. Хозяйская дочь Катя сидела внизу у стола. Кате было шестнадцать лет, она готовила уроки — дом был прибран, малышня, угомонившись, спала. Катя сидела над тетрадкой, прикусив маленькую полную губу, ее груди мягко круглились под тонким свитером, со своего места Сычев видел маленькое красивое ухо. Катя была очень красива. Сычев ей очень нравился, она никак не могла сосредоточиться, лицо у нее горело. «Что дальше?» — спрашивал себя Сычев. Надо что-то делать. Он чувствовал, что эта работа засасывает его, этой работе не было конца, она была бесконечной, страна была огромна, дорог было мало, строительство велось медленно, работы хватило бы до конца жизни. Была ли это его жизнь? Был ли ему предназначен этот удел? Он подходил к этой жизни, но подходила ли она ему? Он уже стал отвыкать от чтения, книга не шла в руки после десятичасовых переходов, он поймал себя на мысли, что начинает грубеть; наверное, это было вовсе не страшно: он мужал, он выполнял тяжелую мужскую работу, работа формировала его, может быть все шло так, как надо, может быть его сомнения были безосновательны и напрасны, вполне могло быть, что не происходило ничего ужасного, возможно, все шло по заранее начертанному пути. Не исключено, что именно на этом пути ждало его счастье: в следующем году ему должны были дать самостоятельную партию, он был бы самым молодым начальником партии в институте, он получил бы полную самостоятельность, а что могло быть лучше самостоятельности? Может быть, думал он, лежа в приятной истоме, его судьба и просто рядом, может быть ее зовут Катя, красивая Катя, он представил себе, как они станут мужем и женой, ее налитое молодостью тело. Руки у нее огрубелые, шершавые, но ласковость и нежность уже угадывались в ней, в ней он никогда бы не разочаровался. Нет вернее жен, чем такие вот тихие поморочки, для изыскателя это вовсе не маловажно, значит, это будет Катя… Катя. Значит, это будет Катя, значит, его стезя определилась, они нарожают дюжину детей, Катя будет готовить пироги с морошкой — где в городе она возьмет морошку? — он будет уходить в экспедиции, уходить и возвращаться. Он будет хорошим мужем и хорошим начальником партии; последнее он мог утверждать вполне определенно, — это было бы его потолком, он был бы вечным начальником партии, в тридцать и сорок лет, и в пятьдесят. Никем другим в изыскательских партиях стать нельзя, ибо начальник партии подобен господу богу, который есть начало и конец всего.
И тут он понял, что это не его путь. Этот путь был слишком прост и доступен и, следовательно, не для него. Бедная Катя! Она все еще сидела над тетрадкой, она думала о нем, о Сычеве, он нравился ей, она, конечно, пошла бы за него замуж, но пока она думала о нем, глядя в чистую страницу, все было кончено. Судьба простерла над этими двоими свою руку и развела их. Нет, не быть им вместе, никогда не быть, никогда ему не обнимать ее крепко сбитое, ладное тело, они даже не успели поцеловаться, как все было кончено.
Это была последняя изыскательская партия Сычева, он решил переменить течение своей жизни. Вернувшись, он уволился из института, с изысканиями было покончено. Достаточно широкий профиль позволил ему быстро освоить инженерно-проектные работы, дороги требовались не только в отдаленных районах, страна строилась, стройки высились и росли во всех ее концах. Росли города, улицы были теми же дорогами, специалист-изыскатель быстро разобрался в вертикальной планировке городов, время шло и приносило с собой все что полагается; из инженера он стал старшим инженером, тут подвернулась возможность, и он вступил в кооператив, залез по уши в долги. Размышлять было некогда, работа от зари до зари, через два года он рассчитался с долгами, еще через год его сделали руководителем транспортной группы. Вся группа состояла из одного Сычева. Но он и один справлялся, он работал быстро и много, и это не утомляло. Никаких особенных дел, не считая стрельбы из лука, у него не было, а стрельбу первое время он не принимал всерьез.
И покатились дни: на работу, с работы, на тренировку, домой; он жил один, годы шли, были какие-то девушки, но то ли он им не подходил, то ли он подходил к ним не так. Он все еще ждал откровения, жизнь все еще походила на спокойную реку, ее налаженное, размеренное течение успокаивало, усыпляло, время обтекало его, протекало мимо, не привнося никаких изменений. Иногда ему снилась дорога, уходящая в лес, или рыжее болото, все в красных каплях перезрелой клюквы, иногда ему снилась Катя. Поводов роптать на судьбу он был решительно лишен. Да он и не роптал, ибо был человеком справедливым. Он имел все, чего он заслужил, пока в этот прекрасный, в этот нерабочий субботний день, полностью свободный от каких-либо обязанностей, он не оказался вдруг перед витриной рыбного магазина и не подумал о том, что, пожалуй, не мешало бы установить, а зачем существует на свете некий Сычев и есть ли в нем нечто особенное, свое, что необходимо для чьей-нибудь жизнедеятельности. Пока что все, что он делал, могло быть сделано любым другим человеком. Пока что он, Сычев, не был индивидуализирован как личность, в любой точке жизни он мог быть заменен другим человеком — изыскателем или инженером; он был винтиком, он был каплей. То, что он был каплей, пережить он еще мог, но то, что капля была безлика…
Будь такая попытка произведена однажды, думал он, и покажи она, что нет в нем, в Сычеве, ничего, что жизненно необходимо кому-то, — что ж, это было бы тяжело, но справедливо. Но беда была в том, что никто не мог проделать такого опыта. И выходило так, что он теперь до конца своих дней обречён заниматься разработкой проектов организации транспорта. Было ли это плохо? Отнюдь. Было плохо только ему самому: ведь ежели он сел не в свой поезд — на ком была вина и кого он мог винить? Снова возвращались его сомнения. Он испытал их однажды, лежа на печке, — теперь печки не было, тогда ему было всего двадцать восемь лет. Профессию можно менять один раз или два, но то, что можно в двадцать восемь, нельзя в тридцать три. И все же сомнения оставались. Ему хотелось бы понять, зачем он… ах, как ему хотелось бы это понять!
Нет, он не роптал.
Он только хотел понять — вот и все. Самое трудное для него было — примириться с заданной ограниченностью его существования.
И Сычев испытывал горечь и досаду, он чувствовал себя не столько обиженным, сколько виноватым, хоть вины за собой не знал.
И тут уже совершенно понятно, что ничто не могло служить ему в этот миг утешением: ни гирлянды дивного янтаря, нежно мерцавшие в витринах ювелирного магазина, ни красивая девушка, томно стоявшая в дверях парикмахерской с высоким спортивного вида парнем в потрясающей изящногрубой кожаной мотоциклетной куртке, — ничто не могло заставить его забыть ту обиду, то чувство несправедливости, которое он испытал, стоя у витрины рыбного магазина, когда снова — после того случая на печке, где это произошло с ним впервые, — снова возник перед ним вопрос о его, Сычева, внутреннем предназначении. О том, насколько оправдана и необходима его жизнь, исходя из доказательств, которые могли быть представлены им на сегодняшний день.
Возле пивного бара «Уголок» бурлил водоворот. Радостная толпа ввинчивалась в огромные двери фирменного колбасного магазина. Сычев шел, весь в невнятной обиде на свою судьбу и на себя, он шел вожделенной дорогой свободы, вокруг бурлила жизнь. Солнце поднималось все выше, воздух согревался, в воздухе висел многозвучный гомон огромного проспекта, двигались машины всевозможных видов и размеров, людской поток то обгонял его, то с силою прибоя устремлялся навстречу; громко кричали продавцы, на необозримом протяжении проспекта раскинувшие свои лотки. Удивительно ли, что обида не могла долго владеть им, она улетучивалась, испарялась, как эфир из бутылки, которую забыли закрыть, постепенно он успокаивался, и вместе с обидой исчезали в его душе сожаление и горечь.
Это было разумно. Миллионы людей вокруг него жили спокойной мирной жизнью, а такая нормальная человеческая жизнь — уже прекрасна, и об этом следует помнить, без этого мы с трудом с. могли бы объяснить смысл наших дел.
Да, жизнь прекрасна, хотя бывает и так, что ее и просто хорошей не назовешь: никто не понимал этого так хорошо, как некий грек, философ и музыкант Орфей; старая история, древняя, как мир. Он отправился в преисподнюю, в царство душ, за своей Эвридикой, чтобы из вечного покоя вернуть ее в полный боли и страданий мир. Им двигала любовь — это вы хотите сказать, да? Но здесь ничто не противоречит общему тезису: да, да, любовь двигала несчастным Орфеем.
Он пел: «Потерял я Эвридику…» Да, именно любовь, только что же это такое — любовь? Ведь это и есть самое убедительное, самое совершенное доказательство того, что земная наша жизнь непреходяще прекрасна; зачем иначе было бы претерпевать столько трудностей на пути возвращения к ней?
Нет, не легкомыслие было виною, что Сычев в этот день так быстро забыл все свои огорчения. Сама жизнь распорядилась им. И в тот момент, когда он остановился у будки чистильщика обуви, он уже не чувствовал себя несчастным, — все-таки он был оптимистом по натуре, хотя вопрос об избранности и предназначенности все еще оставался открытым.
4
Будка чистильщика была открытой. Она была стеклянной. Может быть, это была и не будка вовсе, а террариум или особого вида клетка, стеклянный параллелограмм с открытой дверцей. Внутри и в самом деле томилась диковинная птица. Старый ассириец сидел там, глаза его были полузакрыты, взгляд обращен внутрь. За ним в тесноте стеклянного террариума таились тысячелетия истории. Кровь его давно остыла. Не было ничего в этой жизни, чего бы он не знал, удивить его тоже не могло ничто. И никто не мог бы сказать, что значит его обращенный внутрь взгляд. Возможно, он оплакивал смерть Ассурбанипала, гибель Ниневии, быть может он ожидал прихода ангела смерти. Сычев мог предполагать все что ему было угодно, он принадлежал к молодой нации, кровь бежала в нем быстро и подстрекала к любопытству. Он и вообще был любопытен, далеко еще нс утратил интереса к жизни. Он зашел в стеклянную клетку.
Старый ассириец даже не пошевельнулся. Похоже, подумал Сычев, он еще вчера знал о том, что произойдет, возможно, он уже не отличает одного человека от другого. Сколько ему лет, думал Сычев, неужели этот старик всю жизнь чистит обувь? Это был классический чистильщик. Его профессия была столь же вечной, как и сама история, и ни века, ни социальные катаклизмы не были властны над ней. Вполне можно было представить этого старика, с его выпуклыми темно-фиолетовыми глазами и толстыми коричневыми пальцами, поросшими колечками белой шерсти, сидящим где-нибудь в Древнем Риме и предлагающим свои услуги легионерам Помпея.
И не только в Риме, потому что люди всегда носили на ногах что-то, нуждавшееся в чистке, пыли и грязи хватало тоже, всегда был избыток грязи, следовательно, где бы ни представить его, он всегда оставался самим собой. «И не от этого ли, — думал Сычев, — не от сознания ли того, что не так уж много профессий могут похвалиться тем же, происходило его спокойствие и его величавость? Или они имели какое-то другое происхождение?»
«А может быть, — думал Сычев, — все обстоит гораздо проще. Может быть, для того, чтобы не чувствовать себя ущемленным, человеку достаточно просто быть мастером своего дела?»
Дорого дал бы Сычев, чтобы узнать, о чем думал чистильщик в ту минуту, когда он вперил вдумчивый, все еще наполовину обращенный в себя взгляд — в поверхность покрытых пылью туфель. Если только он думал вообще. Какие образы всплывали в его воображении? Но нет, Сычев не мог этого понять. Но и того, что он увидел, было достаточно. Он видел уже такие взгляды: землекопы смотрели так на землю, где надо было вырыть котлован, строитель так смотрел на кирпич, из которого придется выкладывать стену, токарь — на заготовку: человек сначала проделывает всю работу в уме. А может, это и есть тот самый признак, который можно по-настоящему считать человеческим: думать, прежде чем приступить к делу?
Итак, о чем думал потомок некогда могущественного народа, Сычеву не дано было узнать. Но он видел человека, полного достоинства; человек живет во второй половине двадцатого века: торжество физики, лазеры, черная икра из нефти, синхрофазотрон, век технического прогресса, престиж профессий, а человек сидит и чистит чужую обувь, снимает пыль, счищает грязь, наводит блеск… Чистильщик сапог — анахронизм, пережиток, нонсенс, скоро эта профессия исчезнет, но он полон достоинства — откуда и почему?
И тут-то, в этом самом месте, Сычев ощутил некий толчок. Мысль, звук, неосторожный жест, легкое дуновение ветра — и вот уже маленький камешек покатился с горы. Все начинается с этого толчка и с этого маленького камешка, что тихонько катится с горы, а в конце концов вызывает обвал со всеми его последствиями, ущерб от которых даже приблизительно нельзя предугадать. Это в конце. Но интереснее всего именно начало, ибо в нем-то и заключена вся последующая опасность. Даже легкого внутреннего сотрясения достаточно, а порой даже звука голоса или слабого порыва ветра.
Таким вот порывом ветра, таким слабым, почти неощутимым толчком была для Сычева эта встреча. Она была случайна, но случайность была обусловлена какой-то необходимостью; тысячи камешков катятся с горы, но не каждый вызывает обвал. Сычев встречался с сотнями людей, но понадобилась эта встреча, понадобилось, чтобы он зашел в стеклянную клетку. «На кого он похож? — мучительно думал Сычев. — Я видел это лицо, я понимаю, это абсурд, и все же я его видел». И тут он вспомнил, где он видел это лицо. Ну конечно, он был похож на апостола Петра с одной из кранаховских гравюр. Похож? Да это было просто одно лицо. Но что роднило их больше чисто внешнего сходства — апостола Петра, разглядывающего ключи от райских врат, и старика в стеклянной клетке, проводящего по темно-шоколадной коже сморщенным коричневым пальцем, — это выражение лица. Вот что делало их до удивления похожими: лицо каждого из них было задумчивым, оно было полно внимания к внутренним, никому, кроме них, не слышным голосам.
Смущенный сидел Сычев на низенькой скамейке, низ штанины был у него аккуратно подвернут. Низко наклонившись к туфле, темнокожий старик бормотал что-то на никому не понятном языке, его мысли, неведомые Сычеву, текли своим чередом, а Сычев думал о том, что он не ощущает, нет, совсем не ощущает никакой социальной разницы между собой — пусть он был всего лишь руководителем транспортной группы — и этим человеком, который в данную секунду обматывал себе тряпкой указательный палец.
Но ведь разница, различие в положениях должно было быть, и он должен был его ощущать. Он должен был чувствовать, что стоит неизмеримо выше: он, черт возьми, принадлежал к техническому потенциалу страны, он должен был стоить больше уже по одному тому, сколько денег стоило его обучение, он должен был чувствовать свое превосходство хотя бы потому, что общераспространенное мнение приписывает образованию самодовлеющую ценность…
Но он не чувствовал никакого превосходства, а наоборот — смущение. И робость. Перед ним был неизвестный мир. Перед ним была дверь, ведущая в этот мир. И человек из этого, закрытого для него мира был полон чувства собственного достоинства. Сычеву приходилось видеть людей, гораздо более преуспевших с точки зрения обывателя, но достоинством от них и не пахло. Он сам не всегда мог похвалиться этим чувством. Перед ним была загадка, и он хотел ее разгадать. Что должно произойти, чтобы человек стал чистильщиком сапог? Ведь никто как будто не рекламирует особенно этой специальности, о ней не упоминают самые дотошные анкеты социологов, даже самая нерасторопная растяпа-калькировщица и то — в ее понятии — стоит многими ступенями выше.
Сычев жаждал ответа. Перед ним был человек, он жил в том же городе, что Сычев, ходил по тем же улицам, дышал одним воздухом, читал одни и те же газеты, одни и те же сигналы по радио пробуждали их, диктор желал им спокойной ночи, человек уходил на работу, садился в стеклянную клетку, сидел и чистил обувь, день за днем, изо дня в день. Завтракал и обедал, где-то строились города и домны, где-то перекрывались реки, газеты сообщали о посадке на Луну. «Человек вышел в космос», — сообщали газеты. «Президент Кеннеди убит в Далласе». «Президент Никсон прибыл в Москву»… Завтрак и обед. Прийти домой и лечь спать, и видеть сны… И видеть сны?
Неужели этот старый ассириец видел сны? Что снилось ему ночами, из каких далей он возвращался и в какие дали уходил? Жалел ли он об упущенных возможностях хотя бы, — ведь жизнь его могла быть совсем иной, но не стала, она уже прожита, он мог бы стать учителем, врачом, дипломатом. «Сегодня министерство иностранных дел устроило прием в честь…». Он мог стать посланником, это в его честь устраивали бы приемы. «На приеме присутствовали…» — он мог бы присутствовать на приемах, решать вопросы внешней политики, он мог бы стать ученым — «Новое блестящее достижение советской науки…» — это было бы его достижение, он мог бы стать инженером, артистом, военным, он мог бы…
Он не стал.
Не могло быть, чтобы он не думал об этом, человек не может не думать о возможных вариантах, о том, кем он мог стать и кем он стал, сопоставлять и анализировать, делать выводы. Итог всегда перед нами, итог показывает, что человек остался чистильщиком сапог, и непреложность этого факта, подобный итог прожитой жизни должен бы убивать… если только…
…Если только все это не есть следствие свободно осознанного выбора.
Вот он, ключ. Вот откуда это спокойствие и достоинство. Сычев бросил взгляд вниз, он посмотрел вокруг с той высоты, которой он достиг на сегодняшний день, и увидел, сколь мизерна была эта высота. Теперь он и высотой-то мог назвать ее только условно, для того лишь, чтобы еще понятнее была ее бросающаяся в глаза мнимость, — да, понятна еще отчетливей и безнадежней, чем при взгляде вверх. Все смешалось, высота исчезла, то, что он считал высотой, было лишь фикцией, миражем, игрой воображения. Они стояли плечом к плечу, ступень одного отличалась от ступени другого на некоторую мнимую величину; так вот почему он не чувствовал никакого различия; его просто не было, они были равны друг другу, а над ними в недоступной взору вышине скрывались ступени, ступени, ступени…
Нет, и это еще не было столь жданным откровением, еще нет. Но вот эти мысли, еще не додуманные до конца, что тогда зародились в его голове, и были тем самым маленьким камешком, который только-только тронулся с места и катился себе, совершенно безвредный, по пологому склону, один, совсем один — пока что. Но только пока что, до поры до времени, в чем и самому Сычеву, и всем, кто его знал, предстояло вскоре убедиться.
5
Он идет по Летнему саду в сплошной черной тени деревьев. Деревьям сто лет, деревьям сто пятьдесят, мраморным изваяниям двести лет, светлый, чуть потускневший от времени мрамор, аллегорические фигуры. Искусство и Мореплавание, Архитектура и Геометрия, мраморные бюсты, императоры и полководцы, Нерон, Клавдий, Тиберий, Агриппина, мать Нерона, сладострастная распутница — ее честолюбие стоило ей жизни, она была убита своим сыном, — Ян Собесский, Калигула; музы и богини — их бедра слишком тяжеловаты, они ставят под сомнение легендарную красоту древних представительниц прекрасного пола; похищение сабинянок; Флора, Летний дворец, Кофейный домик, парусиновый тент над открытым кафе, мороженщицы со своим холодным товаром, смесь сугубо реального с возвышенным и отвлеченным. В этом саду легко, как, пожалуй, нигде, уживаются крайности, вызванные к жизни различными эпохами и разными культурами, и это настраивает Сычева на странный, фантастический и в то же время несколько легкомысленный лад.
Что-то часто он предавался фантазиям последнее время. Слишком часто. Не к добру это было, не к добру. Ему, Сычеву, фантазии казались явлением более низкого порядка, чем знания, это был гарнир к мясному блюду, гарнир улучшал вкус мяса, но самостоятельного значения не имел. Знания составляли основу жизни, а фантазии лишь показывали недостаток знаний, они были игрой воображения, не получившего реальной пищи. Время для приобретения прочных систематизированных знаний Сычев потерял, он получил техническое образование, сумму технологических навыков и сведений, но он был некультурен, и это причиняло ему каждодневные страдания. Его необразованность была бездонным болотом, куда он по мере сил бросал камешки отрывочных знаний, случайность их была сравнима лишь с их разнообразием: история и философия, литература и живопись — странный, неудобоваримый конгломерат, совершенно несъедобная смесь разрозненных фактов, не связанных между собой. Сычев никогда не переоценивал питательности этой смеси, надеяться ему было не на что — разве что на время и на крепкий желудок. Желудок у него был луженым, и он набивал его чем только мог и когда только мог. Большинство поглощенных им сведений были ему совершенно бесполезны, применить их в практических целях не предвиделось никакой возможности, но он был полон любопытства. Он верил, что любой шаг, сделанный в сторону знания, открывает ему новые, утопающие в необозримой дали перспективы; он был в душе идеалист и романтик.
И, оказавшись в фантастически реальном саду, он мог, если хотел, поиграть в странную игру. Здесь, в саду, все вокруг располагало его к игре, и если бы ему очень захотелось, он мог бы перекинуть мостик из второй половины двадцатого нашего века в глубь веков. Так он и поступил. Он понесся в двенадцатый век, он шел по саду в центре большого современного города, шел Шервудским лесом и пел на придуманный им самим мотив песенку о знаменитом разбойнике и великом стрелке из лука Робине Гуде, который тоже некогда жил в зеленых Шервудских лесах.
Вспоминаете ли вы о Робине, вспоминаем ли мы все о Робине, о Робине Гуде? Вы — вспоминаете? Нет? А вы ведь так любили его в детстве. Ну а Сычев — он помнил о нем все время. «Робин, — пел он, — веселый Робин». Не выглядит ли это странно, не воображает ли Сычев бог знает что? С чего это взрослый человек тридцати с лишним лет распелся вдруг, словно влюбленный щегол? Доведись Сычеву услышать такое, он пожал бы плечами — не без горечи, впрочем. Вы любите свою жену, а вы — «Двойное золотое» в пивном баре «У заставы»; наша любовь необъяснима, чувство это иррационально. Так ответил бы Сычев вчера и позавчера, возможно, и сегодня он ответил бы так же — до встречи с чистильщиком.
Но после этой встречи, оставив за собой право пожать плечами, он, возможно, ответил бы иначе. Любовь к Робину Гуду объяснению поддавалась; сегодня он знал больше о чувствах, которые он испытывал, — может быть, он любил его за то, что Робин стоял на земле, не поднимаясь и не делая даже попыток подняться на мнимозначительную высоту (совсем как сам Сычев), и весело, с достоинством, как и подобает свободному человеку, творил посильное добро. Зеленая трава была у него под ногами, синее небо над головой, он хотел справедливости, а большего он не хотел. Человек с чувством собственного достоинства, творящий добро, — образец достойного человека, не меняющийся с годами и тысячелетиями. Вряд ли он думал о последующих поколениях, вряд ли он был честолюбив. Сычев был честолюбив, но творить добро не мог. Или не знал, как это делается, а вот Робин — тот знал. И что же?
А вот что: он остался. Был он или не был, жил или не жил, он остался в истории. История — единственный судья, единственная инстанция, выносящая приговор, не поддающийся отмене, признала его достойным остаться в памяти последующих поколений. Забыты многие короли и папы, князья мирские и князья небесные, пророки, и архангелы, и полководцы — из тех, кто поскромней, — а он остался, веселый разбойник. Он не давал в обиду тех, кто слаб, наверняка он был изрядный плут, наверное, за ним водилось немало грехов — больших и малых, но он был человек, который понял необходимость добра. Ну а кроме того, он еще умел стрелять из лука… И вот тут-то никто не понимал Робина так, как Сычев, и нам, никогда не сгибавшим лука, тоже не понять его до конца, — не понять, что значит убить королевского оленя стрелой за пятьсот шагов, нет.
Фантазии, фантазии. Сычев, кажется, презирал их. Но вот вам результат, показывающий, что от воображения, опирающегося на знания, до чистейшей фантасмагории — один лишь шаг: Сычев увлекся, и вот уже нет Сычева, Робин Гуд идет по Шервудскому лесу, торопясь в Ноттингем, Робин Гуд осторожно крадется среди столетних деревьев, и некому уже идти утром в понедельник в проектный институт «Гипроград». (Газеты выйдут с заголовками: «Таинственное исчезновение руководителя транспортной группы», Сычев станет героем дня, вспомнят о летающих блюдцах, инопланетяне будут обвиняться во всех смертных грехах, отдел кадров вычеркнет его из своих списков и впише? его должность у входа в рубрике «ТРЕБУЮТСЯ».)
Фантазии? Не бог весть какие. Их извиняет — если они вообще нуждаются в извинении — лишь то, что в действительности они нередко скрашивали жизнь некоего руководителя транспортной группы, позволяя ему, когда с честью, а когда и просто без большого урона, выходить из некоторых щекотливых ситуаций. Стоило только совершить такую невидимую глазу подмену, и на вопрос главного транспортника института отвечал уже не Сычев, сбежавший с очередного занудного заседания транспортной секции в Доме научно- технической пропаганды, а ни в чем не повинный Робин, который озирался в этом бумажном лесу со вполне понятным недоумением. А виновник подмены в это самое время как ни в чем не бывало шел себе в зеленом своем наряде, сжимая в левой руке прямой английский лук с тетивой из крученой оленьей жилы, и, посвистывая, напевал:
Двенадцать месяцев в году, Не веришь — посчитай, Но веселее всех других Веселый месяц май.Вот что он делал в это время — и тут ему уже абсолютно безразличен был и Дом технической пропаганды, и аспирантура, куда неумолимой рукой подталкивал его главный транспортник. Зачем нужна была аспирантура вольному стрелку из лука? Зеленый лес был ему милее бумажного, этот лес был настоящий, живой, в колчане у него было две дюжины стрел с отточенным стальным наконечником, пробивающим любую шкуру, даже если она сплетена из стальных кружков. Так было с Робином, так было с Сычевым, он бежал из заколдованного бумажного леса, это уже не было фантазией, у него тоже был свой лук и стрелы. Другой лук и другие стрелы, он не смог бы попасть стрелой в цель на пятьсот шагов, среди его друзей не было монахов, и грабить им не приходилось. Но друзья у него были по всей необъятной стране, они тоже стреляли из лука: никогда не переводились люди, понимающие толк в старинном вольном занятии, и в разных концах света разные люди только и ждали, пока пропоет труба и они выйдут на просторный луг, на зеленую траву, станут плечом к плечу под высоким голубым небом.
В минуту опасности ты уходишь в этот спасительный мир, а потом, когда гроза пройдет, ты вернешься обратно как ни в чем не бывало. Это незаметное исчезновение и возвращение не раз и не два помогали ему избегать неприятностей. ведь во время этих неприятных разговоров он просто отсутствовал, его не было. И это было еще одной причиной, по которой Сычев все время помнил о своем патроне и покровителе, веселом и метком стрелке. Что касается меткости, таких вершин ему не достичь; однако что за беда, здесь нет оснований отчаиваться. Утешение же окончательное принесла ему философия. Философ жил в стародавние времена, он любил человечество, которое об этом не догадывалось, человеколюбие всегда было опасно, ибо всегда находились люди, подозрительно относящиеся к чужому человеколюбию. Такое положение наводило философа на грустные размышления, а это привело к тому, что он прослыл мизантропом. И однажды он написал слова, которые Сычев выбил бы на своем гербе, будь у него герб, или вышил бы на знамени, будь у него знамя.
«Презрения достоин не тот человек, — писал философ, — кто не достиг цели, а тот, кто к ней не стремился».
Теперь мы уже знаем чуть больше о Сычеве — вот он идет по парку, фантазер и поклонник французской философии; дай ему волю — он и взаправду убежал бы в зеленый Шервудский лес, словно нет на земле других достойных мест. Вот город — огромный и прекрасный, вот широкая река, железная арка моста соединяет ее пологие берега, легко возносясь над поверхностью сине-серой воды. Вот прекрасный вид, открывающийся взору с вершины железной арки: прямо и слева — шпиль, золотой меч, вонзившийся в небеса, из синей и серой воды вырастают безмолвные стены старинной крепости. Чуть поодаль — маленький горбатый мостик через уходящую вдаль кривую протоку, мо стик со старинными фонарями, столбы в виде ликторских прутьев, к столбам прибиты щиты, на каждом щите — голова Горгоны, голова гневно смотрит на прохожих, не имеющих о ней никакого представления.
И правда — кого сейчас может интересовать какая-то Горгона!
Другое дело — хорошенькие ножки. Хорошенькие ножки спешат впереди по уже упомянутому горбатому мостику через протоку, стройные прямые ножки, перечеркнутые — и довольно высоко — скромной темной юбкой, которая, в свою очередь, так удачно сочетается с темно-вишневым вельветовым жакетом. Это вам не Горгона, не какая-то там выдуманная Медуза. Это совсем другое дело, те. м более что оно имеет к нашему повествованию совершенно прямое отношение: при виде этих ножек, при звуке дроби, выбиваемой острыми и — увы — не совсем по люде высокими каблучками, Сычев встрепенулся и прибавил шагу. Острые каблучки простучали по дощатому настилу, затем звук прекратился, каблучки увязли в песке, густо насыпанном у входа в ворота, в воротах — тень и прохлада, каблучки застучали было по каменным плиткам — и остановились, эхо гулко отдалось вверху гнусавым голосом Сычева: «Сии ворота были воздвигнуты в тысяча семьсот сороковом году иждивением ее величества…» — голос звучал особенно богомерзко и противно под высоким каменным сводом, затем голос изменился, гнусавость сменилась торжественной напыщенностью: «А теперь, товарищи экскурсанты, взгляните налево…»
И тут показался свет. Зеленые е редкими коричневыми крапинками глаза (давно уже минуло и едва ли не забылось совсем то время, когда мельком, на бегу впервые успел он заметить этот необычный цвет набегающей морской волны) глянули на него с тем странным выражением, которое он никак не мог определить словами и которое ему так нравилось.
— Господи, — сказала она, — господи, веселый Робин, как же ты меня напугал.
Ничто не могло так подкупить, как эти слова. «Веселый Робин», — сказала она. Он лишь однажды обмолвился ей про зеленый Шервудский лес, а она сразу, словно иначе и быть не могло, поняла его и все, что стояло за этими словами, приняла всерьез, словно иначе и быть не могло. Вот какая она была, обладательница стройных ножек, — но, конечно, не только ножки были у нее, было у нее и имя — Елена Николаевна, из тех, похоже, Елен, из-за которых время от времени случаются троянские войны. Ввиду упразднения царских должностей современная Елена работала экскурсоводом музея Петропавловской крепости — этой вот самой, где ее и увидел — ах, как давно все же это было! — Сычев, увидел на бегу, мельком, в окружении смуглых людей в шитых золотом тюбетейках и полосатых восточных халатах. Только потом он подумал, что и это не было случайностью, Елены всегда были связаны с Азией, Парис был азиатским принцем, он прибыл из Трои за обещанной ему наградой. Он не знал тогда, чем это кончится, на нем вполне могла быть роскошная азиатская одежда, — уж не носил ли он полосатого халата и тюбетейки, или, может быть, он предпочитал тюрбан? Так или иначе, более близкое знакомство с Еленой не пошло ему впрок — вечная история, не приносящая добра. И всегда в ней так или иначе замешаны женщины и фрукты, в основном яблоки: женщины сами не свои до яблок и восточных принцев. Надо быть настороже, надо бежать, едва увидишь, как женщина протягивает руку к ветке. Ах, Робин, что за обвинения? Яблоки и женщины — а она здесь при чем? Сычев-то знал, что к чему, — его за Париса принять было трудно, расположением богов он заручиться не успел. Вот он и старался вовсю.
— Яблоки, — с сомнением сказал он. — Вы правы. Некоторые специалисты по Ветхому завету утверждают, что это были абрикосы. Или апельсины — точно не установлено.
«Это тоже — про Елену?» Оказалось, что речь идет о некоей Еве, которая, правда, была из той же породы. Очень, очень интересно. И все же она ни при чем. А он и говорит — конечно, ни при чем. Поэтому и следует все начать с начала. Сейчас, говорит он, сейчас мы начнем все с начала. Где Парис, где бесчестный соблазнитель-профессионал? Его нет. Яблок или иных плодов, могущих послужить поводом для раздора, — тоже нет, что же касается тщеславных женщин, с которыми при одном только упоминании о яблоках может произойти все что угодно, то ведь, — и тут он пригнулся, взгляд налево, взгляд направо, хитрая бестия и проныра из проныр, которого не проведешь, — женщин ведь тоже нет вокруг. Верно, Балтазар?
— Ну, Робин, — только и сказала она, она уже смеялась, — Балтазар! Это придет же в голову.
Но ему только и надо было — смутить, ошеломить, отвлечь и завладеть вниманием; неважно как, неважно, при помощи чего; признаться, он изрядно робел. Для вольного стрелка, для отчаянного храбреца это было довольно странно, только ведь он робел — и все, только и мог он спастись, что в скороговорке, и тут он понес околесицу про Балтазара. Он-де был и остается Робином, а вот она теперь Балтазар, — неужели она не слышала о нем? Ну как же, Балтазар Косса, будущий папа Иоанн Двадцать третий, авантюрист и пират, хитрец и смельчак — пробы ставить негде, она не шутит, она и вправду не слышала? Ах, какая история, ей это будет интересно, пусть это будет как игра: Балтазар и Робин встретились как-то на крепостном валу… Откуда он знает — зачем, так просто, совершенно случайно, может быть шли на работу, встретились, и тут он, Робин, говорит: ах, Балтазар, ах, мой милый, как я рад тебя видеть, — Тут сердце у него сжалось, и только потом, когда отлегло, он перевел дух. — Ну, вот — вы тоже рады, дружище Балтазар, приди в мои объятия… — И тут он ее обнял, закрутил и завертел, небо над головой крутилось и вертелось тоже, медом пахли ее волосы, медом была она сама, и медом были ее губы, до которых он дотронулся как бы случайно: дотронулся и отпрянул, словно его ожгло. А дальше повел себя как ни в чем не бывало, взял ее руку в свою и стал легонько гладить эту узкую руку, рука была прохладной и сухой, узкое обручальное кольцо он даже сразу не заметил.
— Балтазар, дружище, — говорил он, — пойдем, пойдем же.
Ему трудно было скрыть настораживающее смущение под выбранной им наспех маской, он все не мог забыть, он все думал о прошедшем обжигающем миге, запах меда преследовал его. К нему примешивался чистый запах только что скошенной травы, эта женщина была зеленым лугом. Голубое небо над головой все еще продолжало вертеться, он пытался убедить себя, что ничего особенного не произошло и не происходит, и поцелуй (впрочем, что это был за поцелуй, — дуновение ветра, — непонятно, был он или его не было), и это поглаживание, эта рука, которую он не согласился бы выпустить из своей ни за какие блага… Елена Николаевна посмотрела на Сычева и поинтересовалась вскользь:
— Что бы это все значило, Робин?
Никакой обиды — это показывало дружеское обращение в конце, весь упор был перенесен на суть вопроса. Не исключено было, что вопрошающий обращался как бы сам к себе: что бы это все значило? И нежное поглаживание руки, и этот весьма сомнительный Балтазар Косса, и поцелуй, который она предпочла считать несостоявшимся; неизвестно было, как следует принимать всю эту внезапную и подозрительную игру, во всем чувствовался какой-то лихорадочный умысел, словно ей под видом искушения преподнесли нечто испытующее, что-то здесь было нечисто, и она хотела знать — что же.
— Отвечайте, — сказала она.
Пришлось повиноваться и повиниться.
Конечно, он разгадан, признал Сычев, он был низвергнут с высот романтики на землю, он снова стал самим собой, о Робине не могло уже быть и речи — он разгадан, его попутал лукавый, он кается, он полон смирения — она, Елена Николаевна, со свойственной ей проницательностью, конечно, это видит…
Он думал, что отвертится этим, но она потребовала — дальше.
Подвохи. Каверзы. Сплошная военная хитрость, принялся перечислять грешник. А что прикажете делать? Только хитрость и может помочь. Даже Парису пришлось подождать, пока муж Елены пошел поплавать в бассейн, он тоже применил хитрость, Менелай бежал в чем мать родила через весь город, а корабль с Парисом и Еленой только и виден был еще на горизонте, не более того, а ведь он, Сычев, не Парис…
— Дальше.
— Обман. Принять личину святой простоты, усыпить бдительность, окружить прелестную цель посягательств неким отвлекающим подобием безопасности, скрывать вопиющую дерзновенность поползновений под фамильярной, шутовской развязностью и тем самым в самый короткий срок перескочить несколько ступеней, отделяющих друг от друга, благо их остается еще немало.
— А затем?
— О, коварство мужчины, взирающего на женщину, вообще не имеет пределов, — заверил Сычев; это было сказано достаточно дерзко и вместе с тем уклончиво, он был настороже, он не хотел рисковать и готов был в любую минуту превратить с таким трудом возведенное строение в руины. — Вам, как Елене, об этом говорить не надо.
Во всем, что он говорил, как бы не смея поднять глаз, в этом его сокрушенном раскаянье было так много настоящего тепла, так много простодушного лукавства, что, смеясь над ним, она вовсе упускала ту часть этой несколько неожиданной исповеди, которая могла оказаться чистой правдой.
— Ладно, — проговорила она, — я прощаю вас. — И протянула покаявшемуся хитрецу освобожденную было руку. Поскольку он сам раскрыл свои козни, она надеется, что его раскаяние было столь же искренним, каким должен быть обуревающий его стыд («Как бы не так», — подумал он), она его прощает… И тут какая-то новая нотка, прозвучавшая в ее голосе, заставила Сычева поднять голову.
— Что случилось? — спросил он и понял, что упустил какой-то момент: что-то изменилось, в глазах Елены Николаевны было это что-то — отчаяние? грусть? тревога? — А ведь вам не весело, — сказал он.
— Да, — сказала Елена Николаевна; это «да» звучало как откровенность за откровенность, она таила это «да» в себе, вероятно оно не должно было вырваться. Теперь Елена Николаевна смотрела на Сычева подозрительно, даже хмуро, считая, быть может, что одним своим словом сказала слишком много, но Сычев уже не шутил. Эта минута доверия была итогом его трудов, он молчал, он молча сочувствовал, он соболезновал всей душой, и она улыбнулась ему, но улыбка была вялой и не обманула его. — Да, — повторила она, ей невесело, она, пожалуй, сказала бы, что ей совсем не весело, а Сычев смотрел и смотрел на нее, и пауза, которой было заполнено это молчание, приблизила их друг к другу больше, чем это могли сделать любые слова.
Ей было невесело. Она никогда прежде не говорила с ним о себе, она никогда не говорила с ним о своих делах, и, конечно, она никогда не говорила с ним о муже, было бы странно, если бы она говорила с Сычевым о своем муже, он не знал о муже Елены Николаевны вообще и, уж конечно, не знал о его докторской диссертации; он защитил ее уже год назад, позавчера пришло утверждение из ВАКа, и в тот же день новоиспеченный доктор наук напомнил своей жене старинный договор. Договор заключался давно, доктор только-только стал тогда кандидатом, но уже он метил высоко, он глядел вперед, он прозревал будущее, в будущем у него должна была быть прелестная жена, которая должна будет в свое время сидеть дома и обеспечивать его дому надлежащее реноме; да — и вот тогда-то она сможет, если у нее не пропадет желание, завести ребенка. Она уже забыла про тот разговор, прошло столько лет, она, по правде говоря, никогда не принимала его всерьез. Ее муж все принимал всерьез, ибо серьезность была его отличительной чертой. Он был чертовски серьезен, он был красив, он занимался альпинизмом, он любил свою науку, он много работал, он очень любил Елену Николаевну, и она его очень любила. Да и как его можно было не любить: он был идеальный мужчина и идеальный партнер по браку. Он даже не возражал, чтобы она теперь завела ребенка. Ребенок — это было серьезно, это был серьезный вопрос, к нему нельзя было подойти, так сказать, эмпирически, теперь его можно было завести, но ей что-то уже не хотелось, ей не хотелось заводить ребенка, как заводят собачку или кошку, она так его хотела, но что-то перегорело в ней, и она уже не хотела ничего. Но ведь это было несерьезно. Так или иначе, разговор состоялся, или, точнее, был возобновлен, а еще точнее — продолжен, отныне она была женой доктора технических наук, и она шла увольняться с работы. Что она сказала Сычеву из всего этого, о чем умолчала — она не могла об этом вспомнить позднее, а он не говорил ей. Он понял главное, главным же было восстановленное доверие: о большем он и не мечтал. И тут она спросила его с каким-то вызовом: что ж, он так и намерен продержать ее весь день у ворот? Он, кажется, предлагал куда-то идти? Предлагал или нет, идут они или не идут? Она была напряжена, голос ее звенел.
Конечно, они идут, благо что это здесь недалеко, но он преувеличивал. Вообще-то говоря, идти им никуда уже не было нужно, ибо с самого начала они были на месте — и он показал ей на раскрытое окно.
— Что там? — все же спросила Елена Николаевна.
— Конечно же, вертеп, — ответил Сычев.
А окно? Она должна лезть в окно?
— Вот именно, — подтвердил Сычев. — Именно в окно.
— Забавно…
— Не бойтесь, — сказал Сычев, — Здесь совсем не высоко.
И бедной Елене Николаевне пришлось подобрать свою короткую юбку и встать на подоконник.
6
На улице был ясный день, здесь было прохладно и темно. И тихо — ни звука, только что-то шуршало за сомкнутой стенкой кульманов, словно мыши шуршали. Только откуда здесь столько мышей — тишина и шуршание, шуршание и тишина? Голос Елены Николаевны был поневоле тих, она была полна любопытства, но была озадачена.
— Здесь никого нет?
— Тихо, — шепнул ей Сычев, — они здесь. Будьте готовы, они притаились, сейчас…
И тут раздался рев, раздался гогот, Содом и Гоморра и черт знает что. Потом на мгновение воцарилась тишина — похоже, что концерт был отрепетирован и давался не впервые, потом раздался удивленный голос: «Посмотрите, кто пришел к нам на обед». И тут же снова — какой-то коллективный вопль. В воздухе явно пахло каннибализмом. Сычев увидел, что Елена Николаевна несколько обомлела, и решил, что с нее, пожалуй, хватит.
— Эй, вы! — крикнул он тем, кто, шурша, притаился во тьме. — Хватит. Мы пришли к вам с Еленой Николаевной…
Гогот и вой.
— Сумасшедший дом, — сказал Сычев в шуршащей тишине. Он знал свою роль назубок, он сердился почти естественно, он подал Елене Николаевне руку, и она спрыгнула на пол. — И здесь вот, в этих эстетически антисанитарных условиях проходит жизнь, — сетовал он, и в голосе его было разочарование. — А кролю того — что здесь за люди: вон они, притаились, ведь жизни от них — никакой! Мерзавец на мерзавце. Заметьте, что при всем при этом они страшатся света и сидят себе потихоньку в углу. Там вам и место, — крикнул он тем, шаркунам, — там вам и место, оставайтесь там навсегда, дети преисподней, я заклинаю вас магическими формулами Люцифера и Бегемота, дьяволов тьмы, я обрекаю вас на вечное молчание, ваши души после никчемной жизни попадут в ад, в то время как я — человек достойный в высшей мере — буду наслаждаться в раю.
— С Евой или Еленой? — поинтересовался кто-то.
— Какой ужасный голос, — сказал Сычев, — вы согласны? Это Демьяныч. Хорошо, что он неразличим. Хорошо, что мы не видим этого лица, испещренного следами всех наиболее позорных пороков. Себе самому он, конечно, представляется добрым и кротким — но кто, спрашиваю я, соблазнил подавальщицу Нюшу из столовой номер двадцать три? А кто лишил покоя продавщицу из винного магазина на углу Кировского и проспекта Максима Горького?..
Они рванулись из темноты к свету, как пираты на абордаж, они оттеснили Сычева от Елены Николаевны. «Ручку, ручку дозвольте поцеловать!» — кричал один; «В плечико, в плечико, дозвольте, ваша светлость», — и они припадали кто к ручке, кто к плечику, они проходили пред ясными очами Елены Николаевны — знаменитые обитатели знаменитой комнаты номер семь мастерской номер один института «Гипроград». В институте они слыли чем-то вроде Запорожской Сечи, вольница из вольниц, весельчаки и забияки, работяги из работяг, краса и гордость первой мастерской, стыд и горе первой мастерской. Никто не знал, награждать ли их за отличную работу или ругать за непочтение к архитектурному совету города, где они устроили очередной скандал. Пока что им дали два месяца сроку для участия в международном конкурсе на застройку центра Сантьяго. Теперь они просиживали вечера, субботы и воскресенья в мастерской, они поклялись утереть нос любому сопернику и получить первый приз. Им всем было к тридцати или чуть за тридцать, они были талантливы, они были честолюбивы, они работали как черти. Участие в конкурсе не снимало с них обычных обязанностей, начальство, похоже, знало, что делало, начальство было не лыком шито и знало, кого на что можно купить. Пока не будет закончен конкурс, мастерская была обеспечена тихой жизнью, что, в конце концов, и нужно было начальству: тишина и спокойствие. Буйная комната номер семь изолирована и нейтрализована, Запорожская Сечь занята день и ночь работой, и работа эта, знало счастливое своей гениальностью начальство, будет выполнена на мировом архитектурном уровне и точно в срок.
Отсюда и снисходительность, немыслимая ни на каком другом месте, даже в пределах самого «Гипрограда», не говоря о каком-нибудь предприятии с более жестким режимом, — это выглядело удивительным для неопытного в подобных делах экскурсовода. С любопытством оглядывала Елена Николаевна огромные подрамники, они лежали всюду — на столах и на козлах, они висели на стенах, они стояли, приткнувшись, в углах; всюду, куда ни посмотри, валялись карандаши, краски, банки с тушью, флаконы с гуашью, схемы и макеты, ворохи синек и калек, а посреди всего этого содома на чистом листе ватмана — кольцо бледно-розовой колбасы и несколько бутылок…
Здесь автор останавливается. Он замирает в смущении, он ищет слов в свое оправдание — ищет и не находит, ему стыдно, ему мучительно неудобно. Что за ситуация — бутылки… Рука поднимает перо, чтобы вписать после бутылок прекрасное и ликующее слово «лимонад» — и снова бессильно падает на стол. Увы! То был не лимонад; черт побери, — не совсем педагогично восклицает автор, он предвидит возражения и упреки, господи, ну что им стоило пить лимонад и закусывать колбасой. Упреки совершенно справедливы: но — Платон мне друг, а истина дороже: в бутылках было вино. И здесь волей-неволей придется давать объяснения. Ибо что же это такое — бутылки… «Безобразие!» — в гневе воскликнут одни — и будут совершенно правы. «Неправдоподобное вранье», — скажут другие, и они тоже будут совершенно правы. Что делать… Здесь автор видит только одно оправдание, нет — два: оба они сомнительны, и все же… — во-первых, дело происходило в субботу, не в какую-нибудь «черную» рабочую субботу, а в самую что ни на есть выходную, это был выходной, нерабочий день, труженики города и села законно отдыхали, они еще с вечера пятницы уехали за город. Погода благоприятствовала рыбной ловле, трудящиеся занимались спортом на стадионах и спортивных площадках страны, а кто не хотел — гулял с семьей по загородным паркам, посещал музеи и выставки, одним словом — восстанавливал свой трудовой потенциал после напряженной трудовой недели. И если бы нашлись такие — единицы, одиночки конечно, но ведь были же, наверное, и такие, — кто хотел бы провести часть времени за рюмкой доброго вина, то и они не подверглись бы нашему гневному осуждению, ибо, как справедливо заметил известный поэт, класс отнюдь не заливает жажду квасом, следовательно… Второе же оправдание — это то, что речь здесь идет о случае не совсем обычном, вернее сказать, вовсе не обычном — о вчерашней скромной некруглой дате — дне рождения одного из сотрудников: не в рабочий же день ее отмечать, если дела и так невпроворот!.. Вообще же все это, конечно, было чистым безобразием, и никакие ссылки на то, что проекты сдаются здесь в срок или что качество этих проектов превосходно, не служат оправданием упомянутым выше бутылкам.
Но пока — в виде исключения, с прискорбием следуя правде жизни, придется принять тот факт, что в нерабочий субботний день в седьмой комнате мастерской номер один института «Гипроград» на промасленном уже листе ватмана лежали крупно нарезанные куски колбасы сорта «ветчинная» (цена два рубля двадцать за килограмм) и несколько бутылок «волжского крепкого», которое, как всем известно, вовсе не такое уж крепкое, зато обладает неоценимыми достоинствами, какими являются прекрасный рубиновый цвет и редкая доступность в цене.
Уместен вопрос — а что же начальство? Руководитель мастерской, ее главный архитектор, профсоюзная, наконец, организация? Догадывались ли они, что подобный факт, как говорится, мог иметь место, могли ли они додуматься до этого, когда давали бригаде из комнаты семь разрешение на доступ в служебное помещение для работы во внеурочное время, могли ли, наконец, все означенные выше лица предполагать нечто подобное? И опять приходится подразделять ответы на вечные (при увертках) «во-первых» и «во- вторых»: нет, не знали. Не додумались. Не предполагали. Но — и это относится равно как к честности автора, так и к категории ответов «во-вторых»: могли. Да, могли предположить подобное все эти люди, и главный архитектор, и профсоюз, что скрывать — они могли предположить. К этому у них были все основания, им и предполагать было нечего, ибо точно установлено, что совсем недавно по этому самому поводу не далее как месяц назад имел, как говорится, место анонимный сигнал. И тут — как ни горько признать такое — вся ответственность за непринятие мер по сигналу ложится на плечи руководителя мастерской номер — один Ивана Макаровича Вертоносова. Плечи у него были не слишком широкие, трудно было предположить, что они вы-: несут подобную ответственность. В данном конкретном случае эти плечи могли и выдержать.
Вообще-то, глядя на узкого в плечах и тихого — совсем не по-начальнически — Ивана Макаровича, трудно было поверить в его особую такую уж выносливость, но тут придется довериться фактам: он оказался на редкость выносливым — на его долю пришлось четыре года войны, побег из концлагеря, ранений у него было больше, чем орденов, орденов было больше, чем зубов; он воевал во Франции и Италии, он был в Югославии, он был партизаном, диверсантом, командиром дивизии, комендантом города в Альпах; когда окончилась война, ему было двадцать четыре года. Разное случилось ему пережить после войны, на многое он изменил свои взгляды, но было в нем одно, на что взглядов он не менял и не мог изменить, — это было его отношение к доносчикам, худшими из которых он считал анонимных. Тут он уже не мог с собой ничего поделать — даже если бы и хотел, — но он, похоже, и не хотел. Во всем остальном он был человеком мягким и деликатным, и если бы это не звучало оскорбительно, вполне уместно было бы сказать, что он был либерал — может быть, из лесов и концлагеря он вынес непоколебимое доверие к торжеству добра в человеческой душе, — кто знает. В одном только он был щепетилен до жестокости — в умении держать слово: сроки сдачи проекта были для него священны, как черный камень Кааба для правоверного мусульманина. План был для него законом, точное соблюдение сроков выпуска и качество работы служило пропуском в его мягкую душу. К качеству он предъявлял требования самые немыслимые, тут он был беспощаден — справедливости ради следует сказать, что проявлять эту беспощадность почти не приходилось. Зато во всем остальном — как был он мягок, как терпим; некоторые считали, что он слишком мягок, многие считали, что он чересчур терпим, кое-кто пытался наставить его на путь истинный — это были те, кто считал мягкость слабостью. Они не имели в виду ничего такого, они хотели предупредить, они были исполнены самых дружеских намерений, их целью было раскрыть глаза начальнику мастерской (это было в самом начале его пребывания на посту начальника, Сычев еще не работал тогда в мастерской). Человек пришел к начальнику исполненный самых чистосердечных намерений, но вышло несколько странно. Очевидно, Вертоносов не все понял или не оценил элемента чистосердечности, может быть он не хотел, чтобы ему открывали глаза. Доброжелатель высказал свои подозрения, бдительная речь его лилась быстро, процесс раскрывания глаз протекал поначалу нормально, затем этот процесс замедлился, машина речи замедлила ход, она стала пробуксовывать, затем остановилась. Чистосердечный человек смотрел на начальника мастерской сначала с некоторым недоумением, потом с некоторым испугом. Начальник не поднимал глаз, он сидел молча, наливался краской, багровел, челюсти его судорожно двигались, кадык поднимался и опускался, он молча прожевывал невидимый комок. Потом он заговорил, и голос его был похож на колючую проволоку. Он сказал:
— Убирайтесь. — Он пожевал еще, руки его были сцеплены за спиной, похоже — он боялся, что они выйдут из повиновения, он даже словно подрагивал, голос у него тоже подрагивал. Потом он поднял взгляд, и человек, пришедший открыть ему глаза, попятился от выражения, которое было в этих глазах, — Вы поняли? — спросил Иван Макарович. И поскольку ответа не последовало, сказал заикаясь: — Уб-би-райся в-вон, т-ты…
— К-к-куда? — тоже заикаясь, спросил ошеломленный доброжелатель — он был совершенно не готов к такому повороту дела. Он был инженером с двадцатилетним стажем, он был уважаемым человеком, это было возмутительно, он даже хотел было возмутиться вслух. Но тут Иван Макарович встал и, подойдя к нему вплотную, сказал — куда именно ему убираться… Это место находилось уж во всяком случае за пределами мастерской.
Никто ничего не слышал, никто ничего не видел, доброжелательный член профсоюза уволился по собственному желанию, однако разговор этот чудесным — иначе не объяснить — образом стал широко известен. Количество доброжелателей резко пошло на убыль, и наступил мир. Происшедшее молча было постановлено считать прискорбным инцидентом. Жизнь в мастерской номер один снова стала походить на реку: одним берегом реки был срок сдачи проектной документации, другим — качество работы, поверхность воды была ровной и гладкой ко всеобщему благу, а премии сыпались, как звезды в звездопад. И если сотрудники других мастерских бежали утром на работу, боясь опоздать и тем бросить тень на себя и свою репутацию, то сотрудники мастерской номер один бежали вдвое быстрей: опоздать — значило поставить под удар репутацию Ивана Макаровича, а поскольку сам Иван Макарович за опоздания никогда не пенял и никаких черных списков не вывешивал, бежать приходилось уж поистине изо всех сил; грех было подводить такого человека — разногласии по этому поводу ни у кого не было, и тут уж, хочешь не хочешь, ноги сами пускались в бег, и секундная стрелка оставалась всегда посрамленной.
Равным образом начальник мастерской не препятствовал и не протестовал, если кто-либо из сотрудников хотел задержаться после работы, посидеть в тишине часок-другой, доделать то, что не ладилось весь день, проверить мыслишку, прикинуть вариантик. И хотя можно предположить и здесь возражения со стороны тех, кто так жарко возмущался недостойным появлением в рабочем помещении бутылок и колбасы, — возражения эти иметь будут в данном случае совсем иную основу. Ибо замечено уже не раз, что самым истовым из пуритан и блюстителей нравственности реже других приходит в голову что-либо требующее додумывания после работы. Пуритане относятся к своим правам с большим уважением, которое выражается в их строгой работе от сих до сих. Мы же, истины ради, утверждаем, что желающих остаться и остававшихся безо всякого к тому понуждения в мастерской номер один было совсем немало; не один раз и не два раза допоздна светились окна, выходящие на зеленую крепостную лужайку.
Вот что это было за место, комната номер семь, где руководителем транспортной группы работал Сычев, вот куда он обманным путем — ах, мой милый Балтазар, ах, какая встреча на крепостном валу, и так далее, и так далее, знаем мы эти штучки! — затащил бывшего экскурсовода Елену Николаевну, жену неизвестного доктора технических наук. Доктор наук, надо полагать, был весьма достойным человеком, Елена Николаевна должна была по праву стать лучшим украшением его дома, и вряд ли он подозревал, чем в эту минуту занимается его скромная и всегда выдержанная жена.
И хорошо, добавим мы уже от себя, и очень хорошо, что не подозревал, хорошо, что он был сейчас далеко, занимался своими важными делами и не имел возможности заглянуть в окошко первого этажа одного из равелинов старинной крепости; вряд ли ему понравилось бы то, что он там увидел, возможно даже, что он потерял бы покой, чем был бы причинен ущерб науке. Хорошо, что он не видел в эту минуту свою очаровательную жену, — она была очаровательна по- прежнему, она была еще более очаровательна, чем всегда, никто не дал бы ей сейчас ее тридцати лет, и уж совсем не походила она на добропорядочную супругу достопочтенного доктора наук. Она была похожа на сорванца, который нечаянно попал в табор бродячих комедиантов, жизнь открылась ей с новой, неожиданной стороны, она растворилась в этой жизни вся, всей душой, она была счастлива и не собиралась это скрывать. Она восседала на козлах от подрамника, в одной руке у нее был огромный ломоть хлеба с колбасой, в другой руке — стакан «волжского крепкого», на бледных обычно щеках горели яркие пунцовые пятна. Вряд ли этот стакан был первым, вполне вероятно, что не был он и вторым: комната номер семь встречала гостью со всем присущим этой комнате радушием. Комната номер семь всегда была мирной мужской обителью, вторжение бывшего экскурсовода нарушило плавное течение мужской жизни — внезапное вторжение марсиан не произвело бы подобного переполоха. Тишина была нарушена, уединение было невозможно, козлы с Еленой Николаевной стали на это время центром вращения Вселенной, и Вселенная старалась вовсю. Каждый из обитателей тихой кельи чувствовал на себе некую ответственность, которую трудно было бы определить словами, они были мужчинами и друзьями, всегда и во всем плечом к плечу, один за одного — какая же могла при этом быть первейшая обязанность и ответственность, как не та, чтобы выказать себя кавалерами в самой что ни на есть галантной форме.
Именно этим они и занялись, кто как умел и как считал возможным. Демьяныч говорил туманно и многословно, многозначительный загадочный туман обволакивал ситуации, о которых он мог упоминать лишь намеками, вскользь, за туманом вставало и исчезало что-то уже вовсе поразительное. Намеки на соблазненную подавальщицу он отвергал категорически, это были грязные инсинуации, вызванные исключительно завистью, затем он решил спеть и со всей решительностью запел на итальянском языке. Песня называлась «О, sole mio!». Это была неаполитанская песня, страсть переполняла исполнителя, голос его трепетал, ширился, гремел и грозил обрушить стены двухсотлетней гранитной твердыни. Другим обитателем комнаты был Лев Давидян, потомок древнего рода, он был восходящей звездой архитектуры, восходящая звезда имела два метра роста и напоминала Антиноя. Потомок армянских князей мягко и как бы невзначай показывал силовые номера, он жонглировал двухпудовыми гирями, удалившись в дальний угол, жонглируя, он бросал на Елену Николаевну взгляды, способные расплавить невский гранит. Елена Николаевна не оставалась равнодушной, и нежный румянец алел на щеках Льва Давидяна, подобно заре Востока. Третьим был великий экономист Б. Зеленцов, он был маг и чародей, с цифрами в руках он мог доказать все что угодно, еще большими были его успехи, когда цифр не было; в нем пропадал незаурядный талант фокусника, наверное он рожден был для арены цирка. Он был элегантен, как английский принц-консорт, он творил чудеса на глазах — «только один раз по заявке публики». На дворе был август, и Б. Зеленцов небрежным движением руки вытащил из своего крокодилового — настоящий кубинский крокодил — портфеля размером с небольшую пещеру августовский номер журнала «ВОГ». «ВОГ» — законодатель мод, последние новинки, парижский шик, фирма «Диор» предсказывала увеличение спроса на соболевые манто, бриллианты снова входили в моду, спрос на изумруды несколько упал. Елена Николаевна едва не упала с козел, на которых ей приходилось соблюдать равновесие, — все, что рекомендовал, проповедовал, вещал и предсказывал журнал «ВОГ», было совершенно необходимо каждой уважающей себя женщине, и журнал был ей тут же подарен. Архитектор Анатолий Иванович Швед тоже был здесь, он не умел жонглировать гирями, не умел извлекать новинки парижских мод, он был магом в мире научно-технической информации, он знал все, что только можно знать: девичью фамилию матери Черчилля, состав миссии Красного Креста в Габоне, стоимость барреля иранской нефти на нью-йоркской бирже, он знал семь языков, в том числе корейский и финский. Он смотрел на Елену Николаевну из-за толстых стекол очков неутоленным взглядом тридцатилетнего праведника и ждал, пока настанет его очередь завоевать ее внимание глубоко аргументированной импровизацией о причинах изменения стабильности золотого паритета.
Все это происходило одновременно: пение неаполитанских песен, мелькание гирь, блеск глянцевитых страниц «ВОГ». В воздухе звучали хвастовство и буффонада, в углу продолжались цирковые номера. Только двое не принимали в торжестве видимого участия — сам косвенный его виновник Сычев и его лучший друг, некто Татищев. Этот Татищев и был номинальным главой комнаты номер семь, он был главным архитектором проекта, чем немало гордился. По мнению Сычева, ему было чем гордиться и помимо этого. Руководитель транспортной группы Сычев не был знатоком, он во всем был дилетантом, но в Эрмитаже-то он бывал, Русский-то музей он знал как свои пять пальцев, и уж на альбомы — то ли галереи Уффици, то ли Мюнхенской пинакотеки или музея Гугенгейма, не говоря уже о Лувре и Прадо, — он денег не жалел. Значит, кое-что он все-таки видел, мог сопоставлять и делать свои выводы. И вывод был таков: его друг Сергей Татищев — гений. Сычев поверил в это, когда увидел рисунки Татищева: они пылились в каморке, которую тот снимал в Купчине. Татищев не был жаден, он дарил свои работы тем, кто был ему приятен и близок, у Сычева тоже было несколько его рисунков пером, углем и гуашью, две монотипии и три сангины, он окантовал их и повесил на стены. Если бы у него были деньги, он скупил бы все рисунки Татищева. Он завидовал ему, он сердился на его беспечность и готов был для него на все.
Сейчас он сидел рядом с Татищевым и завороженно смотрел, как из бессмысленного на первый взгляд переплетения толстых и тонких угольных линий вырисовывается (нет, — поправил он сам себя, не вырисовывается, а прорастает) тонкое и худое лицо мучительно незнакомой ему женщины с коротко остриженными волосами и странным взглядом чуть раскосых глаз. Татищев проводил свои линии, время от времени он бросал на Елену Николаевну острый и цепкий взгляд. Снова смотрел на картон, что-то бурчал себе под нос. Кажется, это было одобрительное бурчание — так по крайней мере казалось Сычеву. Татищев все еще поднимал свои щелочки на Елену Николаевну и опускал их снова к картону, Елена Николаевна звонко смеялась, она запрокидывала голову, она слушала лекцию о золотом паритете, а на картоне она была грустной и такой красивой, что Сычев едва не заплакал. Он смотрел на картон, смотрел и смотрел, потом он смотрел на Елену Николаевну, и его лицо твердело от напряжения. Елена Николаевна нравилась ему как никогда раньше. Она покивала ему как бы из неведомой дали… вот тут-то и посмотрел на Сычева Татищев и шепнул: «А ведь ты вожделеешь… — сказал он. — Ты ведь, поди, с нею еще и не спал».
Сычев только дернулся. Этого он не любил — таких словечек, их он не хотел слушать ни от кого. Татищев был его лучшим другом, никому другому Сычев не спустил бы подобных штучек, сухость ответа выдавала его внутреннее недовольство. Словами здесь было не объяснить, вожделение — это только слово, оно ничего не объясняет. Оно не объясняет, почему щемит где-то там, внутри; это не имело ничего общего с физиологией, люди могут спать друг с другом и быть бесконечно далеки и чужды. В голове Сычева теснились какие-то возвышенные мысли, в эту минуту он и не думал об объятиях, и по тому, что он сказал Татищеву, он и вообще ни о чем подобном и не помышлял. «Это еще почему?» — удивился Татищев. Он действительно не все по-нял из путаных объяснений Сычева. Женщины не слишком интересовали его, но он не признавал всего того мистического тумана, который обычно напускался в вопросе об отношениях полов. Он был человек земли, он не усложнял без надобности простые вещи, ему нравились красивые женщины, нравилось обнимать их — так было задумано природой, и всякое усложнение похоже было на извращение естественных природных основ. Сычев приплел к этому простому вопросу какие-то принципы, принципы эти звучали для Татищева неубедительно. С одной стороны, Сычев признавал, что Елена Николаевна ему нравится, и это оыло понятно, дальше шла какая-то мешанина из таких понятий, как дружба, бескорыстное поклонение красоте, братское отношение к женщине и кристальная чистота помыслов. Татищев слушал внимательно, рука его наносила на картон последние штрихи, он думал о том, что кристальная чистота помыслов, существуй она на самом деле, привела бы к самому скорому исчезновению человечества. Он все ждал, не откажется ли Сычев от своей галиматьи. А когда убедился, что нет, сказал ему совершенно недвусмысленно, что если все то, что он тут плел, — правда, то он, Сычев, просто болван…
Но Сычев в эту минуту свято верил в каждое свое слово и, глядя на Елену Николаевну, ласково кивавшую ему с козел, умиленно и даже с каким-то гордым самоотречением продолжал убеждать — теперь уже самого себя, — сколь чисты и непорочны были его намерения. И только в тот момент, когда с живой женщины он переводил взгляд на серый картон, только тогда в него начинали закрадываться сомнения. И тогда где-то глубоко внутри он ощущал горячие и тревожные толчки, похожие на отдаленное предвестие катастрофы, — таким пугающе сладострастным и нежно-жестоким становилось это лицо, таинственно возникшее перед его глазами из угольных черных штрихов.
7
Три длинных свистка — день окончен. Поле, жившее до этого напряжением последних выстрелов, ожило, зашевелилось, заговорило, зашумело: день закончен. Еще стрелы последней серии, невытащенные, торчат в щитах. Еще не выведен итог последней дистанции. Но уже — р-раз — снимаются тетивы, лук — в чехол, стрелы — в коробку; теперь можно расслабиться, распрямиться, прийти в себя и перевести дух. Теперь можно оглядеться, переброситься парой слов. Теперь уже нет соперников, только одни друзья, рядом с нами великий Остапчук, тут же Ося Финкельштейн (сборная Советского Союза), — наконец-то он может отложить проклятые спицы, от которых нервы, оказывается, устают еще больше, чем от стрельбы. Тело потихоньку начинает ощущать навалившуюся усталость, руки до поздней ночи и даже во сне будут еще сжимать и чувствовать теплое дерево рукоятки. Уже нет возможности что-то исправить, по крайней мере сегодня. Зато есть возможность посетовать на судьбу, и вот уже слышны эти жалобы: кто-то перепутал прицел, кто-то не заметил, как переменился в десятой серии ветер, у кого-то поползла обмотка на тетиве… Так бывает каждый раз, это может случиться с каждым, каждый пострадавший сегодня выслушивается сочувственно, ибо кто знает, когда придет твой черед ожидать сочувствия собственным бедам, — может быть, это случится завтра. Это, конечно, не трагедии, скорее трагикомедии, но они помнятся и долго еще будут припоминаться в подходящих случаях: «Это случилось, когда у Лахтонена сломался его новый „хойт“, — помнишь?»
Такое и вправду не забыть.
Усталость все больше и больше дает о себе знать. Только сейчас все вспоминают, что стрельба шла более восьми часов подряд: начали в десять утра, а теперь уже за шесть. Все голодны, тело ломит, словно они не стреляли из лука, а перетаскивали на себе несколько тонн груза, — впрочем, нечто подобное они и совершили.
Остается только выяснить, что совершил каждый из них. Вопрос один и тот же: «Ты сколько набил?»
— Миша, ты сколько?
— Двести пятьдесят три и двести восемьдесят восемь.
Это неплохо.
— Зайдниекс, ты сколько?
— Двести сорок и двести семьдесят три.
Тоже ничего.
— А ты?
Ответа нет. Все ясно.
— А Витя? Ребята, сколько у Остапчука на семидесятке? Сколько? Да это же…
У Остапчука триста двадцать четыре очка — повторение мирового рекорда. Впрочем, на то он и Остапчук, он может еще и не такое.
— А как иностранцы?
— Пока в завале, человека два в десятке.
— Ося! А ты сколько навязал?
Но О. Финкельштейна поддеть нелегко, он невозмутим, он спокоен, и он говорит:
— Спокойно, ребята, спокойно. Еще не вечер…
Вечер…
Это игры. Это детские игры взрослых людей. Может быть, стоило бы просто пожать плечами: взрослые мужчины и женщины, оставив свои семьи и работу, ходят по полю с карандашами в руках и подсчитывают очки. Подумать только! Но для Самих этих мужчин и женщин в этом нет ничего необычного. Идя наискосок через поле, Сычев то и дело слышит отовсюду, спереди и сзади, слева и справа: сколько, сколько, а ты, а сам, на девяносто, на семьдесят, сколько? Ну это класс, это ты дал!
Последнее уже относится к нему самому, к Сычеву. Это он сегодня ходит в героях, это к нему относится так редко приходящееся на его долю — ну, ты дал!
Что же он дал?
Он дал результат. Результат и в самом деле высокий, высокий не только для него, Сычева, это по-настоящему классный результат, о таком он и не мечтал: двести семьдесят шесть очков на дистанции девяносто метров, триста четыре — на семидесяти.
— Ну, старик, ты даешь.
Старик! Совершенно идиотское слово, от него у Сычева во рту привкус, словно от перегара. «Ну, ты даешь, старик!»
Сычев только пожимает плечами. Он идет, загребая ногами, он устал, он валится с ног, желудок у него скрутило от голода. Он сегодня герой, свершилось чудо, — не иначе как небеса услышали его молитвы. Он показал сегодня классный результат, что верно, то верно, это лучший результат, который он когда-либо показал, он вполне мог бы гордиться этим своим результатом. Особенно если забыть на мгновение, что кроме него самого есть еще Остапчук, и француз, и этот долговязый поляк с круглым безбородым лицом.
«Ну, ты даешь!»
Тут он видит свою команду, храброе разбитое воинство. В пылу сраженья он потерял их из виду, они решили, что он забыл о них, это видно по их лицам. А еще видно, что они этого не забудут. «Им кажется, что я загордился», — думал Сычев, и тут он понимает — они правы, он и вправду забыл о них, да, они правы. Он говорит: «Как дела, ребята?» — это звучит объяснением, это можно понять и так: не сердитесь, бывает… Но никто его ни в чем не упрекает, никто не говорит ему ни слова. Это-то хуже всего. Он тоже молчит. Он знает, что упрекнуть его не в чем, он работает на команду, но… он сегодня в лидерах, высокие очки выделяют его… и отделяют. Ему это очень неприятно. Он чувствует себя неловко и стоит дурак дураком, пока Вера не говорит ему сквозь слезы: «Ну чего стоишь? Садись».
Это — прощение. Он валится на истоптанную траву, закрывает глаза и лежит недвижимо; рядом с ним плачет Вера. Она плачет осторожно, чтобы от слез не расплылась тушь, и смаргивает слезы на платок.
Нужно идти.
Они идут. Сычеву очень хотелось бы взглянуть на доску с результатами первого дня, ему очень хочется узнать, на каком он месте, не так уж часто выпадает ему такой случай. «Хорошо бы, — думает он, — зацепиться в десятке». Двести семьдесят шесть и триста четыре в сумме дают пятьсот восемьдесят очков — ему даже не верится, что это у него такая сумма после первого дня, уж больно много. Если бы завтра, продолжает он мечтать, он выбил бы на пятидесятке двести девяносто пять, то до результата высшего класса — тысячи двухсот очков в одиночном международном круге — ему осталось бы всего триста двадцать пять очков с тридцати метров… Мысленно он уже видит эту тысячу двести очков, прикидывает в уме, сколько очков он должен выбить в каждой серии и сколько очков должна при этом принести каждая стрела… Пока не спохватывается. «Ну, брат, — говорит он сам себе, — ну, брат, ты и нахал! Размечтался». Мечтам сейчас не место, об очках не надо думать, надо сейчас отдыхать, и завтра не надо думать об очках, надо думать о технике, надо технично стрелять, хорошо еще, что так обошлась ему та первая единица.
К доске с показателями он не пойдет.
Кроме всего прочего, он не пойдет к ней еще и потому, что это было бы бестактно по отношению к своим. Это они на вопрос: «А ты сколько?» — не отвечали ничего. Он тоже не может задать им этот вопрос, и он снова испытывает непонятный стыд, как если бы он добыл свои высокие очки обманным путем.
А это не так.
Это не так. Он знает, как дались ему эти очки, и они, те, что идут сейчас рядом, тоже знают. Он тренировался как никто другой, больше любого из них, много больше. Весь этот год он отдал тренировкам, тренировки и работа — вот и все, что видел он в этом году. Он попытался — не мог вспомнить, когда в последний раз он был в кино. Только в Эрмитаж он ходил на занятия по искусству средневековья, — но это было и все. И все-таки, — все-таки здесь что — то не так: в этом убеждает его непроходящее чувство вины. И правда — кто ж может так вот, день за днем без остатка отдавать свое время тренировкам — день за днем и год за годом? Ну он — он человек одинокий, он вправе распоряжаться собой, захотел целый год ходить на тренировки — и ходил. Но у других есть семья, дети, тут получается какое-то неравенство, а соревноваться-то всем приходится на равных. Никому нет дела, можешь ты или не можешь отказывать себе во всем ради тренировок, ради весьма проблематичной победы. Стоит ли она этого?
Наверное, стоит. Иначе трудно было бы объяснить, почему все эти люди и сам он, занятые с утра до вечера на работе, строители и механики, архитекторы, преподаватели, художники, этот вот диктор телевидения, что мрачно шагает сейчас справа от него, и эта вот с заплаканными глазами (краска все-таки потекла), физик-теоретик, — все они, забывая едва ли не обо всем на свете, тратят свое время и свои деньги, отказывают себе столь во многом. И все это для того лишь, чтобы даже в неравных условиях вступить в борьбу, в которой у них так немного шансов взойти на пьедестал.
А может быть, они вовсе и не стремятся на него взойти?
Раньше он сам себя убеждал в этом, но только теперь он понял, что напрасно пытался обмануть самого себя: конечно, не только ради участия в соревнованиях проводил он сотни часов в стрелковом тире и на площадке, делал тысячи выстрелов, подгонял снаряжение. Конечно, он хотел победить, он был нормальным человеком, мужчина должен быть честолюбив, должен думать о славе. Слава была крепостью, которую надо было взять, ее нельзя было одолеть хитростью или каким-нибудь окольным путем. Тот, кто хотел взобраться на стены крепости, должен был рассчитывать на себя, свое умение, мышцы, волю. Крепость не пустовала, она была занята лучшими из лучших. Она была неприступна — почти неприступна, потому что время от времени находились смельчаки, которые брали ее приступом. Это поощряло других: если кто-то может, значит, могу и я. Количество смельчаков не убывало, кто-то срывался, кто-то отступал, вершина казалась такой близкой, — еще одно усилие, одно, последнее… Никогда не переведутся люди, которым хочется сделать что- то необыкновенное, не переведутся, пока есть крепости и вершины, которые надо взять. Это касается спорта точно в той же степени, как и любой другой сферы человеческой жизни, имеющей свои вершины, иными словами — это касается всех, сторон нашей жизни. И очень часто штурм неприступных вершин начинается еще тогда, когда мы сами хорошенько не понимаем, что делаем на самом деле.
«Я в домике, чур-чура!» — это каждый помнит с детства. Это формула безопасности и неприступности. От нее захватывало дух, восторг наших ранних впечатлений, уже было позабытых, оказывается, не только не слабеет со временем, а, наоборот, становится сильнее с каждым взрослым годом. Когда мы молоды, мы не думаем о том, почему это происходит, нам хочется поскорее вырасти, стать взрослыми, позабыть о детстве, пока не обнаруживается однажды, что мы не только вышли все из страны детства, как об этом справедливо сказал один француз, мы, собственно, никуда из этой страны и не уходили. Мы играли в кубики и куклы, потому что нам это нравилось, нам было интересно, мы любили новые игрушки, но когда не было новых, мы играли старыми, когда не было интересных игр, играли в неинтересные. Но интересные мы по-прежнему любим больше.
Похоже было, что подобными рассуждениями он мостил себе дорожку, по которой можно было при случае перебежать в стан победителей, где наверняка игры были интересней. Он мог бы сказать в свое оправдание, что долгое время провел среди побежденных, только ведь он и сам понимал, что все это одни отговорки. И тут он снова остановил себя: ни к чему были все /его мысли, он делил шкуру неубитого медведя, он рано забеспокоился об оправдании своих поступков, которых еще не совершил. Крепость славы охранялась достаточно хорошо, и одним приступом, даже удачным, ее было не взять.
Так сдерживал, так увещевал себя Сычев — он не хотел быть нескромным, внутренняя пристойность была его уздой, которой он укрощал так долго дремавшую гордыню, но мог ли он насиловать природу? Его природа хотела сейчас совсем иного обрамления, которое не состояло бы из мрачной сосредоточенности и горестного перечисления уже не существенных теперь просчетов, и он не обиделся, обнаружив, что остался один за столиком в ресторане.
Это был обычный провинциальный ресторан того класса, к которому прикрепляют на питание приехавших на соревнования спортсменов. Они усаживались за столики полуживые от усталости, им можно было скармливать пищевые неликвиды, позавчерашние котлеты, вчерашние супы. Они не были выгодными клиентами, не пили водки и коньяка и расплачивались-то талонами, с ними можно было не церемониться, они могли и обождать. Команда не хотела ждать, вместо борща и котлет они взяли шоколад и ушли, оставив Сычева. Они почувствовали его настроение и без лишних слов оставили его одного. Он был им благодарен. И, испытывая давешний стыд, он в то же время испытывал и преступное наслаждение своим одиночеством. Оно давало ему возможность пережить свалившееся на него кратковременное величие, которое — он понимал и принимал это не без горечи — было все же не слишком высокого свойства. Ибо хотя О. Финкелыптейн, проходя мимо его столика, и поднял два пальца, означавших, что он, Сычев, по результатам первого дня идет на втором месте, несмотря на эти два расставленных и толстых пальца, Сычев должен был признать, что по отношению к истинно великим делам, творившимся в это время на свете, его величие, которым он так упивается, выглядит в достаточной мере призрачным, мелким и пустым. Он был всего лишь калифом на час, и высоты, достигнутые им сегодня, уже казались ему столь же мнимо значительными, как и те, которых он достиг на ступенях служебной лестницы. Верхние ступени скрывались в облаках, а он стоял на земле. Вот и все.
А может быть, он все-таки неправ? Ведь его величие выражалось цифрами, очками, его можно было сравнить с чем- то, что имело те же измерители. Если и такое величие есть пустота и мнимость, — что следует тогда считать значительным на самом деле? Способны мы на действительно стоящие дела, или нам следует признать все происходящее с нами мелким и навсегда лишенным даже тени величия? И все из-за того лишь, что мы находимся — как Сычев находился — просто на земле, или, говоря иначе, далеко внизу?
Эта трактовка допустима при одном условии: если взгляд на нас и наши дела брошен с космических высот, люди оттуда не видны вовсе и жизнь их более походит на муравейник. Однако по условиям нашего бытия немногим дано подобное возвышение над реальной действительностью — разве что силою чистого духа, презирающего вещественные оболочки. Все же остальные — вы и я, все мы — остаемся пленниками земного притяжения. Поэтому и мерки у нас должны быть иные, и не этим ли объясняется наша непреходящая любовь ко всему земному?..
Певица была немолода, она вышла на сцену только после того, как был погашен свет, свет переливался в стеклярусе, из которого состояло платье певицы, лицо ее было помято и стерто, трудно было придумать что-то более земное, чем эта женщина, которая пела сейчас, прижимая руки к большой и рыхлой груди.
Ех-хали… на т-т-р-ойке… с бубен-цами… —пела она и вдавливала руки в переливающуюся грудь. Голос у нее был еще хороший, может быть она когда-то была красивой, наверняка она когда-то была молодой, у нее было упругое тело, она мечтала о карьере, о славе, о любви. Все кончилось тем, что она стала ресторанной певицей. Она, подумал Сычев, похожа на состарившуюся птицу, которой заказано небо, ей уже больше не взлететь.
Вот так всегда было с ним: казалось бы, что тебе — сидишь в ресторане, сыт и в тепле, человек поет, делает свое дело, все кругом смотрят и слушают, и ты — смотри и слушай, наслаждайся, ни о чем не думай. Так нет — тут как тут мысли, прожорливые голодные мыши, в любой, самый спокойный и сладостный миг готовые прогрызть в тебе дыру сомнения. Это случалось и раньше, это случалось с ним теперь, слишком часто случается это с Сычевым. И тогда начинается некое смятение чувств.
А отсюда — только шаг до отказа от соблюдения общепринятых правил.
А этого делать нельзя! Так говорит Сычеву его внутренний, никому, кроме него самого, не слышный голос. Время от времени Сычев чувствует как бы предупреждающее прикосновение. Может быть, это его судьба предупреждает его, советует ему не увлекаться, не отрываться от земли и помнить поговорку о сверчке и о шестке. Сам он мог бы присовокупить сюда свои собственные рассуждения о высотах истинных и мнимо значительных. Искушения одолевают его, и он с трудом пытается им противостоять. Куда вознесся ты, подумай! Послушайся доброго совета, на землю спустись, на землю, ты просто лунатик, в неведении шагающий по карнизу, коснись тебя кто — пробудишься и — вниз. Помнишь детскую считалочку: «Первый раз прощается, второй раз — запрещается…» Так вот: сейчас — тот самый первый раз, и он простится тебе, если с этого своего эфемерного возвышения ты, не мешкая, ринешься в обратный путь.
Ехали… на тройке… с бубенцами…Вниз, вниз… Ниже, еще ниже, еще. Внутри тебя мерцает честолюбие. Уйми его. Это неверный болотный огонь, он заведет тебя в трясину. Это он будит в тебе желание выделиться не по праву, изменить себе, стать не тем, кто ты есть от рождения. Тебе этого не дано. Но прожить свою жизнь достойно ты можешь и без этого, даже если твой удел до смерти — лишь проводить на плотных белых листах некие условные линии да пускать стрелы в пространстве между зеленой травой и синим небом.
Все верно, думает Сычев, все верно. Что бы ему последовать совету. Как хорошо ему стало бы, как упростилась бы его жизнь. И все-таки именно сейчас, на временном и шатком своем возвышении, он еще менее способен примириться с ограниченной заданностью своего существования.
Ехали… на тройке… с бубенцами, А вдали мерцали… огоньки…Может быть, в этом все дело? Может быть, все дело в огоньках, что мерцают вдали? Что, если нам не доехать до них никогда? Тогда-то все и становится равным и имеет одинаковую цену — и первое, и второе, и последнее место. Тогда бессмысленны соревнования, жертвы, которые мы приносим, бессмысленна вся наша работа — черные линии на белом ватмане, и сам он, руководитель транспортной группы Сычев Игорь Александрович, тысяча девятьсот тридцать седьмого года рождения. Все теряет смысл без огоньков, которые светят нам впереди и которых мы должны достичь во что бы то ни стало. Без этого наша жизнь превращается в простой набор шестков, которые нельзя путать, если не хочешь в тот же миг сверзиться вниз. А это неминуемо случится, если ты согласен принять на себя игру по общим правилам, ибо первая заповедь играющего звучит так: «Играя — не плутуй», что в переводе на общедоступный язык значит: будь как все.
Он забыл, что это все игра. Он чуть не принял все всерьез, а это был все тот же бег по замкнутому кругу, игра понарошку, для того лишь, чтобы, добежав до угла, стукнуть по серому камню ладошкой и крикнуть: «Я в домике — чур-чу- ра!»
И перевести дыхание.
8
В комнате номер семь веселье продолжается своим чередом: кто поет, кто смеется, кто чертит — только Сычев как прилип, так и не может отлипнуть от картона. Похоже, он готов сидеть так долгие часы, сидеть и смотреть на лицо, от которого ему хочется плакать. Татищев — рядом, он доволен. Он сам знает — портрет удался, но восхищение Сычева ему приятно: художнику всегда приятен одобряющий взгляд, для Татищева другой награды не требуется. День сегодня выдался удачный, портрет получился, кроме того у него мелькнула одна мысль, чуть позже он ее проверит, удача цепляется за удачу, проект застройки центра Сантьяго будет выполнен на высшем уровне, хотя бы для этого ему пришлось просидеть все субботы и воскресенья. «Транспортное движение в центре, — думает Татищев, надо поднять вверх, — вот именно. Сначала они хотели убрать все под землю, центр города сделать зеленой пешеходной зоной, кроме велосипедистов и пешеходов никто не должен появляться в этой зоне, таков был первоначальный замысел. К сожалению, от него пришлось отказаться: отработанные газы в туннелях задушили бы всех автомобилистов, не говоря уж о том, что стоимость подземных работ была бы просто фантастической. Нет, новая идея лучше: поднять весь транспортный поток вверх гигантскими эстакадами. А как развязать движение в разных уровнях — это забота Сычева. Жаль, что он уезжает так некстати…»
— Ну так ты едешь? — спрашивает он Сычева. Тот, не отрывая глаз от картона, что-то мычит.
— Ты едешь или нет?
— Еду.
— Когда?
— Завтра.
— А вернешься?
— Через неделю… Что-нибудь случилось?
— Нет, — говорит Татищев. — Ничего не случилось. Тут есть идея… Что бы ты сказал о развязке в четырех уровнях?..
Что бы он сказал о развязке в четырех уровнях? Что можно сказать, когда их во всем мире — раз-два — и обчелся, от расчетов обалдеть можно. Да и какое это имеет значение?
— Имеет, — говорит Татищев. — Вот, посмотри…
После этого они начинают что-то выводить на обрывках ватмана — а если так… или вот так… нет, ты смотри, что-то начинает вырисовываться…
Потом они молчат. «Конечно, — думает Татищев, конечно. Соревнования по стрельбе из лука — это… Ну, это должно быть по крайней мере интересно, раз Сычев так туда рвется. Но, конечно, это не работа. Черт, придется ждать еще неделю. Ужасно досадно, неужели Сычев этого не чувствует?» И Татищев спрашивает:
— Тебе это очень важно?
— Ты о чем?
— О соревнованиях твоих, о чем же.
— Да, — говорит Сычев. — Да. Важно.
— А почему?
— Вот тебе и раз, — говорит Сычев, — вот так вопрос.
Он даже опешил несколько. Татищев — один из немногих, кого Сычев приобщил к тайнам вольного братства стрелков, живущих в Шервудском лесу. По одному уже этому он мог бы не задавать подобных вопросов. Но задает. «Почему»! Неужели это нуждается в объяснениях? Это так ясно…
Слова возникают у него в мозгу, их много, но они испаряются, едва он хочет облечь их в звуковую форму. Ему самому все ясно — но где найти слова, веские, убедительные — такие, чтобы эта важность стала ясна любому. Он ищет эти слова — и не находит, вместо этого у него в голове какая-то мешанина, каша: гармоничность развития, древние греки, Пифагор; Пифагор — олимпийский чемпион по кулачному бою. Нет, все не то. Статуи в честь победителей, чемпиона несли на руках до родного города, в его честь выламывали стену… Всеобщий мир? Да, во время олимпиад объявлялся всеобщий мир, может быть время соревнований было единственной передышкой в древние суровые времена…
Нет, неубедительно, не то, при чем тут вечный мир, это же не конгресс по разоружению…
— Если бы я мог попасть в сборную, — говорит он внезапно для себя и сам удивляется этой вопиющей нелепости. Он — и в сборную. Ну хотя бы гипотетически. Ладно… Но Татищев сразу перебил его. Неужели вся важность в том, чтобы попасть в сборную?
— Про сборную, — сказал Сычев, — это я так. Это теория, чтобы было ясней.
А Татищев — свое:
— Ну, попал ты в сборную. Что дальше?
— Дальше? Сборная едет на первенство мира. Вэлли Фордж, штат Пенсильвания, США.
— Так уж прямо — Пенсильвания…
Нет, говорит Сычев. — Конечно, не сразу. Сначала сбор, потом десять прикидок, пристрелок — это уж само собой, а вот потом…
— А может, — говорит Татищев не без ехидства, — а может, все проще. Хочется сгонять за границу, за рубежи, так сказать, а все остальное — просто слова, вуаль, камуфляж. А?
Тут Сычев почти что обижается.
— Ну уж нет! Гы что думаешь, я без заграницы не проживу? А потом, все это не сахар. Это тебе не экскурсия — посмотрите налево, посмотрите направо… нет. Там не поразвлекаешься. Думаешь, спортсмены что-нибудь видят там? Черта с два. Они садятся в самолет, одуревшие от прикидок, пересекают океаны и континенты, их привозят в отель, потом они сутки приходят в себя, потом идут на тренировку, день пристрелки, разница во времени — десять часов, здесь День — дома спят, здесь вечер — дома утро; волоча ноги, они возвращаются в свой отель — завтра соревнования, завтра надо снова стрелять, надо быть в полной готовности, надо быть в форме, тренеры смотрят в четыре глаза, режим, режим и еще раз режим, вы сюда не развлекаться приехали, говорят тренеры, и они совершенно правы. Рио-де-Жанейро, Париж, Люксембург, Прага, отель, пристрелка, тренировки, соревнования; первенство Европы и мира, международные встречи, какая разница: под палящим солнцем и проливным дождем, в любую погоду, везде после шести-семи часов, проведенных на поле, остается только одно желание — дотащить ноги до постели, отдых, режим, «вы приехали сюда не для того, чтобы…»
— Так какой же смысл?
Нет, он не может это объяснить. И все же смысл есть. Спорт, говорит Сычев, ну как бы это сказать… Это иной мир. Он тоже не идеален, идеала не существует, наверное, вообще. Но если бы был на свете мир, близкий к идеальному, это был бы мир спорта. Там каждый стоит то, что стоит, — вот что главное. Это как с деньгами: есть деньги бумажные, а есть золотые и серебряные. На бумажных написано: «Имеют хождение наряду с золотом», — а попробуй обменяй. А золото — оно золото и есть. Вне зависимости от того, что на нем написано. Так и в спорте — там бумажки ходу не имеют. Там золото — это золото, серебро — серебро, все как есть, каждому по заслугам, заслуги имеются в виду действительные, это надо подчеркнуть особо. Спорт не признает никаких иерархий, установленных извне, никого нельзя назначить чемпионом, им надо стать самому, там нет ни вечных чинов, ни вечных званий. Перед спортом, как перед природой, все равны, все равны перед дождями, ветром и палящим солнцем, происхождение не принимается в расчет, ветер дует, он сносит стрелы, солнце слепит, первая серия, вторая, третья… Покажи мне, что ты умеешь, и я скажу тебе, кто ты. Тысяча сорок очков — норма мастера спорта, она одинакова для народного артиста и авиамеханика, тысяча сто восемьдесят очков — мастер международного класса… Вот почему это важно. Человек в мире равных возможностей. Мы зависим только от себя и от своих способностей, секундомер или количество очков — вот высший авторитет. И если возникает сомнение в чьей-то правоте, всегда можно поставить двоих за девяносто метров от щита и выяснить, кто из них лучше…
Говорил он это вслух или только хотел сказать? Как бы то ни было, он высказался. Ему-то повезло: он нашел своего Робина.
А ведь могло статься, что он родился бы художником — как Татищев. Художник — тот вообще не может ничего доказать, будь он хоть семи пядей во лбу. Гений он или эпигон — решают другие. Какими критериями они пользуются — неизвестно. Импрессионистов сначала освистали, потом вознесли; Модильяни умер в нищете, теперь он стоит миллионы. Где авторитеты, что смеялись над ними? Над кем они смеются сегодня, каким мерилом мерят, и кто они, эти судьи? У них фальшивые бороды и накладные носы, они анонимны и всесильны, они изрекают от имени народа: «Массам непонятно, что вы хотели этим сказать», — а иногда они вообще ничего не говорят. Три больше двух или меньше? Неизвестно. Пятнадцать меньше единицы или равно ей? Все может быть. Все может быть, и все может случиться в мире. Желающему дождаться истины остается только уповать на время. Время, подобно природе, тоже создает свой мир, если не идеальный, то близкий к этому, бумажные знаки достоинства там не имеют хождения, там рассыпаются в прах звания и должности, происхождение и титулы, там остаются лишь дела, достойные потомства, и висельник по имени Франсуа Вийон пьет там нектар бессмертия за одним столом с господином министром Гете и кавалером Глюком.
Вот, значит, в чем дело. В том, чтобы определить свою пробу еще до того, как ты, отдавшись во власть времени, получишь не подлежащую пересмотру оценку.
Так Сычев и сказал. А Татищев ответил, что все это попахивает обыкновенным честолюбием — только и всего. Он, Сычев, хочет забежать вперед и узнать свою оценку еще до того, как она будет окончательно выставлена, если он понял правильно.
— И вообще, — заметил Татищев философски, — скольких честолюбцев я ни встречал, все это были люди, не уверенные в себе, а ты разве таков?
Таков, сказал Сычев, — что ж с того? Но в твоем наблюдении есть и нечто поучительное. Недовольство собой — разве не это двигатель человеческого прогресса? А может быть, это и есть вечный двигатель? Тот, кто доволен собой, не ищет совершенства, такие люди живут в ладу с самими собой, они не ищут никаких доказательств, им все равно, плоская земля или квадратная, им и в голову не придет задуматься, чему равна сумма квадратов катетов, — зачем им нужны эти самые катеты, они бесплоднее смоковницы… Я не уверен в себе. А с чего бы это мне быть уверенным? Чем это таким наградил меня господь бог? Тебе легко говорить, тебе- то не надо задавать вопрос — «зачем я?» — и Сычев кивнул на картон, — с тобой все ясно. Со мной — никогда не было ясно. Зачем я? К чему я призван? Чего я стою? Я должен это понять рано или поздно. Отсюда — все. Отсюда — честолюбие: честолюбие возникает по ходу дела: сначала ты просто борешься за что-то, ты просто хочешь доказать себе, что способен сделать это, просто способен, потом ты не замечаешь, как этого становится мало…
Татищев заметил с сомнением:
— Мне кажется, что ты сам не знаешь, толком, чего ты хочешь. Поэтому ты хочешь всего, а это невозможно.
Сычев ответил:
— Лишь желая невозможного можно приблизиться к достижению возможного, того же, что легко достижимо, не стоит и желать. — И еще сказал он: — Я хочу узнать, на что я способен. Я хочу узнать, чего я стою, истинную свою цену. Узнать ее я могу только одним путем — дойти до предела.
— Ну, а дойдешь?
Тут-то Сычев и задумался. Действительно, что дальше? Постановка вопроса выглядела абсурдной: предел есть предел, но ведь и остановка есть, как прообраз смерти. Антитезой смерти является бессмертие, и ответ родился сам собой.
— А не стоило бы попытаться заглянуть за предел? — спросил он.
Это и было ответом.
9
Они вышли тем же путем, что и вошли, — через окно; но много, много часов протекло с тех пор, и многое осело в их памяти для будущих времен, когда это осевшее настоящее превратится в прошлое, давая пищу для раздумий. Это был необыкновенный день. С утра он был совсем обычным, но вот уже вечер, и они тихо идут друг подле друга, словно обремененные непосильной ношей — особенно непосильной эта ноша выглядит для Елены Николаевны, которая еле переставляет ноги. Постороннему человеку, мельком бросившему взгляд, могло бы прийти, пожалуй, в голову, что она пьяна. Она и была пьяна, да только не от вина, а от этого дня, который, словно диковинный подарок, неведомо за что поднесла ей судьба. Она была пьяна от хмельного карнавала уже давно забытых чувств, которые поднял со дна этот день, суматошный, беззаботный и веселый. Как тускло начался он для нее, с этой предстоявшей поездкой на место бывшей уже работы, расставаться с которой оказалось намного тяжелее, чем она могла бы предположить; расставаться для того, чтобы надолго осесть в замкнутую сферу довольства, где больше, чем стены материальные, на тебя со временем начинают давить иные, невидимые стены. В своей замужней жизни она забыла, что можно чувствовать себя такой свободной и делать что хочешь, не рискуя наткнуться взглядом на осуждающий взгляд или высоко поднятые брови. Этот дивный день, эти полные восхищения и желания — да, и желания тоже — мужские лица вокруг нее, взгляды, гладившие ее, как горячие ладони… Удивительно, что мы не знаем самих себя и тех глубин, что притаились до поры до времени; а может быть, мы сознательно взращиваем в нас самих ложное о себе мнение. Все, что происходило с ней сегодня, все решительно было полной противоположностью ее предшествующей жизни с четко очерченными границами добра и зла, порока и добродетели, с незыблемыми, неоспоримыми и настолько точно и четко очерченными границами, что немыслимой казалась сама мысль о возможности их нарушения.
И то, что она, так легко и просто перейдя эти границы, не почувствовала ничего, кроме глубокой и искренней радости и облегчающего ощущения свободы, — все это должное было ужаснуть её, навести на мысль о падении и раскаянии… Но вместо полагающегося ужаса была одна только радость, вместо раскаяния — смех, а вместо предполагаемых угрызений совести — легкомысленное восхищение — кем? — толпой мальчишек, которые, ошалев от ее присутствия, пели, кричали, несли всякий вздор и бросали на нее взгляды, полные неподдельного и недвусмысленного восхищения. Да, они восхищались ею как женщиной и ничуть не собирались это скрывать. «Правильная баба» — так, что ли, это называется? Она, Елена Николаевна, — «правильная баба»… Вздор и нахальство; не может быть, чтобы это не покоробило ее, не возмутило… Но приходится признать — нет, не возмутило, не покоробило. Более того, она, воспитанная с детства, с молочных зубов в отвращении к подобного рода несдержанным проявлениям человеческой натуры — низменным, как убеждали ее, проявлениям, — окунувшись в них, нисколько не находила их низменными. Они нравились ей своею искренностью — и как не похоже было все это на те многие и многие дни ее недолгой девичьей и весьма продолжительной замужней жизни, что были записаны в приходно- расходную книгу ее равномерного существования.
Но куда, в таком случае, должно было записать сегодняшний день — в приход? в расход? В расход — не раздумывая, сказала бы она вчера, и мысль о какой-то иной оценке показалась бы ей просто невозможной. В приход — поняла она сейчас, и только горькая мысль о возможной переоценке остальных ценностей замерцала где-то в глубине. Но что же это было, как не маленький, тихо катящийся себе камешек, с которого все и начинается?
Гут они оказались на скамейке, на первой же подвернувшейся им свободной скамейке в парке, и они сели, вернее будет сказать — они рухнули на нее в изнеможении, причины которого, правда, были вовсе различны.
— Ах, Робин, — сказала Елена Николаевна, — ах, мой милый. — Голова ее в этот же миг оказалась у Сычева на плече. Это, надо сказать, ввергло его в состояние некоего транса, выход из которого он нашел далеко не сразу; а пока он выслушал водопад обрушившихся на него признаний. — прекрасно все было, Робин, милый, как все это было прекрасно. Я полюбила всех их, твоих друзей, я полюбила их, они все такие смешные… и этот Демьяныч, о, он совсем хороший, вы смеетесь над ним, а он просто несчастный, он сказал мне — но это ужасная тайна, это секрет — его и вправду преследуют на улице женщины… ты смеешься? А я ему верю, он правду говорил. Но больше всех — нет, нет, не пытайся, тебе не угадать никогда, — знаешь, кто мне понравился больше всех, — Анатолий Иванович. Он прелестный мальчик, и ты знаешь, я убеждена в этом совершенно — у него никогда не было девушки. Вот ты снова смеешься, ты нехороший, таким я тебя не люблю… ну не смейся, пожалуйста. Ах, ты знаешь, я совсем, совсем пьяна. Я, наверное, ужасно порочна — ты это чувствуешь? Конечно, ты это почувствовал, разве ты притащил бы меня туда? Нет, ты не посмел бы. Ты знаешь, — сказала она совсем другим тоном и без всякого перехода, — ты знаешь, у нас никогда не бывает просто веселья. У нас принимают гостей… всегда принимают гостей. Никто к нам не приходит просто так, мы устраиваем прием, к нам всегда приглашаются люди с положением, и нет ни одного, чтобы просто так… просто… как здесь…
Длинными худыми пальцами она провела по его лицу. Что-то царапнуло его, он вздрогнул, но цепкие пальцы держали крепко, и вся она дрожала: озноб или что иное — непонятно. Странный сладковатый дурманящий туман окутал их; где они, что делают — все стало безразличным, неважным. Ее голова все сильнее прижималась к его плечу, словно там — от чего? — искала она безопасности, пока наконец не соскользнула ему на грудь. Он положил ей под щеку ладонь — и замер. Время от времени он наклонялся и целовал едва белевшее в надвинувшихся благодатных сумерках маленькое пятнышко за ухом — и тогда он слышал торопливый шепот, прерываемый частыми и глубокими вздохами. Так он услышал исповедь прошедшей жизни — хотя едва ли не половину сказанного он попросту не расслышал.
Нет, она не жаловалась на прошедшие годы, и причин для жалоб у нее не было. Она и замуж вышла по любви, и тогда, и потом все было как она хотела, — только она-то не знала, чего ей хочется. Может быть, сейчас она несколько иначе могла бы оценить то, что тогда сочла за любовь, — но тогда, тогда она представляла ее именно такой, и только такой — с первого взгляда. Нет, нет, ей и в самом деле достался самый лучший из всех возможных вариантов, ее муж — прекрасный человек, ни одного слова, бросающего на него тень, не могла бы она найти. Для него, ее мужа, в мире существуют лишь два божества — наука и она; до сих пор он готов носить ее на руках, любое ее желание — закон, другие женщины для него просто не существуют; научная карьера, звания и степени нужны ему тоже исключительно для нее — так он говорит. Все время, свободное от работы, он проводит только с женой… он не пьет, он красив и здоров, настоящий мужчина, альпинист и лыжник, и тут кругом выходило, что если есть на свете человек, в котором собраны все мыслимые добродетели, то это и есть ее муж.
Тут вздохи стали еще глубже, на ладонь, положенную под щеку, капнуло что-то теплое, и вздохи перешли в рыдания, уже не сдерживаемые ничем. «…Я гибну, Робин, я гибну… такая жизнь… она лишает сил… и воли… это как ласковое болото, оно заманивает… и засасывает тебя и… я… пропадаю».
Бессвязные, горькие слова. Облетевшими листьями они опустились у их ног. Поцелуй был долог, горяч и неумел. Что-то давно забытое дрогнуло у Сычева внутри, дрогнуло, обмякло и поплыло. Мысли остановились, все остановилось.
— Пошли, — сказал Сычев хриплым, сдавленным голосом и, встав, потянул безвольно подчинившуюся и не перестававшую дрожать Елену Николаевну за собой. Делал он все это так, словно внутрь к нему вселился совершенно чужой и незнакомый ему человек, которому он отдал свое тело как бы в аренду и который распоряжался этим телом безжалостно и твердо. Следующие пятнадцать минут они шли молча, Сычев чуть впереди, Елена Николаевна — за ним, молчаливо и покорно; так пересекли они проспект, оставили справа минарет татарской мечети, длинной и кривой улицей вышли к трамвайному парку, где уже устраивались на ночь огромные туши вагонов, затем свернули налево. Сычев шел, как сомнамбула. Он даже не задумывался, что он делает, ибо тот, кто сидел сейчас внутри него, был убежден, что все делается единственно правильным и возможным путем. Плечом к плечу поднялись они по узкой темной лестнице, минуя этажи; один, второй, третий… пятый, шестой. Выше седьмого этажа, на чердаке, была мастерская художников. Сычев протянул руку и в едва заметном углублении стены нащупал ключ.
Они вошли в кромешную тьму, и не успела дверь закрыться за ними, как с жадностью, трепетно и бесстыдно они припали друг к другу.
Итак, свершилось. Ибо здесь закончился путь, который начат был этими двумя людьми независимо друг от друга в разных точках огромного города и с разными целями — и такой вот была конечная точка этого странного движения. Что же, значит, так и должно было случиться, так и было им назначено и предопределено — или предположение такого рода есть лишь попытка снять с себя ответственность и переложить ее на плечи так называемой судьбы? Но, может быть, предопределение находится в нас самих, невидимое до поры до времени, как невидимо зарытое в землю зерно?
От этих разговоров о предопределении попахивает метафизикой; так всегда происходит, когда человек чего-либо не в силах понять. Но разве не следует и в самом деле попытаться понять — если не этим двоим, то нам, — как, каким путем, каким образом попали они, еще утром сегодняшнего дня и не вспоминавшие друг о друге мужчина и женщина, в темное и таинственное помещение высоко над спящим городом? Или тропа добродетели и впрямь столь узка, что на ней не разойтись двоим, встретившимся внезапно и не успевшим из-за этой внезапности принять мер предосторожности и самозащиты? Как бы там ни было, перед ее глазами — сложное пересечение уходящих вверх плоскостей чердачной крыши, серебристое мерцание и рядом — чуть выделяющееся из темноты распростертое тело; от него, незнакомого ей и вместе с тем знакомого до мельчайших подробностей, исходит тихое благодарное тепло. Ей кажется, что крик, который сорвался с ее губ несколько минут тому назад, еще бьется о пересеченные плоскости потолка, словно ночная бабочка невиданной доселе расцветки. Она видит и чувствует многокрасочность странного невесомого мира внутри себя и прислушивается к нему, испытывая при этом одновременно и ужас, и захватывающий душу восторг.
До размышлений ли было ей? Она уже ничего не хотела от этой жизни: в приходно-расходной книге была заполнена последняя страница и поставлена последняя точка. Эту старую книгу, книгу ее прежней жизни, надлежало захлопнуть и отправить в архив. Отныне ей следовало вести отсчет заново, от этого дня и от этого часа, ибо это было преддверием ожидавшего ее и еще неведомого ей будущего.
Ну а он? В этот миг ей было даже не до того, но позже, когда волны улеглись, из пучин неведения вынырнул он, не имевший теперь перед лицом закрытой книги прошлого ни имени, ни звания — ничего; но и нужды в дополнительных обозначениях не было тоже. И вообще ни в чем не было нужды, потому что здесь, в самой середине простирающейся во все стороны Вселенной, наконец-то встретились двое, уже много лет погибавшие от жажды и обнаружившие — когда все уже, казалось, было потеряно, — что они в состоянии утолить жажду друг друга. И только потом, когда и луна, устав и скрывшись за фиолетовыми тучами, лишила их даже слабого своего мерцания, заменявшего им свет, когда, припадая друг к другу с неожиданно острой и болезненной радостью обретения, утолили они небывалую жажду и, обессилев, лежали, разметав руки, тогда мало-помалу стали они возвращаться из обретенной ими обетованной страны, и на смену убивавшей их жажде пришел голод, — только тогда в тишине раздались голоса и смех. Это раскрывалась перед ними чистая страница, в начале которой их имена были, пусть даже случайно, поставлены рядом. Они не изменяли здесь своему прошлому. Прошлому здесь попросту не было места. И сами они были иные, чем в прошлом, — и вот эти-то иные и смеялись…
Ну и голодны они были! К счастью, в мастерской нашлись продукты, вряд ли рассчитанные на их появление, но оказавшиеся как нельзя более кстати. «Шлеп, шлеп, шлеп», — это Елена Николаевна, шлепая босыми ногами по доскам, производила спасательные работы. В конце этих работ они подбили итог, оказавшийся столь же обильным, сколь неожиданным и разнообразным: треть бутылки перцовки, граненый стакан шартреза, хлеб был черствый, изюм в кулечке, маслины, две сардины на обломленном блюдце, банка мясных консервов, совершенно целая куриная нога, два засохших пирожка с повидлом, два соленых помидора, банан. Мандариновый джем, банка кальмаров и, наконец, семь картофелин в мундире.
Они накинулись на это и смели все, как тайфун на побережье Карибского моря сметает утлые хижины бедняков. Им было стыдно, но они ничего не могли с собою поделать и остановились лишь тогда, когда последняя из семи картофелин была честно и по-братски поделена между ними. Тогда они стряхнули крошки на пол, чинно прилегли один возле другого и, окутанные облаком дыма, умиротворенно замерли, смутно подозревая, что долго еще будут вспоминать эти минуты как самые лучшие в своей жизни.
А затем они еще раз говорили друг другу о самих себе. Они делали это так, словно один из них был в то же время и другим, — так оно и было, иной разговор был невозможен и немыслим. То была странно звучавшая исповедь, исполнявшаяся в два голоса, она заполняла разрыв между прошлым, книга о котором была закончена и закрыта, и будущим, первую страницу которого они начинали, и заполнить этот разрыв можно было только чистым, без примеси, материалом. Это была исповедь, не предназначенная для посторонних ушей, здесь звучали признания, которые были бы почти святотатственны, если б не произносились на языке любви. И эти признания навсегда умерли там, в темной комнате с нависающим черным переплетением потолочных плоскостей.
10
Узнавая других, не узнаем ли мы тем самым лишь самих себя, воплощенных в ином, более доступном для наблюдения обличье; так наклоняемся мы над водой, и ее меняющаяся поверхность показывает нам самих себя, но чуть измененных. Однако и этого небольшого изменения достаточно, чтобы наружу проступило все тщательно и тайно хранимое нами.
Но что мы храним в себе? Что за сокровища прячутся в тайниках нашей души — драгоценные камни или пыль и прах? И что такое наша память — не та, которой мы ежедневно пользуемся столь же утилитарно и просто, как ключом от почтового ящика, а та, другая, настоящая память, которая помнит действительно все, — что же она такое, как не тот самый тайник, где может оказаться что угодно и равным образом может и прославить и погубить? Есть ли на свете человек, который с чистою душою не побоялся бы извлечь из темноты что-то из того, что годы складывают в этот тайник? Есть ли кто, захотевший, чтобы его жизнь, такая, как она есть на самом деле и известная до конца лишь ему одному, — стала известна еще кому-то?
Таких, наверное, нет.
Ворошить старое — занятие малопочтенное, иногда оно просто опасно. Но оно необходимо для того, кто и в самом деле захотел бы осознать себя от самых истоков.
Что же мог ворошить, что мог узнать о самом себе Сычев? Уже утром, покинув землю обетованную и простившись на углу улицы Астронавтов с Еленой Николаевной (робкой запинающейся походкой входила она в подъезд собственного дома, и, уже исчезая из поля его зрения, дрогнули — словно вот сейчас вернется — ее узкие плечи под темно-вишневым жакетом… но нет, не вернулась), стоя недвижимо и глядя вслед глазами, слезившимися от напряжения, Сычев в то же время все еще был там, наверху, на широком и жестком ложе, сколоченном из досок, рядом с той, чьи плечи, не покрытые ничем, были рядом, под его руками. И ее слова, те, что заставили его вдруг решиться и вытащить из запретных до сих пор тайников разворошенное прошлое; слова, которые, подобно приказу о помиловании, возвращали человека к жизни. Были ли сказаны эти слова? Вернее, были они произнесены вслух, или это был один из тех случаев, когда ухо улавливает слова, произнесенные едва шевелящимися губами, а то и не шевелящимися совсем. Но тут же, рядом, были и другие слова, и эти другие слова были ножом гильотины, косым и равнодушным лезвием, падающим вниз от легкого, незаметного движения. «Мы не увидимся больше никогда». Эти-то слова были произнесены, и как ни пыталось все его существо отвергнуть их или придать им новое толкование, это оказывалось невозможным. Оставался только один выход — разрушить, нейтрализовать или хотя бы приостановить их действие. Вот тогда-то, в отчаянии, он раскрыл перед ней, а заодно и перед собой все содержимое заброшенного и забытого тайника. Тогда и стал он ворошить старое, пытаясь отыскать в нем что-нибудь такое, что послужило бы причиной отсрочки вынесенного приговора.
Сейчас все рассказанное им ночью Елене Николаевне представало перед ним в ином освещении. Но тогда, в темноте, он, вероятно чисто инстинктивно, пытался воздействовать на самую отзывчивую из струн, всегда напряженных в напряженной женской душе, — на жалость. Иначе с чего бы он вдруг вспомнил о маленьком мальчике, лежащем в большой холодной постели и глядящем не мигая на синеватый свет ночника. Он вспомнил об этом и снова — впервые за последние тридцать лет — увидел это воочию: маленького мальчика, которому было страшно. Страшно и горько одному среди белых, точнее — синеватых от света ночника постелей тех, кого на субботу и воскресенье забирали домой, к родителям и родным. У мальчика, лежащего щуплым клубочком в слишком просторной для него постели, их не было.
Не здесь ли зародились его страх и неуверенность в себе — два зверя, с которыми он, с переменным успехом, должен будет потом бороться всю жизнь, до сегодняшнего часа, то побеждая, то терпя поражение. Страх и неуверенность брали начало в странных звуках, долетавших из-за плотно зашторенных окон, усиливались тревожной непонятностью теней, беззвучно кравшихся по стенам, и странным блеском в глазах склонившейся над ним дежурной няни, от которой пахло одновременно вином, табаком и одеколоном, а может быть, более всего от слов: «Бедняга, бедняга», — и от большой прохладной руки, положенной ему на лоб. Значение этого «бедняга, бедняга» он понял много позже. Тогда же он понял и другое: надежды увидеть тех, кому он был обязн своим рождением, — несостоятельны.
Помнил ли он их? И да, и нет. Он считал, что помнит, и жалость — к самому себе, к ним ли — подкатывала к горлу и глазам. И хотя он разумом понимал, что не мог помнить их, первая убежденность чувства торжествовала над доводами рассудка, и он, вглядываясь в потускневшую любительскую фотографию, видел их и помнил живыми.
Что еще сохранила его память?..
Удивительны были эти мелочи, так четко отпечатавшиеся и сохранившиеся за три десятилетия. Так, например, он вспомнил волчок, юлу, красную с синим, которая досталась ему однажды на Новый год… только какой же это был год — сороковой или сорок первый? Ему было тогда не то пять, не то шесть лет, он был замкнут и привязчив, и няня, та самая, выправляла документы, чтобы усыновить его; но затем что-то случилось, и она исчезла из детского дома, и ему никогда не удалось узнать судьбу той, которая часто в синем свете ночника стояла над ним, положив на лоб ему свою прохладную добрую руку, и, роняя мутноватые нетрезвые слезы, приговаривала: «Бедняга, бедняга».
Полная сумятица царила в Сычеве, когда, пристально глядя в темный провал парадного, в который несколько минут назад вошла Елена Николаевна, он предавался воспоминаниям. В бедной голове его царил сумбур — тут были и воспоминания о слишком широкой кровати, в которой лежит маленький мальчик, натянув до глаз серое одеяло, тут же — воспоминание о странном стонущем крике, и только намеком, слабой скользящей тенью — отзвуки невероятных, похожих на богохульство слов, произнесенных несколько часов назад, — все это на фоне темного провала парадного, в котором только что исчезло все его прошлое, и давнее и недавнее. Он вмещал в себе все это одновременно и при этом чувствовал, что остаются еще не заполненные уголки, потому что, как ни прикованы были к парадному его гЛаза, однако же и на часы успел он взглянуть, и трезвым деловым разумом, которого не должно бы остаться после прошедшей ночи, отметить, что до отлета ему остается чуть более трех часов, и тут же мысль об отлете потянула за собой другую какую-то практическую мысль, а за ней третью, четвертую… и вот уже в его мыслях стал образовываться новый, все вытесняющий слой…
Тогда он повернулся и пошел… пошел… маленький человек, раздираемый одновременно несколькими слоями времени, как некогда преступник бывал раздираем лошадьми, несущимися в разные стороны.
Но ведь он-то не был преступником, и он был жив. И вот эта-то способность оставаться в трех разных временах и думать одновременно, без всякой логической связи, о столь разных предметах, как женщина, сказавшая «никогда больше», мальчик в огромной комнате, залитой холодным синим светом, и самолет, который оторвется от земли через три часа с небольшим (не говоря уж о гораздо большем количестве мелких и мельчайших по своей значимости, или, точнее, уже по своей незначительности деталей), — эта способность огорчила Сычева; в ней он видел образчик того бездушия и жестокости, который вполне определяется словом «практицизм», а ведь здесь, пожалуй, выходило, что именно это качество, которое так не нравилось ему в других, в полном объеме присуще ему самому.
11
Но как бы то ни было — он пошел… и пошел… с каждым шагом приближаясь к будущему, каким бы оно ни оказалось и сколь сильно ни отличалось бы от недавнего прошлого. И что бы он про себя ни думал, какие характеристики ни давал себе — факт оставался фактом: сердце его билось ровно, с каждой секундой все более удалялся он от подъезда, где исчезла Елена Николаевна, и так же равномерно, шаг за шагом приближался к своему дому, чтобы заняться прозаическими приготовлениями к отлету. А так как предстоящие нам дела всегда, хотим мы этого или не хотим, имеют некое невысказанное преимущество перед делами, уже свершившимися, мысли Сычева мало-помалу все больше и больше заполнялись представлениями об этих предстоящих ему делах. Так что, когда он добрался до своей квартиры, он уже полностью был готов к той своей деятельности, которая диктовалась приближающейся минутой отлета. И если бы возможно было заснять последние часы его жизни на пленку, можно было бы проследить, как способен изменяться на глазах один и тот же человек, в зависимости от того, какую роль он играет в тот или иной момент. Вчерашним вечером в комнате номер семь это был просто инженер Сычев; он сидел себе тихонько на стуле рядом с Татищевым. Вид у него при этом был ничем не выдающийся, чтобы не сказать невзрачный — среднего роста человек тридцати с лишним лет с крепкой, хотя и несколько сутуловатой спиной и длинными жилистыми руками; а едва заметный под загаром румянец на щеках свидетельствовал о железном здоровье. Скромно и тихо сидел он в своем аккуратном, несколько тесном ему пиджаке, радуясь тому успеху, который имеет Елена Николаевна. При всем при этом посторонний наблюдатель не в состоянии был бы сказать про него ничего определенного, кроме разве того, что этот Сычев не слишком говорлив…
Таков был один Сычев — неприметный и тихий. Но ведь был и другой — тот, что появился несколькими часами позже в темной мастерской под перекрещивающимися потолочными балками, — он отличался от первого. Был еще и третий Сычев, терзавший себя мыслями о низменности собственной натуры, допускающей одновременно смешение высокого и низкого, и этот Сычев совсем не походил на первых двух. Сычев, что вернулся в свою пустую квартиру, был снова иной. В нем не было ни подчеркнутой молчаливости и замкнутости первого, ни дерзкой решимости второго, ни мнительности третьего. Теперь все в нем пришло в некое гармоническое состояние, хотя гармония эта была чисто внутреннего порядка, и если бы этого — четвертого — Сычева спросили в эту минуту, что он чувствует, он ответил бы: покой.
Так оно и было. И кто знает, не был ли этот четвертый по счету Сычев таким, каким он хотел бы быть всегда, — спокойным и неторопливым человеком, — человеком, свободным той глубокой внутренней свободой, которую нет надобности демонстрировать внешне. Скованность его исчезла; сейчас все было легко и просто и происходило само собой. В том числе и разговор. С самим собой разговаривал он, и разговаривал с интересом, как с человеком, понимающим толк в таком важном деле, как дорожные сборы. Конечно, говорил он себе, все можно было собрать еще вчера. Но мог ли кто предположить, что этот день сложится так, как сложился? — Нет. А ведь сложился он прекрасно, да, да — прекрасный день, судьбы подарок… разве при этом можно ворчать? Теперь следовало решить, какая ожидает нас погода. Украина, август, климат резко континентальный. Это география. Сычев, ты помнишь географию? Умному человеку это ясно и без географии. Тренировочный костюм? Берем. А шорты? Еще бы. И три пары носков. И шапочку с пластиковым козырьком, и кеды, и сандалии. Теперь жара нам не страшна. А холод? Ты думаешь, что там может быть холодно? Конечно думаю, неужели ты забыл, что… Ну, будет, буг; дет, вот я беру шерстяной свитер. Это в августе-то! И шерстяные носки. Теперь все? И плащ на случай дождя — все, все, только не скули. Ну вот, конечно, забыл зубную щетку, всегда забываю; впрочем, это уж и вовсе не беда, в любой аптеке куплю, в любом городе, даже интересней… и он все брал и брал, вплоть до нитки с иголкой. Не первый раз собирался он в дорогу, и надо полагать, не последний, но нитка с иголкой — это уже был предел. Ниткой и иголкой общая часть его сборов заканчивалась совершенно. А затем…
Затем следовало сладкое блюдо: это были специальные сборы. Им всегда сопутствовало неизъяснимое наслаждение, какое он испытывал только в детстве, читая книгу о Робинзоне Крузо, — то место, где подробным образом перечисляется содержимое ящиков, выброшенных на берег с погибшего корабля.
Робинзон был парень хоть куда, своим мужеством он вполне мог бы понравиться веселому Робину из зеленых Шервудских лесов; поэтому Сычев, вопреки элементарному историзму, включал мужественного моряка в команду зеленых стрелков. И, поступая так, Сычев снова, уже который раз, менял свое обличье.
На кого же он становился похож сейчас? Пожалуй, все на того же маленького мальчика, который долгие годы воспитывался в различных государственных учреждениях. Именно тал: пристрастился он к истории и научился незаметно исчезать в страну фантазии, где жизнь была совсем иной, чем та, в которой ему год за годом приходилось засыпать на одной из пятидесяти кроватей под тускло-синим светом ночника.
Вот и сейчас он был похож на мальчика, который с замирающим сердцем подсчитывал сокровища, выброшенные морем. Теперь это, правда, было не более чем игра, но он, как и раньше, предпочитал детскую выдумку трезвости взрослого подсчета, предпочитал — и будет предпочитать всегда. Теперь, в эту секунду, он был дикарем, впервые увидевшим блестящие стеклянные бусы и с радостью готовым отдать за этот блеск золото. Но разве не в том лишь и состоит истинное назначение любого из предметов л: атериального мира: чтобы приносить радость?
А польза? — слышится тут же возражение с другого берега: оттуда, надо полагать, где польза полностью совпадает с выгодой. Но мы на это ухо туговаты, а посему мы с удовольствием присоединяемся к тем простофилям, которые считают наивно, что не может быть пользы там, где нет радости.
Можно ли было ожидать, с точки зрения непосредственного начальства, подписавшего приказ о предоставлении инженеру Сычеву отпуска на семь дней без сохранения содержания, — можно ли было ожидать для проектного института «Гипроград» хоть какой-нибудь пользы от этих занятий? Нет конечно, отсюда — вся цепь утомительных и унизительных процедур, которые Сычеву приходилось проделывать всякий раз, обходя одну за другой все административные ступеньки, которые могли что-то решить. И во время этих обходов он ни разу, увы — ни разу, не смог заметить, чтобы в чьих-нибудь административных глазах вспыхнул веселый огонь бескорыстного интереса к его занятию, из которого нельзя было извлечь никакой пользы.
«Зачем все это нужно?» — таков был язык искоса брошенных взглядов и недоуменно поднятых плеч. «Зачем это?» — и поджатые тонкие губы. Остановить это ничего не могло, и не останавливало, только лишняя царапина на том месте, где у человека положено находиться гордости, но если вам приходится раз, а за ним другой стоять с протянутой бумажкой и говорить: «Пожалуйста, подпишите», — то вы вскоре остаетесь с одними царапинами.
Зачем нужен нам хлеб насущный — «даждь нам днесь»? Иначе говоря, ежедневно и ежечасно, — зачем? И для чего нам нужна бескорыстная радость от маловразумительных занятий, из которых нельзя извлечь ни морального урока, ни практической пользы?
Потому что нам без этого не прожить. Без этого нам конец — крышка гроба и стук комьев…
Но ведь не мог Сычев сказать им об этом, да его и не поняли бы, — о чем это он? И все-таки ему было жаль: ведь, подписывая бумажку, можно было забыть на мгновение о пользе дела и тут же, не поднимаясь с кресла, увидеть осаду Трои, Одиссея, убивающего женихов, гибель Ниневии, фараона, охотящегося на львов, армию парфян, разгромивших легионы Красса, — увидеть самих себя, ибо мы тоже были там, выия; кровь, что пролилась тогда, до сих пор течет еще в наших жилах; правда, у тех, кто давно сидит в кресле, она течет не так быстро. Но может быть, нам просто не хочется заглядывать так далеко? Тогда мы могли бы вспомнить самих себя тридцать лет назад. Тогда синее небо и черточка самодельной стрелы казались нам волшебством, и, оставляя на пыльной дороге следы босых ног, мы не стыдились петь: «Оленя за пятьсот шагов, хоть лопни — не убьешь».
Теперь в этом нет и нужды. Теперь к нашим услугам ресторан «Русская кухня», и там в любой момент можно получить оленину по-деревенски, стоимость одной порции обозначена в ресторанной карточке — два рубля семьдесят четыре копейки, спасибо, сдачи не надо. И остальное нам ни к чему в той же степени. Вместо охоты мы натягиваем несколько тесноватый импортный костюм фирмы «Тико» и отправляемся за город с любимой девушкой или женой в Зеленогорск, например, или в Дюны. И зачем нам при этом сомнительный шелест ветвей, если можно, совмещая приятное с полезным, слушать по транзистору новые песни в исполнении Тома Джонса?
Совершенно излишне.
И смешно.
Я ставлю двадцать золотых, Кладу на край стола. Оленя за пятьсот шагов Убьет моя стрела…Ах, нет, нет, нет и нет. Все это лишнее — все, в том числе и чувство, которое вызывает у нас прекрасное: «Я это могу».
Так говорил он сам себе. Но здесь он должен был остановиться и прервать свой монолог, хотя и внутренний, никому не слышный, но волновавший его от этого совсем не меньше. Ему трудно было решить, насколько эта внутренняя речь его была глупа, да, может, и не так уж глупа была она; тут важно другое — он понял, что она бесполезна. Он забыл о собственном шестке. «На свой шесток, на свой шесток садись скорей, сверчок», — запел он, продолжая собирать свою амуницию, и только резкость и нервность его движений свидетельствовали о еще не прошедшем раздражении.
А тут телефон принялся звонить, и, поглядывая на часы и решая, брать или не брать с собой ту или иную вещь, которая здесь казалась бесполезной, но могла вдруг оказаться там совершенно необходимой, Сычев то и дело бросался к дребезжащей неистово трубке и кричал: «Да, да, я уже выхожу…» Или: «Нет, не надо, нет», или: «На твой? Приклей ту, что покороче… конечно, двенадцать хватит». И через мгновенье: «Да, да. Через десять минут. Заезжать не надо. Хвостовики? Лучше возьми дюжину — тех, бьерновских, светящихся. Ну, давай», — и так далее, и так далее, и все это — мечась по комнате то туда, то сюда, пока, наконец собравшись, не подхватил сумку и — вперед, навстречу судьбе, хотя то, что его ожидало, вряд ли заслуживало столь высокого наименования.
На пороге он оглянулся. Здесь был его дом и его крепость. Здесь был его мир, и другого ему, видно, не дано: окно на север, окно на запад, огромная, продавленная посередине тахта, услада для лентяя, матовое бельмо телевизора с тремя засохшими астрами в широкой вазе и старинная вращающаяся этажерка — шведская, по преданию, — с книгами: Шервуд Андерсон рядом с Монтенем, Томас Манн рядом с Цицероном, Плутарх и Сименон, Арнольд Цвейг и Софокл, Пушкин и Пристли… и Бальзак… Это было единственное его достояние, которым он мог хоть в какой-то степени по-настоящему гордиться; этажерка и восемь сотен книг — никогда не иссыхающая река, способная напоить пустыню.
И еще один взгляд, уже воистину последний, бросил он на свою любимую картину, ту, что висела у него в изголовье над тахтой: из черного углубления, забранного слева узловатой решеткой, выступало белое пятно. То было вопрошающее лицо с глазами, смотревшими куда-то вбок и вдаль, а ниже из той же темноты вырастали, подобно двум белым стеблям, две руки с пальцами, похожими на лепестки ромашек, а где-то там, вдали, в неправдоподобном отдалении, как воспоминание об утраченной свободе, вился ручеек; это вполне мог быть Стикс. Картина эта называлась «Мудрость», но это была, очевидно, ложная мудрость, поскольку она не принесла ее обладателю ничего, кроме решетки. Этим, должно быть, и объяснялась безысходная печаль глядящих вбок глаз. А может, все было как раз наоборот, и мудрость была самой истинной из всех возможных, раз уж ее потребовалось припрятать за решетку…
— Ну что ж, прощай, — сказал он мудрецу. Тот, не отвечая, продолжал смотреть вбок и вдаль. Тогда Сычев вскинул на плечо чехол с луком, подхватил чемодан и вышел.
12
«Уважаемые товарищи пассажиры…» Голос стюардессы был профессионально бодр и стерилен. В самолете было душно, и, чтобы избавиться от тошнотворного ощущения, оставалось лишь одно проверенное средство — попытаться уснуть. Сычев потянул за ручку внизу справа и откинулся, закрыв глаза. «Один, два, три, — начал считать он, — четыре, пять, шесть…» Это средство было безотказным, хотя действовало каждый раз по-разному. «Сорок один, сорок два, сорок три… похоже, что сегодня это средство окажется несколько менее эффективным, чем обычно… пятьдесят восемь, девять, шестьдесят…»
«…Рейс выполняет харьковский экипаж, командир корабля товарищ Прокопенко».
«…Семьдесят четыре, семьдесят пять, семьдесят шесть…» Сознание работало необыкновенно четко. Счет шел при этом сам по себе, где-то третьим планом, рано или поздно он все равно должен был оказать свое усыпляющее действие, сработав, как мина с сюрпризом, неизвестно когда; а пока что он слышал каждое слово, произносимое стоявшей возле него девушкой в синей летной форме. «Девяносто семь, девяносто восемь, девяносто девять».
«…Рейс выполняется на высоте…»
— Никому это не интересно, — подумал он. — Другое дело, если бы она рассказала что-нибудь о себе, вместо того чтобы повторять одно и то же в каждом из трех салонов. Если бы она вдруг сказала так: «Дорогие товарищи пассажиры! Я родилась… — пусть это будет какой-нибудь маленький зеленый приветливый город… ну, скажем, Полтава, так вот: — Я родилась в Полтаве в…» — тут он понял, что не может решить, в каком году могла родиться эта чистенькая и чуть высокомерная длинноногая девчонка со вздернутым носиком, острыми коленками и в пилотке, лихо сдвинутой набок. Ей было лет двадцать, ну от силы двадцать два. Значит… черт, значит, она родилась уже совсем после войны. Подумать только, уже успело вырасти и стать взрослым целое поколение, которое совсем — невероятно! — совсем не захватило войны. Поколение, не знающее, что такое артобстрел, бомбежка, эвакуация, поколение, никогда не слышавшее мерных и торжественных слов: «От Советского информбюро…», от которых у него даже сейчас холодело сердце.
Что это было за поколение? Ведь для них прошедшая великая война была просто историей — примерно такой же, как война с Наполеоном. И все-таки это, следующее за его собственным поколение выросло; мальчики и девочки, родившиеся через несколько лет после окончания самой кровопролитной в истории человечества войны, выросли и стали взрослыми мужчинами и женщинами, со своим взглядом на мир. Каким именно? Чего они хотят от этого мира, как представляют себе будущее? — этого он, увы, не знал, ибо не знал поколения, идущего на смену.
Вот почему девушке с острыми коленками лучше было бы рассказать о себе.
«…Сто двенадцать, сто тринадцать, сто четырнадцать…»
А много ли знаем мы о своем собственном поколении?
Полчаса назад он стоял на аэродроме среди толчеи и свиста, шума, гула и грохота металлических слов, выпадавших, подобно граду, из раструбов громкоговорителей. «К сведению пассажиров, вылетающих рейсом 9448… ваш вылет задерживается до восемнадцати ноль-ноль… Вниманию встречающих… прибыл самолет „Ту-104“, рейс 2137 из Магадана… повторяю…» Так они стояли, он и его малочисленная команда, о которой он, казалось бы, должен знать все, и не только потому, что уже пять лет ездил с ними на десятки соревнований; но и о них — понял он сейчас, пытаясь уснуть среди методично мелькающих где-то на заднем плане цифр, — даже о них он не знал ничего. Нет, знал, конечно, но эти знания были только внешними, не проникающими в суть вещей; он знал не самих людей, а сведения о них. А это совсем иное. Он мог, если бы потребовалось, сообщить какие- то факты из их личной жизни — женат, замужем, разведена, ребенок, какие-нибудь штрихи, чуть меняющие общую окраску, но только чуть: вспыльчива, отличный инженер, обидчив, живет в коммунальной квартире, провела в Ленинграде всю блокаду. Но все это ему ничего не говорило: это были лишь звуки, и за ними не стояло ничего — человек пропадал полностью. А ему как раз хотелось бы разглядеть невесть куда исчезнувшего человека. Тайна — вот что всегда манит нас, и нет ничего интересней, чем отгадывание загадок, которые тебе даже не задают, — сначала ты должен угадать саму загадку, а потом уже попытаться ее разгадать.
Здесь правомерен вопрос — зачем? Зачем одному человеку знать, что творится в душе другого? Затем, наверное, — и Сычев не видел другого ответа, — что только так мы можем почувствовать нашу общность с другими. И понять самих себя.
А может быть, их скрытая общность выразилась внешне в их странном и трогательном увлечении, — увлечении, похожем на любовь. Вот и сейчас слева и справа от него слышны эти упоенные, захлебывающиеся голоса:
«…И-вот, когда я подмотал седло лавсаном…»
«…Нет, вы послушайте: в последнем номере…»
«…Я видел такую магнитную полочку — закачаешься!»
«…Но когда ты тянешь стрелу через шведский кликер, это колесико прыгает и..»
«…Этот Харди Уорд — знаешь, сколько он настрелял в прошлом месяце на матче США — Канада? Триста двадцать восемь на пятидесятке, на двенадцать очков выше мирового, а ему и девятнадцати лет нет еще. А ты говоришь…»
«Триста восемнадцать, триста девятнадцать, триста двадцать»… Если дать им волю, они разговаривали бы о луке до. Владивостока и обратно. И Сычев улыбается сонной счастливой улыбкой. Он сам такой же, и как приятно, что ты такой не один. Сон густой липкой полосой склеивает ресницы, голоса вокруг слышны все более и более приглушенно, словно издалека, и с каждым мгновением они, отдаляясь, становятся все тише, тише, тише. Он еще успевает подумать о Харди — в этом году он поклялся выиграть первенство мира. Он, Харди, писал Сычеву, что тренируется каждый день по шесть часов; он тренировался бы и больше, если бы не занятия в колледже — потому что хотя Харди и обещает выиграть первенство мира, но стать он хочет только врачом. Поэтому он тренируется всего по шесть часов.
«Он молод, — думает Сычев с неожиданной стариковской горечью, — он может себе это позволить. Молодость может себе позволить многое…» О себе он не рискнул бы так сказать. Раньше… а впрочем, и сейчас тоже. Хорошо быть молодым. Хорошо быть молодым, хорошо знать, чего ты хочешь, и заниматься делом, которое тебе по душе.
А чем бы хотел заниматься он сам?
Сейчас он занимается тем, что готовит поживу для архивных мышей. А чего не доедят мыши, покроется толстым слоем пыли… Ну ладно, это, конечно, не совсем так, признался он себе, и все же… Здесь, очевидно, все дело было в способности довольствоваться абстракциями. Это не является ни пороком, ни достоинством, это просто склад ума с поправкой на темперамент. Для одного прямоугольник, нарисованный на бумаге, — это жилой дом, для другого — всего лишь прямоугольник. Вот он-то и был этим другим. Он любил работу, в которой участвовали все органы чувств, а не только зрение. Работу, от которой болят руки и ломит спину, такую, наконец, после которой остается нечто, имеющее вид, форму, объем, цвет; нечто такое, что можно потрогать… Не следовало ли ему стать переплетчиком?
Дело рук… Может ли быть счастье большее, чем' возможность прикоснуться к делу своих рук — будь то книга, болт или обшивка космического корабля? Не отсюда ли проистекает то уважение к себе человека, которому это счастье дано? А что дано ему? В лучшем случае — сомнительное счастье увидеть свой проект на макете. Все, чем он занимается, — это бумага. Бр-р-р. Он ей не доверял. Ее непорочная белизна была обманчива. Нет, бумага и бумажные дела не вызывали у него доверия, они оставляли в его душе пустоту. Уничтожить эту пустоту мог только труд, смысл которого был ему понятен. Архивные мыши?.. Он сам был виновен, больше никто. Он должен был думать об этом, пока был молод. Ведь не всегда же он был таким… Он ощутил вдруг островато-сладкий запах только что сбитой опалубки и тяжелую влажность твердеющего бетона, и сердце его сжалось — ведь это было, было все — тяжесть бетонных колец, укладываемых в трубу через веселый холодный ручей, пыль, въевшаяся в поры, мозоли на ладонях и глоток воды прямо из ручья — руки упираются в красноватую от железняка землю, и ты пьешь, лежа на животе, а над тобою шумят деревья, уже not меченные твоим топором… и ты счастлив.
Надо что-то делать, делать, делать что-то… но что? Надо что-то делать с этой жизнью, надо выбраться из леса шелестящих бумаг. Не поздно ли?.. Он уже забыл, как ранней холодной ранью выходят на трассу пикетажисты, как тянет назад громоздкий ящик теодолита, как пахнет трава, высыхающая на солнце… Хватит ли сил вернуться к прошлому… или, быть может, надо искать иную тропу? И есть ли она, эта тропа, где ждут его не _дождутся? Где он, Сычев, незаменим и смертельно нужен? Где то дело, куда, задыхаясь от радости, он будет прибегать за час до положенного срока и с сожалением, оглядываясь, уходить по вечерам? Нет, конечно, он несправедлив к своей работе. Взять хотя бы архитекторов. Нет, он не прав… Для них их проекты — не бумажный лес. Но ведь каждый должен искать свое дело и успокаиваться лишь тогда, когда оно найдено.
А ему-то что делать? Он мог бы пойти работать тренером. Он набрал бы себе детишек, мальчиков и девочек. Он снова заставил бы их удивляться, рассказывая сказки о давно минувших временах, о далеких странах, о людях, живших давно-давно, таких от нас отличных и таких похожих на нас. Он рассказал бы им о Древнем Риме, о Крассе, которого погубило честолюбие. О Спартаке, чье тело не было найдено после битвы, и о Юлии Цезаре, убитом Марком Юнием Брутом, который, возможно… Впрочем, нет, вряд ли… О том, что мы должны почерпнуть из прошлого, называемого историей… Только тут он понял, что это, пожалуй, совсем не тренерские заботы… но слишком уж дерзкой показалась ему эта мысль. История… нет, это невозможно, это слишком хорошо, чтобы могло осуществиться. Нельзя на полном ходу круто повернуть в сторону, это всегда ведет к аварии; нельзя сразу изменить направление жизненного хода, заданного предыдущими тридцатью тремя годами.
«Что же делать мне, что же мне делать? — прошептал он, вызывая спасительную помощь неизвестно откуда. — Я обязан, я должен что-то сделать. Но что?»
Где-то на немыслимом отдалении тихий голос отсчитал ему вместо ответа: «Пятьсот сорок четыре…»
И он уснул.
Ему приснился коридор. Во сне он казался бесконечно длинным — намного более длинным, чем был на самом деле, когда он увидел его впервые двадцать пять лет назад. Правда, может быть, непроизвольное ощущение этой бесконечной длины родилось потом, в течение столь же бесконечных десятков и сотен дней, когда ему пришлось познакомиться с этим коридором поближе, так сказать вплотную, — размазывая ли шваброй темно-красную или янтарно-желтую мастику, ползая ли с мокрой тряпкой и гоня перед собой черную дымящуюся воду с мраморными прожилками мыльной пены, стирая ли коленки до крови, когда суконкой и щеткой приходилось доводить до сияния елочки дубового паркета. Но все это было потом, в последующие семь лет, а в то время, к которому относилось его нынешнее сновидение, он ничего еще не знал, ибо, как это уже сказано, начало было двадцать пять лет тому назад, то есть осенью тысяча девятьсот сорок четвертого года. Училище было только что организовано.
Эти дни столь четко запомнились ему тогда потому, что слишком велик был контраст между недавним прошлым Сычева и этим вот неправдоподобно сверкающим и сияющим настоящим, причем разрыв во времени здесь был минимальным. Что это значит, могла бы понять, пожалуй, только Золушка, попавшая на королевский бал прямо от плиты с бобовой похлебкой. Все, что происходило с Сычевым, было столь же неправдоподобно или, во всяком случае, столь же непредвиденно. Но, тем не менее, это была реальность.
Все это старинное здание, похожее на корабль, с его широкими длинными коридорами, с медью перил, которые вовсе были уже не перила, а леера, с величественной, убранной ковром лестницей, которая тоже, конечно, была не лестница, а трап, с бесчисленными таинственными переходами, лестничками, большими и маленькими комнатами, кладовыми, подвалами, с огромными, в сложных переплетах окнами, выходящими на Неву, все классные комнаты с новенькими партами, покрытыми нежным золотистым лаком, — все это было реальностью тем более ощутимой и прекрасной, что счастье это свалилось на Сычева совершенно неожиданно, внезапно и безо всяких видимых причин, так что временами он чувствовал, что не в состоянии нести этот груз посыпавшихся на него невесть откуда благ, и если бы в то время он мог подозревать о существовании высших сил, он наверняка поверил бы в бога.
Но апофеозом всего этого неслыханного великолепия и роскоши был — или показался ему — день, что и снился ему теперь, в ту минуту, когда, откинувшись назад в мягком кресле, он мчался над облаками в современном суперлайнере со скоростью девятьсот километров в час, а именно день выдачи парадных ботинок. Позднее были и другие прекрасные для мальчишеского сердца и памятные ему события — например, день выдачи парадных мундиров, сшитых лучшими портными точно по фигуре, — великолепных произведений портновского искусства с выпуклой грудью, с двумя рядами по шесть пуговиц спереди и еще четырьмя пуговицами на фалдах и с умопомрачительным белым кантом на стоящих колом брюках, — то есть день, когда любой из воспитанников, а не только бедный Сычев, попавший в училище неким сверхъестественным образом из средней руки детского дома, чувствовал себя почти парализованным от восхищения (пополам со смутным чувством недостоверности происходящего). Но все это, как уже было сказано, было потом, позднее, когда душа уже пообтерлась немного и притупилась в восприятии явлений, разуму недоступных, — а вот день выдачи парадных ботинок он не смог бы забыть никогда.
И не забывал. Время от времени, совсем, впрочем, неожиданно, этот день всплывал в его памяти совершенно четко и незамутненно, словно наносы последующих двадцати пяти лет не могли и коснуться его, как это и было в его сегодняшнем сне.
Они быстро построились по команде старшины, на груди которого не было места, свободного от серебряных и латунных медалей, — построились быстро, хотя и несколько суетливо, ибо не приобрели еще пришедшей много позже чисто механической сноровки. И, придя в относительный порядок, пошли по коридору в дальний его конец, к некоей двери, которая вела неизвестно куда. И пока старшина, скрывшись за дверью, совершал колдовское действо, они стояли, переминаясь с ноги на ногу и вытянув длинные детские шеи, пытались угадать, что их ждет, не забывая при этом бросить косой взгляд на соседа, так как в те две недели, что они к этому времени провели в стенах училища, они едва ли успели приглядеться друг к другу и не успели друг о друге ничего узнать. Поэтому отношения складывались пока что чисто стихийно, по принципу, который ближе всего лежал к поверхности и характеризован мог быть понятно и просто: «А — КТО — У — ТЕБЯ — ОТЕЦ?» — и так уж чисто стихийно получилось, что те, кто мог как-то с большей или меньшей степенью убедительности ответить на этот вопрос или кто просто имел родителей, держались купно, а те, у кого родителей не было вовсе — как у Сычева, — те самою общностью судьбы прибивались, особенно в эти самые первые дни, к таким же, как они сами. И поэтому только Сычев, в эти минуты ожидания нового чуда, пределы которого он даже не пытался и угадать, не переставал украдкой поглядывать на своего случайного соседа, и, вертя головой и навострив уши, уже улавливавшие таинственно-прекрасные шорохи, доносившиеся из-за двери, — он, скривив рот, все-таки ухитрился, с некоторой запинкой, задать соседу, глядевшему по сторонам с довольно-таки пренебрежительно-равнодушным видом, тот самый сакраментальный вопрос, который в те дни служил им опознавательным знаком. В ответ на это сосед, чуть вылупив глаза, потрогал себя аккуратно за нос и, крутанув круглой стриженой головой, процедил фамилию столь потрясающую, что Сычев едва не позабыл об ожидающих его за дверью чудесах. Что было и понятно, ибо прозвучавшая и столь небрежно произнесенная фамилия принадлежала командующему Военно-Морским Флотом. При такой фамилии круглоголовому надлежало бы стоять вовсе не рядом с безродным Сычевым; но по той вызывающей уверенности, с которой тот отделился от «своей» группы и стал именно к Сычеву, можно было понять, что это была демонстрация с оттенком дерзкого вызова, а ничтожность самого Сычева только призвана была подчеркнуть величину этой дерзости. Но сам Сычев в эту минуту ни о чем подобном простодушно не думал. Сердце у него то взлетало, то падало, и сама только возможность допущения того, что круглоголовый может возжелать дружбы с ним, заставляла Сычева то и дело отвлекаться от созерцания закрытой двери и с риском повредить зрение все косить и косить взглядом в сторону круглоголового, замирая от ему самому еще неясных предчувствий. И кто знает, чем бы это раздвоение могло кончиться, если бы дверь внезапно не растворилась и на пороге не появился старшина, сопровождаемый тяжело дышавшим баталером. Вернее будет сказать, что баталер только угадывался, а вместо него, по крайней мере вместо верхней его половины, громоздилась, распространяя на много метров вокруг ни с чем не сравнимый запах новой хромовой кожи, огромная груда сверкавших темным хромом ботинок — настоящих кожаных ботинок с восково-желтого цвета подошвой, на которой был выдавлен размер. Одна партия, вторая, третья… баталер нырял в свою дверь, как в пещеру Али-Бабы, и вскоре перед строем, к тому времени совершенно уже развалившимся, подобно плохо пропеченному пирогу, высилась башня, пирамида, гора из ботинок.
Тут Сычев забыл обо всем на свете, даже о круглоголовом своем соседе, да и тот утратил на время свое высокомерно-равнодушное выражение. Даже он, — удивительно ли при этом, что происходило с Сычевым. Ему казалось, что он спит или бредит. И когда была дана команда приступить к примерке, он не бросился, подобно остальным, вперед, он остался на том же месте, безмолвный и оцепенелый… Так стоял он, не в силах двинуться с места, потому что до этой минуты он не только не имел, но даже в руках не держал новых кожаных ботинок, — и сколько бы он ни прожил еще, хоть сто лет, никогда ему не забыть этого мига. Именно с тех пор ощущение мучившего постоянно одиночества стало понемногу исчезать из его души, исчезать и растворяться, наперекор всему, что случалось или могло еще случиться с ним.
13
Куда они попали? Сколь ни странен был этот вопрос, тем не менее он был вполне уместен, ибо все, что они могли увидеть, начиная с той минуты, когда по трапу, вздрагивающему от тугих ударов ветра, они сошли на землю и, щурясь от яркого света, двинулись к выходу, прижимая к себе длинные коробки с луками, все виденное ими или попадавшееся им мельком на глаза не давало вразумительного ответа и, более того, способно было поставить любого человека в весьма затруднительное положение. Потому что все это — и сам аэродром с его стандартно-двухэтажной надстройкой, с рестораном, багажным отделением, с решеткой, окаймлявшей маленький садик, где приговорены были томиться дожидавшиеся своего рейса пассажиры, и площадь перед зданием аэропорта с неизменным круглым цветничком посередине, и стоянка такси, и женщины неопределенных лет с темными морщинистыми лицами, шелестевшие пышными букетами, и чистильщик обуви, чье стеклянное жилище привычно приткнулось возле входа в вестибюль; и сам вестибюль с указателями ресторана, почты и телеграфа, но более всего — отдел сувениров, где на стеклянных полках стояли изготовленные равнодушной рукой и, может быть, именно поэтому очень похожие бюстики великих людей, с аккуратно болтающейся на белой нитке ценой: Белинский — 5 р. 40 коп., Пушкин — 12 р. 20 коп., Лев Толстой — 4 р. 80 коп., — все это было как-то очень оскорбительно и похоже на насмешку. Город, в котором они оказались, абсолютно не имел своего собственного лица и мог, если судить только по внешним признакам, в равной степени оказаться и Смоленском, и Воронежем, и Полоцком, и Гомелем, но вовсе не обязательно Харьковом, в котором никто из них до этого не бывал.
По асфальтированной и тенистой улице мимо домов в пять неизменных этажей, отделанных то битым стеклом, то крошкой, то нехитрой мозаикой, не без труда добрались они до городского комитета по делам физической культуры и спорта. То была малопривлекательная двухэтажная постройка, похожая одновременно и на баню и на прачечную, отданная в пользование комитету по делам физической культуры и спорта лишь ввиду полной непригодности для каких- либо иных целей, — знакомая картина, которую им не раз доводилось наблюдать в самых различных областных городах. И инструктор комитета, ответственный перед высоким своим начальством за проведение этих соревнований, неопределенного возраста человек с помятым от ежедневной усталости лицом, принимавший приезжие команды и распределявший их на постой и кормление («Сколько вас прибыло? Заполните эти, да, да, и вот еще эти анкеты — нет, мандатная комиссия будет позже — алло, это „Первомайская“? Нет, я просил гостиницу, гостиницу я просил — где ваша командировка — ах, вот она, простите — товарищи, нельзя ли потише — талоны получите в бухгалтерии; здесь — по коридору, вторая дверь нале… — Гостиница? Броня для стрелков из лука… да, да… — ну, вот, поезжайте, гостиница „Первомайская“, троллейбус до центра, оттуда на втором трамвае… не за что, я сам бывал там, да, в сорок втором… простите, что? Автобус? Какой автобус… Петрищев? Как… — товарищи, да имейте же совесть, ничего не слышно… — Что? Ах, да — в ресторане „Спорт“ нет, близко, здесь же, талоны по рублю — всего, всего хорошего, я… — алло!..»), был такой же, как и в любом другом нормально работающем комитете по делам физической культуры и спорта (за исключением, может быть, столичного). То есть бедный чудодей, совершающий чудеса при помощи потрепанной телефонной книжки, записок на обрывках бумаги и тому подобного; он спит не более пяти часов в сутки и получает за это оклад, ненамного больший оклада хорошей уборщицы.
Нет, конечно, не так все было мрачно; чуть попозже, приглядываясь к предметам, ускользавшим от взора в первые мгновения, можно было понять, что это уже благодатная Украина. Замелькали заманчиво едва ли не на каждом углу вареничные; явственно стал преобладать ласкающий ухо певуче-протяжный говор; промелькнуло несколько тяжеловатых памятников, по-южному щедро утопавших в цветах, — все это так. Но только попав на базар, для чего им пришлось немало попетлять, они поняли и удостоверились наконец, что и вправду оказались в большом украинском городе. С этим они, подобно маленьким ручейкам, влились в общее бурливое русло, и оно закружило их, завертело и понесло вдоль подвижных людских берегов, где отнюдь не молчаливо демонстрировалось изобилие и щедрость тучного украинского чернозема.
Да, было от чего разбежаться северным, соскучившимся по ярким живым краскам глазам. Было от чего вертеть головою то влево, то вправо, бросаться вперед и возвращаться, стыдливо пробуя щедро предлагаемые образцы. Дымилось лето, самый разгар его, и над всем царили — вишни, вишни, вишни, сочные и упругие, здесь, и здесь, и там, и здесь вот, а хозяйка этих вишен готова была — ну совсем задаром, полтора рубля ведро — отдать их вам сейчас, и здесь же, и едва ли не с ведром в придачу. И вы уже собирались взять это ведро с крупными яркими ягодами, но в это время взгляд ваш падал — совершенно случайно — двумя метрами далее, и рука ваша с протянутыми было деньгами замирала. Потому что там, в двух шагах, тоже были вишни, но какие! Диво: еще более крупные, черного цвета, мясистые, их терпкая сладость угадывалась даже без пробы… и вы, потупившись от стыда, все же делали эти два шага к той вишне… чтобы через минуту столь же покорно идти к другой… третьей… пятой… А от них идти к сливам — то аспидно-черным, вытянутым наподобие маленькой лодочки, то огромным, сизым и круглым, то двухцветным: коричневато-желтым, распространявшим густой сладостный аромат. От слив уже в полном изнеможении вы переходили к бесконечным рядам яблок — томно-бледных, ярко-желтых или пунцово-красных; то огромных, с два кулака здоровенного мужчины, то трогательно маленьких… А далее уже наступали груши — но нет, для груш уже не хватает у автора слов, а ведь там, вдали, все тянулись, все шли и шли ряды — и все это было весело, громко, певуче, открыто, со столичным размахом, но без столичной заносчивости, просто, шумно и пестро… И тут вспоминался невысокий востроносый человек, ходивший некогда по безграничному простору другой такой же украинской ярмарки, и хотелось обойти все сначала, потому что здесь где-то, можно не сомневаться, должны были найтись и галушки со сметаной, а при современной технике что им стоило самим запрыгивать в рот! Вот таким предстал, немного помучив их сначала, этот славный украинский город, и таким он запомнился им, хотя было, несомненно, в этом городе и многое другое, даже более достойное запоминания; но им-то запомнился более всего именно базар, — разве можно осуждать их за это?
Без ног, чуть дыша, ползли они обратно в гостиницу; это было странное и несомненно несколько комическое зрелище, останавливавшее на себе всеобщее внимание и вызывавшее добродушные улыбки. Они несли в руках дыни, похожие на отрубленные головы, сетки их раздувались от слив, яблок, вишен и груш, и можно было смело предположить, что понадобится помощь по крайней мере еще пятнадцати человек, чтобы одолеть все это. Два огромных, пухлых, теплых еще каравая легли затем на стол. в почетном эскорте пунцовый помидоров, нежно-зеленых малосольных огурчиков и картошки, сваренной с поджаренным лучком, чесноком и приправленной укропом; свиная, домашнего приготовления колбаса, нежная, острая и пахучая, покорно легла здесь же, — и вот уже неотвратимо блеснули над всем этим великолепием остро отточенные ножи…
Нет, никогда не испытывали они подобного наслаждения. Никогда еще еда не казалась им такой вкусной, и чудовищный аппетит, перед которым отступил бы и Гаргантюа, уравнял всех в этот момент перед съедобным многоцветным излишеством, перед съестным столпотворением на неудобном столе гостиничного номера. Они даже стали в эти минуты чем-то похожи друг на друга, и сходство это наводило на мысль об условности всяких разделений и градаций перед лицом отрешенно чистого движения природы. О, как они ели, эти инженеры и конструкторы, эти мастера спорта, эти мужчины и женщины, холерики и меланхолики, как наслаждались они, зарываясь в мягкие ломти невесомого каравая. Как брызгали ярким помидорным соком, жевали, хрустели, резали, еще и еще — никакие ресторанные деликатесы были несравнимы с этим; простая, испокон веку знакомая людям и любимая ими пища, сок и плоть земли, более древней, чем само человечество.
Долго длилась эта вакханалия, этот Лукуллов пир в тесном пространстве двухкоечного гостиничного номера, на неудобном узком столе, покрытом двумя газетами. Окончив этот пир, они отодвинулись от пустого стола с сожалением бессилия и расползлись по номерам. Но долго еще вспоминали они этот базар и этот день и час, а когда они вернулись домой и все происходившее с ними стало невозвратимым прошлым, собравшись вместе, они говорили друг другу: «А помнишь Харьков?» И тут каждый из них невольно набирал воздуха в грудь, шумно вздыхал и, чувствуя, как туманится взор, говорил: «Харьков? Да разве такое можно забыть?»
14
«Когда я работал в Албании…» — сказал Николай Семенович и замер, напряженным, прищуренным глазом наблюдая за стрелой, которая, чуть бренча, каталась по зеркалу, снятому со стены; в какой-то ему одному понятный момент он ухватил ее, прижал к зеркалу, еще прижал, затем снова катанул — тут уж не было никакого бренчания, стрела катилась, издавая ровный густой звук, что и свидетельствовало о её абсолютной гарантированной прямизне.
Разговор происходил накануне соревнований, разговор необязательный внешне, неторопливый и неспешный, с остановками, переходами от одной темы к другой, скорее мысли вслух, чем диалог, состоящий из двух монологов, когда каждый говорит о своем и не слишком вслушивается в то, что говорит собеседник. Вечер был дивный, теплый и безветренный, небо обещало на завтра хорошую погоду, а девушки ушли в кино успокаивать расшалившиеся нервы — фильм под названием «Следы ведут в пропасть» вполне для этой цели годился. Ну а их — Сычева и Николая Семеновича — не интересовали никакие следы, оба они были умудренными жизнью мужами, они были старше всех и всех опытнее, и они знали, что если они не проверят накануне соревнований всю амуницию, то она так и останется непроверенной — что взять с девчонок. Вот они и проверяли ее еще и еще раз.
Потому что не только для того, вернее, совсем не для того, чтобы наслаждаться прелестью тихого южного вечера, вызывавшего восхищение еще у классиков («Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи…»), или благодатными дарами украинской щедрой земли, прибыли они в этот город, — им предстояли еще и другие дела. В эти немногие дни они получили полную возможность забыть обо всем, что осталось у них дома, забыть настолько, насколько каждому из них того требовалось и хотелось, и на расправленных крыльях воображения парить в подвластных им отныне временных небесах. Это было куда как кстати, потому что, несмотря на их мудрость мужей и немалый опыт, с каждым часом они все настоятельнее ощущали потребность в отвлечении, в забвении того, что им завтра предстояло, поскольку с каждым часом усиливалось то неприятное и необъяснимое состояние предстартового волнения, которому англичане придумали более выразительное, чем «предстартовая лихорадка», название: «butterfly in stomach». Что в буквальном переводе означает «бабочка в желудке» — трепыхание, судорожное сжатие, перехваченное нервное дыхание, когда руки теряют вдруг силу, голова — свежесть, мысли — связность. Это тем более удивительно, что не может быть ни объяснено, ни устранено доводами рассудка. Ни такими, как солидно-философское: «Здесь полностью отсутствуют обоснованные причины для волнения», ни грубовато-стеснительными, вроде: «Да что же я, корову проигрываю, что ли!» Никогда не помогало ни то ни другое, только одно: размеренная беседа при полном сознательном непротиводействии этому неудержимому внутреннему трепыханию; полное понимание его неизбежности вместе с невысказываемым, но, тем не менее, вполне явным пренебрежением к этим трепыхающимся и трепещущим ощущениям внутри. Только это одно могло со временем привести в норму издерганные ожиданием нервы, лучшего же лекарства, чем ненаправленный свободный разговор, как бы струящийся сам по себе, не было. Разговор струится, перескакивая с камешка одной темы на камешек другой, а руки в это время занимаются своей работой: катают по зеркалу очередную стрелу или приклеивают отскочившее перо при помощи двух бритвенных лезвий, зажатых прищепами от белья, — и так постепенно все приходит в порядок, становится на свои места, успокаивается…
Что же касается слов «когда я работал в Албании…» — в них не было и нет ничего таинственного. С одной стороны, они соответствуют истине, а с другой — это просто позывные, своего рода сигнал, условный шифр, вроде слов «а я в домике, чур-чура»: за этими словами может последовать все что угодно — от рассказа об Албании, где Николай Семенович работал в изыскательской дорожной партии, до рассуждения об усовершенствованиях, которые следовало бы применять при покрытии сложных по конфигурации деталей молотковой эмалью. Но и в том случае, если бы разговор имел специальное направление, он все равно представлял бы незаурядный интерес, поскольку, о чем бы Николай Семенович ни начинал говорить, он говорил с теми подробностями, которые могли быть известны только специалисту высокого класса. И, что самое удивительное, — подобным специалистом Николай Семенович и был, причем это касалось не только молотковой эмали или дренажных систем на албанских дорогах, но равным образом и любого другого вопроса, имевшего отношение к технике. Ибо Николай Семенович представлял собою ту породу русских смекалистых людей, которые назывались когда-то «мастерами на все руки». Вот такие-то руки в добавление к природной любознательности и смекалке и были у Николая Семеновича, и ими он мог делать — и делал, когда к тому приходила надобность, — буквально все; выкатывал на зеркале стрелы, токарил (для чего дома у него имелся специальный миниатюрный станочек, вмонтированный в крышку стола), выполнял переплетные работы, чинил старинные часы, ремонтировал приемники и телевизоры, пылесосы и швейные машины, фотоаппараты и бинокли, резал и жег но дереву, реставрировал редкую мебель… Примечательность этого универсализма заключалась еще и в толі, что все, за что Николай Семенович брался, он делал и доводил до конца с неуклонным, можно даже сказать неукротимым педантизмом, внося во всякую вещь, вышедшую из его рук, артистическую завершенность.
И обо всем этом он готов был подробнейшим образом рассказывать своим хорошо поставленным голосом. Сычев умел слушать и уже по одному этому был находкой; а кроме того, он умел, если требовалось, одной-двумя репликами изменить направление беседы несколько забывчивого Николая Семеновича и пустить его по нужному и проверенному руслу, после чего речь текла уже как бы сама по себе. То есть создавалась ситуация идеально отвлекающая, иными словами — именно такая, какая нужна человеку в тот момент, когда у него в желудке трепыхаются неведомо откуда взявшиеся бабочки.
И еще одно достоинство, чисто меркантильного свойства, имела эта беседа: разговор разговором, а руки Николая Семеновича делают между тем свое дело, самую трудную работу: большие, чуть потемневшие от табака пальцы с плоскими чистыми ногтями крадутся вдоль стрелы, нащупывают неровность, давят, вертят, поднимают, опускают, снова катят — ну вот, готово, следующая… а бархатистый голос все журчит.
Из этого журчания для подготовленного слушателя вырисовывается картина жизни еще одного представителя двадцатого века — представителя умелого и деятельного, спокойного и без досады взирающего на события. Не значит ли, что он уж слишком примирился с положением вещей, которые в таком случае оказались бы словно заданными наперед? Сычев моложе Николая Семеновича ровно на четырнадцать лет, что одновременно и много и немного. Сейчас он лежит поперек кровати в некой размышляющей истоме и пытается делать вид, что не замечает в самом себе красным светом вспыхивающих вопросов «зачем». Он понимает, что не имеет даже права думать о проблемах вселенского масштаба, ибо относится к той породе людей, что не только не бывали в Албании с поисковыми изыскательскими партиями, но даже и гвоздя не умеют вбить как следует. Не раз и не два бывало брошено ему это обвинение в лицо, и поскольку звучало оно всегда одинаково: да что ж ты за мужчина, если гвоздя не умеешь толком вбить? — то Сычев в конце концов и сам поверил в нерасторжимую связь между такими разными предметами, как мужское достоинство и умение забивать гвозди. Николаю Семеновичу, надо полагать, такого упрека выслушивать никогда не приходилось.
«…И тут впереди что-то замигало», — журчит, переливаясь, бархатный, убаюкивающий неподготовленного слушателя голос. Подготовленный Сычев, возвращаясь в реальный мир, напрягает внимание. Как уже было сказано, условный сигнал «когда я работал в Албании» может в дальнейшем превратиться во что угодно. Вот и сейчас действие, далеко уйдя от Албании, перенеслось в Ленинград зимы тысяча девятьсот сорок первого года, и в то время как руки рассказчика выкатывают на зеркале очередную американскую стрелу, сам он уже не здесь. Он там, в Ленинграде, темным и голодным декабрем, двадцатилетний и тощий, бредет к Средней Рогатке, сжимая этими вот самыми руками застывшее дерево винтовки, а впереди, в кромешной тьме, мигает фонарик диверсанта. И все же…
И все же ответ должен быть когда-то — да. «Должен, — думает Сычев, — должен быть дан ответ на вопрос, к которому каждый обращается в жизни рано или поздно, — зачем мы живем? Ведь несомненно одно — вразумительный ответ на этот вопрос должен существовать. Невозможно поверить и примириться с тем, что мы живем лишь потому, что были зачаты случайно и столь же случайно появились на свет, согласно законами биологии. Николай Семенович, я тебя очень люблю. Ты верный и надежный друг; видит бог, одно это уже значит в наше время так много; тогда, в холодном Ленинграде, в декабре, ты шел навстречу мигающим огонькам, и руки твои, как последний доступный тебе довод, сжимали застывшее дерево винтовки. Я люблю тебя за то, что, пройдя немало жизненных ступеней, ты не стерся, как долго обращавшаяся монета, и не утратил доверчивой способности к удивлению. И за то, что ты нашел в себе мужество: в тот момент, когда и тебе пригрезились зеленые Шервудские леса, ты поднялся и пошел навстречу зову — такой же, как всегда, подтянутый и аккуратный, и тебя не смутило, что взгляды, обращенные к тебе, были полны недоумения, а порой и насмешки. Ты оставался самим собой и шел своей дорогой; скептики со временем отошли в небытие, и вот тебе уже пятьдесят, и ты говоришь мне: мы с тобой еще постреляем. И катаешь стрелы.
Вот почему именно ты должен будешь мне однажды помочь. Однажды… Ты сделаешь над собою усилие и поможешь мне разобраться во всем до конца; тут-то и понадобится мне твоя обстоятельность — для того, чтобы разобраться во всем до конца».
«…А палатка на четверых весит килограммов пятьдесят…»
Нет, не сейчас. Не сейчас задаст он этот вопрос. Пусть этот вечер останется тих и спокоен — незачем омрачать его вкрадчиво-разрушительным «зачем». Что же касается палаток, здесь он вполне мог бы поддержать тему разговора. И рассказать кое-что не совсем лишенное интереса — не потому, что ему вдруг захотелось бы удивить Николая Семеновича, а потому лишь единственно, что все когда-либо случившееся с нами никогда не оставляет нас в покое до конца. Пятидесятикилограммовая палатка? Это совсем не страшно, не более страшно по крайней мере, чем то, что ты спешишь, недостойно суетясь; а здесь ты и не спешишь. Ты просто идешь, передвигаешься по поверхности земли самым древним из известных способов, то есть на собственных ногах. За спиной у тебя тяжелая ноша — да, но ведь кому и нести ее, если не мужчине. Вот ты и несешь ее, и на ногах у тебя высокие, до паха, резиновые сапоги, которые больше чем наполовину уходят в болото, и ты идешь, осторожно, как миноискателем, прощупывая палкой тропу, стараясь угадать кочку, и болото вокруг тебя нежно-зеленое и чуть желтое, и странный дурманящий воздух кружит тебе голову. Оводы темной шевелящейся массой ползают по тебе, сжимая железные челюсти, солнце над головой играет в ленивые прятки с кудрявыми облаками, а ты все идешь и идешь — единственный, быть может, на земле человек, прошедший сквозь это болото. Но именно человек — и понимание этого четко осознанного и неоспоримо доказанного человеческого достоинства еще долго дает тебе внутренние силы. И тогда без зависти паришь ты в своих собственных небесах.
Ибо на лестнице успеха — другой счет, и другие ценности там в ходу и в чести. Тут уж грош цена и болотам, которые ты прошел, и многому-многому другому, что может неожиданно открываться в человеке, начинающем свой рассказ словами «когда я работал в Албании», или в человеке, задающем себе бессмысленный и, может быть, неразумный вопрос «зачем?».
Вот теперь только и подошел черед этому вкрадчивому и разрушительному слову быть произнесенным, поскольку этот сакраментальный вопрос, сокрушая и отметая все мнимо значительные высоты, оставляет человека один на один с самим собой. Без прикрытия отвлекающих и чисто внешних атрибутов значительности. В тот момент, когда салі человек, заподозрив некоторую лшшурность этих атрибутов, ищет неоспоримых для себя доказательств осмысленности своего присутствия на земле. Доказательств, для многих и многих вовсе не обязательных — настолько, что их не только не ищут, но и не задумываются над их существованием вообще. «Но разве, — может прозвучать вопрос, — разве не является уже сам факт нашего существования достаточным доказательством пусть трудно, но все же улавливаемого смысла?» Конечно, в газовой духовке собственных пристрастий мы вольны испечь любой утешающий нас пирог по собственному усмотрению, а то и не печь его вовсе. Но имеем ли мы право поступать так, спасая себя от мучений ищущего ответа разума, — мучений, пусть даже и бесплодных с точки зрения практической пользы? Не означает ли это стирание разницы между теми, кто непреклонно носит звание «Homo sapiens», и теми, кто по причине природной бессловесности вполне довольствуется наличием сена в яслях и воды в поилках?..
Далеко за полночь в маленьком номере гостиницы сидят двое.
«…А когда мы снова приехали в Албанию», — говорит один из них. А другой пока что напряженно всматривается в непроглядно черное украинское небо, словно ожидая увидеть огненные письмена, которые вот-вот должны вспыхнуть на этой бесконечной доске Вселенной.
По зеркалу, снятому со стены, с ровным гудением прокатывается последняя стрела.
— Завтра, — говорит один и трет занемевшие пальцы.
— Завтра, — эхом повторяет другой, но смысл, который кроется для него за этим коротким словом, вовсе не относится к грядущим двадцати четырем часам.
Завтра — это море будущего, куда безвозвратно впадает река настоящего.
Завтра — это те огоньки, мерцающие вдали, к которым мы должны прийти — и придем, вопреки всему.
Завтра… Слово родилось и, заполняя пространство, несется к звездам, чтобы сообщить им нашу надежду и веру в будущее.
Свет гаснет, и еще долго слышно, как скрипучими голосами жалуются на судьбу сердитые от бессонницы сверчки.
15
Время текуче и изменчиво — как, впрочем, и все в этом мире, единственном из бесчисленных миров, который нам дано познать. Соглашаясь с этим, придется согласиться и с другим: представить себе наглядно это изменение и текучесть времени столь же трудно, как и природу разбегающихся галактик и белых карликов. Тем не менее, именно в этом изменении — и, пожалуй, только в нем — можем мы хоть как- то ощутить тот прогресс, которого достигло человечество за последние три или четыре тысячи лет — ничтожный, в общем — то, срок, столь же слабо заметный на бесконечных скрижалях истории, как царапина на одной из плит пирамиды Хеопса.
Эти рассуждения, верные в своей основе, но носящие несколько общий характер, можно и должно сделать более понятными; для этого придется обратиться к человеческим судьбам и рассмотреть их взаимосвязь с меняющимся временем. А поскольку все, что касается человеческих судеб, всегда становится более понятным при некотором увеличении, при подыскании примера лучше брать несколько увеличенных представителей человеческого рода, которых мы, следуя традиции, будем называть героями.
Что же происходило с героями в начале тех времен, от которых мы, к нашей гордости, ушли столь далеко? Происходило следующее: почувствовав в себе силы для высших свершений, герой уходил совершать свои подвиги. Поскольку при этом он следовал призванию, он готов был отсутствовать годы и десятилетия, с тем чтобы слава о содеянном жила после него долгие столетия. Такова, так сказать, внешняя оболочка происходившего. Внутри же этой почтенной оболочки происходило всегда действие менее почтенное по форме, но необходимое практически по содержанию. Герой готовил свои доспехи, отдавал распоряжения по дому, причем пытался предусмотреть и тот случай, если свершение подвигов несколько затянется, затем садился на деревянный корабль, который в наше время показался бы просто большой лодкой, и вместе с другими отплывал за тридевять земель, например к берегам далекой Трои, до которой — но это известно только нам с вами — не то что рукой подать, а и того ближе. Затем герой в течение десяти лет завоевывал Трою, и поскольку десять лет — срок значительный даже по тем временам, то вышеупомянутый герой, чьим жизненным примером мы хотим воспользоваться, волей-неволей становился свидетелем или даже действующим лицом таких интереснейших и нашедших свое место в истории событий, как гнев Ахилла, гибель Патрокла и Гектора; довелось ему увидеть также и смерть Ахилла, которого многие склонны считать даже более великим героем, чем Геракл. Именно наш герой затем, наскучив пребыванием под неприступными стенами, с помощью деревянного коня похоронил все надежды азиатов, благодаря чему и закончилась эта история, начавшаяся с похищения прекрасной Елены. Но, закончившись, она не положила конец приключениям нашего героя, который, ни много ни мало, еще десять лет добирался обратно домой, претерпевая неслыханные невзгоды и искушения, равно как и превратности судьбы, — с тем только, чтобы, вернувшись наконец из странствий, найти свой дом полным пьяных бездельников, нагло пристающих к его жене. Что же ему оставалось делать, как не поразить женихов из своего знаменитого лука, натянуть который никому, кроме него, оказалось не под силу? Так или иначе, но лук в этой поучительной истории присутствует и играет нс последнюю роль, служа орудием справедливости… Или он работал копьем?.. История нашего героя на этом заканчивается.
Благодарная греческая история, не подгоняемая тогда еще острым дефицитом времени и с наивно-гордым добродушием считавшая маленький народ на клочке суши достойным самого пристального внимания, направила взоры всех своих глашатаев на описанные выше события. Некий слепец, аккомпанируя себе на музыкальном инструменте, пел сочувствующим согражданам о странствиях Одиссея, причем пел, надо полагать, не одну и не две ночи,'— и так продолжалось до тех пор, пока не была — к счастью для нас — изобретена письменность и песнопения слепца, скитавшегося в поисках пристанища и хлеба по растрескавшейся от зноя земле, не были должным образом записаны. Тогда только — никак не раньше — спохватились и о самом певце, оказавшемся вдруг в центре мирового внимания. Но поскольку при жизни никто и никогда не интересуется нищими стариками, то и настоящее имя его, утраченное навеки, было заменено другим — в чем, конечно, нет для человека маленького никакой трагедии, ибо и самому давно угасшему слепцу, и тем более нам самим это абсолютно все равно, — так что пусть он зовется Гомером.
И долго еще эти песнопения тревожили воображение простодушных людей, не знавших соблазнов современного, несомненно более прогрессивного мира: ни суперлайнеров, покрывающих за считанные часы тысячекилометровые расстояния на линиях «Аэрофлота», «Люфтганзы» или «Пан- америкен», ни автомашин марки «фольксваген», «волга» или «ситроен», — и уж совсем не имевших понятия о магнитофоне «грундиг» и ансамбле «битлз». Только этим и объясняется, что они, те наивные и не слишком развитые люди, жившие во времена, заслуживающие одного лишь соболезнования, еще долго переживали события, к ним самим давно уже никакого отношения, казалось бы, не имевшие: злосчастную судьбу Агамемнона, убитого собственной женой; предчувствия вещей Кассандры и, наконец, страдания Андромахи, — в результате чего еще долгое время появлялись сочинения на эту — все на эту же тему, написанные неким Софоклом, а также неким Еврипидом, и затем уже — много позже — неким Вергилием.
Нам же все это кажется несколько смешным. Нынче все происходит иначе. Иначе — значит, и быстрее и проще.
Удивительно ли, что в условиях перенасыщенного информацией времени, при некоторой к тому же тревоге за будущее, никто — да позволено будет сказать об этом совершенно утвердительно — никто не может тратить дорогостоящие часы и минуты на описание переживаний современного героя, собравшегося, к примеру, преодолеть какую-нибудь тысячу километров. Тем более ни у кого нет времени настолько свободного и ненужного, чтобы посвятить его чтению многостраничных описаний подобного путешествия.
Вот почему следует, на наш взгляд, опустить все происшествия, имевшие значение только для самого героя, и, экономя время читателя, поскорее посадить героя в самолет, чтобы скорость девятьсот километров в час убыстрила столь неоправданно замедлившийся ход повествования. Ибо ясно, что герой сегодняшнего дня и жить должен сегодняшними ритмами.
Вот почему здесь опускаются несколько дней, проведенных Сычевым (как ни мало подходит он к роли современного героя) в городе Харькове. А ведь можно было бы описать все, а не только один, и то затронутый вскользь, первый день соревнований. Можно было бы подробно — совсем как в случае с доспехами Ахилла — описать, как час за часом и день за днем продолжалась битва современных героев на зеленом поле под жарким синим небом. Как взлетали ввысь и падали с каждой выпущенной стрелой их надежды; как проходил последний день соревнований, накануне которого Сычев провел бессонную ночь. И как соревнования закончились, и наш герой — читателю волей-неволей придется условно признавать за Сычевым право на это звание, — еще вчера никому не ведомый, стоял на пьедестале почета — пусть не на самой высшей ступени, а на второй, рядом с великим Остапчуком и выше француза и всех остальных, как стоял он под флагом родной страны, поднятым в его честь на мачте. Стоял между веселым зеленым и спокойно синилі, почти касаясь головой облаков, и слезы, которых он не сумел сдержать, катились у него по щекам… да, можно было бы описать все это — и не только это. Но зачем?
Зачем? Тем более что все эти происшествия, частично касающиеся Сычева, нашли в свое время отражение на страницах спортивной прессы в шести строчках не слишком крупного, но и не самого мелкого шрифта, чем, надо полагать, вполне исчерпывается значимость упомянутых событий для широкой публики, в том числе и для читателя этой идущей к концу повести.
Но не для Сычева. Для него самого все эти события представляли интерес не только сами по себе, но и в той еще степени, в какой они служили прологом к иным, гораздо более важным событиям. Конечно, и чувство удовлетворенного самолюбия, да и простое сознание хорошо выполненной работы были приятны сами по себе, но этим дело не исчерпывалось. Тут уж в силу вступали совсем иные, куда более могущественные факторы.
Ибо одно дело — красоваться на пьедестале почета с букетом в руках под гром оркестра и рукоплескания друзей, и совсем иное — вернувшись домой, лежать в темноте и под мерцающее жужжание в ушах то засыпать, то просыпаться, представляя себе возвращение на работу в Иоанновский равелин в качестве руководителя транспортной группы, соизволением хмурого начальства отпущенного на соревнования без сохранения содержания. Но более всего угнетала нашего героя — потому что, даже лежа в постели, он еще был таковым — мысль о необходимости и неизбежности нового разговора, а точнее — новых разговоров с начальством. И здесь его, Сычева, победа, утешавшая его давно жаждавшее утешения самолюбие, и была той причиной, следствием которой и должны будут явиться предстоящие разговоры. И, представляя их, Сычев сейчас только, начинал понимать, что именно тут-то и будет проведена проба его героизма.
Затем ему приснился сон, который, словно по заказу, усугубил его понимание и углубил предчувствия. Сон этот спустился на него подобно мифологическому облаку и явил Одиссея, до странности похожего на самого Сычева; сидя на камне в несколько неудобной позе, Одиссей выводил шариковой ручкой на листе бумаги:
«В Совет старейшин острова Итаки от Одиссея, царя, проживающего на Козьем холме, 15
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне долгосрочный отпуск без сохранения содержания на предмет участия в Троянской войне с 1-го июля с. г.»
Но только он поставил последнюю точку, не успев даже подписаться, как сразу же вслед за этим из пространства появилась рука с карандашом — самым что ни есть обыкновенным красным многогранным карандашом, который всегда можно увидеть торчащим из кармана главного специалиста по транспорту; и эта рука, опустившись на левый верхний угол заявления, оставила там следующую резолюцию: «Категорически возражаю, ввиду сроков сдачи проектной документации по городу Красногорску».
И это было все! Это было крушением всех надежд для человека, подавшего заявление, вне зависимости от того, какие основания выдвигал он в поддержку своей просьбы — Троянскую войну или поездку на первенство мира; несколько слов, начертанных красным карандашом, ставили предел всему — и будущим подвигам Одиссея, которым в данном случае не суждено было свершиться, и надеждам Сычева, просыпавшегося в горячем поту.
А ночь за оконными стеклами жила своей собственной жизнью. Потом пришел рассвет; придя, он осветил помятое кошмарными сновидениями лицо Сычева.
16
И вот уже снова он идет дорогой, проторенной и хорошо ему известной. Но на сей раз это отнюдь не дорога свободы, позволяющая неторопливо и вдумчиво совершать долгий путь по радующим душу местам. Нет — это жестко ограниченная трасса, свернуть с которой нельзя. Бегом, бегом, вниз, вверх и снова бегом — и только перед старинными воротами с четко выбитой на них датой — 1740 — обнаруживается запас времени, равный двум минутам, в то время как вполне достаточно полутора. Тогда он умеряет бег и пропадает в общем потоке сослуживцев, отбивающих торопливый шаг по выщербленным каменным плитам.
Да, сейчас он совсем не похож на героя, который еще вчера стоял на пьедестале почета, прижимая к груди охапку цветов, под знаменем своей страны, поднятым в его честь. Там был один человек, здесь — совсем другой, не говоря уж о знамени, которого здесь не было вовсе. Прошмыгнув через вахтерскую, другой человек идет направо, вешает на гвоздь свой плащ, а затем выходит в длинный коридор, где, привычно переводя дух, стоят уже, привалившись к стене, первые курильщики, жадно втягивая в себя синий дым и обмениваясь самыми экстренными, не терпящими отлагательства даже до обеденного перерыва новостями. Здесь он кивает головой налево и направо; он делал это каждый день и на протяжении всех последних лет, и поскольку его отсутствие, длившееся меньше недели, не было даже замечено, его появление тоже не вызвало никакой реакции. Все было точно так же, как вчера, позавчера, на той неделе, пять, десять, а может быть, и двадцать лет тому назад: неторопливо снималась с подрамников калька, неторопливо натягивались темные сатиновые нарукавники, пересказывались услышанные вчера анекдоты, очинялись карандаши… Кто-то требовал открыть окна, кто-то возражал; хлопала дверь, поднимая со столов карандашные очистки и шевеля листы бумаги; уже звонил телефон; раздавались зевки, потрескивали расправляемые суставы. Женщины с неодобрительным подозрением глядели в маленькие карманные зеркала, и сладкий запах пудры щекотал обоняние. Через все огромное помещение пронесся первый крик: «Гуляева — к телефону…» Словом, все было так, будто на земле не могло случиться ничего такого, что могло бы хоть как-то поколебать и разбудить привычное течение здешних дел. И, уж конечно, не подвигам Одиссея было это под силу — Одиссея, так удивительно похожего на самого Сычева в его тревожных ночных сновидениях. Сам же Сычев, внезапно приунывший, не без ловкости лавировал между огромными подрамниками, расставленными в самом прихотливом порядке, узнавая попутно последние новости. Какие-то сведения — самые разные — доносились со всех сторон, но о нем самом, о том, где он был и что он делал, — ни слова. И только когда, войдя во второй коридор, свернув налево, налево и налево, он наконец открыл свою дверь, только тут он почувствовал себя наконец- то доли и испустил глубокий вздох, который в равной степени можно было считать как вздохом разочарования, так и вздохом облегчения.
Первым, кого он увидел, был Сергей Татищев, все такой же кругленький и ладный, с припухлыми глазами и помятым лицом. Он сидел на колченогом стуле. Демьяныч, которого и в это утро преследовали некие девицы, рассказывал об этом событии с крайним возбуждением, размахивая руками и сильно двигая кадыком. Завидев Сычева, оба они, привстав, застыли на какое-то мгновение, но тут же опомнились, ибо не такие они были люди, чтобы долго находиться в замешательстве. Тут же выяснилось, что оба уже наслышаны о подвигах новоиспеченного героя. Татищев, щуря свои щелочки, предложил было крикнуть «ура», но предложение одобрено не было. Иное дело Демьяныч, бывший, не в пример Татищеву, человеком солидным, обстоятельным и серьезным; потирая руки, он в весьма торжественных выражениях поздравил Сычева с успехом, а затем, глядя несколько в сторону и вниз, скромно предложил свои услуги — он мог бы сбегать, поскольку совершенно невероятно, чтобы подобный успех не был отмечен.
— Тронут, — сказал Сычев. — Весьма.
Через несколько минут Демьяныч, протиснув костлявую фигуру в окно, прытко бежал по утреннему холодку. Сычев же уселся за свои чертежи, успевшие за эту неделю несколько подзапылиться. Затем он отточил карандаш и в немногих словах поведал Татищеву обо всем происшедшем.
Обеденный перерыв подкрался среди множества дел. Заявление об отпуске без сохранения содержания сроком на месяц «для подготовки и участия в первенстве мира», как говорилось в ходатайстве Комитета по делам физической культуры и спорта, уже находилось у секретаря; чертежи и схемы, касавшиеся транспортного развития города Красногорска, были приведены в относительный порядок; что касается добровольной миссии Демьяныча, то она увенчалась полным успехом, в честь чего и были произнесены соответствующие событию речи, тосты и пожелания. В обеденное время они продолжали работать: Сычев набрасывал «клеверный лист» — транспортную развязку в двух уровнях, Демьяныч вновь и вновь возвращался к своему утреннему приключению и клеил на макет маленькие небоскребы из пенопласта; Татищев заливал гуашью кальку.
— Сычев, а Сычев, — сказал он вдруг ни с того ни с сего.
— Ну, — сказал Сычев, водя циркулем, — ну…
Но Татищев уже снова ушел в свою кальку. И только минут через пять он вытащил из-под стола магнитофон и, пробормотав нечто невнятное, нажал клавишу. Что-то зашипело и смолкло. Затем раздалась музыка, музыка жизни и смерти, Реквием…
— Тихо, — сказал Татищев.
Сычев смотрел на него, сморщившись от напряжения.
Лицо Татищева с уже не улыбающимися пухлыми веками стало отодвигаться в неясную даль, служа как бы фонам, экраном, на котором Сычев увидел нечто давно забытое: просеку в сердцевине дремучего северного леса и палатку на просеке, похожую на утлый челн, заблудившийся среди бескрайнего зеленого моря под сизыми тучами, стремительно гонимыми холодным ветром; желтовато-серый брезентовый полог, готовый сорваться и улететь, а под этим пологом четырех уставших людей, лежащих в сырых спальных мешках из свалявшейся ваты на самодельных нарах, пытающихся согреться до наступления следующего утра, когда придется вылезать из нагревшихся за ночь тепло-сырых мешков и, натянув холодные резиновые сапоги, снова, час за часом, идти по лесу. Но пока они лежали, они могли об этом и не думать, и они не думали, а лежали, без желаний и мыслей, потрескивал отсыревшими батареями приемник, оставляя их безучастными до тех пор, пока не раздалась эта вот самая музыка и не были произнесены эти же первые слова:
«Все говорят: нет правды на земле…»
Он не мог передать той дрожи, которая охватила его при этих словах; он стал цепенеть, ноги у него сводило, как от холода.
Все исчезло и не имело больше смысла. Завертелось и поплыло — лицо Татищева, его сверкающий и сверлящий взгляд, долговязая фигура Демьяныча, распятая на серо-жемчужном фоне распахнутого окна, шипение магнитофонной ленты; исчезли все заботы, угнетавшие Сычева, и вся его будничная жизнь, прошлая и настоящая. Слова и музыка захватили Сычева, опьянили сильнее спирта, закружили подобно тому, как смерч, закружив, поднимает вверх малый листок или щепку, — и вот уже он летит, оторвавшись от земли, в сладостном и жутковатом упоении — ах, не все ли равно, что будет потом. И уже после того, как прозвучало последнее слово, и умолк последний звук, и наступила тишина, такая пустая, нелепая и неестественная, долго еще судорога сводила ему скулы и горло. Долго еще потом сидел он, опустошенный, подавленный и безразличный, и водил для чего-то дрожащим пальцем по столу, размазывая графит и стараясь протолкнуть внутрь застрявший в горле ком…Тут подошел к нему Татищев и без звука швырнул перед ним лист бумаги.
Все, что чувствовал, не в силах высказать это, Сычев, все, что он мог бы сказать или о чем догадывался, не имея возможности облечь свои догадки и предположения в понятные слова, — все это он увидел изображенным на небольшом пространстве: там было изображено то, о чем говорили музыка и слова. Лицо гения, сломленного жизнью.
Оно было изображено вполоборота. Оно скорее угадывалось, худое и прекрасное; хорошо видна была спина, кружевной воротник и небрежно-изящная завивка парика, и все же главное, самое сильное впечатление производило это угадываемое лицо, полное предчувствий более верных, чем самая большая уверенность. В нем отражались только что отзвучавшие аккорды Реквиема; они еще не угасли, звуки, но уже отрешенно, словно из другого мира, прислушивался к ним их творец, а они отлетали… А рядом, почти вплотную к Моцарту, стоял Сальери — и всякий, кто мог бы увидеть его изборожденное морщинами лицо, запомнил бы его навсегда. Но еше больше, чем лицо, запомнились глаза его: огромные, они смотрели на хрупкого изящного человека, сидевшего неподвижно за фортепьяно, так, словно обладали магическим даром проникновения в будущее; эти глаза были наполнены непритворными слезами, ибо они оплакивали и проклинали это знание, позволяющее им видеть мертвым еще живого, в то время как тонкие и твердые пальцы музыканта уже всыпали в бокал смертельный порошок, хранившийся на крайний случай — теперь он, этот случай, пришел. В этом застывше-текучем лице было все, о чем сказал поэт. Одного в нем не было — злодейства, а кроме этого — все: и долгий путь познания, и мучительные следы, оставляемые творчеством и более всего походившие на сабельные удары, и вечное недовольство собой, и усталость от многотрудного, почти до конца пройденного пути, и не сравнимая ни с чем любовь к музыке, и зависть, и решимость. И сожаление — тот, кто совершает преступление, следуя идее, может иногда испытывать сожаление к жертве. «Прости меня, — говорил этот взгляд, — прости меня, но иначе нельзя. Так надо».
«Что пользы, если Моцарт будет жив и новой высоты еще достигнет…»
Пользы нет. «Так улетай же! чем скорей, тем лучше…»
Пользы — нет…
Безразлично-деланный голос 'Батищева сказал над его ухом:
— Ну что, нравится?
Что-то происходило у Сычева с голосом, когда он отвечал:
— Я б и минуты здесь не оставался, когда б… — И он махнул рукой, — Ни минуты.
— Но ведь остаешься…
— Я, — сказал Сычев и осторожно погладил листок с рисунком, — я… Что я. Что я такое? Веселый Робин — и нее. Стрелок из лука. А ты… — Голос у него прервался.
— Сычев! — донеслось из коридора, а затем распахнулась дверь. — Сычева нет? — И великий экономист Б. Зеленцов возник в дверном проеме, подобно привидению. Он понюхал воздух своим длинным острым носом и сказал: — Пили, мерзавцы. Без меня. А еще друзья… Ну ладно, запомним. А ты, Сычев, к Леве — бегом марш.
Лева — то была кличка главного специалиста по транспорту. Лев Григорьевич Задорнов — так именовался он в официальных документах, а Левой Задовым звали его для удобства, и вот он-то, Лева, бывший однокашник Сычева, и желал официально видеть его в эту минуту — в минуту, когда самому Сычеву менее всего хотелось бы видеть своего однокашника. Но дело здесь было связано с красным карандашом, примерещившимся ему ночью, и, вспомнив про это, он пожал плечами и с сожалением поднялся.
— Мы еще поговорим, — сказал он Татищеву.
— Пошли ты его, — сказал Татищев. — Чего ему от тебя надо?
— Сейчас, — сказал Сычев, — будет решаться вопрос, отправится Одиссей на Троянскую войну или нет.
Великий экономист Б. Зеленцов слушал эту собачью чушь, открыв рот.
— А, — сказал Татищев, — это другое дело. Тогда иди. Иди.
17
— Это совсем другое дело, — сказал Лев Григорьевич. И он приветливо улыбнулся Сычеву улыбкой, в которой принимали участие только губы.
Они сидели в маленькой вытянутой комнатке, служившей главному специалисту кабинетом, причем комнатка эта была столь узка, что спиной Сычев упирался в одну стену, а Лев Григорьевич — в другую, и лица их находились одно от другого на ширину стола. Сычев сидел, вцепившись руками в коленки, изредка поднимая глаза, и тогда он видел неизменную улыбку на лице главного транспортника, улыбку столь широкую и обезоруживающую, что можно было предположить здесь тихую задушевную беседу двух закадычных друзей, если бы не странное несоответствие, которое вносили в эту идиллическую картину глаза: они смотрели недоверчиво, настороженно и даже, более того, с оттенком подозрения, что почти сводило на нет очаровательную дружелюбность улыбки и придавало лицу некое двойственно-недостоверное выражение. Двойственность эта усугублялась еще и разностью положений Сычева и главного транспортника, и это уже сказывалось и во внешнем их облике, потому что, несмотря на равный почти возраст, во внешнем облике Сычева не было и четвертой доли той осанистости и знающего себе цену лоска, что были у Льва Григорьевича. Думая о разнице между собой и им, Сычев испытывал всегда сложную гамму чувств — от зависти до стыда и отвращения к самому себе.
Но сегодня ощущения должны были отойти на задний план, как не имеющие никакого отношения к делу. И они отошли, так что, поднимая взор и видя перед собою широкое лицо с толстенькой колбаской второго подбородка, как бы подвязанного под первым, и чисто выбритые щеки, слишком раннюю желтизну которых еще резче подчеркивал белоснежный ворот сорочки с аккуратным красно-серым узлом галстука, Сычев хотел только одного — как можно скорее и без ненужных разговоров узнать: поддержит бывший однокашник его рапорт или нет. Однако, если слева и вверху красным граненым карандашом будет написано «не возражаю», в этом, и только в этом случае он готов был вести любые разговоры на любые темы; в противоположном случае эти разговоры были бы бессмысленны вдвойне. Но Лев Григорьевич, судя по всему, придерживался несколько иного мнения на этот счет — вот почему на вопрос, поставленный Сычевым с предельной простотой: да или нет? — он улыбнулся одной из своих самых доброжелательных улыбок, в которой глаза все же не принимали участия, и не без живости сказал: «Это совсем другое дело». А затем доверительно наклонился через стол к Сычеву.
— Это совсем другое дело, — повторил он, — Да и нет — сухая материя, не способная удовлетворить нас при решении жизненных вопросов. Конечно, я мог бы сказать «да» или «нет» и ничего при этом не объяснять. Я, пожалуй, так и поступил бы, если бы передо мной сидел только некий Игорь Александрович Сычев, руководитель транспортной группы. Но здесь совсем другое дело, и вы знаете, в чем разница. Поэтому я хотел бы с твоего разрешения — с вашего разрешения, — поправился он, — изложить ряд общих соображений; тогда — кто знает, вы, быть может, все поймете, и мне не нужно будет даже говорить ни да ни нет. Итак — вот ваше заявление: «В связи с подготовкой к первенству мира…» — и так далее; вот ходатайство из Комитета… Кандидат в сборную. Поздравляю… это, должно быть, очень трудно?
Сычев молчал.
— Итак, в случае удачи, вы можете поехать в составе команды на первенство мира… в Соединенные Штаты… Вижу, как вы сжимаете зубы, вижу. Вы глядите на меня исподлобья и думаете — да, да, да, я немного психолог, — вы думаете примерно следующее: сейчас он начнет толковать о плане работ, о сдаче объектов, о том, что сейчас лето, время отпусков, каждый человек на счету, о долге инженера… Что ж… это все есть на самом деле, и все это — вы знаете не хуже меня — вопросы достаточно серьезные. Но сейчас я не буду говорить об этих и на самом деле важных обстоятельствах, как бы важны они ни были. Ибо здесь есть другая более важная сторона — это вы сами. И вот об этом я хочу с вами поговорить, хотя вы, как мне кажется, без особого энтузиазма смотрите на такую возможность. Что ж… я могу понять и это… я не обижаюсь на вас — вы напряжены, вам кажется, что решается самый главный для вас вопрос, и вы готовы мне противодействовать. Вы знаете… — голос Льва Григорьевича странно помягчел, — вы знаете, я чувствую за вас какую-то ответственность. Уж не знаю почему, не знаю… потому, очевидно, что мы вместе кончили один институт и один факультет — с годами это приобретает какое-то странное значение… не знаю. Так или иначе, я не могу себя заставить отнестись к вашему заявлению чисто формально; давайте же и вы помогите мне рассмотреть этот вопрос не с формальной, а с чисто человеческой точки зрения. Вариант первый: я подписываю ваше заявление, — при этих словах он поднял свой неизменный красный карандаш и, описав им в воздухе замысловатую фигуру, опустил на стол. Сычев, проводивший этот полет взглядом и уже собиравшийся облегченно вздохнуть, снова сжал колени и скрипнул зубами.
— Я подписываю, — продолжал меж тем Лев Григорьевич как ни в чем не бывало, — я подписываю, как бы говоря этим да; в конце концов, почему бы мне не поступить так: всем известно, как тяжело пробиться вверх — везде, в том числе и в спорте. Итак, я говорю да, я вас поддерживаю, и вы уезжаете… Первенство мира… это прекрасно. Через месяц вы возвращаетесь. Очень хорошо. А что дальше? Наверняка через некоторое время вы снова придете ко мне с просьбой отпустить вас — ну, уж не знаю куда, в Сухуми, Ереван, Ужгород — неважно. Может такое случиться?
— Да, — сказал Сычев. — Такое может случиться.
— Вот видите, — сказал Лев Григорьевич. — Теперь вы поняли.
— Нет, — сказал Сычев. — Я не понял.
— Да ну? — удивился Лев Григорьевич. — Не может быть. Что ж тут не понять? Вы ведь будете продолжать эти свои занятия, ведь будете. И если они и впредь будут получаться у вас хорошо, вы будете все ездить и ездить… а если у вас не будет получаться так хорошо, как вам надо, то вы, как человек упорный, станете тренироваться все больше и больше, до тех пор, пока у вас снова не начнет получаться хорошо, и тогда все начнется с самого начала, как в сказке про белого бычка. Что же получим мы в итоге?
— Ничего, — сказал Сычев.
— То-то, — примирительно сказал Лев Григорьевич. — То-то и оно, что ничего. А теперь вы вдумайтесь-ка в это слово: ни-че-го. Ужасное слово-то, неприятное. Очень, очень неприятное. Валі ведь не двадцать лет и не двадцать пять. Вам ведь за тридцать… это же возраст. А достижения? Вы извините, что я говорю так, это вполне, может быть, меня и не касается, наверное даже… но мы ведь вместе учились… да и говорю я сейчас так, что вы не вправе на меня обижаться. Чего вы достигли? Я понимаю, вы можете про себя подумать: «А сам-то ты чего достиг, не бог весть чего»… Но это не обо мне разговор сейчас, я еще не достиг, чего хочу, еще нет… но вы… Я не замечаю в вас даже желания… Руководитель группы… Хорошо, хорошо. Но перспективы — где они? Вы согласны со мной?
Сычев молча пожал плечами.
— Согласны, согласны, — закивал Лев Григорьевич, — я вижу. Я давно уже хотел поговорить с вами, давно уже хотел дать вам совет. Надо делать выбор, Игорь Александрович. Пока не поздно. Надо выбирать. Не поздно, — поправил он сам себя, — это не совсем точно. Точнее будет сказать — еще не поздно. Но еще немного — и будет поздно уже по-настоящему. Выбирать, выбирать надо. В жизни всегда приходится выбирать, и выбирать круто: либо — либо. Кто не идет вперед, тот отстает, такова диалектика. Бросайте свой спорт — и за дело. Я готов вам помочь, и я помогу вам. В аспирантуру, в аспирантуру. Работы, нужных, отличных тем — сколько угодно. Поздновато, конечно, но лучше поздно… Через три-четыре года вы защитите диссертацию, а там… — Широко разведенные руки Льва Григорьевича означили необъятные горизонты, которые откроются перед кандидатом технических наук. — Нельзя, — убежденно закончил Лев Григорьевич, — нельзя более терять ни минуты. И, чтобы помочь вам сделать первый шаг, наиболее, как вам известно, трудный, я прошу вас взять обратно свое заявление; взять самому, продемонстрировав этим свою добрую волю. Я еще раз напоминаю вам о времени: сколько вы потеряли его с вашим увлечением! За то время, что вы стреляли из лука, люди работали, учились, двигали вперед науку, поднимались вверх, росли. Вы, конечно, помните Зарембу? На днях он защитил докторскую. А теперь подумайте немного, прежде чем ответить мне…
И он утер с лица пот большим красивым платком.
Итак, Сычеву нужно было ответить. Ответить не как-нибудь, а сильно. Но как-то вяло он себя чувствовал, вяло. «А Лева — он ведь ничего парень. Ничего», — пронеслось у него в голове. Разговор сбил его с толку. Если бы Лев Григорьевич говорил с ним иначе, Сычев, наверное, нашел бы в себе силы разозлиться и ответить резко и твердо. А сейчас…
Он прикрыл глаза и нырнул в зеленую чащу; прямой английский лук висел у него за плечами, чуть-чуть мешая при быстрой ходьбе. Он находился где-то неподалеку от Ноттингема, а шерифом тамошних мест был некий Заремба, который на третьем курсе весь год просидел с ним за одним столом, и Сычеву показалось, что он сейчас видит это лицо с вымученной улыбкой вечного отличника.
— Зануда был этот Заремба, — сказал вдруг Сычев, возвращаясь в нормальный мир. Это, конечно, был не ответ, что и говорить, только ведь и Сычев не представлял, что же он еще в следующую минуту скажет Льву Григорьевичу, а для начала и такой ответ годился. И поэтому он повторил: — Зануда и дурак.
И замолчал. Своеобразное дружелюбие, которое несомненно содержалось в словах Льва Григорьевича, выбило его из колеи. Он не испытывал теперь против него никакого раздражения. Похоже было, что Соединенные Штаты не увидят великого стрелка из лука — бедные Соединенные Штаты, бедная Пенсильвания, и бедный Сычев… Вместо вполне оправданного раздражения, которое было бы в этой ситуации понятно и естественно, Сычевым овладела элегическая грусть. Он должен был ответить Льву Григорьевичу, но теперь ответ должен был выходить за рамки частного, даже если этим частным были Соединенные Штаты.
И тут он услышал звучавшие в нем голоса. Во внешнем мире они были, понятно, не слышны, но внутри него они звучали совершенно отчетливо и громко, оспаривая друг друга и пытаясь заглушить один другого.
Первый голос был громок и трубен, он звучал героически, звал к активным действиям, вперед, на борьбу — и этот голос, так или иначе, приводил его к тому пути, на который направляюще-дружеской рукой подталкивал его и Лев Григорьевич. Звучал этот голос, что было несколько странно, гекзаметром:
«Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…»
Иными словами, голос этот говорил — вперед к высотам, вооружась здравым смыслом и терпением и будучи готовым к различным жизненным бурям и невзгодам.
Ну а другой голос? Он напевал нечто легкомысленное и маловразумительное: «Я птицелов, я птицелов, всегда я весел и здоров». Этот голос никаких катаклизмов не предвещал, ни к каким возможным потрясениям не готовил; он славил радость жизни, солнце и воздух; он был подобен пузырькам шампанского, поднимающимся к поверхности, чтобы там лопнуть и исчезнуть, не оставив следа. Вначале этот голос звучал слабо, его едва можно было различить, но, по мере того как Сычев, возвращаясь из своей последней прогулки, подходил все ближе к тому месту, где в ожидании ответа сидел Лев Григорьевич, этот голос стал слышен столь явственно, что почти перекрыл тот, трубоподобный, а затем заглушил его окончательно. И Сычев понял, что готов ответить.
— Прежде всего, — сказал он, глядя Льву Григорьевичу в красно-серый аккуратный узелок галстука, — прежде всего я, Лев Григорьевич, хочу попросить вас об одном. Что бы вы ни услышали сейчас от меня — не обижайтесь. Возможно, я не смогу с желаемой точностью выразить то, что хочу. Но я попробую сделать это. Я попробую ответить вам и сделаю это так, как смогу. А вы постарайтесь меня понять. И не обижайтесь. Даже если вам покажется, что повод для обиды существует. Я начну с того, что поставлю перед вами три вопроса. И по тому, как вы к ним отнесетесь, я буду знать, о чем говорить нам дальше.
Вопрос первый — думаете ли вы, Лев Григорьевич, что гений и злодейство — две вещи несовместные?
Вопрос второй — как вы относитесь к Гекубе?
И третий вопрос — что, по-вашему, стало бы с миром, если бы Одиссей не принял участия в Троянской войне?
Лицо Льва Григорьевича в самом начале этой речи было доброжелательно-вежливым. К концу же ее оно приобрело замкнуто-отчужденное выражение. Он молча смотрел на Сычева в продолжение минуты или двух. Затем лицо его исказилось, и он сказал разочарованно:
— Ах, бросьте вы…
И брезгливая улыбка, чуть раздвинувшая его пухлые губы, показала Сычеву, сколь болезненно уязвляет человека столь грубое проявление неблагодарного шутовства. Ибо только как шутовство и можно было расценить эти три вопроса. Но Сычев, похоже, был готов и к такой реакции. В тот же момент, едва уловив презрительную улыбку, он простер через канцелярский стол правую руку останавливающим жестом.
— Подождите, — сказал он смиренным тоном, — подождите. Я просил вас не поддаваться чувству. Я просил вас не обижаться. Вы, Лев Григорьевич, конечно, поняли, что разговор наш давно уже вышел за официальные рамки и превратился в нечто иное. Это уже и не разговор даже, а что-то вроде нашего совместного с вами эссе. Это общие наши рассуждения на тему жизни. В конце концов, я не оговаривал форму ответа, я только задал три вопроса. Если вы ничего не хотите добавить, можно считать, что вы мне ответили, — все равно.
Итак, вы сочли все заданные мною вопросы если не просто глупыми, то, во всяком случае, несерьезными и неуместными. При этом ход ваших рассуждений, как я его понимаю, примерно таков: Я мог бы попросту написать на этой бумажке, на этом заявлении «нет, не согласен» или что- нибудь в этом роде, найдя для своей позиции достаточно веские аргументы. Вместо этого я вызываю к себе человека, подавшего заявление. Я говорю с ним — откровенно и дружески. Я указываю ему пути, которыми он должен двигаться, чтобы не остаться ничтожеством, каковым он сейчас, несомненно, является, открываю перед ним перспективы будущего и даю при этом понять, что он может рассчитывать на полное мое понимание и поддержку, ибо только на этом пути ждет его то, ради чего он некогда, так же как и я, поступал в институт, затем учился в нем и вот уже почти десять лет работает, не достигнув, как мы видим, совершенно ничего. И вот, вместо того чтобы серьезным образом ответить, откликнуться на эту искреннюю заботу, на это доброжелательное внимание, он задает совершенно бессмысленные вопросы, цель которых, несомненно, одна — превратить эту беседу в шутовство… Приблизительно так подумали вы, Лев Григорьевич, бросая мне вместо ответа свое «ах, бросьте». Но это все не так, далеко не так, поверьте. Вопросы, которые я задал вам, не случайны. И не вам одному задаю я их. Я задаю их всем и чаще других — самому себе. Сама жизнь задает их всем нам. Другое дело — кто сможет эти вопросы расслышать и обратить их к себе. Ибо вопросы эти, при всей их внешней несообразности, просты, и на них, как на трех китах, держится внутренний мир любого человека, независимо от того, знает он это сам или нет.
Первый вопрос — о гении и злодействе — это вопрос об отношении к самому себе и к своей душе; второй — об отношении к другим; а третий — об отношении к истории, к тем силам, которые участвовали в создании прошлого, а что такое прошлое, как не исток, не начало нашего настоящего и будущего. Вот и все, о чем я спрашивал и что хотел от вас услышать — о вашем отношении к миру. Они, эти вопросы, взаимосвязаны: от того, как вы относитесь к себе, зависит ваше отношение к другим. От отношения к себе и другим — то, как вы относитесь к прошлому, настоящему и будущему. А все это, вместе взятое, говорит о том, что вы за человек, потому что, как вы и сами знаете, эта взаимосвязь является определяющей в нашей жизни. Никогда нельзя сказать, какой наш шаг приведет к самым необратимым, а может быть, и фатальным- последствиям, — а ведь таким шагом может быть и дружеский совет. Но что же нам делать, Лев Григорьевич, если, задавая вопросы, себе ли, другим ли, мы нс слышим ответа? Остается одно — угадывать такой ответ. Угадывать, расшифровывать намеки, говоренные иносказательно. Эта иносказательность мною понимается так — к себе вы относитесь хорошо. Да, вы хорошо к себе относитесь, а путь свой вы считаете не только правильным, но и единственно возможным для человека с дипломом инженера: работа, аспирантура, диссертация, а потом — неоглядные дали. Вот ваше жизненное кредо: у вас все правильно, у вас все хорошо, поступай, как я, иди по моему пути, и у тебя тоже будет, как у меня, то есть все правильно, все хорошо. Мне кажется, я понял вас верно. Теперь я попробую расшифровать ваш ответ на второй мой вопрос, об отношении к Гекубе. И на него вы ответили мне. Ответили, еще того не зная, — тогда, когда вы произнесли уничтожающе-соболезнующее «ничего»… Затем вы сказали — «в ваши тридцать с лишним лет», а чуть позже добавили про Зарембу. «Подумать только, — прозвучало в вашем голосе, — подумать только, он уже доктор наук»…
— Послушайте, — сказал здесь Лев Григорьевич. Лицо его было таким, будто у него внезапно заболели зубы. — Послушайте…
— Нет, нет, — сказал Сычев. — Нет, Лев Григорьевич. Уж вы позвольте мне высказаться. Так вот, что касается Зарембы — я рад за него. Мы оба рады за него. Честь ему и хвала, хотя — вы помните? — у него всегда был такой вид, словно его только что вытащили из воды после неудавшейся попытки утопиться. Но ваш пиетет перед достижениями Зарембы — он, мне кажется, не случаен. Я понимаю его. Он означает, что у вас есть некий критерий, которым определяется ваше отношение к другим, которых мы условно назвали Гекубой. И оно, это отношение, зависит, думается мне, от одного. От успеха. От того, чего сумел достичь человек на пути, который вы избрали шкалой для сравнения. И ценность человека по этой шкале определяется вами очень просто — степенью его возвышения, или, иначе, положением на некой лестнице: чем выше стоит человек, тем он более достоин подражания. Ах, как хороша эта точка зрения! Как она удобна! Кроме того, она заманчиво наглядна: чем выше, тем лучше. Отсюда и просто постигаемое жизненное кредо — вперед и выше. И нет сомнений, что, приняв такую точку зрения — возможную, должен я признать, возможную и вполне понятную, — жить становится много проще, а тем самым и приятней, ибо, прежде чем выразить наше отношение к кому-либо — ну хотя бы к Гекубе, нам достаточно осведомиться — а какую ступеньку она занимает. И если успех ее невелик, мы вправе воскликнуть, почти как тот шекспировский герой: «Да на что она нам, эта Гекуба?..»
Мы подходим к концу, Лев Григорьевич, мы подходим к концу. Потому что и на третий вопрос вы уже, в сущности, ответили. Ведь вы же не подписали мое заявление. Это и был ваш ответ. Но посмотрите, чем чревато вмешательство в события. Подумайте: ведь если бы Одиссей по какой-либо причине не принял участия в Троянской войне — Троя не была бы взята. Не пришлось бы скитаться Энею, и не был бы основан Рим. И уже совсем трудно предположить, что было бы и чего бы не было дальше. Так вправе ли мы становиться на пути того, что должно свершиться? Имеем ли мы право говорить и действовать так, словно нам наперед известны намерения и конечные цели судьбы? Вы могли бы возразить на это, что свобода выбора принадлежит нам самим — тогда хотя бы, когда тем или иным своим шагом мы предопределяем дальнейший свой путь. Но если допущена ошибка? Если направление выбрано неправильно и вместо того, чтобы идти вперед, ты без конца кружишь и кружишь на одном месте — что тогда? К чему, как не к отчаянию, ведет подобное круженье? И разве с точки зрения самого государства — это я уже спускаюсь с высот общих рассуждений к нашему вопросу — не выгоднее гораздо, чтобы в конечном итоге каждый занимался тем, к чему лежит его душа? Разве не мечтает каждый человек о такой работе, где он не считал бы часов, оставшихся до обеденного перерыва или до конца рабочего дня? Человек должен мужественно смотреть правде в глаза — в этом вы правы целиком. «Ничего» — это страшное слово. Так позвольте же человеку стать тем, чем он хочет…
Вот что сказал в своем длинном — немыслимо длинном, на наш взгляд, — монологе Сычев; и вот что пришлось совершенно стоически выслушать главному транспортнику института «Гипроград» Льву Григорьевичу. И он выслушал это в полном молчании, и даже после того, как Сычев закончил, молчание это продолжилось, и хотя выражение страдания в конце уже исчезло с его округлого лица, взгляд его продолжал выражать некую смесь удивления и отрицающей рассеянности.
— Много интересного сказали вы здесь, — произнес Лев Григорьевич наконец, когда молчанию, казалось, уже и не прерваться никогда. — Очень много интересного — и про Гекубу, и про Одиссея… — Тут Лев Григорьевич пожевал губами что-то невкусное. — Занятно было все, о чем вы говорили, да… И я тут было уже приготовил целую речь… знаете, оправдательную даже речь — как-то неудобно стало мне, уж очень складно у вас вышло — я опять про Гекубу и про Троянскую войну… и вот я хотел уже было начать эту оправдательную речь, как пришло мне в голову в свою очередь задать один вопрос. И вопрос этот вот какой. Вот, допустим, идете вы по мосту. И видите, что человек какой-то собирается прыгнуть в воду. Может, он прыгнет — и ничего. А может — насмерть. Может быть, у него и есть даже Какие- то причины поступать так, наверное даже есть… Что же делать?.. Да, так вот мой вопрос: как бы вы поступили в этом вот случае — дали бы ему прыгнуть или постарались удержать?
Теперь пришла пора Сычеву морщить губы.
— Ну, — сказал он, — знаете…
— Нет, вы ответьте, — настаивал Лев Григорьевич, — удержали бы вы этого человека или нет?
— Да, — сказал Сычев, — но какое это все…
— Этим я и занимаюсь, — сказал Лев Григорьевич, и в голосе его звучало полное удовлетворение. — Этим я и занимаюсь сейчас. То, что вы хотите делать, на мой взгляд, столь же вредно, как и прыжок с моста в реку. Я вас удерживаю — вот и все.
Сычев только руками развел.
А Лев Григорьевич закончил:
— Я занимаюсь решением транспортных проблем — всего лишь. При этом я высказал вам свою личную точку зрения.
Могу добавить: время универсалов прошло. Сейчас уже чисто физически невозможно одному человеку преуспеть в разных, тем более отдаленных друг от друга областях; в одной успеть бы. И поэтому — рано или поздно человек должен сделать окончательный выбор. Он должен выбрать себе занятие, профессию на всю жизнь — и в этом его цель.
— О нет, — сказал тут Сычев и покачал головой, — нет. Вы неправы. Профессия — не цель. Человек прежде всего должен быть не певцом, не инженером, не ученым, но человеком. Профессия — не цель, а средство. Счастье — вот цель. Для того чтобы быть счастливым, мы должны быть уверены, что находимся на своем месте. А там само собою получится, что на этом месте мы будем приносить людям самую большую, на какую мы способны, пользу — ибо это будет наше место. Найти такое место — не высшая ли это задача, не прямой ли долг перед собой и другими? Не знаю, что предстоит мне, не знаю. Но знаю одно: сколько бы аспирантур я ни окончил, я останусь тем, кто я есть, — средним инженером. Я не жалуюсь на судьбу. Но я хочу попробовать вырваться за круг очерченных возможностей… Кто знает, может быть, именно сейчас я могу стать чемпионом мира. Может быть, это вообще у меня первый и последний в жизни шанс проверить, способен ли я достичь каких-нибудь высот. А я, не без вашей помощи, этот свой единственный шанс упущу, так и не использовав его. Может быть, именно после него ко мне вернется интерес — изрядно утраченный сейчас, по совести говоря, — интерес к моей инженерной деятельности, и тогда я стану еще и кандидатом, и кем хотите. А может быть, я пойму окончательно, что место инженера занимаю не по праву, и тогда я найду в себе силы начать все с начала и стану учителем истории. А может, этот неиспользованный, единственный в жизни шанс вообще выбьет меня из жизненного седла и я кончу свою жизнь забулдыгой; а может, я пойду в чистильщики обуви. Кто знает? Вы — знаете? Вот у какого перекрестья дорог стоите вы, Лев Григорьевич, со своим красным карандашом. Чтобы с уверенностью говорить: «Надо делать то-то, а не то-то», — надо знать намерения судьбы. Я их не знаю. Но и вы, Лев Григорьевич, вы ведь тоже не можете знать их; я не думаю, что будущее открыло вам свои намерения в отношении меня. Вот почему ваш отказ подписать мое заявление я вынужден рассматривать и расценивать как некорректность не в отношении инженера Сычева, нет, а в отношении намерений судьбы на его, инженера Сычева, счет. А раз так, то я еще раз, но уже в последний, обращаюсь к вам и спрашиваю с простым любопытством: подпишете вы, Лев Григорьевич, эту бумажку, предоставив все остальное времени, или нет?
— Нет, — болезненно улыбаясь, сказал Лев Григорьевич и потрогал свою колбаску под подбородком. — Я не подпишу ваше заявление. А время, как вы сказали, пусть решит, что из этого должно произойти.
— Так, — задумчиво сказал Сычев. — Значит, все-таки нет.
— Нет, — подтвердил Лев Григорьевич и посмотрел на Сычева с интересом. Похоже, что ему нравилось играть роль судьбы.
— Разрешите тогда задать вам еще один, самый последний вопрос, — сказал Сычев, глядя куда-то вверх и вбок. — Что я, по-вашему, буду делать после того, как вы, присвоив себе прерогативы судьбы, учинили мне столь огромный препон?
— Вы, — с великодушием победителя ответил Лев Григорьевич, подхватывая игру, — вы, после учиненного мною вам препона, должно быть, пойдете к директору, и пойдете, на мой взгляд, — добавил он скромно, — совсем напрасно. Вы пойдете к директору и будете добиваться своего. Я угадал?
— Вот видите, что значит брать на себя обязанности судьбы, — грустно качая головой, произнес Сычев. — Вот видите, как трудно угадать даже ближайшее действие наших поступков и решений и как легко попасть здесь впросак. Нет, дорогой мой однокашник Лева, нет, уважаемый главный специалист Лев Григорьевич. Нет. Вы не угадали. Я не противлюсь судьбе. Я подчиняюсь ее указаниям. Именно поэтому я не пойду к директору… — И с этими словами он разорвал свое заявление сначала на четыре части, а затем на восемь, сопровождая свои действия все тем же грустным и как бы задумчивым покачиванием головы. — Нет. Я сделаю следующее. Я встану сейчас. Выйду за дверь. Пройду три шага вправо. Возьму плащ, накину его на плечи и через проходную выйду отсюда… Не знаю куда, — откровенно признался он, — не знаю еще. Может быть, я пойду налево. А может быть — направо. Это я решу сразу, там. Но куда бы я ни пошел, сюда, милый мой однокашник и доброжелатель Лева, — наконец-то я могу назвать тебя просто Левой, как когда-то, Левой, а никаким не Львом Григорьевичем, — куда бы я ни пошел, сюда, к тебе, я больше не вернусь. Никогда. Этот, сегодняшний день прошу тебя считать днем отгула — у меня этих дней отгула штук пять или шесть, вот я и возьму один. Возьму и пойду гулять — налево ли, направо ли, решу потом. И на этом мы с тобой простимся — надеюсь, что на-всегда. Не знаю, как повернулась бы моя судьба и моя жизнь, если бы ты, Лева, друг мой, подписал мне эту бумажку, подписал бы ее своим толстым глупым карандашом; если бы ты просто взял и подписал: «Не возражаю». Но ты не написал этого, и теперь моя жизнь потечет по-другому. Видишь, каков итог твоего решения. Можешь ли ты сказать, что именно этого ты и добивался? Послужит ли тебе, Лева, этот случай уроком? Не знаю, не знаю. Склонен сомневаться. Слишком уж ты доволен собою; слишком уж мало волнуют тебя вопросы о совместимости гения и злодейства; на Гекубу тебе наплевать, а об Одиссее ты просто забыл. Но вот ведь что ты забыл кроме того: перед райскими вратами (а может, это просто наша совесть?) каждому из нас рано или поздно придется подыскивать доказательства того, что мы не напрасно жили на земле. И я далеко не уверен, что самыми вескими доказательствами будут наши с тобой диссертации.
И он повернулся было, чтобы пойти… но голос Льва Григорьевича, необычный, до странного сдавленный голос остановил его, спросив — ну а у него, Сычева, у него самого уже есть такие доказательства? И Сычев честно ответил, что нет.
— Нет, — сказал он, — у меня таких доказательств. Но я постараюсь…
И тут он осекся. Потому что в момент, когда он произносил последние слова, он случайно поднял взор свой и посмотрел в окно, и в ту же минуту, в то же мгновенье все эти слова выскочили у него из головы, и удивленный его запинкой Лев Григорьевич смог увидеть лишь его внезапно перекосившееся лицо, с которого сползали краски. А Сычев все смотрел и смотрел в окно, где перед его глазами несколько секунд назад прошла Елена Николаевна, и он не мог решить, снится ему это или видится наяву. Она шла медленно, время от времени останавливаясь и подбрасывая кончиком туфли первые опавшие листья, и Сычеву показалось, что это собственная его жизнь проходит перед ним.
И тогда, повернувшись к Льву Григорьевичу, он закончил свою фразу.
— Нет, — сказал он. — У меня, к сожалению, таких доказательств нет. Сейчас. Но я постараюсь, чтобы со временем они у меня появились, — Он помолчал и добавил: — Я буду очень стараться.
Вечером того же дня посетители Летнего сада могли встретить человека, который медленно и без видимой цели передвигался по аллеям, подбрасывая первые палые листья носком башмака. Время от времени человек этот усаживался на скамью, и тогда до окружающих долетали звуки, которые, при некоторой живости воображения, могли быть приняты за пение. Странное это было пение: иногда звучала мелодия песенки о веселом птицелове; иногда звучали строфы гекзаметра, уже сами по себе мелодично-песенные, но чаще всего повторялась песня о веселом и вольном стрелке из зеленых Шервудских лесов, и эти слова человек, сидевший на скамье, произносил с особенным тщанием, ибо и сам он в этот день обменял право служебного первородства на чечевичную похлебку весьма туманной и нелегкой свободы. В темноте разносились слова:
Мы будем в зарослях бродить, В волнах густой травы, И слушать звонкий щебет птиц Да пенье тетивы.1970–1972
Испанский триумф
Цезарь разбил последних помпеянцев в Испании. Он на вершине успеха. Но заговорщики уже точат кинжалы…
Ранним декабрьским утром 708 года от основания Рима одинокий всадник пронесся по Яникульскому мосту через Тибр и с той же скоростью устремился дальше, разбрызгивая желтую грязь.
Улицы были пусты. Вообще-то они всегда бывали пусты в такие вот ранние часы: магистраты начинали работать позднее, лавки, таверны, харчевни еще не открыты, а публичные дома уже закрыты. Даже бродяги, просящие подаяния на ступенях храмов, выходили на промысел позднее. И все же… огромный город казался обезлюдевшим, вымершим… словно кладбище.
Однако все объяснилось просто. Накануне весь город принимал участие в празднествах, которые были устроены городскими эдилами в честь царицы Клеопатры, вот уже два месяца гостившей в Риме по приглашению сената и самого Цезаря. Зрелище удалось на славу и стоило немногим меньше, чем какая-нибудь небольшая война. Травля разнообразных животных продолжалась весь день и закончилась боем гладиаторов и таким обильным угощением за счет городских властей, что на следующее утро не осталось в Риме никого, кто не жаловался бы на головную боль с похмелья.
Поэтому появление всадника в темном дорожном плаще, сплошь покрытом грязью, прошло незамеченным. Между тем наблюдательный трезвый взгляд мог бы увидеть здесь немало интересного. Этот всадник, несущийся на измученном коне, изнуренный вид самого всадника, его полная боевая форма, какую носили только в действующей армии, — все говорило о том далеком пути, который пришлось ему проделать. Рог на шлеме означал, что всадник имеет чин корникулария, помощника центуриона, а белые перья на этом шлеме — о важности и срочности выполняемого поручения. Действующая армия… Срочное поручение… Да, здесь было над чем подумать, над чем поразмыслить… Но и думать и размышлять было в это утро некому. Никем не замеченный, всадник добрался до нужного ему дома и осадил коня. Затем постучал.
Он прошел через атриум, оставляя на выложенном мозаикой полу грязные следы. Филемон, секретарь Цезаря, высокий грек с неестественно белым лицом, распахнул дверь. Цезарь сидел за столом. При звуке шагов он оглянулся и встал.
Сколько раз корникуларий Аксий Крисп мечтал о такой вот встрече с великим человеком, не просто в толпе, не случайно, а так, как сейчас, выполняя ответственное и опасное поручение. Сколько раз представлял, что скажет ему Цезарь и что ответит Цезарю он, Крисп. Сколько надежд, самых смелых, связывал он с этой встречей… Но сейчас все слова и все мысли, казавшиеся ему такими важными, Так волновавшие его в начале пути, исчезли из памяти, словно их никогда и не было. Он стоял пошатываясь, и усталость давила его к земле, словно могильная плита. Позднее, придя в себя, он долго пытался вспомнить хоть что-нибудь из этой встречи, хоть какую-нибудь деталь, но тщетно. Одно только он запомнил: каких усилий стоило ему каждое движение. Собрав немногие оставшиеся у него силы, стараясь не качаться, он приветствовал Цезаря, как полагалось по уставу, выкрикнув деревянным от усталости голосом: «Венера и Десятый! Срочное донесение легата Квинта Педия императору Цезарю. Доставил корникуларий третьей центурии десятого легиона Аксий Крисп. Венера и Десятый!»
И он отдал честь. Затем непослушными руками достал из сумки толстый пакет с донесением. Цезарь, не читая, положил его на стол. Аксий Крисп стоял пошатываясь. У ног его образовалась грязная лужа, темные капли продолжали падать на сияющий мраморной белизной пол. На первый взгляд корникуларию Криспу можно было дать не более семнадцати лет. «Совсем еще мальчик», — подумал Цезарь и отвернулся. Длинными тонкими пальцами побарабанил по столу, поглядел на печать. Пакет был отправлен пятнадцать дней тому назад. Следовательно, эти две недели мальчик должен был не спать совсем или спать, не слезая с седла. Он еще раз, теперь уже с явной симпатией, взглянул на корникулария Криспа из десятого легиона: тот по-прежнему стоял, пошатываясь. Глаза его были открыты. Цезарь смотрел на него и улыбался — корникуларий спал стоя.
— Вы свободны, — сказал Цезарь. — Вы свободны, — сказал он громко. Аксий Крисп, не мигая, смотрел на него широко раскрытыми глазами. — Венера и Десятый!
Аксий Крисп вздрогнул, закрыл и открыл глаза.
— Корникуларий Крисп слушает!
Цезарь по-прежнему улыбался. «Семнадцать лет…»
— Отведите его в спальню, — распорядился он. — Поставьте у дверей стражу, пусть выспится.
Секретарь записывал, его неестественно белое лицо не выражало ничего.
— Это все?
— Да. Иди.
Но едва успели за спиной у секретаря закрыться двери, как звонок вернул его обратно.
— Я слушаю, господин.
— Вот что… — Цезарь смотрел в окно.
За окном клубилась, наползая, рассветная муть. Рабы, проводившие Аксия Криспа, вернулись и насухо вытерли пол. Секретарь терпеливо ждал.
— Приготовить приказ о производстве корникулария Криспа в центурионы. Я подпишу. Двойное жалованье выдать за месяц вперед.
— Слушаюсь. — Секретарь поклонился, избегая смотреть на Цезаря. Когда он закрыл двери, лицо его было по-прежнему бесстрастно. Взгляд не выражал ничего. Почти ничего.
Этот просторный, удобный, красивый дом, построенный совсем недавно, стоял в самом начале Священной улицы, на Палатине, наиболее аристократическом квартале Рима.
Окна дома были обращены на запад и восток, так что хозяин при желании мог наслаждаться солнцем весь день. Дом принадлежал Корнелию Бальбу, сенатору и, по его словам, обошелся в немалую сумму, которую, впрочем, Бальб никогда не называл. Завистники — а в них никогда нет недостатка среди людей преуспевших — утверждали, однако, что сенатор, скромно говоря, преувеличивает и что-де все расходы его свелись к оплате останков старого дома, стоявшего на этом месте прежде. Старый этот дом, бывший не таким уж старым, принадлежал ранее одному из приверженцев Помпея-старшего, некоему Либию, сложившему голову в Африке. Год назад дом загорелся и сгорел дотла при обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными. Завистники сенатора Бальба и тут не упустили своего. Некоторые даже более определенно намекали на рабов с факелами и на подозрительное бездействие полиции, расследовавшей причины пожара. Сам Корнелий Бальб, сенатор, банкир и друг Цезаря, мало обращал внимания на злопыхательские слухи, а задевать его более открытым способом никто не решался. Это был человек маленького роста, испанец по происхождению, купец и ростовщик по роду деятельности, всадник по имущественному цензу. На самом деле стоимость личного имущества Корнелия Бальба, как благодаря собственным талантам, так и благодаря многолетней дружбе с Цезарем, во много раз превышала ту, необходимую для получения всаднического ранга, сумму в четыреста тысяч сестерциев. Добрый по природе, Бальб не знал пощады во всем, что касалось борьбы с конкурентами. Может быть, и даже скорее всего именно поэтому, к пятидесятому году своей жизни он, начинавший на пустом месте, стоял во главе целой торговой империи, куда входили такие разнообразные промыслы, как торговля рабами, добыча серебра, морские перевозки, многочисленные кожевенные, суконные и строительные предприятия и финансовые дела. Последние два года он стал понемногу отходить от дел. Почувствовал влечение к роскоши, стал отдавать дань изысканной гастрономии. Построил несколько домов в Риме, еще несколько — под Римом, в горах, еще несколько — на взморье. Стал собирать старинные вазы, древние рукописи, коллекционировать вина…
В это утро он возлежал за столом, завтракал. Сквозь окна в комнату сочился жидкий, как разбавленное вино, свет. Обгладывая крылышко черного дрозда, Бальб размышлял о преимуществах этой птицы перед журавлем и о том, не следует ли задернуть шторы и зажечь светильники. Для этого достаточно было протянуть руку к звонку, но протягивать руку было лень. Дрозд был чуточку пересушен. Сенатор запил мясо глотком лесбосского вина из большой чаши. Серый день за окном навевал тоску и рождал какое-то беспокойство. В такой день ждать хороших вестей не приходится.
Бесшумно появился раб-нумидиец — на серебряном подносе лежало письмо. Бальб вытер салфеткой руки. Взял свиток, кивнул. Раб исчез бесшумно, словно испарился. Разворачивая свиток, Бальб, прежде чем читать, понюхал — если нюх ему не изменяет, письмо было от молодой женщины. Он угадал. Письмо было от Цитеры, замечательной артистки, мимы и первой потаскушки во всем Риме. Сенатор пожевал полную губу, стал читать. Прочитал. Лицо его, меняясь на глазах, становилось жестким. Он поднялся с ложа, оправил тунику. Потянулся к звонку, дернул шнур… Нумидиец появился как из-под земли.
— Тогу! — коротко произнес Бальб.
Чернокожий раскрыл рот, сенатор прервал его тоном, не терпящим возражений:
— Приготовь носилки, быстро! Мы отправляемся к Цезарю.
Нумидиец сверкал белками глаз:
— Господин…
— Ну, что еще у тебя? — раздраженно сказал Бальб.
— Он здесь, господин, — сказал нумидиец.
Дверь раскрылась, и вошел Цезарь.
Они прошли через зеленеющий сад, мимо бассейна с подогретой водой, миновали оранжерею и вошли в кубикулум — небольшую комнату, предназначенную для уединенных встреч. Здесь их никто не мог подслушать. Стены комнаты, отделанные драгоценным черным деревом, отражали пламя светильников. На маленьком резном столике уже стояли кувшин с вином, две массивные серебряные чаши, большое блюдо с закусками. Бальб сел в кресло на самый кончик, стал разливать вино. Цезарь, не мигая, глядел на желтое пламя, вздрагивавшее, словно в ознобе. Бальб снял серебряную крышку с блюда, по привычке понюхал.
— Заливное из павлина, — сказал он.. — Садитесь, мой Цезарь.
Цезарь сел. Лицо его было хмуро. Он молчал. Бальб, наоборот, говорил не переставая, время от времени острым взглядом всматриваясь в лицо Цезаря. «Этих двух вертикальных морщин, — отметил он про себя, — еще недавно не было». Что-то произошло. Ничего хорошего в такую погоду произойти не могло. Бальб почти наверное догадывался, что именно могло произойти; тем не менее продолжал разыгрывать роль ничего не подозревающего простака. Нахваливал вино, заливное. Положил себе на тарелку кусочек павлина, съел, глотая с усилием. Цезарь слушал, маленькими глотками пил вино, которое и в самом деле было превосходного качества. Так продолжалось довольно долго: Бальб шутил, делая вид, что веселится, Цезарь слушал, напряженно улыбаясь. Каждый при этом думал о своем, оба — о том же самом. Первым не выдержал Бальб.
— Цезарь, конечно, осведомлен о многочисленных достоинствах прекрасной Цитеры, — как бы вскользь обронил он. — Так вот, существует весьма реальное опасение, что все поклонники этой прекрасной девушки и замечательной артистки могут лишиться ее общества. В письме, полученном совсем недавно, девушка просит сообщить ей, насколько правдоподобны слухи о некоторых событиях в Испании. Иными словами, насколько велика для Рима опасность, которую представляет армия Помпея, если она и в самом деле существует, эта армия. Ответ на этот вопрос интересует, надо полагать, не только нашу Цитеру, — ничего не выражающим голосом добавил Бальб. — Также надо полагать, что подобное любопытство нашей Цитеры к событиям в Испании имеет иод собой какую-то реальную основу. А раз так, то дело не ограничится, конечно, артистическими кругами, слухи начнут распространяться дальше, и самое, по моему мнению, разумное — это либо пресечь слухи в самом начале, либо подтвердить их. — После этого Бальб уже более прочувствованным тоном вновь вернулся к разговору о вине, которое он недавно получил от своего клиента. — Это вино…
— Покажите письмо, о котором вы говорили, — сказал Цезарь безразличным голосом. — Благодарю вас… Да, а чтоб не скучать, просмотрите-ка вот это. — Коричневый пакет с донесением легата Квинта Педия перекочевал в руки сенатора.
Некоторое время в комнате было совсем тихо. Дочитав пахнувшее духами письмо, Цезарь небрежно бросил его на стол. Ясно, что речь шла о сегодняшнем гонце, о Криспе. Утечка информации — вот как это называется на военном языке. Кто бы это мог быть?.. В памяти Цезаря мгновенно всплыло необыкновенно белое лицо секретаря Филемона, его ускользающий взгляд. Он? Что-то подсказывало, что это так, но Цезарь уже много лет назад приучил себя не придавать значения чувствам. Только факты, только… А фактов пока нет. Он подошел к окну, раздвинул шторы. Окно выходило на площадь с храмом Юпитера-Статора. Огромные колонны из белоснежного родосского мрамора казались грязными в сумерках зимнего дня. На площади не было ни души. Цезарь задернул шторы, обернулся. Бальб внимательно взглядывал в донесение, словно и тут хотел учуять, чем все это пахнет, или — на худой конец — вычитать из него больше, чем было написано. Прочитал, нижняя губа его оттопырилась.
— Итак… — сказал Цезарь.
Бальб не отвечал. Он сидел сгорбившись и был похож на ястреба. Густые брови нависли над глазами.
— Опять Помпей, — сказал он наконец. Помолчал.
Цезарь смотрел на него, стоя у окна. Заложил руки за спину. На безымянном пальце его левой руки был надет перстень Помпея — лев с поднятым мечом на лазоревом поле. Каждый раз, когда при нем упоминали имя Помпея, Цезарь поворачивал перстень. Повернул его и сейчас.
— Значит, опять Помпей, — повторил Бальб. — Одно только и утешает, — попытался пошутить он, — что это не отец, а сын. — И закончил: — Помпей — значит, война.
Цезарь еще раз повернул перстень. Глупая, надо признать, привычка… И тут он увидел перед собой лицо Помпея. Но не таким, каким оно было, когда евнух Пофин принес голову Помпея на золотом блюде и бросил к ногам, словно падаль. Нет. Он вспомнил Помпея тех времен, когда обнимал его как мужа своей дочери, отца ее ребенка: большое, сильное, чуть глуповатое лицо человека, на долю которого выпало слишком много счастья и удачи. Великий Помпей! Помпей Магн! Зарезан, как баран, на глазах жены и сына. И почему?.. Потому лишь, что не хотел быть обязанным жизнью ему, Цезарю. Поверил бывшим врагам больше, чем бывшему другу. И вот конец — еще более жалкий оттого, что мог быть совсем иным. Помпей…
Только сейчас Цезарь заметил, что сенатор Бальб говорит ему что-то.
— … не избежать. Вы согласны?
— Не избежать? — Цезарь отвлекся от бесполезных уже мыслей об участи Помпея. Произнесенные перед тем слова Бальба медленно стали всплывать в его памяти. Итак, значит, Бальб считает, что войны с Помпеем-младшим не избежать. Так?
Бальб подтвердил:
— Да, так, безусловно. Что, впрочем, и к лучшему. Почему я так думаю? Да потому, что это — последний враг. Придется вам сделать это усилие, мой Цезарь, возможно и тяжелое, но нужное, необходимое. Если вы хотите навести наконец порядок на италийской земле, придется преодолеть и это препятствие.
— Война против Помпея будет непопулярна, — сказал Цезарь.
— Вполне возможно, — согласился Бальб. — Тут уж ничего не поделаешь. Придется нам немало потрудиться, прежде чем она станет популярной. Это я беру на себя. Более важно другое — победить как можно скорее. Я полагаю, мой Цезарь, что вам это не доставит больших затруднений. Тем более, — докончил Бальб, — что из донесения видно: семь из тринадцати легионов, стоящих за Помпеем, всего лишь рабы, отпущенные на свободу. Всего лишь рабы, — подчеркнул он.
Цезарь резко повернулся к сенатору.
— Раб, отпущенный на свободу, да еще с оружием в руках — это уже не раб. Вы-то, надеюсь, это понимаете? — И при этом подумал: «Уроки Спартака уже забыты».
Бальб пожал плечами. Этот жест, как ни странно, подействовал на Цезаря успокаивающе — он чуть было не забыл, что имеет дело не с воином. Корнелий Бальб словно подслушал его мысли.
— Я не солдат, — сказал он. — Я купец.
Цезарю только это и было нужно.
— Подойдите, мой Бальб, к этому вопросу именно как купец, — попросил он.
Сенатор был человеком выдержанным, но тут опешил.
— Вы не хотите воевать? Но это же абсурд.
Бальб задумчиво потрогал заливное из павлина.
— Вообще-то дела хороши, — сказал он. — М-мм… Да… Хороши. Но купить Помпея… это, мой Цезарь, предприятие не из легких.
— И все же надо попробовать, — сказал Цезарь.
И он стал развивать свою точку зрения перед задумавшимся сенатором. Помпей ему, Цезарю, как военная сила, не страшен. Но имя, имя… Политически эта война совсем ни к чему. Даже победив, он ничего не выигрывает, ничего не получает, даже триумфа.
— Это почему же? — перебил его Бальб.
— Победа над последним из Помпеев, — терпеливо объяснил Цезарь, — это победа римлянина над римлянином. Хватит уже, что его, Цезаря, считают повинным в смерти одного Помпея… Чем бы все это ни кончилось, ему, Цезарю, как и всем его друзьям впрочем, один ущерб.
— Мой принцип, — пояснил Цезарь, — таков: если можно купить — надо купить. Убить никогда не поздно.
— Иногда поздно, — сказал Бальб.
— Никогда… — повторил Цезарь. И добавил, снова вспомнив о Помпее Великом: — А вот мертвого не воскресить.
Помолчали. Бальб, что-то прикидывая в уме, тер щеку.
— У Помпея долгов на семьдесят шесть миллионов, — сказал он.
— Предложите ему сто.
— Сто он не возьмет.
— Дайте сто пятьдесят…
Бальб дрогнувшей рукой налил себе вина, выпил, не почувствовав вкуса. «Это бесполезно, — думал он. — Бесполезно. Если бы это был кто-нибудь другой, не Помпей…» Вслух же он произнес:
— Даже если Помпей и согласится, ему не дадут это сделать. Другие. Те же рабы, которым пришлось бы вернуться к прежним хозяевам.
— Можно обещать им свободу…
— И тем самым показать кратчайший путь к свободе всем остальным, не так ли? А что скажут те, кому эти рабы принадлежали? А ведь кроме рабов там есть еще Аттий Вар, и Лабиен, и Секст… — Приводя все эти доводы, Бальб напряженно ломал голову, пытаясь догадаться, в чем же действительная причина, по которой Цезарь пытается избежать или, по крайней мере, оттянуть начало военных действий.
Бальб знал Цезаря слишком хорошо, чтобы поверить в истинность тех доводов, которые приводил Цезарь, сколь основательными они бы ни выглядели. Сенатору казалось, что вот-вот он набредет на эту настоящую причину, какая-то мысль пульсировала в нем, то появляясь, то исчезая, и он никак не мог ее ухватить. Вот-вот…
Наступившая пауза растягивалась.
— Кроме того, — сказал Цезарь с некоторым усилием, — мои легионы понадобятся мне еще в другом месте. И легионы Помпея — тоже. Но не в Испании, а там, на Востоке…
На востоке? Бальб вздрогнул, услышав это. Вот оно, это слово, эта причина — Восток! Причем только говорилось «Восток», следовало же понимать — Клеопатра, царица. Любому дураку было все понятно с самого начала. Слухи о том, что Цезарь собирается, завоевав Восток, перенести туда столицу, ходили давно, но здравомыслящие люди, а сенатор Бальб имел все основания считать себя таковым, не обращали на них никакого внимания. Эта мысль была недостойна такого политика, каким Бальб считал Цезаря, но вполне могла родиться в голове человека, охваченного поздней страстью. Если догадка Бальба была правильной, спорить было нечего.
— Хорошо, — сказал сенатор. Голос его звучал деловито, спокойно, — Я отправлю гонца завтра утром. Сто пятьдесят миллионов сестерциев Помпею, амнистия и восстановление в правах остальным. Я пошлю своего лучшего раба, — сказал Бальб, — хотя мне, признаться, будет немного жалко, когда Помпей его повесит.
— Все будет хорошо, — сказал Цезарь с видимым облегчением. — Дорогой мой Бальб, я уверен, что все будет хорошо. — Лицо Цезаря помолодело на глазах, вертикальные морщины над переносицей разгладились.
«Готов поклясться чем угодно, — в немом изумлении думал Бальб, — он уже забыл и о Помпее с его легионами, и об Испании. Цезарь, потерявший голову от любви! Он, никогда не путавший женщин с политикой. Вот уж никогда не подумал бы…» И в то же время Бальб почувствовал, что такой вот Цезарь нравится ему, Бальбу, еще больше.
Вслух же он сказал:
— Все же вы попробуйте заливное, мой Цезарь. И если оно вам не понравится, значит, я зря отдал восемьдесят тысяч сестерциев за этого повара. — И он подвинул Цезарю блюдо. — А что касается участи, которая ждет моего раба, готов предложить вам пари, что его распнут в тот самый день, когда он увидит лагерь Помпея.
— Идет, — сказал Цезарь. — Ставлю три таланта против одного.
И он пододвинул к себе серебряное блюдо.
Раб, посланный Корнелием Бальбом к Помпею, отбыл, сопровождаемый надежной охраной, в Испанию с той быстротой, которой требовало поручение. На двадцатый день послание сенатора было прочитано Гнеем Помпеем-младшнм в присутствии полководцев — Лабиена, Скапула, Аттия Вара, брата Гнея — Секста. Сначала Гней прочитал это письмо сам. А прочитав, пожалел, что он не один, что в палатке так много народа. Все же первым его душевным движением была такая радость, что он сумел сдержать и скрыть ее лишь сильным напряжением воли. Он сидел на возвышении в золотом кресле, у входа в палатку стояла преданная стража, за палаткой, на плацу, раздавались звучные выкрики центурионов, проводивших учения. В душе у Гнея все пело, ему самому внезапно тоже захотелось встать и запеть — так хороша, так прекрасна была в это мгновенье жизнь. И какие, оказывается, подарки могла она делать, когда у тебя за спиной тринадцать готовых на все легионов. Сам Цезарь — не Бальб, конечно, — непобедимый Цезарь пишет ему письмо, предлагая такие условия капитуляции, что они больше походили на триумф. Сто пятьдесят миллионов сестерциев, звание адмирала в предстоящем походе на восток, восстановление всех привилегий, принадлежавших отцу, — и все это сейчас, сегодня, для этого не нужно даже ничего делать. Только два слова нужно написать, передав ответ с тем же гонцом: «Я согласен». Или даже одно слово: «Согласен». Груды золота, целых шесть тысяч золотых талантов, тысячи и тысячи полновесных монет. И можно снова вернуться в Рим — единственный город, в котором можно и стоит жить. Вернуться в Рим… не жалким изгнанником, а сыном Помпея Великого, адмиралом и сенатором. Да, ничего не скажешь, перспектива блестящая. И в то же время, пока его приближенные и друзья — его родной брат Секст, Лабнен, Аттий Вар, Скапул — читали вслух письмо сенатора Бальба, Гней Помпей предавался все более и более радужным мечтам. Все впереди, говорил он себе… И Рим, и деньги, и почет, которым он будет отныне окружен. Настанет наконец день, когда он, Гней Помпей, займет место, принадлежащее ему от рождения. Конец этой бессмысленной, напряженной, безрадостной жизни, конец бессонным ночам, заполненным сомнениями и страхом. Лазоревый адмиральский плащ ждет его, золотой меч в красных ножнах и далекая загадочная Парфия, которую еще никому не удалось покорить…
Полный радостных предчувствий, посмотрел он на своих соратников и друзей. Улыбка стала медленно сползать с его лица. Сползала, исчезла совсем, уступив место сначала недоуменному выражению, затем непонятной тревоге. В палатке стояла напряженная тишина. Слышно было, как ветер треплет над палаткой полотнище штандарта, издалека снова донеслись отрывистые слова команды, бряцание оружия. Внезапно у Гнея закружилась голова, как если бы он увидел под ногами пропасть. Он вцепился в подлокотники кресла, пальцы у него побелели. Стиснув зубы, он овладел собой. Ждал, чувствуя, как с каждым мгновением уходят все дальше и дальше видения, казавшиеся такими близкими…
Первым не выдержал Секст Помпей. Высоким срывающимся голосом, так мало подходившим к его небольшой коренастой фигуре, заикаясь и от возбуждения проглатывая окончания слов, спросил он брата, что думает он об этом бесстыдном послании. А Цезарь — старая лысая свинья, выживший из ума мерзкий и растленный тип, — на что рассчитывал он, посылая им такую бумажку? И что он, его братец Гней, собирается делать с этой бумажкой, какой ответ даст он убийце их отца?.. Младший брат кричал так пронзительно, так громко, что его, должно быть, слышали далеко за пределами палатки.
— Истины ради, — осторожно начал старший брат, с ненавистью глядя на беснующегося крепыша Секста, — Цезарь не убивал нашего отца. Он воевал с ним, верно, и даже был наголову разбит при Диррахии, но, видно, судьбой было предопределено, чтобы Цезарь уцелел. Он, Гней Помпей, отнюдь не собирается здесь восхвалять Цезаря и оправдывать все, что тот совершил, однако справедливость требует признать: в смерти отца Цезарь повинен не более других.
Шея Аттия Вара мгновенно налилась кровью. Это что, в его огород камень? Громадный, весь закованный в железо, подступил он к креслу, требуя ответа — что должен означать этот грязный намек. «Только то, что он и означает», — подумал Гней Помпей. Вслух же сказал, нимало не потрудившись скрыть иронию, что совсем не хотел бы своими словами обидеть кого-либо из присутствующих, и уж менее всего доблестного Аттия Вара. Но того уже было не остановить. Громыхая железом, богохульствуя, то и дело хватаясь за меч, Вар клялся всеми богами, что этого бессовестного мошенника Цезаря следовало бы, как грязного раба, распять на первом же кресте.
— Предложить нам такое… — сказал он с солдатской прямотой. — Подумать только. Да за это кастрировать мало. И нечего ухмыляться уважаемому Гнею. Ему-то, может, вся эта писанина и по душе — еще бы, как с неба сто пятьдесят миллионов и адмиральский плащ! А что прикажете делать Аттию Вару и другим, кто, подобно ему, не жалел жизни, сражаясь против мошенника Цезаря? Что же, начинать все сначала?
— Цезарь гарантирует всем восстановление в прежних правах, — заметил Гней, — а Цезарь не из тех, кто нарушает… — И тут он запнулся. Восстановление в правах… Да ведь для Аттия Вара и ему подобных это пустой звук, ибо никаких прав, которые он мог бы восстановить, у них и не было. Ни прав, ни тем более денег. — А что касается вознаграждения, поскольку похоже, что для уважаемого Вара деньги являются…
— Плевать на деньги, — рявкнул Аттий Вар. Пока он еще в состоянии держать в руках меч, он слава богу, не нуждается ни в чьих подачках. А Цезарь — хитер… награбил полтора миллиарда и думает, что может теперь жалкими подачками купить все и всех. Его, Вара, Цезарю, не купить.
Тут разом заговорили и все остальные — и Секст, глубоко уязвленный тем, что о его правах даже не упомянули, и Скапул, приведший сюда, в Испанию, два легиона африканских ветеранов. Но громче всех кричал и возмущался все же Аттий Вар, полагавший, что Цезарь вполне мог бы предложить ему должность командующего конницей, и насмерть оскорбленный тем, что Цезарь этого не сделал. Каждый из них в принципе не возражал против сделки с Цезарем, тем более, если можно было при этом урвать хороший куш. Но каждому было обидно домогаться этих привилегий там, где Гнею они валились прямо в руки. Кроме того, цифра, названная Варом, — полтора миллиарда сестерциев — повисла в воздухе. Каждый понимал: улыбнись им фортуна, и ворота казначейства не долго оставались бы закрытыми для победителей Цезаря. И тогда каждый, а не только Гней Помпей, мог рассчитывать, что благодарное отечество с лихвой оплатит все их издержки и затраты. Эта мысль, похоже, приходила в голову то одному, то другому, пока не пришла в голову всем одновременно. И тогда, посмотрев друг на друга, они примолкли в смущении. Пришли в себя, снова стали государственными мужами, политиками. Может быть, действительно, это послание надо рассматривать с другой стороны. Скапулу, например, было это ясно с самого начала.
— Непобедимый Цезарь на этот раз просто трусит, — убежденно сказал он. — Будь это не так, зачем ему нужно было бы писать нам? Что-то не помню, чтобы Цезарь кому-либо писал такие письма.
— Это точно, — подтвердил Аттий Вар. — Он там, в Риме, небось обмочился со страха, ваш хваленый полководец. И понятно, ведь у него сейчас за душой только и есть что мешки с золотом. Но против хорошего меча это ему не поможет, разве что он спрячется под подолом Клеопатры.
Только здесь Гней, а за ним и все остальные заметили, что Лабиен до сих пор не произнес ни слова. Он, некогда лучший друг Цезаря, молча стоял, прислонившись к столбу. На вопрос о причине этого молчания он ответил, что. в течение вот уже двух часов, находясь здесь, среди высокоуважаемых полководцев, он сто одиннадцать раз услышал слова «миллион сестерциев» и ни одного раза слова «республика». Ему, Лабиену, кажется, что, при столь ярко выраженном пристрастии уважаемых господ к торговому делу, было бы непростительной невежливостью с его стороны любое вмешательство. Поэтому свое присутствие здесь он считает просто бессмысленным.
И он вышел. Аттий Вар шагнул следом и уже положил было руку на меч, затем передумал, плюнул, вернулся. «Паршивый аристократ», — чуть было не вырвалось у него. Однако он вовремя спохватился: все, здесь присутствующие, кроме него самого, были точно такими же паршивыми аристократами.
— Едва удержался, чтоб не пробить ему башку, — сказал он.
— Надо полагать, наш Лабиен до сих пор не может забыть своего дружка, — желчно добавил Скапул. — Только он, пожалуй, поздно спохватился, вам не кажется?
Гней Помпей промолчал. Он глубоко уважал Лабиена, не побоявшегося порвать многолетнюю дружбу с Цезарем, как только ему стало ясно, что для того слово «республика» пустой звук. Гней знал, что в борьбе за республику Лабиен поставил на карту все: и свое имя, и состояние. Слова Лабиена его смутили. Первое время он был задумчив. Под пологом палатки снова зазвучали голоса. Постепенно лица у всех раскраснелись, голоса охрипли. Незримое присутствие полутора миллиардов сестерциев, лежавших в государственном казначействе, завораживало, кружило головы, сладостно щекотало воображение. Перед этим видением выгоды предложений Цезаря бледнели, казались подозрительными, сомнительными, опасными.
Совещание продолжалось до утра. Утром решение было принято: бесстыдное предложение Цезаря отклонить. Уже расходясь, вспомнили про раба, доставившего письмо. Что с ним делать?
— Придется, видимо, его распять, — рассеянно сказал Помпей, думая о чем-то своем.
Поскольку вопрос был второстепенный, возражать никто не стал.
* * *
Раба распяли. Он висел на кресте, высоко над землей, лицом в сторону Рима, откуда, как ему сказали, он может дожидаться спасения. Справа от себя раб мог видеть укрепленный лагерь Помпея, солдат, выполняющих военные упражнения, палатку со штандартом, — но он не видел. Ни разу не посмотрел он в сторону лагеря. Он смотрел прямо перед собой — туда, где за синеющими вдали горами был Рим. Голова его падала на грудь, поднималась, снова падала… Вот поднялась опять… медленно раскрылись угасающие глаза. «Свобода…» Губы его едва шевельнулись, хотя самому рабу показалось, что он крикнул. Свобода… Он закрыл глаза. Солнце поднималось, грело все сильнее. Раб чувствовал, подходит последняя минута жизни. И снова в который, в последний теперь, раз услышал он голос Бальба: «Ты, наверное, погибнешь, Статий. Но если это случится, помни, ты погибнешь не напрасно. Твоя семья получит свободу, они станут свободными все — твоя жена и сыновья. Они получат от меня свободу, ты понял, Статий, свободу и еще деньги и землю. По десять югеров земли. Поэтому не бойся смерти. Не бойся смерти. Не бой…» Голова его дернулась и повисла. До самой последней минуты он не боялся смерти.
Солдаты — их было двое — наблюдали за тем, как умирает раб Статий.
— Все, — сказал один. — Конец. Надо пойти доложить начальству.
— Успеешь, — сказал другой, — Давай лучше бросим пару раз кости. Ставлю три сестерция. Ты начинай. — Проиграв, он выругался. Посмотрел на раба. — Посмотри на его рожу, — сказал он, — Можно подумать, он доволен, что подох.
Первый солдат ответил, пряча три сестерция:
— Что ни говори, а держался он молодцом. Не пикнул. Ни разу за двое суток.
— Рабы, — возразил второй легионер, которому было очень жалко проигранных денег, — рабы это не люди. Это скорее животные. Поэтому они и боли не чувствуют. Вообще же они, рабы, трусы, зря их набрали в войско, проку от этого никакого. Все равно, увидев легионные знамена Цезаря, разбегутся, как зайцы. Зря только хлеб жрут… — Он распалялся все больше и больше. Дома у него осталась большая семья, еле сводившая концы с концами на двух югерах земли, до пенсии было далеко, а тут еще три сестерция уплыли. Легионер с ненавистью посмотрел на мертвого раба. Ему показалось вдруг, что тот улыбается. Он втянул воздух.
— Смердит, — сказал он. — Да и от живых такой же запах, как от падали.
Первый легионер придерживался более широких взглядов. Он позволил себе не согласиться. В результате возникших на этой почве разногласий один из них лишился четырех передних зубов, у другого оказалась проломленной переносица, из-за чего он получил кличку «Гундосый». За драку оба они получили дисциплинарные взыскания, а через месяц и пять дней были убиты в сражении под Мундой.
Совершив положенные жертвоприношения, легионы Цезаря двинулись в путь. Звуки трубы четко и резко разнеслись и повисли в сыром январском воздухе. Секундой позже сигнал раздался снова, словно отразившись эхом в невидимых горах, — это горны отдельных манипул подхватили сигнал о выступлении и разнесли его по войску. Быстрым шагом по шесть в ряд проходили солдаты. Путь их был далек. Они шли мимо римлян разные, одинаково собранные: щиты за плечами, боевые каски на груди, короткие мечи на правом бедре. Сильный ветер с моря теребил флажки манипул. Когорта за когортой солдаты уходили вдаль, затем скрывались за поворотом. Конница уже была далеко впереди, еще дальше были передовые дозорные отряды.
Впереди первого легиона шагал Цезарь в таком же, как и у всех, тяжелом шерстяном плаще, с каской на груди. Рядом знаменосец нес золотого орла, вцепившегося в древко знамени. Орел был как живой. Пурпурное полотнище звонко щелкало под ветром. Толпа молча глядела на новые и новые когорты, проходившие мимо. Дождались последних солдат. Молча разошлись.
Рим притих. Армия Цезаря шла по Италии, делая по сорок миль за переход. Затем по сорок пять. По пятьдесят. Хорошие дороги кончились, легионы месили грязь. Цезарь по- прежнему шел впереди с непокрытой головой, суровый, неприступный. Никто не знал, о чем он думает. О Помпее? О войне на Востоке? О Риме, оставшемся позади? Он думал о царице, о Клеопатре. Запрещал себе произносить это имя, от которого становилось сухо в горле, от которого судорогой сводило рот. Он произносил это имя снова и снова, широко открытыми глазами смотрел вперед и видел гавань, и синее море, и корабль, исчезающий за горизонтом. Впервые он почувствовал себя старым, опустошенным… Грубый шерстяной плащ печально шуршал за его спиной.
После дневного марша солдаты сбрасывали мешки с провиантом, брались за лопаты. Каждый день повторялось одно и то же: через три часа после остановки вырастал лагерь.
Его окружал широкий ров, его защищал высокий трехметровый вал. В строгом, раз и навсегда заведенном порядке выстраивались кожаные палатки каждого легиона, втыкались в землю флажки, знамена, назначался караул.
У границы Испании легионы перестроились в боевой порядок. Обозы укрылись в середине войска, солдаты сбросили поклажу. Легионы шли вперед, навстречу Помпею. Назад, на Рим, плотной волной накатывали слухи.
В эти дни Рим походил на человека, который боится вздохнуть полной грудью и вдыхает каждый раз ровно столько, сколько нужно, чтобы не задохнуться. Слухи наползали на город, как туман. У одних они пробуждали надежды, других пугали, третьих заставляли задуматься. Марк Эмилий Лепид, которого Цезарь, уезжая, оставил заместителем, все чаще ночевал в лагере преторианцев на правом берегу Тибра. Антоний, запершись в своем новом дворце, день и ночь пьянствовал с самыми непотребными проститутками, не показываясь на люди. После нового года в магистратурах произошла смена властей. Проходившая обычно с большой помпой, на этот раз она совершилась без шума. Все ждали вестей из Испании. И они пришли, эти вести. Все они исходили, как обычно, «из самых надежных источников» и с неопровержимой достоверностью свидетельствовали о том, что при Мунде произошла решающая и единственная битва между Цезарем и Помпеем-младшим; что в результате этой битвы Цезарь погиб, его войско рассеяно, а Помпей со своими легионами движется на Рим; что разбит не Цезарь, а Помпей, и теперь Цезарь добивает остатки его войска у Кордубы; что Помпей не погиб, а только разбит и со своей армией отступил в глубь Испании;
что Цезарь отступил в Галлию;
что битвы не было;
что Помпей переправился в Африку;
и наконец, что Цезарь и Помпей столковались между собой и Помпей провозгласил Цезаря царем.
От этих слухов у среднего человека замирало сердце, кружилась голова. Стали вспоминать недавнее прошлое, запоздало сопоставлять, делать выводы. Вспомнили и про гонца, проскакавшего по Риму декабрьским утром. Корникуларий Крисп это был. Не корникуларий, а центурион. Гай Саллюстий Крисп, наместник Африки, приходится ему дядей по матери. Куда же подевался этот Акснй Крисп? Последнее время его часто видели в доме Цитеры, артистки. Артистка? Ну, знаете, видели мы таких артисток, первая б…., только берет в десять раз дороже, чем потаскушки Сабуры. Центурион Крисп ушел с Цезарем на запад, его видели. А где Цитера? Оказывается, уехала вместе с царицей Клеопатрой по ее приглашению. Это понятно — два сапога пара. Однако вместе с тем и странно…
Где-то в недрах огромного города рождалась паника. Пятьдесят тысяч евреев, запершись в своем квартале, молча ожидали погрома. Рабы зашевелились. Оглядываясь по сторонам и объясняясь знаками, они собирались в кабаках за кувшинами разбавленного вина, проносили под одеждой мечи — не исключено было, что они пригодятся. Девушки легкого поведения, заполнившие все пять этажей дома, некогда принадлежавшего Помпею, а затем по дешевке купленного предприимчивым Антонием, потихоньку по ночам увозили свои полосатые матрасы.
Сенатор Поппилий Лена, огромного роста неопрятный старик, наживший несметные богатства еще на проскрипциях во времена Суллы, решил прощупать общественное мнение. К этому, кроме вполне понятного чисто человеческого интереса, закоренелого интригана побуждали и сугубо деловые соображения. Значительную часть своего капитала сенатор несколько лет назад вложил в испанские серебряные рудники. Другую же часть, не менее значительную, — в земельные участки вокруг Рима. В случае победы Цезаря рудники отходили к государству, зато стоимость земли возрастала во много раз. В случае победы Помпея земля была бы скорее всего изъята для раздачи ветеранам, зато представлялся случай наложить руку на всю добывающую промышленность, используя для этого давние связи с Аттием Варо. м, которого, правда, придется взять в долю. Так или иначе — будущее сулило множество различных вариантов, и к ним нужно было подготовиться. А кроме того, заседая в сенате не один и не два года, он ни минуты не сомневался, что его коллеги, как всегда единогласно, объявят узурпатором демократических свобод того из двух, кому не повезет, победителя же ждет титул спасителя отечества, а может, и того почище.
Принимая во внимание все это, а также и многое другое, был избран план. Несколько рабов сенатора Лены получили приказ, из четвертых рук конечно: сбросить с постаментов две-три статуи Цезаря и столько же Помпея. То, что при этом могло произойти, было весьма любопытным. Таким оно оказалось и на деле. Пока падали и разбивались лишь недавно восстановленные статуи Помпея, все обошлось гладко, совсем иной оборот приняло дело с Цезарем. Несколько ветеранов, случайно оказавшихся на месте, не пожелали быть просто зрителями творящихся бесчинств, так что один из рабов умер еще до того, как вся группа была доставлена в полицию. Едва было упомянуто имя столь уважаемого деятеля, как сенатор Лена, открытое заседание суда сразу объявили закрытым. Дело было весьма скользким. Наконец, после длительного совещания с коллегами, претор Мануций Базил вынес приговор. Как и следовало ожидать, рабов ждала смерть на кресте. Перед этим профос должен был перебить нм конечности. Однако самым важным во всем этом процессе оказалась формулировка: «за непочтительное отношение к изображению высшего лица в государстве..:» А кто же это высшее лицо? Цезарь? Или, быть может, Помпей?.. Эта весьма обтекаемая формула приговора могла быть истолкована двояко или даже трояко. Главным же оказалось то, что имя Цезаря в приговоре упомянуто не было.
Случилось так (по чистому совпадению, конечно), что рабов, которых вели на казнь, повстречала на узкой улочке, неподалеку от трактира «Два меча», толпа других рабов, весьма правдоподобно прикидывавшихся пьяными. Разойтись на улочке было трудно, кто-то кого-то задел, кто-то кого-то ударил… Кончилось это тем, что трое подручных профоса, ведавшие казнями рабов, были убиты. Это среди бела дня! Профос рвал и метал, преступные же рабы скрылись в неизвестном направлении. На окраинах города произошли небольшие беспорядки, а именно: горожане разгромили лавку ростовщика и подожгли публичный дом. Следовало применить твердые меры…
Тем же вечером, возлежа за дружеской трапезой, претор Мануций Базил беседовал с сенатором Леной.
— Если мы желаем сохранить в Риме порядок, — говорил претор, аккуратно складывая возле своего прибора створки устриц, — а мы хотим этого, то мы должны принять самые энергичные меры к розыску и примерному наказанию как бежавших рабов, так и тех, кто стоял за ними.
— Неужели претор думает, что за ними кто-то стоял? — насмешливо спросил сенатор Лена. Грузный, неопрятный, он возлежал напротив элегантного судьи, с неприязнью вглядываясь в его красивое порочное лицо. В руке сенатор держал стакан со снятым молоком, ибо это была единственная пища, которую он мог принимать, не боясь потучнеть.
— Самим рабам никогда до такого не додуматься, — вежливо сказал претор. — Да им это и ни к чему. Другое дело, если бы кто-нибудь заинтересовался общественным мнением. Но такой человек уж никак не может быть рабом. Разве что рабом своего нетерпения, — пошутил он. — Но это нетерпение может кому-то принести массу неприятностей. Мы живем в такое время, когда поспешность много пагубней даже бездействия.
— Как же вы оцениваете все происходящее? — поинтересовался сенатор.
Претор Базил аккуратно выжал на устричную створку ломтик лимона.
— Всякая смена власти сейчас непопулярна, — сказал он. — Это видно хотя бы из того количества доносов, которые поступают к нам на лиц, неодобрительно отзывающихся о Цезаре. Народ, — добавил претор, — да и не только народ, привык к Цезарю, знает, чего он может от Цезаря ждать… Этого нельзя сказать о других претендентах на его место. Народ — за Цезаря.
— Тем более опасным может стать его дальнейшее возвышение…
Претор пожал плечами.
— Зачем гадать о том, что еще может быть, — философски изрек он. — Что касается Цезаря — это дело будущего. Иной вопрос: кто помог преступным рабам скрыться? Не понимаю, — сказал он, — зачем это было нужно. И так пришлось немало потрудиться, чтобы они сказали меньше, чем могли. Просто удивительно, какими разговорчивыми становятся многие, когда им грозят неприятности…
— Ну, не все, — возразил внимательно слушавший последние несколько минут сенатор.
— Не все, — согласился претор. — Но очень многие…
После этого гость заинтересовался коллекцией ваз, которая составляла гордость сенатора Лены. Сам он, признал добродушно претор, не мог бы позволить себе такую дорогостоящую прихоть, как коллекция ваз из коринфской бронзы. Если он не ошибается, каждая такая ваза стоит целого состояния.
«Грязный вымогатель», — подумал сенатор Лена, с ненавистью глядя на порочное лицо красивого молодого человека. И в то же время неприкрытая алчность претора вызывала в нем нечто, похожее на уважение. Это, безусловно, был сильный человек и, значит, нужный. Поэтому голос сенатора был вполне дружелюбен, когда, не без гордости, он подтвердил:
— Да. За шесть таких ваз я заплатил около миллиона сестерциев.
— Красивые вазы, — еще раз признал Мануций Базил и поблагодарил сенатора за отличный ужин.
Жестом сенатор остановил его.
— Я, как вам известно, дорогой Мануций, долгое время провел на Востоке. Поэтому, наряду со многими пороками, присущими тамошним нравам, я усвоил один неплохой, как мне кажется, обычай: подносить гостю все, что ему в моем доме понравится. Поэтому я был бы счастлив, если бы вы соблаговолили принять мой скромный подарок — шесть коринфских ваз.
Претор Базил был смущен. Он не может себе этого позволить, подарок слишком ценный. Сенатор настаивал. Претор колебался: право же, сенатор ставит его в тяжелое положение. Не приняв подарка, претор обидит его, подтвердил сенатор. Обижать такого милейшего человека было бы актом крайне неблагодарным, этого себе претор позволить не мог.
— Ну что ж, — сказал он, сдаваясь, — я принимаю этот подарок как залог дружбы между мной и сенатором Леной. Я очень тронут, очень…
Сенатор проводил дорогого гостя до носилок. Слуги упаковывали драгоценные вазы. Уже сидя в носилках, претор обронил:
— Если бы сенатор на некоторое время отправился в одно из своих многочисленных поместий, то это, надо полагать, всем пошло бы на пользу. Здоровье надо беречь. А еще лучше сделать так, чтобы те, кто может заговорить, лишены были этой возможности, даже если б захотели.
— Они не заговорят, — заверил сенатор.
— Да хранит вас Юпитер. — Претор поднял руку, прощаясь со своим другом, сенатором Леной. Пакет с шестью коринфскими вазами стоял у него в ногах. Это был один из счастливейших дней его жизни.
Сенатор долго смотрел вслед удаляющимся носилкам, пока они не исчезли в темноте, затем грубо выругался. Приказал приготовить все необходимое для отъезда в Тускуланское имение. Вызвал управляющего.
— Те трое должны молчать, — сказал он.
Управляющий все понял, закивал, исчез.
Оставшись один, сенатор Лена стал подводить баланс.
Несмотря на убытки, игра стоила свеч. Ставить надо на Цезаря, это ясно. В душе он почувствовал, как с каждой минутой все более и более становится цезарианцем. Решил прикупить еще один участок земли, который облюбовал уже давно здесь, в Риме, на Квиринальском холме возле Номенантской дороги. В случае удачи эта одна сделка покроет все затраты. А пока что проверка общественного мнения обошлась ему, не считая стоимости тех, кто должен молчать, немногим меньше миллиона. Ну что ж… мудрость всегда обходилась недешево.
Утешившись подобным образом, сенатор Лена тяжело вздохнул и поставил на балансе точку.
Наконец-то! Наконец все выяснилось, встало на свои места. Помпей разбит, рассеян, бежал. Цезарь снова победитель, да иначе и быть не могло. Даже тот, кто не мог, подобно сенатору Лене, вовремя проверить общественное мнение за наличные деньги и некогда склонен был поддаваться сомнениям, ныне эти сомнения отринул раз и навсегда.
Первым узнал об изменившемся положении Цицерон, удалившийся от дел, отсиживавшийся у себя в Астурее, в поместье. Авл Гирций, давний друг, ныне легат Цезаря, не забыл опального оратора, прислал все-таки весточку из Испании. Письмо было датировано апрелем, после битвы при Мунде едва прошел месяц. «Этот Гней погиб, — говорилось в письме, — а Секст оставил Кордубу и бежал в ближнюю Испанию. Аттий Вар тоже бежал, но неизвестно куда, впрочем, это уже все равно. Цезарь прочитал твоего „Катона“ и очень хвалит. Больше ничего нового. Прощай и люби меня. Все».
Старый честолюбец сделал все возможное, чтобы содержание письма стало известно как можно шире. Это ему удалось. Сперва настороженно, затем все более и более радостно внимал притихший было Рим новостям, свидетельствовавшим об окончательной победе диктатора Цезаря. Нет, определенно он находится под покровительством всемогущих богов — теперь это стало всем совершенно ясно и становилось яснее с каждым днем. А раз так, раз сами боги взяли Цезаря под свое постоянное покровительство, не кощунством ли будет со стороны людей сомневаться в божественной избранности потомка Энея! К тому же победа Цезаря над Помпеем означала мир. Мир! Значит, тишина, спокойствие, процветаниє… Раздавались, правда, и трезвые голоса. Они предупреждали: «Теперь-то Цезарь себя покажет, вот увидите. Былым республиканским свободам наступит конец, а Цезарь объявит себя царем», — мрачно вещали эти провидцы. Но их никто не слушал. Что будет потом — это мы еще увидим, а пока что надо подумать лучше, как отпраздновать победу несравненного Цезаря. Задача не так проста, как может показаться с первого взгляда. Главные заботы здесь легли на плечи сената. С одной стороны, не следовало переходить границы установленных предками и обычаями почестей, с другой, и это было ясно всем, новые почести должны превосходить или хотя бы не уступать старым. Тут-то вся беда и была. Казалось, все, чем можно было почтить человека, уже преподнесено Цезарю раньше, вплоть до переименования в его честь седьмого месяца, которому отныне надлежало именоваться — июль. Не говоря уже о золотом кресле в сенате и в суде… Однако вскоре выяснилось, что человеческий ум в изобретательности почти не имеет видимых границ. Не прошло и месяца, а решение было принято и одобрено — прежде всего почтить Цезаря триумфом, затем пожизненно присвоить титул императора. Поднести ему звание «отца отечества», отныне и впредь называть освободителем. После этого словно плотину прорвало — что ни день утверждались нее новые и новые предложения, ибо никто не хотел оставаться в стороне. Было тут утверждено и пожизненное консульство, и пятидесятидневные благодарственные молебствия в честь одержанных Цезарем побед и многое другое. Напрасно Цицерон призывал своих коллег к элементарному благоразумию, напрасно, выйдя из себя, предупреждал об опасных последствиях чрезмерной лести — его никто не слушал. Оскорбленный старик уехал в свое поместье, там от огорчения даже слег.
А преданные умы не жалели сил. Едва один сенатор предлагал разрешить Цезарю пожизненно носить пурпурное одеяние триумфатора, другой тут же добавлял, что и лавровый венок — тоже пожизненно. Объявить дни побед Цезаря национальными праздниками? — Принято! Установить статую Цезаря из слоновой кости между статуями богов? — Принято! Золотую статую Цезаря поставить навечно в храме Квприна? — Принято! Пять золотых статуй Цезарю, и не где попало, а на Капитолии, между статуй легендарных царей… Принято! Принято… Принято. Перерыв на два часа.
Поистине это были нелегкие дни.
А тут наконец появился и живой свидетель событий — Филотим, Цезарев любимчик, командир второго легиона. Герой, храбрец! Левая рука его была на перевязи, в карманах не переводилось серебро явно не римского происхождения. Бравый вояка был нарасхват. Дамы из высшего общества — те разве что не дрались из-за него, и уж наверняка каждая готова была доказать свое восхищение не только словами. Дошло до того, что даже ростовщики готовы были ссудить ему деньги почти без процентов — вещь неслыханная и необъяснимая в обычное время.
Дело было в июне, и, по словам Филотима, Цезарь должен был совсем скоро вернуться в Рим.
Что тут поднялось! Оно, впрочем, и понятно — времени-то оставалось в обрез. Ламия — он был в этот год старшим эдилом, главой городского управления — не спал ночей. На портных обрушился водопад заказов. Каменщики, плотники, землекопы тоже забыли про сон и отдых. Лозунг, выдвинутый муниципалитетом, Гласил: «В этот раз как никогда раньше!» У всех свежи были еще воспоминания о великолепии недавних триумфов Цезаря, года не прошло с тех пор. Неужели сейчас мы оплошаем? Отсюда непреклонная решимость, бессонные ночи и лозунг: «Как никогда…» Время летело с ужасающей быстротой. Иногда эдилу казалось, что солнце заходит лишь затем, чтобы тут же снова взойти, он похудел на двадцать фунтов и продолжал худеть дальше. Срочно был послан заказ на огромную партию диких зверей, ланисты заключили договор на поставку трех тысяч гладиаторов, пригласительные письма выдающимся артистам были посланы во все концы земли, во все провинции. «Как никогда!» И даже римляне, люди, привыкшие ко всему, только моргали, глядя, как рабы скатывают с кораблей дубовые бочки с вином — десять бочек, сто, тысяча, две тысячи…
Повара, повара, повара… Вот кому предстояло блеснуть своим искусством. День близился, день четвертого сентября, день испанского триумфа. Модницы заказывали ювелирам последние украшения, артисты проводили решающие репетиции, повара отрабатывали тонкости меню. Со всего света, из всех провинций, областей, городов стекались в Рим делегации, паломники, просто любопытные. Спекулянты раздулись от золота, сдавая под жилье все, вплоть до собачьих будок. День и ночь не затихал над Римом шум и галдеж. Проститутки работали, не зная ни сна, ни отдыха, они снова въехали в просторный дом Помпея, теперь, похоже, надолго. На виду у всего народа сколачивались обеденные столы — тысячи и тысячи столов. Глотая голодную слюну, бездельники щеголяли друг перед другом названиями диковинных яств, которыми им предстояло вскоре насладиться. «Фригийские рябчики», — говорили они. «Павлины из Самоса». «Ничего нет лучше мелосских журавлей». «К муренам подается хиосское вино». «А я обожаю маринованного ската. Лучшие скаты водятся в Киликии…» «Ягнята из Амвра- кии…» «Вот осетр, это…» «Лесбосское вино лучше…» «А финики…» И так весь день. Атмосфера ожидания накаляла и без того горячий летний воздух. Патриотизм возрастал и возрастал. За несколько дней Цезарь приобрел больше сторонников, чем за предыдущий год. Если прислушаться, никто и не сомневался никогда, что Цезарь победит. «Великий Цезарь» — порхало из уст в уста. Кощунственной казалась даже мысль о том, что еще два-три месяца назад можно было сомневаться в божественности великого Цезаря!
В этой атмосфере, насквозь пропитанной рабским подобострастием, искренним и лживым преклонением, деланным и подлинным восторгом, в атмосфере, пропахшей испанским серебром, ароматами заморских вин и яств, смрадом нечистот, похоти, пота и спекуляций, громом с неба разнесся слух: один из народных трибунов, Понтий Аквила, не встанет во время испанского триумфа. Следуя древним, полузабытым уже республиканским привилегиям, он будет сидеть.
— Ну, а теперь, я надеюсь, вы скажете нам, что все это шутка, дорогой Понтий… — Голос народного трибуна Лоллия был величествен, но звучал не без добродушия. — Эти слухи…
Дело происходило вечером третьего сентября, накануне триумфа, за два часа до захода солнца. В театре Помпея, где собрались все десять народных трибунов, царила живительная прохлада.
— Эти слухи…
Вместо ответа, как этого можно было бы от него ожидать, Понтий Аквила шумно вздохнул, задержал воздух в груди, выдохнул. Он волновался, и это весьма удивляло его самого. «Когда мы с Гаем Кассием и десятком подыхающих от зноя и ран солдат отступали через пустыню, — думал он вместо того, чтоб отвечать, — а парфяне преследовали нас по пятам, я не испытывал страха, и сердце мое билось ровно. А теперь я боюсь. Вот и сердце у меня бьется так, что мои друзья-трибуны слышат, наверное, этот стук и узнают о моем страхе». Не поднимая головы, он окинул всех собравшихся внимательным, пристальным взглядом, глаза его были полуприкрыты веками.
Вот они все здесь, передо мной, народные трибуны, последний оплот республиканских свобод, единственные, кто мог бы сохранить и упрочить свою власть даже при диктатуре. Им бы поддержать его без лишних слов и глупых, ничего не меняющих расспросов. Так нет — стоят и ждут, что он ответит. При этом надеются, что он ответит: «Да. Все это слухи».
Как стараются они показать, что ответ их вовсе не интересует — эпизод, и только. А ведь ради этого лишь и было объявлено сегодня внеочередное заседание коллегии. Вся болтовня о важности предстоящих завтра дел никого не обманывает. Вот слуги народа — стоят и ждут одного, чтобы он успокоил их, сказал, что слухи — это только слухи, что они могут идти домой и спать спокойно. На лице Понтия Аквилы не отразилось ничего, однако внутренне он улыбнулся — есть опасения, что многие из них будут сегодня спать не слишком спокойно. Что ж, их можно понять: каждый из народных слуг достаточно дорого заплатил за свое место, чтобы не волноваться за его сохранность. Если им не удастся отговорить его, кто знает, чем это для всех может кончиться! Они верят в демократию, но боятся Цезаря — уже сейчас, когда ничего еще не произошло! А вдруг он возьмет да и сместит, разгневавшись, всех трибунов, несмотря на их неприкосновенность? Положение таково, что Цезарю никто сейчас перечить не посмеет, так что и пожаловаться будет некому.
— Итак… — В величественном голосе Лоллия прозвучало нечто, похожее на испуг.
Понтий Аквила перевел на него взгляд глубоко посаженных серых глаз.
— Да, — сказал он.
Народный трибун Лоллий смотрел на него, приоткрыв от напряжения рот.
— Что — да? — глуповато спросил он, — Что — да?
— Это не слухи.
Полная тишина была ему ответом. Наступило молчание. «А теперь берегись, — думал Понтий Аквила. — Берегись и жди атаки».
Инстинктивно он прижал к туловищу неподвижную левую руку, перебитую некогда парфянской стрелой. «Сейчас они покажут, эти слуги народа, кто чего стоит». Он всегда чувствовал себя среди них белой вороной, хотя бы потому, что был единственным, кому не пришлось перед выборами рассылать по трибам мешки с деньгами для подкупа избирателей. Да, он был избран честно, тут ни один судья не смог бы придраться, и до конца года он пользуется неприкосновенностью. Ему нечего опасаться, убеждал он себя, даже если все они лопнут от злости. «Конечно, по-своему они правы, считая, что я подкладываю им такую свинью. Противно другое — они еще не знают, как отнесется Цезарь к тому, что я не встану, однако изо всех сил стараются предупредить его гнев. И уж, конечно, не из любви ко мне».
И еще подумал он: «Я поступаю так не для того, чтоб прослыть героем или позлить Цезаря, которого сам считаю великим человеком. Просто не хочу стоять в общем ряду. И только. Поймут ли они?»
И он с надеждой посмотрел на трибунов.
А те словно замерли. Застыли, не двигаясь, в неудобных, неловких, неестественных позах. Лица их выражали недоумение, старание понять, напряженную работу мысли. Может быть, они ослышались? Конечно, ослышались. Взгляд на Понтия Аквплу сказал им: «Нет, не ослышались». Тогда они стали приходить в себя, медленно, с трудом, затем каждый представил себе, чем это ему грозит. Тут они пришли в себя окончательно. О позднем времени и о завтрашних заботах никто не вспоминал. Кто начнет? Начал народный трибун Гай Марцелл. Он был честолюбив, должность трибуна была началом его политической карьеры, а могла стать и концом. Упругими, быстрыми шагами подошел он к скамье, к Понтию Аквиле, попытался заглянуть в узкое лицо с близко посаженными глазами. Деликатно спросил, в чем дело. Позднее время для шуток. Да и шутка не из удачных, коллега не находит?
Коллега не находит.
Трибун Гай Марцелл отступает на шаг. На этом расстоянии он растерял всю свою деликатность, теперь от нее нет и следа.
— За такие слова, — цедит он, — легко потерять очень многое. Голову, например. — Не сдержавшись, он переходит на крик: — Понтий Аквила, ты спятил, что ли? — Он спятил, определенно. Не встать перед Цезарем! Гай Марцелл апеллирует к другим: — Посмотрите на него, он болен, у него, наверное, жар! Так позовите ж ему врача, а не то я сам примусь за работу… — Народный трибун Гай Марцелл явно не владел собой. — Неслыханная наглость! — выкрикнул он. Тут голос у него сел, стал хриплым.
Понтий Аквила, один из немногих, кому посчастливилось вернуться живым из парфянского похода Красса, крикунов не боялся. Остальным трибунам это было известно. Поэтому громкие, а под конец хриплые выкрики Гая Марцелла они выслушали с молчаливым неодобрением. Дипломат из него, прямо скажем, никудышный. Его успокоили, оттеснили в дальний угол, да так, чтоб он не смог оттуда выбраться. Дело было нешуточное. Решение Понтия Аквилы выглядело обдуманным, а раз так — криком тут было не взять.
А взять было нужно.
Если кто понимал это, так Поппилий Лена, избранный месяц назад трибуном на место скончавшегося Люция Флакка. И уж, конечно, дело было не в тех полутора миллионах, которые ушли на выборы, он опасался совсем другого. Коснись его подозрение в том, что он сочувствует этой идиотской выходке Аквилы, и земля, в которую вложены все его сбережения, может быть без выкупа отчуждена для расселения Цезаревых ветеранов. Тогда только и остается что в петлю…
Поппилий Лена подсел осторожно, знаком призвал к молчанию. Речь его была выдержана в проникновенных тонах. Все они, коллеги глубокоуважаемого Понтия Аквилы, понимают, что такой человек не бросает слов на ветер. На коллегу же Марцелла обижаться не стоит. Ибо решение, принятое Понтием Аквилой… м-м-м… как бы это лучше выразиться, ну, скажем, несколько неожиданно для них всех, отсюда и реакция коллеги Марцелла. Кстати, откуда эти сведения о праве трибуна сидеть? Ах, из законов Двенадцати таблиц. Хорошо, хорошо, никто не сомневается, что этот шаг… гм… законен.
— Но отдает ли себе отчет многоуважаемый друг и коллега, — голос сенатора и трибуна звучал с неподдельным волнением, — что этот шаг… Нет, я не отрицаю права каждого поступать согласно закону, но не будет ли это выглядеть демонстрацией? Мы-то понимаем вас, — поспешил заверить он, — а вот другие могут понять превратно. — Другие, надо полагать, был Цезарь. — Им, другим, может показаться непонятным, в чем тут дело. Все стоят, весь Рим, все два миллиона человек, приветствующих великого Цезаря, чьи заслуги…
Сенатор немного увлекся. Натолкнувшись на внимательный, все понимающий взгляд Понтия Аквилы, он поперхнулся и умолк.
«Сказать им все?» На мгновение эта мысль появилась и исчезла. Спокойно, как только мог, трибун Аквила пояснил: не следует придавать его решению иной смысл, чем он на самом деле имеет. Он, народный трибун Понтий Аквила, не встанет не потому, что хочет этим что-либо подчеркнуть, отнюдь, а исключительно желая воспользоваться своим законным правом, что никого ни обидеть, ни оскорбить не может.
— Только воспользоваться правом, — снова повторил он. — И больше ничего.
— Но это же глупо! — Седые брови Поппилия Лены выражали понятное возмущение. — Сознайтесь, это звучит неубедительно. С чего вдруг такая мысль? И потом, поймите, уважаемый коллега, меня правильно, поступок, который вы собираетесь совершить, поневоле бросает, так сказать, тень и на тех, которые…
— Вы тоже можете не вставать, — терпеливо сказал Понтий Аквила, — Так же, как и я, как любой из нас. Имеете на это полное право.
Грузный сенатор поднялся.
— Я полагаю, — заявил он, — что коллегия народных трибунов должна официально отмежеваться от этого шага. — Огромный, негодующий, он отошел, вытирая мокрый лоб.
Все уныло глядели ему вслед — отмежеваться, правильно, но как? Не станешь же кричать на перекрестках…
Время шло.
То один, то другой подходили к Понтию Аквиле коллеги, убеждали, грозили, упрашивали. Всех интересовало, кто стоит за взбунтовавшимся трибуном. В том, что кто-то стоит, сомнений не было, ни один человек в здравом уме не мог себе этого позволить…
Наконец его допекли. Он не выдержал, поднялся, левую, неподвижную руку бережно прижал к себе.
— Вы все ослепли, что ли? — с горечью сказал он. — Да поглядите вы на себя, народные трибуны! Куда мы катимся, если такой пустяк вызывает столько разговоров? Кто за всем этим стоит? Никто, если не считать собственной совести, а она должна стоять за каждым. Есть предел, за которым осторожность становится подлостью, робость — трусостью, нерешительность — предательством. У вас на глазах гибнет демократия. Вы видите это, но, закрывая глаза, говорите: ничего такого нет. Вы слышите это, затыкаете уши и говорите: ничего такого нет. Выйдите на улицы, оглянитесь, что вокруг. Думаете, Римская республика? Ошибаетесь, уважаемые трибуны. Там — Цезарь, Цезарь, Цезарь, Цезарь на всех перекрестках и площадях, во всех борделях и храмах. — Он поднял единственную руку, предупреждая возражения. — Знаю, что вы хотите сказать, Титений Руф. Цезарь великий человек. Я ничего не имею против Цезаря, и не за него я боюсь, а за нас самих. Я готов признать: Цезарь великий политик, прекрасный человек и хороший полководец. Но кто заставляет нас считать его более великим, чем он есть на самом деле? Ну, хорошо, он принес Риму небывалую славу. Он получал за это триумфы — один, другой, четвертый. Пусть он, как вы считаете, заслужил и этот, испанский триумф за то, что отправил на тот свет несколько тысяч несчастных римлян, оказавшихся под знаменами Помпея. Хорошо, — говорю я, — пусть так. Но почему, вопреки всем обычаям, сенат присуждает ему триумф еще до того, как сам Цезарь заикнулся об этом? Куда так спешили господа сенаторы, ответьте хоть вы, уважаемый Поппилий Лена?
Молчание.
— Дурачком прикидывается, — сказал Поппилий Лена как бы вполголоса, однако услышали его все.
Тут Понтий Аквила понял: он говорил в пустыне. Безмерную усталость — вот все, что он почувствовал. Бессмысленно было думать, что он сможет кого-то убедить. А.может быть, он убеждал самого себя?
— Ладно, — произнес он и махнул рукой. — Держитесь от меня подальше, всякий тогда поймет, что вы меня осуждаете.
Именно так они и собирались поступить и без его советов. Но после этих слов вздохнули с облегчением. Значит, и в самом деле никто не стоит за этим дураком. Да он просто правдолюбец, кретин несчастный. Это было много легче. Страх стал проходить, а к самому Аквиле все почувствовали жалость. Облегченно переводя дух, они снова и снова подсаживались к обреченному.
— Плебсу надоела болтовня, — втолковывали ему. — Что для плебея значит республика? Слово, звук, пустота. Другое дело — имя. Чернь, плебеи любят это. Вместо долгих разговоров достаточно выкрикнуть одно имя — и для маленького человека с улицы в этом имени воплотится все: мечты, идеалы, республика и многое иное, особенно если маленький человек сыт или надеется стать сытым вскоре. А истинными властителями остаются те, кто стоит за марионеткой, кто знает направление хода истории.
Понял ли он наконец? Сомнительно. Однако сам заблуждающийся говорит: понял.
— Значит, марионетка? А не кажется ли господам, что однажды марионетка не захочет больше подчиняться тем, кто дергает за веревочки? Вдруг однажды ей захочется дергать самой…
Так вот, оказывается, чего боится бунтарь. Да он просто трус либо же на редкость глуп.
— Есть. много способов избежать такого, — успокоили его. — Стоит только подать знак, — пояснил последние слова народный трибун Флав, — и найдется немало истинных патриотов, которые не потерпят тирании от кого бы то ни было. У нас всегда под рукой достаточно людей, умеющих владеть кинжалом.
— И достаточно денег, чтобы сделать их патриотизм более натуральным, — добавил кто-то невидимый в полутьме.
И все рассмеялись.
«Слепцы!» — поду мал Понтий Аквила, глядя им вслед.
Утром в день триумфа на Остийской дороге было шумно. Едва взошло солнце, люди, протирая глаза, спешили занять места получше. Крик, шум, грохот. Войска в последний раз отрабатывают порядок прохождения. Командиры волнуются: значит, так — первая когорта, вторая, третья, затем несут серебро, затем движется четвертый легион… Красное утреннее солнце почти гаснет в поднявшейся пыли.
Ла.мня, городской эдил, уже более часа ждет приема у палатки Цезаря. Время от времени эдил вопросительно смотрит на секретаря Цезаря Полибия. Прежнего секретаря Филемона недавно казнили, человек с неестественно белым лицом пытался отравить Цезаря. Кто за этим стоял — так и не узнали.
От прежнего секретаря Полибий перенял одно — полную непроницаемость, хотя лицо у него нормального цвета. На этом непроницаемом лице эдил пытается прочесть, как идут дела внутри палатки, каково настроение триумфатора. Прочесть ему ничего не удается. Изрядно взволнованный эдил все сильнее трет череп, редкие волосы разлохмачены в разные стороны. Несмотря на свои сорок шесть лет, он впервые отправляет такую высокую должность. Если Цезарь останется им доволен, через два года можно будет выставить свою кандидатуру в преторы. Ему самому больше хотелось бы заниматься хозяйством в своих многочисленных поместьях, но жена его, шестнадцатилетняя красавица Домицилла, и слышать об этом не хочет.
— Важно положение, а не деньги, — не переставая, твердит она, хотя о деньгах отнюдь не забывает.
Поистине, любовь толкает человека на безумства. Чтобы пройти в эдилы, пришлось заплатить вербовщикам четыре миллиона, половину бессовестные спекулянты положили себе в карман. А теперь, в связи с триумфом, новые расходы — организация зрелищ, угощение, и все «как никогда раньше». Половину расходов оплачивает магистрат, а это значит — эдил.
Наконец его зовут. Он встает, топчется на месте, приглаживает растрепавшиеся редкие волосы.
В палатке, несмотря на ранний час, полно народа. Все говорят, не умеряя голоса, кричат, размахивают руками, просто удивительно, что еще можно что-то разобрать в этом гаме.
Цезарь сидит в кресле, над ним хлопочет цирюльник Тирон, вольноотпущенник, важный человек. Сейчас у важного человека весьма испуганный вид, эдил отмечает это не без тайного удовлетворения. В душе он презирает всю эту накипь, плещущую вокруг Цезаря, однако об этом до норы до времени лучше помолчать: временщики сильны и обидчивы. Иной вчерашний раб более влиятелен, чем сенатор.
На лице у Цезаря приветливо-натянутая улыбка. Первый признак плохого настроения. Время от времени он, словно невзначай, трогает пальцем небольшое родимое пятно на верхней губе. Так и есть — кровоточит. Теперь настроение у Цезаря действительно испорчено. Не хватало еще, чтобы в триумфе он ехал с наклейкой на губе! Проклятый Тирон! Однако он видит испуганное лицо цирюльника, огорчение постепенно исчезает, Цезарь отходит. Каждый раз, когда он сердится на своего Тирона, он напоминает себе: если б не Тирон, быть ему, Цезарю, сейчас на том свете. Чистая случайность спасла его тогда там, в Александрийском дворце, где евнух Пофнн приготовил ему ловушку, а имя этой случайности — плут и пьяница Тирон. Не отправься он тогда по естественной надобности за колонны большого зала, не было бы сейчас ничего, ни победы, ни триумфа. Судьба, видно, и впрямь оберегает его, Цезаря, раз даже переполненный мочевой пузырь раба она выбирает орудием спасения.
Это было не так давно — два года тому назад, а кажется — прошел десяток лет с того дня, как Аполлодор Сицилийский прошел через двор с мешком за плечами, а из мешка пред ошеломленным Цезарем предстала тоненькая девочка с нежными руками. Клеопатра… имя это для него пока еще запретно, однако час придет, придет.
Настроение у Цезаря становится заметно лучше. Он даже отвечает на реплики Антония, хотя, признаться, его солдатские шутки страдают известным однообразием. Затем Цезарь замечает одиноко стоящего эдила, похоже, весьма оробевшего. Цезарь делает приветливый жест, усаживает растерявшегося человека рядом, говорит с ним ласково, ободряюще. Ламия, эдил, известно Цезарю, человек очень почтенного рода и, кажется, изрядный тупица, но зато исполнительный и преданный чиновник. Как подготовлено празднество? Всего ли вдоволь, все ли учтено?
На побледневшем, вытянутом лице городского эдила — рвение и преданность. К тому же у него хорошая, просто отличная память. Не заглядывая в таблички с записью, он называет цифры. Цифры говорят: все в порядке.
Для народа накрыто двадцать две тысячи столов.
Пять тысяч бочек вина поставлено Лептой, его рекомендовал Цицерон.
Раздача денег будет организована по трибам в два приема — перед празднеством и после него, причина в объяснении не нуждается. Музыканты и танцоры провели генеральные репетиции, неполадки устраняются. В этом же разделе римлян ожидает приятная неожиданность — Цнтера, знаменитая артистка, откликнулась на персональное приглашение и выступит в пантомиме.
Тут Цезарь не сдержался, притянул к себе тощего эдила, обнял. Молодец! Городской чиновник пошел багровыми пятнами, руки его дрожали от избытка чувств. Однако он овладел собой, что было нелегко ему по причине неожиданности случившегося и природной застенчивости.
Итак, раздел следующий — зрелища военные: тысяча пехотинцев против тысячи пехотинцев, двести всадников против двухсот всадников, двадцать слонов против двадцати слонов, травля животных — в основном это замечательные львы, которых Квинт Кдлеп захватил в Мегарах.
Голос у эдила был громкий, Цезаре увлекся разговором, остальные — своими делами. Поэтому Фшто не обратил внимания на хмурый вид некоего человека, тот же не упускал ничего. Кассий — вот кто это был, и львы, о которых с восторгом говорил сейчас эдил, это были его львы, их он готовил, собираясь стать эдилом. Цезарь должен бы вернуть ему этих львов, однако не сделал этого. Более того, он соизволил сказать, что-де он, Цезарь, сохранил Кассию жизнь, а она, полагает Цезарь, стоит полусотни львов. Такое оскорбление смывается только кровью. Кассий не из тех, кто забывает обиды, особенно от сильных мира сего. Цезарь еще пожалеет об этих словах, только будет поздно.
Однако пока никто об этом не знает и не догадывается. Эдил продолжает доклад: все приготовления, согласно личному указанию Цезаря, производились открыто, на глазах народа. От себя эдил осмеливается добавить, что эта демонстративная мера явно оправдала себя. Когда пронесся слух, что специальный корабль привез шесть тысяч отборных мурен из Гадитайского залива, даже сенат объявил перерыв и в полном составе отправился посмотреть на такое чудо.
Цезарь доволен. Этот Ламия — дельный чиновник. Его следует запомнить и поощрить. И не так уж он глуп, скорее наоборот.
Вы хорошо справились, дорогой Ламия, — говорит Цезарь. — Очень хорошо, вы прекрасный эдил. Надеюсь, что когда-нибудь вы станете таким же хорошим претором. Я вас не забуду.
По лицу эдила снова ползут багровые пятна, он бормочет что-то неразборчивое, полное благодарности. Стиснув зубы, чтобы не закричать от переполняющей его радости, он откланивается. Скорее в город, обратно. Возможно, он еще успеет шепнуть несколько слов Домицилле.
Цезарь провожает его понимающим взглядом — неужели все влюбленные выглядят так нелепо? А я?
В большом зеркале, свисающем со шнура, он видит свое лицо. Резкие продольные морщины у носа не старят его, наоборот, делают мужественней. Он еще не старик, нет. В зеркало видно также, как Тирон, полный усердия, укладывает волосок к волоску. Проклятая лысина! Но тут уж ничего не поделаешь. Поэтому лавровый венок триумфатора нам очень кстати. Цезарь понимает, что огорчаться из-за лысины бессмысленно, однако каждый раз все-таки огорчается.
Приближается время выхода.
Тирон старается вовсю.
От громких шуток Антония дрожит, грозя обрушиться, палатка. Все смеются, некоторые довольно принужденно, те двое хотя бы, которых Цезарь теперь замечает в дальнем углу. Кассий Лонгин, а с ним Брут, оба высокие, худые… и молодые. «Им еще жить да жить, особенно славная жизнь предстоит тому из них, кого многие считают моим сыном. Сам я иногда верю в это, иногда сомневаюсь, а у Брута голос крови пока что молчит. Но это все равно, в остальном же он достойнейший из всех. Не нравится мне только его тяга к Кассию, человек он, бесспорно, отважный, но еще более бесспорно — слишком обидчивый, а это верный признак отсутствия душевного величия».
Итак, они стоят и смеются.
Однако Цезарю видно, что Кассий просто кривит губы. «Обиженный человек во всем отличим от других, а этот обижен не раз — и мной и судьбой, так что в его глазах различие, возможно, и стерлось. Мне же он не может простить, что я пощадил его по просьбе Брута, хотя я и без того поступил бы так же. И все же Кассий слишком бледен, такая бледность бывает от тщательно скрываемых дум. А как бы я поступил на его месте? Вероятнее всего, организовал бы заговор».
Почему-то эта мысль развеселила Цезаря. Обиженный Кассий Лонгин в роли заговорщика с кинжалом под тогой! При всей своей храбрости он вряд ли пойдет на это — слишком велик риск, а что выиграешь?
А что скажет ему Тирон, не чувствует ли он своим длинным крючковатым носом запах заговора? Вольноотпущенник Тирон, не переставая работать гребнем и ножницами, бледнеет, насколько это возможно при его смуглой коже.
Губы его шевелятся почти беззвучно, однако острый слух Цезаря улавливает ответ. Ну конечно, с тех пор, с Александрии, бедняге Тирону везде мерещатся заговоры. Цезарь произносит это слово вслух:
— Тебе, мой бедный Тирон, теперь до конца жизни будут мерещиться заговоры. — Он смеется. Внимательным взглядом обводит присутствующих.
Палатка уже набита людьми до отказа, дышать нечем. Есть ли среди них некто, способный и в самом деле замыслить заговор? Безусловно, таковой должен быть, ибо любой, находящийся здесь сейчас, обязан Цезарю каким-нибудь благодеянием, этого люди прощать не склонны, отсюда ненависть и заговоры.
— Так кто бы это мог быть, мой Тирон? Уж не наш ли это уважаемый начальник конницы Антоний, он-то обязан мне всем от начала до конца, а теперь он после меня второе лицо в государстве. Или ему не терпится стать в нем первым…
Беззвучный голос раба повторяет за спиной Цезаря, как эхо:
— Да, мой господин, Антоний тоже, но не он главный, он только знает, но молчит.
— Молчит? Это уже немало, мой отважный Тирон…
«Только сведения твои немного устарели» — последние слова Цезарь не произносит вслух.
Месяц назад он получил анонимную записку. Антоний и Долабелла — эти два имени были там названы и подчеркнуты жирной чертой. В густой, блестящей, сверкающей толпе Цезарь без труда находит Антония — тот на голову выше всех, его запас солдатских анекдотов неисчерпаем. Однако сам Антоний не так прост, как хочет казаться. И все же… все же он не опасен.
«Нет, этих двух напомаженных красавцев — Антония и слишком честолюбивого Долабеллу я не боюсь. К тому же они много смеются, да и толсты не в меру. Зато другие слишком молчаливы. Их-то мне и следовало бы бояться в первую очередь: молчаливых, бледных и худых. Вроде тех, что стоят в углу и уже даже не пытаются сделать вид, что смеются вместе со всеми…»
И тут же раздается слышный ему одному шепот:
— Брут и Кассий.
Брут и Кассий?
Мерещится ему, что ли? Ведь не может же этот грек читать его мысли.
— Что ты там бормочешь, почтенный Тирон?
И снова, ощущая теплое дыхание цирюльника на своем затылке, слышит:
— Мой господин, поверь, надежные источники. Заговор, мой господин, Кассий и Брут и еще кое-кто поменьше, верь мне.
Цезарь резко оборачивается, смотрит в темное лица грека.
Он ему сейчас физически неприятен, этот вчерашний раб, весь он, его расплывшаяся фигура, лицо с крупными порами, его большой искривленный нос.
«Прочь отсюда, негодяй!» — хочет сказать, крикнуть Цезарь.
Но не говорит и тем более не кричит. Во-первых, вокруг слишком много народу, а во-вторых, он видит глаза Тирона. В них, в этих коричневых навыкате глазах, он успевает прочесть беспредельную преданность. В искренности этого чувства сомневаться не приходится, в случае чего Тирон теряет больше всех, тем более что он слишком много знает.
Цезарь смотрит в эти преданные глаза и видит в них страх, страх за него.
— Поверь мне, господин, поверь, дело зашло далеко, это опасно.
Тупая боль возникает где-то в затылке и, ломая виски, расползается по голове, давит, вызывая шум и судорожные толчки.
Такая боль в голове у Цезаря всегда перед приступом эпилепсии, они участились за последнее время. Только не сейчас… успокоиться, не давать себе воли.
И он отворачивается от Тирона. Шутка превращается в реальность, а это бессмысленно, просто глупо. Но, вопреки всему, вопреки самому себе, он верит словам грека, чувствует — грек не врет…
И все же…
И все же — нет. Нет, нет и нет, что угодно, только не это… это было бы уже слишком. Кассий — да, но Брут, Брут!
Боль в голове разрастается, бьет в уши барабанным боем.
Цезарь встает. Мимолетный взгляд говорит Тирону: «Об этом позже». Когда все оборачиваются к счастливому триумфатору, то видят лишь лицо, выражающее олимпийское спокойствие. В это время за палаткой тягуче стонут серебряные трубы — это Цезарь откинул полог палатки.
— Да здравствует великий Цезарь, император, непобедимый!
Яркий свет слепит глаза. Солнце, натыкаясь на полированное серебро щитов, пускает во все стороны дрожащие стрелы.
«Только бы прошел этот шум в голове, эта боль, — думает Цезарь, обходя войска. — Брут — заговорщик? Чушь, безумие, ошибка».
— Да здравствует Цезарь, победоносный! — ревут десятки тысяч голосов.
Его солдаты!..
Как они любят его, своего полководца, который с ними всегда, от гнилой палатки до триумфа. Все любят его, все люди, даже этот грек, вчерашний раб.
Шум в голове становится меньше, крики вокруг — все громче.
Цезарь приветствует свои легионы, держит перед ними речь, говорит простыми, понятными для всех словами, благодарит солдат за их беспримерную преданность и храбрость… В это же время думает: да, все его любят, и это только справедливо, ибо справедливо дело, для которого не жалел он своей жизни. Никому он не причинял понапрасну Зла, все его помыслы направлены были к одной цели — возвышению величия Рима. «И тебя самого», — сказал из глубины какой-то голос. Но Цезаря он не смутил. Ибо он, Цезарь, — это и есть Рим в его лучшем проявлении. Так отвечает он невидимому голосу. «Я и Рим — одно и то же». Голос смущенно: «Так ли это?» — «Да, это так. Ты слышишь крики — да здравствует великий Цезарь, наш отец, триумфатор-!»
Ему подают триумфальное одеяние: венок из золотых дубовых листьев, пурпурный плащ, расшитый серебряными звездами. Два белых жеребца запряжены в колесницу — она имеет вид башни, вся из чистого серебра, вся из серебра вплоть до последней чеки в колесе. Нод неистовые крики солдат Цезарь занимает свое место. На запятки становится глашатай, в руках у него пергамент. И вновь пронзительно, тягуче вскрикивают прямые трубы. Затем — беспредельная тишина. В эту тишину падают звонкие слова глашатая: «Не забывай, великий, вознесенный ныне в триумфе, что ты всего лишь человек!»
Оглушительно, надсадно ревут серебряные трубы.
ИСПАНСКИЙ ТРИУМФ НАЧАЛСЯ…
И через каждую милю — это предупреждение: «Не забывай, великий…» Таков ритуал триумфа. Никто, кроме Цезаря, не слышит глашатая, зато все его видят, видят, как шевелятся его губы, краснеет от усилий лицо. Все знают, что говорит сейчас человек, стоящий за спиной триумфатора. Он говорит ему: «Не забывай…ты всего лишь человек». И Цезарь, сидящий величественно в триумфальной колеснице, похожей на башню из серебра, непроизвольно повторяет: «Всего лишь человек».
И все пропадает — на миг, не больше. Лишь человек? Кто знает об этом больше него самого? Все мы — лишь преходящее мгновенье и зависим от случая каждый день и каждый час. «Аксий Крисп, я вспоминаю о тебе в час моего триумфа, копье прошло сквозь тебя и вышло наружу, а предназначалось оно мне. Дубовый венок, положенный вместе с тобой в могилу, вот сколько стоит жизнь триумфатора Цезаря. Мне ли забыть о том, что я лишь человек…»
И снова, едва лишь кончился краткий миг воспоминаний, он слышит за собой тяжелый шаг своих легионов, слышит насмешливую песню, которая полюбилась его легионерам еще со времен войны в Галлии. «Прячьте жен, ведем мы в город лысого развратника», — гремит за его спиной. Эта песня о нем, Цезаре. Он улыбается: «Мои боевые ребята». Ему не нужно даже оборачиваться, чтобы увидеть это великолепное зрелище — четкими рядами по шесть человек идут его ребята, ослепительно сверкая серебряными доспехами, панцирями, щитами, меча. ми, идут его солдаты, ветераны, храбрецы, которым не страшна и сама смерть. Как и для него, Цезаря, сегодняшний триумф для них — особый. Этот серебряный триумф — триумф мира, победы над последним внутренним врагом. Да, в последний раз римляне сражались против римлян, им пришлось это делать во имя спокойствия, во имя окончательного порядка. А кроме того, испанские серебряные рудники отобраны у врагов, они обескровлены, а могущество Рима возрастет. Вот почему он позволил наградить солдат, всех до одного, серебряными доспехами. Вот почему сегодня, вопреки обычаю, в триумфе он не ведет пленных, не выставляет отобранные трофеи. Серебро — и в нем все: и рабы, и трофеи, а также залог могущества, что важнее всего остального. Смотрите, римляне, на груды серебра, вот оно, его проносят перед вами в слитках, россыпью на носилках, в мешках, иод тяжестью которых гнутся спины мулов. Горы серебра — вот что я принес вам, граждане Рима. Война с Помпеем была праведной войной, и триумф присужден Цезарю не зря, вот что должно говорить это серебро.
Ионо говорит. Восторженными криками встречает толпа, выстроившаяся вдоль дороги, шествие серебряного воинства. Каждый считает себя в какой-то мере совладельцем бесчисленных сокровищ, проплывающих мимо него. И они, эти люди, самозабвенно кричащие «да здравствует…», они не ошибаются. Сегодня еще до захода солнца каждый свободный гражданин Рима получит по триста сестерциев. Чтобы заработать их иным путем, нужно полгода. Поэтому искренность народной радости не поддается сомнению. И Цезарь это знает. Пусть завистники утверждают, что он, Цезарь, всегда и все покупает — пусть. Он-то знает, что всегда при этом платит наличными и большей частью — из своего кармана. И если любовь народа к нему искренна, то не все ли равно, какой ценой это будет куплено, лишь бы эта цена была ему по карману.
А она ему по карману.
И он плывет дальше по серебряной реке, при этом словно паря в воздухе, где приветствия на латинском языке сталкиваются с языком греческим, арамейский — с арабским. Белоснежные тоги сотен тысяч людей — это берега серебряной реки, приветственные крики — попутный ветер, колесница из чеканного серебра — счастливый корабль мира.
А процессия уже достигла черты города. Переступила ее, двинулась дальше. Здесь, в узких улицах, ее ход замедляется. И здесь, еще с большей силой, чем прежде, вспыхивают приветствия, все пестрит, переливается, движется. Но вот видны уже трибуны, избранные из избранных разместились там.
Процессия с трудом поворачивается, меняет направление, движется туда, к трибунам. Мощные цепи воинов охраны едва сдерживают напирающую толпу. Путь триумфальной колесницы устлан лепестками цветов. А вот и трибуны. Десятки тысяч наиболее достойных граждан приветствуют триумфатора стоя, вытянув правую руку вперед. Они возглашают:
— Да здравствует Цезарь, — триумфатор, непобедимый!
Внезапно Цезарь ощущает некую перемену, замешательство в плавном течении событий. Вот два офицера, возглавлявшие эскорт, замедляют ход, сдерживая коней, затем в полной растерянности останавливаются. Цезарь хмурится — в чем дело? Один из офицеров поворачивает коня, приближается, на лице его — страх.
— В чем дело? — повторяет Цезарь.
У офицера серое лицо, а губы трясутся так, что он трижды начинает одну и ту же фразу.
— Там (это у него звучит, как там-там-там), — он кивает головой в сторону трибун, — там один сидит…
— Что? — не понимает Цезарь, — Сидит?
Офицер кивком подтверждает — сидит.
— Так чего же вы ждете? — непривычно резким голосом спрашивает Цезарь. — Вы — офицер… За уши его… Возьмите его за уши и поставьте!
Офицер, наклоняясь:
— Император, я не могу. Это народный трибун Аквила.
Вот оно что! Боль хищной волной окатывает Цезаря. Неприкосновенный трибун, всякий, поднявший на него руку, подлежит смерти. Этого следовало ожидать, этого или чего- то подобного. Офицер вопросительно смотрит. Цезарь хорошо видит этот взгляд, в котором сквозь растерянность все более явно проступает решительность. Прикажи он — и офицер, не задумываясь, выполнит его, Цезаря, приказ, каков бы он ни был. На мгновенье, не больше, у Цезаря появляется желание отдать такой приказ. Однако уже в следующее мгновенье он понимает, что этого приказа он не отдаст, это просто невозможно. И тут же он замечает наступившую тишину — после бури звуков, еще минуту назад сотрясавших воздух, она кажется еще более неестественной. Цезарь мгновенно оценивает обстановку — вот какова преданность этих крикунов. Нет, нельзя даже показать этому слишком преданному офицеру, что мысль об аресте народного трибуна могла прийти ему в голову.
— Хорошо, — произносит Цезарь.
С этими словами покидает колесницу. Идет к трибунам, к тому месту, которое отгорожено от остальных толстым деревянным брусом. Каждый шаг дается ему с огромным трудом, словно за плечами нестерпимо тяжелая ноша. Приподнятого настроения, торжественности как не бывало. Только усталость чувствует он, страшную усталость и непонятное ему самому безразличие. Он знал, что так будет. Не следовало ему поддаваться на уговоры сената, не нужен был ему этот сомнительный триумф. Теперь уже поздно сожалеть. Поздно. Он идет, тяжело ступая в своем великолепном одеянии триумфатора, пурпурный плащ, затканный серебряными звездами, волочится по пыли. Он подходит к тому месту, где стоят девять народных трибунов, ловит их настороженные взгляды, эти взгляды сопровождают Цезаря и останавливаются вместе с ним у того места, где сидит народный трибун Понтий Аквила. Сидит один — среди тысяч и тысяч стоящих.
Цезарь подходит к нему, почти вплотную подходит он к толстому деревянному брусу. Делает еще шаг, берется рукой за брус, вглядывается в сидящего. Видит коротко подстриженные волосы, уже тронутые сединой, крепкую шею, видит настороженный взгляд слишком близко посаженных глаз. Глядя прямо в эти глаза, Цезарь спрашивает у сидящего, как же это выходит, что он, народный трибун Понтий Аквила, не хочет встать перед тем, кого сам римский народ и сенат почтили триумфом. Он задает этот вопрос негромко, но в полной тишине, опустившейся на площадь, голос Цезаря расслышали многие. И замерли, с жадным вниманием ожидая ответа. Напрягли слух. Но ответа не последовало. И тогда, пытаясь побороть закипавшую в нем холодную ярость, Цезарь повторяет свой вопрос: почему Понтий Аквила не желает стоя, как все, приветствовать его, Цезаря, триумфатора?
Стиснув зубы, молча сидит перед ним Понтий Аквила. Он глядит уже не на Цезаря, а на его руку, с силой сжимающую деревянный брус. На этой руке, на безымянном пальце он видит перстень — лазоревое поле и лев, поднимающий меч. Вот и все, что осталось от Помпеев — от отца и сына, — перстень на руке победителя. И триумф за это. Та же участь уготована всем, кто не согласен с Цезарем, если сейчас он этого еще не говорит откровенно, то и противодействия уже не терпит. И почему-то его жаль, он противится неправедным поступкам, но, противясь, все же будет их делать, следовательно, республику ожидает участь Помпея. «Скажи мне, что это не так», — подумал он и с трудом отвел глаза от руки с перстнем. Поднял их на Цезаря, встретил его непреклонный взгляд. «Он не понимает…»
Вслух он произносит: сидеть ему позволяют законы республики, Цезарю ли об этом не знать? «Помни, — без слов умоляет он Цезаря, — и покажи, что ты не таков!»
А Цезарь думает: «Вот оно что! Они напоминают мне о республике… сейчас, в этот миг». С ненавистью оглядывает он притихшую площадь. Лица, лица… все они притаились, замерли, молчат. Ждут, как он съест это… Подлая толпа, продажная свора… ждут подачек, денег, хлеба, готовы лизать руку, дающую это, но не упускают случая руку укусить. Нажравшись, но только после этого, вспоминают о своих республиканских правах. Республика?
— Так не вернуть ли тебе еще и республику, Понтий Аквила, народный трибун?
Громко раздались эти слова над молчащей толпой.
Ответ расслышал только тот, кому он предназначался.
— Республика — не Помпей, — тихо сказал Понтий Аквила. — Поэтому ее нельзя победить. И это не вещь — поэтому ее нельзя ни отобрать, ни вернуть, Цезарь. Даже такому человеку, как ты, это не под силу.
Но Цезарь уже не слушал последних слов. Большими шагами вернулся он к своей колеснице, похожей на серебряную башню, кони взяли с места, вновь прозвенели трубы. Взметнулась пыль.
Цезарь смотрел прямо перед собой. Республика… Да, Корнелий Бальб прав — народ понимает и поклоняется только силе, доброту же принимает за слабость. Он, Цезарь, был добр. Долго, очень долго.
Слишком долго. Но теперь — все.
Огромная площадь быстро пустела. Люди расходились, смущенные всем виденным и слышанным. Здесь было над чем подумать, была б охота. Остался лишь народный трибун Понтий Аквила. Одиноко сидел он на прежнем месте. О чем- то думал, машинально водя стилем по деревянному брусу, который уже не ограждал никого.
Он сидел и смотрел в ту сторону, куда много часов назад ушла триумфальная колесница, целиком сделанная из испанского серебра. И ему было горько.
Наконец ушел и он.
На толстом полированном брусе из редкого дерева осталась надпись. Четким, прямым почерком там было выцарапано всего два слова:
«ЗНАЧИТ — КИНЖАЛЫ…»
1984 г.
Дорога на Чанъань
Повесть о китайском средневековом поэте Ду Фу и его деятельности во время восстания Ань Лушаня.
Глава первая
Краем глаза старик увидел человека над обрывом. И узнал его. Это был тот самый слуга с глупым и наглым лицом, который при всех обозвал его однажды нищим попрошайкой. Нищим он и был, но не попрошайкой. Нет. Ни сейчас, ни в иные времена, куда более тяжелые. Поэтому он затаил обиду, хотя давно уже понял, что обижаться на глупых людей бесполезно.
И все же…
Вот почему он никак не дал понять тому человеку над рекой, видит он его или нет… И скорее даже нет, не видит. Не видит и не хочет видеть. И не слышит — он глух, это знают все.
Он и в самом деле терял слух все больше и больше, левым ухом слышал совсем плохо, но не настолько, чтобы вовсе не услышать пронзительных криков слуги. Но он мог себе позволить не слышать их, если не хотел.
Он не хотел.
Когда, спустя некоторое время, он незаметно скосил глаза, то увидел, что берег над обрывом пуст. Значит, этому наглому и толстому дураку придется пойти в обход почти четыре ли — полчаса тишины и спокойствия, не меньше.
Старик довольно ухмыльнулся…
День обещал стать удачным. Легкая волна игриво покачивала старую джонку. Вода в реке была зеленой и прозрачной. Старик неловко, левой рукой, забросил сначала одну леску, затем вторую. Быстрое течение сразу же подхватило их и стало подбрасывать легкие поплавки, утащив их наискось от джонки, к перекатам, где и водилась форель. Прищурив слезящиеся глаза и приложив ладонь козырьком ко лбу, старик некоторое время вглядывался туда, где, вздрагивая и блестя, бились ярко раскрашенные поплавки из пробки. Поплавки эти подарил старику сосед, сапожник по имени Вэнь И, живший неподалеку. Он же подарил и вот эти удобные башмаки из козьей кожи, украшенные замысловатым узором. За что же?.. «За честь, которую вы, почтенный учитель, оказали неграмотному семейству Вэнь своей добротой и дружбой». Итак, есть еще люди, которые гордятся знакомством с ним, старым, больным, ни к чему уже не пригодным человеком — неудачливым чиновником, забытым поэтом, который дожил до того, что сытый и наглый слуга при всех назвал его попрошайкой. Чем же может он отплатить этим бесправным и вечно голодным людям за их доброту? Стихами и песнями? Да… стихами и песнями… Только нужны ли стихи и песни — его стихи и его песни — людям, которым каждый второй день нечего есть?
Они нужны им, это он знает твердо.
Колокольчики, привязанные у самого борта, издавали непрерывный мягкий звон. Этот звон старик слышал. Он был ему приятен, он завораживал, усыплял, навевал печаль и спокойствие, отвлекал от горьких мыслей о прошлом — горьких и бесполезных. Старик слышал этот мягкий звон, потому что он хотел его слышать. Да и вообще он многое слышал, несмотря на свою глухоту. И, хоть глаза были больные, вечно слезящиеся, многое видел. И много запомнил — много больше, чем кто-либо мог предположить.
Слишком много… Это старило его не меньше, чем прожитые лета. Все эти годы, скитаясь с толпами обездоленных и несчастных людей меж двух великих рек, сколько видел он горя и нищеты. Сколько смертей и несправедливостей, насилия, жестокости… И это все он запомнил, и о многом передумал, и многому произнес свой приговор в строчках, которые когда-нибудь будут прочтены. Когда это произойдет, его уже не будет на этой земле, но имя его — Ду Фу — станет в один ряд с бессмертными именами Цюй Юаня и Ли Бо — выше имен сегодняшних героев, генералов и министров.
Как Цюй Юань и Ли Бо!
Первый был для него образцо. м величия духа, второй — образцом живого гения, при всем том, что он был еще и другом. Единственным, пожалуй, настоящим другом, который понимал его до конца. Но и его уже нет, он взят богами на девятое небо и там пирует, ожидая встречи со своим старым Ду Фу, чтобы продолжить с ним беседы о поэзии. О стихах и вине…
Нет великого Ли Бо. Но и великого поэта Ду Фу тоже нет, а есть больной старик по имени Ду Фу, сидящий на дырявой джонке, которая давно бы уже утонула, не будь она наполовину в прибрежном песке. Есть никому не нужный старик, пытающийся поймать хоть несколько рыбин, чтобы не пришлось идти в селение за лепешками в обмен на стихи и песни.
Но попрошайкой он не был никогда.
Солнце, перешагнув зенит, чуть подалось к горизонту. Лучи его, пронизывая воду, заставляли ее переливаться теплым изумрудным блеском. Но сама вода оставалась холодной. Родившись высоко в горах, среди чистых снегов, она еще хранила запах ледников и угрюмость одиноких скалистых ущелий. Река называлась Синьцзян. Она брала начало в неведомых высотах Тибета — неведомых и недоступных для человеческого глаза. Здесь река была еще узкой и стремительной и только потом, ниже, становилась широкой, успокоенной, неторопливой, теплой, теряя при этом чистоту и меняясь в цвете.
Колокольчики по-прежнему звенели ровно и усыпляюще. Было жарко, но здесь, у воды, жара эта умерялась мягкой речной свежестью. Слева, из-за поворота, ветер доносил приторный аромат цветов — там, за живой изгородью, находился огромный дом, принадлежащий Чжун Вэю, почтенному купцу второй степени. Время от времени оттуда, из дома, приходил — вот так, как сегодня, — один из слуг и передавал старику приглашение от хозяина. Это означало, что у почтенного Чжун Вэя снова собрались гости, такие же купцы, как и он сам, и что они желают во время изысканного обеда, перед выступлениями танцовщиц, усладить свой слух стихами и песнями.
Толстый заносчивый слуга никогда не мог понять, почему его высокочтимый хозяин всегда зовет именно этого оборванного и грязного старика с реки, этого нищего, с его скрюченной параличом рукой, не имеющего даже второго платья, чтобы переодеться перед приходом в приличный дом. Кстати, и сам почтенный купец тоже не совсем понимал, почему он так поступает. Может быть, он делал это из сострадания к человеку, у которого однажды увидел серебряную пластинку, говорившую о его потомственной принадлежности к классу чиновников?.. Нет, действительно, почему он, купец второй степени Чжун Вэй, предпочитал всем прочим именно этого… как его… Ду Фу? Наверное, все же не за его голос, скрипучий, как старое мельничное колесо, и хриплый, как карканье простуженного ворона. Да и на семиструнном цине старик играл без особого блеска. И все же было в этом старике нечто такое…
Не раз пробовал купец Чжун Вэй объяснить себе, что же это… но не мог. Старик никогда и ничего у него не просил, так что купец чуть ли не силой заставлял его брать две-три связки медных монет, доу риса или смену платья. «Вот что значит благородное происхождение, — решил наконец Чжун Вэй. — Вот что значит иметь тринадцать поколений предков». Сам почтенный купец, не опасаясь никаких последствий, мог выставить на своих табличках только одно имя — своего отца, разбогатевшего на спекуляции солью и перед самой смертью купившего себе диплом купца второй степени.
И все же дело тут было не только в предках. Тому, кто был богат так, как Чжун Вэй, предки были, конечно, нужны, но не так уж сильно. У него были деньги, и не какие-нибудь там гуани — связки медных монет с квадратными дырками посредине, — а полновесные золотые — неприкосновенная сумма, зарытая в надежном месте, и еще сотни тысяч, вложенных в дело. Он был совсем не прост, этот маленький суетливый человек с вечно извиняющейся улыбкой на лице. Он стоил теперь дорого. Он всего достиг сам, ибо от отца унаследовал лишь диплом купца и кучу неоплаченных векселей. Он начал с продажи сверчков и бойцовых петухов для дворца, а теперь имел больше власти (и уж наверняка больше денег), чем, быть может, сам заместитель градоначальника…
Но вот перед оборванным и молчаливым стариком он, всесильный купец Чжун Вэй, робел.
Он очень мало учился, бывший торговец сверчками. С трудом читал и с трудом писал — ровно столько, чтобы поставить свою подпись и убедиться в подлинности чужой. Все остальные дела он держал в голове — все до одного. Он знал, сколько ху зерна перемалывают его мельницы, сколько войлока выпускают его мастерские в Чэнду, какой доход приносят торговые ряды в Чанъани и какой — красильные предприятия в другой столице, Лояне. Но он не учился… Не мог, не успел. И этот недостаток в его собственных глазах никак нельзя было ни восполнить, ни даже купить. Вообще- то, купить, как оказалось, можно было все или почти все — любовь невинной девушки, дружбу важного правительственного чиновника, нож наемного убийцы, — вопрос был лишь в цене… Но умение слагать стихи… Такого товара не значилось ни в одном каталоге торговых фирм.
Как незаживающая язва, мучил почтенного купца недостаток образования. Наконец, выложив, где надо, тридцать семь тысяч золотых монет, он купил себе звание юаньвая. Теперь он мог — хотя бы перед другими — считать себя человеком ученым, ибо недавним указом императорской палаты чинов и состояний звание юаньвая приравнивалось ко второй ученой степени — цзюйжэнь, которая означала, что обладатель ее — «почтенный сын и прекрасный человек» — является кандидатом на замещение должности в ранге чиновника восьмого низшего класса.
Плевать ему, Чжун Вэю, на должность чиновника низшего, восьмого, класса, но звание кандидата… Его дети смогут надписать это звание на своих фамильных табличках.
Сегодняшний праздник в доме Чжун Вэя был посвящен именно этому знаменательному событию. Весь день новоявленный кандидат был вне себя от радости и губы его сами складывались, чтобы произнести сладостное слово «юань-вай». Он, полуграмотный сын торговца солью и продавец сверчков, теперь — человек с ученой степенью.
Пир. Пир горой в честь этого великого события.
Без песен здесь не обойтись. Все в этот день должно быть высшего, самого высшего качества. И уже готовили специально приглашенные повара изысканный обед — тут будет и суп из ласточкиных гнезд, и суп из плавников акулы с голубиными яйцами, бамбуковые ростки в желе из креветок, особым образом приготовленное мясо черной кошки, и жареные устрицы в меду, и лапша из крабов, и нежнейшая, тающая во рту жареная саранча, и многое, многое другое, всего не перечесть. Приглашены все гости, имеющие хоть какой-либо вес в провинции, и каждый в конце праздника получит подарок, в соответствии с занимаемым положением, конечно: кто отрез шелка, кто яшмовый прибор для письма, кто драгоценную парчу, кто памятные золотые безделушки…
И все это будет высшего качества. Ибо качество рождает доверие. А доверие — основа торговой репутации.
А репутация — это кредит.
Кредит же — это все.
Итак — высшее качество. Во всем. Значит, и стихи и песни должны быть тоже высшего качества, а это, в свою очередь, значит — старик с реки, этот бывший чиновник. Купец знал, более того, он чувствовал: только этот старик может произвести на гостей впечатление, какое нужно.
Толстый и глупый слуга с заносчивым лицом, не понимавший этого, вернулся ни с чем. Он без всякого Чувства вины объявил хозяину, что так и не докричался до старого притворщика, чтоб ему провалиться. А когда он, верный и преданный слуга, рискуя сломать себе шею, отшагал в обход целых пять ли, этот оборванец заявил, что если почтенному Чжун Вэю что-либо от него нужно, то он, то есть старик, будет до вечера в джонке. Уходить никуда не собирается…
Только этого еще недоставало сегодня купцу! Он уже подумал было, не пригласить ли ему обыкновенного исполнителя — на базаре их были десятки к его услугам и почти даром… В другом каком-либо случае он, не колеблясь, так бы и поступил.
Но не сегодня.
Помянув нехорошими словами всю родню глупого слуги, купец Чжун Вэй приказал подать носилки.
День и на самом деле выдался удачным. К трем часам несколько больших рыбин уже висело на тонких бамбуковых прутьях. Днем клевало хуже, но спешить ему было некуда. Если повезет, одну-две рыбы он еще может поймать. Тогда — он решил это — он отдаст их Вэнь И, сапожнику, который вчера принес ему новую кисть для письма. Отличную, превосходную кисть, очень упругую, — из волоса молодого барсука. Да, две самые большие рыбы он подарит сапожнику.
Прогревшись на солнце, он почувствовал себя значительно лучше. Он даже смог потихоньку пошевелить пальцами правой руки и чуть-чуть согнуть ее в локте, это было больно, но так приятно… И малярия его больше не трепала… И еще эти рыбы…
Старик окинул их любовным взглядом.
Его рыбы… Значит, так: две он отдаст Вэнь И, еще две обменяет на рис и еще две — на вино. И у него останется еще рыба, и несколько дней не надо будет ни о чем думать. Как хорошо, когда хоть несколько дней не надо думать о пище! И как редко в его жизни случались такие времена!
Но он не роптал.
Недавно ему исполнилось пятьдесят семь лет. Семью он потерял, друзья умерли. Он остался один, совсем один. Все чаще задумывался о смерти, о том, что будет там, в ином мире… В глубине души он несколько сомневался в существовании иного мира и совсем не спешил покинуть этот. Но придется. И уже скоро. Теперь — уже скоро.
Он это чувствовал, почти знал.
Старик повернулся на спину, закрыл лицо руками, замер. Сквозь пальцы просачивалась густая синева. Ласточки расчерчивали небо косыми линиями, за бортом джонки шуршала холодная зеленая вода… Ду Фу задремал. Он спал, наверное, всего несколько минут, не более, но в эти несколько минут он вновь увидел все тот же сон, что так часто снился ему в последние годы скитаний. Он увидел родину, Север, прекрасный город Чанъань, и белокаменный Чжаоян — дворец Сверкающего Солнца, и похожую на девичью грудь твердую округлость вершины Лишань, покрытую на закате прозрачной фиолетовой дымкой. От этой картины что-то холодело у него внутри. Может, это был холод одиночества? Когда он проснулся, глаза его были в слезах.
Он не вытирал их.
Колокольчик судорожно бился о борт, издавая резкий, трескучий звук. Старик машинально стал подтягивать тугую вздрагивающую леску, ощущая на пальце упругость сопротивляющейся рыбы, — вот она выпрыгнула раз и другой, испуганно блестя перламутровым телом, потом еще и еще раз, пока смерть не распластала ее на темных досках джонки. Ду Фу смотрел, как умирала форель, — предсмертный трепет менял ее окраску. Вся гамма красок, словно прожитая жизнь, прошла перед ним, пока один — серый — цвет не поглотил всё остальные. Серый цвет — это был цвет неудач, цвет старости и смерти.
Он выпотрошил рыбу и повесил ее на прутик. Затем наклонился и вымыл руки в обжигающей холодом воде. Его руки были уже чисты, а он все еще оставался в этой неудобной позе, наклонившись над водой, и все не мог отвести от нее взгляда. Набегавшая невысокая волна каждый раз стирала — и не могла стереть его отражение в этом непрерывно меняющемся живом зеркале, и, пока он глядел в воду, он был вечен, как жизнь… как вода… как стихи. Только не мог же он смотреть в воду вечно.
И все же он смотрел и смотрел, с жадностью, не отрываясь, словно открывал в этом искаженном изображении новые, неведомые ему самому черты. И снова, вспоминая свой постоянный и тревожащий его сон, с острой и тяжелой непреложностью понял, что конец его жизни близок и что он не может больше жить здесь, в этом солнечном добром краю, но должен вернуться домой, на Север, и там умереть, и быть положенным в землю предков, чтобы успокоиться там навсегда.
С трудом оторвался он от воды. Кряхтя, встал, распрямился. Ласточки, вскрикивая, все носились и носились над водой. Голубело безмятежное небо. Но он видел сейчас другое небо и другую реку. Чанъань, Север, звал его. Там было сумрачное небо его родного края, и от этого края отделяло его десять тысяч ли. Десять тысяч ли по стране, охваченной войной, мятежами, смертью.
Безумием было стремиться туда. Здесь же было так хорошо, безмятежно, спокойно. «Останься, — шепнул ему голос. — Останься. Лучшего места тебе не найти».
«Не найти», — согласился Ду Фу. Это было верно. И так же верно было то, что скоро — очень скоро — он двинется в путь. Как это произойдет, он представлял смутно. У него не было ни денег, ни платья, не было у него и осла, а без осла кто же пускается в дальний путь. И он был болен. И тем не менее он знал — скоро в путь. Случай поможет ему… Что- нибудь произойдет — ведь он должен ехать. И тут же он подумал: «А что, если…» Он облегченно вздохнул, засмеялся, сначала тихо, потом громче. Голос его и впрямь был похож на скрип мельничного колеса. Ласточки сердито взмыли в вышину, гулкое эхо повторило странный смех на том берегу. А он все смеялся. Да, да. Эта мысль, внезапно пришедшая ему в голову, и была как раз выходом из положения — да, да. И он снова смеялся, на этот раз уже от радости, и прозрачные старческие слезы текли из его воспаленных глаз. Еще несколько минут назад он не знал, принять ему настойчивое приглашение купца Чжун Вэя или нет. Теперь он знал, что примет его, да, обязательно. А вместо подарков и денег за свои песни потребует осла. Осел — вот что ему нужно, чтобы тронуться в путь. И он поедет в Чанъань. Скоро… Может быть, уже завтра.
Ду Фу закашлялся — и снова высокий противоположный берег повторил отрывистые странные звуки.
По ветхим сходням он перебирается на берег. Тут, вдоль берега, прямо от джонки, начинается тропа, по которой он быстро дойдет до ограды купеческого дома. Сегодня он споет свои самые лучшие песни, гости купца Чжун Вэя останутся довольны. И купец, разумеется, тоже, только сначала ему придется отдать старику осла. «О Ду Фу, — говорит он себе, — ты на старости лет становишься хитрым. Хитрым и недоверчивым, как лисица Гу».
И он смеется, довольный…
Так шел он по неприметной тропинке. Тяжело дышал, останавливался. Смеялся, кашлял, шел дальше.
Он был очень доволен собой.
На половине пути ему повстречались носилки почтенного купца.
Это был поистине счастливый день.
Как великолепно был убран дом! Как изысканно освещен сад… Благоухали цветы, фонари светили неярко и загадочно, и даже луна казалась привешенной на место расторопными слугами Чжун Вэя. Аромат приготовляемых яств разносился по всему дому, проникал в многочисленные комнаты, даже во двор, — у высокочтимых гостей невольно набегала слюна. А ведь гости были не из тех, кому приходилось заботиться о пропитании, совсем нет. Давненько уже в округе не собиралось такое изысканное общество. Здесь были и купцы, не без тайной зависти поздравлявшие своего более удачливого коллегу, и чиновники, и четыре офицера из соседнего гарнизона во главе со своим начальником, кавалером павлиньего пера третьей степени. Были здесь также два незаметных инспектора из управления податей, с которыми тем не менее все остальные гости раскланивались с преувеличенной любезностью.
И еще один — самый почетный — гость. Из столицы. Его чин не произносился вслух, но и произнесенный про себя, в уме, он вызывал невольную робость.
Гость оказался в этих краях случайно, если смерть можно назвать случаем. Здесь жила его мать, и здесь она умерла… Он узнал об этом только тогда, когда инспекция палаты надзора прислала ему черный лист бумаги с белым драконом. Это означало приказ об отставке на три месяца, пока не кончится траурный срок. Теперь, по истечении этих трех месяцев, гость возвращался в столицу, где уже ждали его неотложные дела, и только униженные просьбы купца заставили его отложить возвращение еще на день. По правде говоря, ему и самому вдруг захотелось взглянуть на этих людей, столь отличных от круга, в котором ему приходилось вращаться в столице.
К тому же он был достаточно демократичен. Демократизм был сейчас при дворе в моде, он был важной частью внутренней политики нового императора — имелось в виду, что все должностные лица, независимо от рангов, вышли из народа и лишь временно, в силу необходимости, несут на себе тяжкое бремя пастырей. Поэтому будет интересно доложить императору о жизни провинциалов, это наверняка вызовет одобрение.
Провинциалы… Все эти купцы, кажущиеся себе такими важными господами здесь, в далеком и забытом всеми округе; эти чиновники седьмых и шестых разрядов, чьи мечты не поднимаются выше вороньего пера на шляпе, эти захудалые военные… Жалкое зрелище! И все же он согласился и не жалел уже об этом, ибо лишний раз почувствовал, на какую высоту занесла его судьба.
Приветливой и оттого еще более недоступной была вежливая улыбка гостя, когда он сошел с носилок. Красные шелковые одежды сразу выделили его из общего темно-серого одноцветья купеческих и чиновничьих халатов, на груди и спине в желтых квадратах красовались вышитые шелком фазаны — знак принадлежности к высшему? второму классу чиновников. Пряжка пояса сверкала золотом и алмазами, бросались в глаза также застежки чистого золота, украшавшие башмаки, искусно сшитые из кожи нерожденного теленка.
Гость занимал в столице должность главного секретаря министерства церемоний.
Он повел себя с той простотой, которая лишь подчеркивала высоту занимаемого им поста: любезно улыбнулся гостям и, сопровождаемый по пятам осчастливленным хозяином дома, прогулялся по парку. При этом он великодушно похвалил празднество, лукаво посмеиваясь в душе.
В парадной комнате уже были расстелены циновки… На столиках в специальных чашках уже дымился горячий суп из ласточкиных гнезд, обошедшийся хозяину в целое состояние, ибо отнюдь не одни гнезда требовались для этого блюда. Многие гости пробовали подобное лакомство впервые… Слуги вносили новые блюда, и подогретое вино в серебряных чайниках, и приправы, и закуски. В небо взлетели петарды, осветив на мгновенье лица гостей мертвенным жестким светом. Купец Чжун Вэй низко поклонился гостям, соблаговолившим, как он выразился, почтить своим высоким присутствием его убогое жилище. Еще более низкий поклон в сторону господина секретаря.
Вслед за этим купец хлопнул в ладони — да не побрезгуют высокочтимые гости теми скудными подарками, которые бедный купец просит их принять от всей души. За спиной каждого гостя уже стоял бесшумно появившийся слуга с подарком, завернутым в тончайшую бумагу. Легкий шелест… Господин секретарь, улыбаясь, разворачивает подарок. Возгласы изумленья; хозяин скромно улыбается: высшее качество не подвело. Столичный гость получил в подарок золотого фазана. Внутри сосуда было драгоценное розовое масло. Господин секретарь уже был доволен, что поддался чувству демократизма. Имя купца он отметил в своей памяти.
Гости, приглушенно гудя, рассматривали подарки. На столиках дымились новые соблазнительные блюда. Господин секретарь кончиками пальцев поглаживал золотого фазана.
Хозяин хлопнул в ладони трижды. Слуга поставил на ковер низенькую скамейку. Вошел Ду Фу. Он был в новом халате, лицо рассеянное, на гостей Чжун Вэя он не смотрел. Лишь краем глаза скосился на высокого гостя из столицы и тут же взглянул на него еще раз. И все. Больше он ни на кого не глядел.
Острый запах еды, наполнявший комнату, раздражал его. Сам он, как и полагалось певцу и рассказчику, уже пять часов ничего не брал в рот. Он сел на скамейку, устроился поудобней. Он должен был отвлечься от всего — от гостей, от запаха еды, от настойчивого взгляда столичного гостя с вышитыми шелком фазанами на огненно-красном халате. От самого себя.
В левой, здоровой руке он держал семиструнный цинь, правой, скрюченной, сжимал персиковую косточку. Согнув жилистую в морщинах шею и наклонив ухо к инструменту, он едва уловимым движением трогал одну струну за другой. Глаза его были почти закрыты. Перебирая струны, он ждал волны. Она должна была прийти к нему и подсказать: «Пора». Шум стихал, уходил, удалялся. Исчез. Ду Фу провел персиковой косточкой, по струнам. Долгий стонущий, настораживающий звук, похожий на плач, заставил гостей вздрогнуть. Волна подходила, он чувствовал ее приближение… Вот она. Не открывая глаз, он сказал четко и громко: — Я спою вам песню великого поэта Ли Бо. Это песня о битве у Южной стены.
Пинь зарокотал. Протяжные звуки были похожи на голоса людей, умирающих на поле битвы. Скрюченная птичья лапа с персиковой косточкой все сильнее и сильнее ударяла по струнам. Хриплым, неприятным, клокочущим голосом Ду Фу запел. Он пел песню о битве у Южной стены:
Над полем боя Солнца диск взошел Опять на смертный бой. Идут солдаты. Здесь воздух Неподвижен и тяжел, И травы здесь От крови лиловаты. И птицы Человечину клюют, Так обжираются — Взлететь не в силах. Те, кто вчера С врагами бился тут, Сегодня под стеной Лежат в могилах…[1]Он кончил песню угасающим аккордом, словно это он сам бился под городской стеной — старый воин с длинным раздвоенным копьем в руках; аккорд же этот был его последним вздохом.
Гости молчали. Они ждали другого. Тем более странно прозвучали для них стихи, которые пропел — словно прокричал — им этот старик с высохшими морщинами на жилистой тонкой шее. Они ждали другого, но так и остались сидеть замерев, а он и не думал давать им передышки, и цинь в его руках снова забился и застонал. Всё же все они, эти гости, богатые и менее богатые, знатные и незнатные, добрые и злые, — все они были одной с ним крови, одного рода. Они были китайцы, ханьцы, а он был их поэтом. Одним из них. И если он не сможет заставить их почувствовать это единство — значит, он плохой поэт. Но он их заставит…
И вот уже вплелся в высокую захлебывающуюся мелодию грозный солдатский шаг. Перекрывая музыку, Ду Фу выкрикнул, что сейчас он споет песню о битве при Чэньтао. На этот раз он не сказал, кому принадлежит песня.
Пошли герои Снежною зимою На подвиг, Оказавшийся напрасным. И стала кровь их В озере — водою, И озеро Чэньтао Стало красным. В далеком небе Дымка голубая, Уже давно Утихло поле боя, Но сорок тысяч Воинов Китая Погибли здесь, Пожертвовав собою. И варвары Ушли уже отсюда, Блестящим снегом Стрелы обмывая, Шатаясь От запоя и от блуда И варварские песни Распевая…Резкий внезапный звук… это лопнули сразу две струны — и к счастью, ибо он все равно не мог больше петь. Неуклюже поклонившись, он попросил у гостей прощения и вышел. Неподвижно сидели гости, остывали нетронутые яства. Вышитый золотом широкий рукав столичного гостя лежал в сосуде с подливой, но гость не замечал этого. Восковыми чешуйками застывшего жира покрылся рис…
Ду Фу стоял в полутьме, прислонившись к столбу. Цинь с лопнувшими струнами все еще был зажат в его руке. Ему было тяжело дышать. В ушах стоял какой-то захлестывающий гул. Сквозь этот гул Ду Фу едва мог слышать голоса в комнате для гостей. Но один голос он все же расслышал — высокий, властный и вежливый голос. Столичный гость говорил негромко, и лишь по наступившей тишине можно было понять, с каким вниманием слушают его остальные. Но несколько слов гость произнес с подъемом, и Ду Фу расслышал их. «Высокое искусство, — говорил гость, — Равное ему, господа, редко встретишь в наши дни даже в Западной столице. И я хочу поблагодарить хозяина…»
Эти слова словно сняли колдовские чары с остальных Все задвигались, заговорили, зашумели. Только сейчас, после слов господина секретаря, они поняли, что действительно присутствовали при явлении незаурядном, что и сами они восхищены и очарованы этим странным стариком. Кстати, где он, куда же он исчез?
Десятки вопросов обращены к хозяину. Ему бы впору расцвести от этого внимания, которого он так добивался. Но хозяин молчит. Он улыбается судорожной, измученной улыбкой, низко кланяется и молчит. И словно даже постарел он тут же, на глазах. Кланяется все ниже и ниже, чтобы никто не мог увидеть его слез, — ведь гости пришли сюда повеселиться, и что им до того, что оба его сына были среди тех сорока тысяч под Чэньтао. «И стала кровь их в озере — водою…»
Слуги быстро сменили остывшие яства. Появились новые чайники с вином. Затем, словно бабочки, впорхнули в зал для гостей прекрасные девушки, зазвучала нежная, неземная мелодия: «Платье из радуги». И если до этого у гостей еще оставались какие-либо заботы, то уж теперь они исчезли совсем. Вино веселило сердца, девушки радовали глаз, и серебряными монетами осыпался с неба фейерверк. В пристройке за кухней старый Ду Фу рассеянно глотал остывшую лапшу, сальные пятна оставались на его поношенном платье. Новый халат и башмаки он снял — они пригодятся ему в дальнем пути. Он поел совсем немного и отодвинул чашку. Аппетит у него совершенно пропал, что-то холодное подползало к сердцу. И это пугало его. Кроме того, ночь была прохладной.
Он взял фонарь, повесил его на руку, перебросил через плечо котомку и, нащупывая палкой дорогу, побрел домой. Взрыв ракет на мгновение осветил его согнутую фигуру и затем снова бросил в темноту июльской ночи.
— Прошу меня извинить…
Ду Фу вздрогнул так сильно, что едва не выронил фонарь. Обернулся. В слабом свете свечи блестящими брызгами вспыхнули, переливаясь, алмазы на золотом поясе с кистями. Голос у столичного гостя был. высокий, окончания слов он проглатывал, недоговаривая, словно ему вообще было лень говорить.
— Вы не сказали, — начал он так, как если бы разговор происходил не на узкой каменистой тропе, а в зале «Грушевого дворца», в столице, — вы не изволили сказать, кто автор песни о поражении при озере Чэньтао. Признаюсь, меня очень тронуло ваше искусство, и поэтому я должен помочь вам, э-э, для будущего… Потому что автором этой песни… этой песни… — И вдруг совершенно другим тоном он закончил: — Но ведь вы знаете его. Нет?
Слабый свет дробился и играл в драгоценных камнях его пояса. Он ждал. Молча стоял перед ним старик с фонарем, повешенным на искривленную параличом руку, с котомкой за плечами.
— О чем вы задумались, глубокоуважаемый учитель?
Ду Фу молчал. Он думал о том, что на стоимость одного этого пояса можно было бы купить несколько ослов, много еды и одежды и спокойно, не торопясь, добраться до Чанъани. И еще он подумал, правда уже мимоходом, что память у него по-прежнему острая, раз он узнал этого человека, стоявшего перед ним с небрежно-вежливым, видам, за которым не так уж трудно было разглядеть смущение.
— К чему нам длинные и ненужные окольные пути, господин Лю Вэнь? — сказал он устало. — Да, я узнал вас. Что вам угодно?
— Поверьте, учитель, я сердечно рад этой встрече. Такой неожиданной… И тому, что вы вспомнили мое недостойное имя. Ах, учитель, поверьте, я не раз вспоминал о вас… о нашей молодости, о разговорах, о надеждах на будущее — там, в Пинкане, у прелестной Хо… Вы ее помните, конечно, тоже. — Искреннее волнение звучало в его голосе. — Мы были молоды тогда. Молоды и полны дерзких надежд — вы и я… И наши друзья. Их теперь осталось совсем мало… но и они вспоминают о вас… довольно часто, — добавил он с некоторым усилием (будет настоящая сенсация, когда он расскажет в столице об этой невероятной встрече!). — Вы должны поехать со мной в столицу, — вдруг сказал он горячо. — Подумайте, учитель, ведь это было бы прекрасно. Ах, извините меня, я обязательно должен вас проводить… Вы мне разрешите?
Ду Фу колебался. А впрочем… Он не стыдился своей бедности, хотя и гордиться здесь было нечем.
— Пойдемте.
По той же каменистой тропинке они спустились к реке. Увидев узкую доску, соединявшую берег с джонкой, гость на мгновение заколебался, затем подобрал полы дорогого халата. Притихший, спустился он вниз, под бамбуковый настил на корме. Грубо сколоченное ложе, покрытое тряпьем, плошка с жиром и крохотным фитильком, рваная циновка…
— Это ужасно, — сказал гость, — я не знал. Вы, один из лучших поэтов страны… — У него перехватило горло. — По возвращении я доложу императору…
От тряпья исходил резкий запах. Ду Фу сел напротив гостя, насупившись. Он устал, он хотел отдохнуть, и ему не нужны были ни комплименты, ни соболезнования. Воспоминания ему не нужны были тоже. Воспоминания — хорошая вещь для тех, кто, сравнивая прошлое с настоящим, находит перемены к лучшему. В его случае воспоминания были не нужны.
Затхлый запах — запах бедности, почти нищеты — душил высокого гостя. Он чувствовал: еще немного, и его вырвет. Глотая окончания слов, уже больше по привычке, он начал быстро говорить, убеждать, взывать… Он оставил изысканные формы разговора. Он предложил Ду Фу свое содействие. У учителя будет теперь все — деньги, слуги. Впрочем, ведь Ду Фу вернется вместе с ним, не так ли?
Ду Фу покачал головой. Он не поедет. Гость казался обескураженным. Тогда Ду Фу сказал:
— Если господин Лю Вэнь действительно хочет помочь такому бедняку, как я, то…
Господин Лю Вэнь, недослушав, с готовностью стал развязывать продолговатый кошель, висевший у него на поясе. «Золото», — подумал Ду Фу. И это удивило его, ибо он уже успел забыть, что есть люди, расплачивающиеся за что-либо золотыми монетами, а не медяками, стертыми до блеска от беспрерывного употребления. Гость смотрел выжидающе, в глазах его была готовность и соболезнование. Ду Фу сделал отстраняющий жест левой рукой.
Нет, сказал он. Его неправильно поняли. Он вовсе не просит денег.
Острая жалость к этому некогда элегантному и веселому человеку переполняла господина секретаря. К тому же он и на самом деле был рад ему помочь. В отличие от Ду Фу, он мог позволить себе воспоминания, он был благодарен судьбе за эту встречу. Он, секретарь министерства и чиновник второго класса, на примере поэта лишний раз мог убедиться в превратности человеческих судеб. И кто знал, что ждало его завтра. Но сегодня — сегодня он был наверху и мог позволить себе любую причуду. Вплоть до искренних человеческих чувств. Он и в самом деле был большим любителем поэзии; в своем роскошном доме он собрал большую библиотеку, манускрипты.
Его осенила идея, блестящая идея. Он вовсе не навязывает своих денег. Но не соблаговолит ли его высокий друг продать ему свиток со своими бесподобными стихами? Он, Лю Вэнь, готов заплатить самую высокую плату.
— Это можно, — согласился, подумав, Ду Фу. Он даже покивал для убедительности головой, — это можно. Стихи у него есть, господин секретарь останется доволен. А как он собирается платить?
— Ну какие могут быть счеты между старыми друзьями, — поморщился секретарь Лю Вэнь.
Молчаливое сопротивление этого опустившегося человека его, Лю Вэня, попыткам вернуться в прошлое понемногу начало раздражать его. И еще этот отвратительный запах… Дома он сразу же примет ванну. Все-таки печально, что люди так упорны, что старик не хочет принять чистосердечно предлагаемую помощь. Что ж, он купит рукописи. Кроме всего прочего, это еще и неплохая сделка. Он явится из глуши и привезет в столицу, падкую до сенсаций, такие новости..
— Я готов заплатить вам, дорогой мой друг, по три золотые монеты за каждую рукопись… Хотя нет, — перебил он сам себя, захлестнутый волной великодушия, — нет. Я заплачу по четыре монеты. — И он широко улыбнулся. — Надеюсь, вы довольны?
Ду Фу сидел потрясенный. Четыре золотые монеты! Уж не померещилось ли ему… Четыре! Вскочив, он проковылял к сундуку, стоявшему в дальнем углу и служившему столом. Четыре… Обернувшись, он подозрительно посмотрел на гостя. Он, Ду Фу, снова превратился в бедняка с лодки. Ему привалила глупая, невероятная, сумасшедшая удача, и было бы непростительно не использовать ее до конца. Опуская сощуренные глаза, он спросил:
— Сколько же свитков согласен приобрести великодушный господин секретарь? Два? Или, может, три? — Голос его был робок и почтителен.
У столичного гостя защемило сердце.
— Да хоть десять, — сказал он. — Или пятнадцать. А еще лучше — все. Да, да, выкладывайте все, что у вас есть.
Секретарь Лю Вэнь любил острые ситуации — при том, конечно, непременном условии, чтобы господином положения оставался он сам. А что могло быть острее этого — он, Лю Вэнь, всемогущий, как Хуанди, спасает обнищавшего, погрязшего в бедности поэта. Не часто человеку удается играть роль самой судьбы. Ему, Лю Вэню, это удается.
Он даже забыл про ужасающий едкий запах в джонке Кошель уже был развязан.
— Ну, господин мой и учитель, начнем? Раз, два, три, четыре. И еще четыре, и вот еще… Давайте, давайте, не стесняйтесь. Я же сказал, что заберу у вас все.
Бедный Ду Фу. Он, кажется, так и не может поверить.
— Все? — спрашивает он боязливо.
— Да, да, — весело подтверждает секретарь. — До чего же вы стали недоверчивы!
Сколько стихотворений мог этот бедняк написать в такой дыре? Он, Лю Вэнь, не написал бы ни одного.
— И все — по четыре золотых?
Гость напряжением воли сдерживает соболезнующую улыбку. Улыбку судьбы. Ибо он, секретарь министерства Лю Вэнь, и есть судьба. Здесь по крайней мере.
— Да, — подтверждает он уже в который раз.
Некоторое время он видит только согнутую спину Затем на циновку лег первый свиток. Ну, наконец-то.
— Один, — сказал Ду Фу из сундука.
— Вот ваши четыре золотых.
— Два.
— Вот еще четыре.
— Три.
— Итого двенадцать.
— Четыре.
— А вы, я вижу, не теряли времени даром.
— Пять, шесть, семь…
— У ж не задумали ли вы проверить мою платежеспособность?
Вместо спины на миг показалось лицо бедняка, держащего за хвост волшебную птицу феникс.
— Я думал, — смиренно произнес он, — господин Лю Вэнь не шутил, когда сказал — все.
Господин Лю Вэнь сдержанно улыбнулся. Его слово — это те же золотые монеты.
— Тогда — еще?
— Буду рад познакомиться со всеми вашими замечательными произведениями, — сказал секретарь министерства церемоний с некоторым усилием.
— Тогда вот еще пять.
— Итого двенадцать.
— И еще семь.
— Девятнадцать.
— И двенадцать.
— Тридцать один.
— И пять…
Секретарь министерства украдкой смахнул пот.
— Вы плодовитый автор, — сказал он сухо.
— Все бедняки плодовиты, — последовал мгновенный ответ, напомнивший секретарю прежнего Ду Фу. — Это одна из немногих привилегий бедности, на которую никто не покушается. Не так ли?
Через час, оставив на циновке сто двадцать золотых монет и вексель еще на тысячу шестьсот, секретарь министерства, бледный и расстроенный, ушел, унося в грязном джутовом мешке четыреста тридцать рукописей. Это было все, что старик с реки, неудавшийся чиновник и не признанный обществом поэт по имени Ду Фу, написал за последние два года.
Обессиленный, сидел Ду Фу перед грудой золота. Игра далась ему нелегко. Равнодушными, холодными глазами рассматривал он золотые монеты. Их было больше, чем он когда-либо имел в своей жизни. Итак, он разбогател наконец. Он вспомнил бледное и потное лицо чиновника второго класса, подписывающего вексель. Он так ничего и не понял, благодетель. Ну ладно, этот урок он запомнит.
Золотые монеты на полу казались маленькими светлячками. Они освещали ему путь к дому. Внезапно он погладил золото рукой. Золото — это кровь и пот бедняков. Это его кровь и пот. Оно принадлежит ему по праву. Деловито пересчитал он монеты. Одну он разменяет на медь, остальные зашьет в подол халата — старого, конечно. И вексель — тоже.
Так он и сделал.
Теперь можно было трогаться в путь. Ему предстояла долгая и опасная дорога на Север. В Чанъань.
Прибор для письма он всегда носил с собой. Бумагу — тоже. Очевидно, он все проделал почти машинально. Придя в себя, он увидел стихотворение. Последние строки еще не просохли. Про себя он повторил их:
За облака, За кручи темных гор, Гляжу я вдаль На десять тысяч ли. Хочу увидеть Севера простор Там, где Чанъань Раскинута вдали.Тушь просохла. Он прочитал все стихотворение целиком и еще раз — последние строчки. Это было как раз то, что он и хотел сказать. Он все глядел и глядел, словно начинающий. Он плохо писал левой рукой, но и это сегодня ему не помешало. Иероглифы получились четкие, красивые. Особенно красивым получился иероглиф «вань», означающий десять тысяч; это был настоящий каллиграфический знак.
Обрадованный этим, он лег спать. Ему снилась столица Чанъань и девушка по имени Ин, выбегающая к нему навстречу из большого красивого дома, похожего на дворец.
Сколько же лет он не был в Чанъани? Тринадцать? Даже немного больше… «Тогда, тринадцать лет назад, — подумал он, проснувшись, — начались все мои беды».
Все началось тогда, когда в ночь на двенадцатое июня семьсот пятьдесят шестого года император Сюаньцзун бежал из столицы.
Глава вторая
Император бежал из столицы.
В ночь на двенадцатое число июня месяца карета, сопровождаемая плотным двойным кольцом эскорта, прорвалась сквозь густую толпу беженцев и, миновав ворота Красного феникса, покинула Чанъань. Среди пышных подушек, зябко кутаясь в толстый, подбитый соболями халат, сидел маленький, сморщенный человек с желтым в редких оспинах лицом и обвисшими седыми усами. Было темно, и только отблеск факелов, прорываясь сквозь занавешенные окна, разбрасывал по стенам и полу трепещущие багряные блики. Взмыленные черные кони уверенно увлекали карету на юг, оставляя позади панику и отчаяние большого города. Молча скакали рядом рослые гвардейцы конвоя — первый ряд, ближний к карете, держал пылающие факелы, второй наружный ряд держал наготове обнаженные мечи. Словно метеор, прорезала карета непроглядную тьму, смыкавшуюся за ней, как вода. Шум покинутого города уходил, становился слабее, глуше, исчезал; свистел и вихрился распоротый воздух; кони роняли на дорогу бело-желтую пену, а маленький человечек внутри кареты все так же бесчувственно смотрел перед собой, изредка вздрагивая, словно от озноба, хотя ночь была на редкость теплой и ни одно, даже малейшее дуновение не прорывалось внутрь.
Долгое время, несколько десятилетий подряд, имя человека, сидевшего теперь в карете, было самым известным и почитаемым во всем поднебесном мире. Это имя можно было услышать повсюду — не только во дворце вельможи, каждый день пробующего суп из верблюжьего копыта, но нередко и в хижине бедняка, никогда не знающего, будет он иметь свою горсть риса к вечеру или нет. И в конторах крупных фирм, торгующих по всему необозримому пространству Китая, звучало оно, имя человека, обладавшего неограниченной властью над жизнью и смертью десятков миллионов его подданных, и в публичных домах веселого квартала Пинкан, — все то же имя — Мин Хуан, Сын Неба, великий, величайший император Китая, отец своего народа, отец всех народов, населяющих огромную территорию — от холодных Тибетских гор на юге до таких же холодных и диких степей на севере.
И человек, вздрагивающий в карете, — это был он, Мин Хуан, после смерти получивший имя Сюаньцзун, шестой император из династии Тан, самый удачливый, самый до этих пор великий и мудрый из всех императоров этого рода. Долго, немыслимо долго правил он этой огромной страной, которая так привыкла к нему, своему повелителю, что стала считать его имя чем-то вроде вечного залога и символа процветания. Настолько, что даже годам его царствования дала название периода Кайюань, что означает: время великолепия. И действительно, все эти годы страна расцветала под его мудрым руководством. При нем были разбиты орды туфаней на западе и киданей — на севере. А всегда готовое взбунтоваться королевство Наньчжао теперь и думать не смело о самостоятельности. Бесчисленные племена — все эти тунло и шивэй, ху и чжурчжэни, жужане и многие-многие другие — были усмирены, приведены к покорности, платили дань. Дороги были исправны и безопасны; в портах теснились многие сотни кораблей, прибывших со всего света; малайские, индийские, арабские и иранские купцы выстраивали собственные торговые кварталы. Сотни наречий, десятки верований — все умещалось и находило себе место под счастливой звездой человека с волевым непроницаемым лицом, пронзительными раскосыми глазами и чуть свисающими по краям рта усами.
Но особенно великолепной он сделал свою столицу, Чанъань. Она и не могла быть иной, ибо должна была представлять собой мощь и благоденствие всей страны. Сносились старые и воздвигались новые дома, дворцы, улицы, площади. Благоустройство столицы съедало около десятой части годового бюджета. Восточная столица, Лоян, еще пробовала некоторое время сохранить хоть часть былого значения, играя роль культурного центра, но время шло, и один за другим перебирались поближе к солнцу и поэты, и художники, и артисты.
Нет, неподражаема была Чанъань, город, где обитал живой бог. Четыре высокие крепостные стены из белого твердого камня окружали ее. Длина каждой стены была двадцать ли. Восемь ворот, окованных медью, впускали по утрам и выпускали вечером десятки тысяч паломников, стремившихся в этот центр мира, дабы хоть одним глазом взглянуть на небывалое, неправдоподобное великолепие столицы. Четыре дворца, один прекраснее другого, размещались в столице, в самом центре ее, огороженные внутренней стеной, — войти внутрь через ворота Лазоревой цепи мог лишь счастливейший из счастливых. Или — придворный лакей. Была в столице еще новинка — музыкальная академия «Грушевый сад», и другая — Академия наук Ханьлинь. В дворцовой библиотеке хранилось бесценное сокровище — девяносто тысяч рукописей, написанных на драгоценном шелке. Более трех тысяч ученых денно и нощно склоняли свои мудрые головы над нерешенными проблемами науки. В то же время евнухов в столице Чанъань было три тысячи пятьсот девяносто, чиновников — восемьдесят одна тысяча двести семь, проституток — сорок четыре тысячи пятнадцать. Кроме того, в Чанъани находилось два рыночных квартала, девять тысяч мастерских, изготовляющих все — от поддельных древностей до погребальных украшений; жили в столице тридцать пять тысяч государственных рабочих, девятнадцать тысяч торговцев и многие-многие тысячи других. И в течение многих лет вся эта масса народа изо дня в день просыпалась на рассвете и трудилась, покупала, продавала, воровала, посещала зрелища — и была, разумеется, счастлива, ибо жила в первом городе земли, что само по себе было немалым преимуществом. И даже существовала поговорка: «Заносчив, как чанъанец», — потому что заносчивость нередко овладевает счастливыми. Впрочем, может быть, это придумали завистники.
Отсюда, из столицы, кругами по воде расползалось преклонение перед владыкой. Иностранные дипломаты не без удивления отмечали в своих донесениях, что народ, похоже, и на самом деле обожает императора. Так оно и было.
Он был владыкой давно, очень давно, — всегда. Некоторые еще помнили, что не всегда он был так велик, Мин Хуан, третий сын в своей семье, зато остальные знать об этом не желали… Зачем? Важно было то, что долгими и непрекращающимися усилиями он возвысил свое государство и свое имя в веках. И совсем не важно было то, какая часть этих усилий принадлежала самому императору, какая его помощникам — первому министру Ли Линь-фу и первому советнику, императорскому евнуху Гао Ли-ши. Важен был конечный результат — процветание страны, а в нем мог убедиться всякий. И если так, то стоило ли уточнять меру усилий каждого в деле процветания?
Каждому — своя судьба, каждому — своя ответственность. Тебе — своя, императору — своя.
И он, император, нес свою ответственность, не жалуясь, а народ любил чувствовать его над собой и сознавать непреходящее величие своего властителя, ибо, как было народу внушено, величие властителя — это и есть величие народа.
Оставалось только радоваться.
И народ радовался. Раз в год собирался он перед недоступным ему дворцом Пышности и Чистоты и с замиранием сердца ждал того момента, когда раздвинутся опахала из фазаньих хвостов и полуденное солнце осветит на груди человека, восседающего на золотом троне, двух извивающихся драконов. Затем народу представал божественный лик — и даже издалека можно было узнать это волевое выражение.
Затем собравшимся раздавали деньги и ткани, некоторым — даже шелковые. Раздавали еду и вино — и народ был доволен и счастлив. Ну, а если находились такие, что не казались счастливыми или даже роптали, то для таких существовало специальное управление, которым руководил уже упомянутый императорский евнух и советник первого класса Гао Ли-ши, и недовольные навсегда исчезали в особом отделении дворца Пылающего солнца, о котором люди предпочитали не говорить вообще.
Правда, в последние годы в столице, а оттуда и по государству поползли невнятные тревожные слухи. Эти слухи тут же с небывалой расторопностью перехватывались и изымались, но не могли быть, очевидно, изъяты до конца и — грязные, позорящие божественного императора — растекались по провинциям, проникая в шатающиеся умы. Они, эти слухи, утверждали, что престарелый император давно уже не тот народный правитель, каким был некогда, но лишь фигура для игры в руках императорского евнуха и первого министра. Что он только ширма, за которой прячутся два первых чиновника государства, обделывая свои дела. С тех пор, говорили слухи, как шестидесятилетний император увидел пятнадцатилетнюю красавицу Ян Гуй-фэй во время купания в теплых источниках на горе Ли, он забыл обо всем, ни о чем больше не думал и презрел свой священный долг ради этой девчонки.
Слухи эти воспринимались тем внимательней, что за последние десять лет семейство Ян приобрело неслыханную дотоле власть. Вся родня новой фаворитки получала без конца новые и новые подарки, чины, земли, должности… В то же время все жены императора, все его многочисленные наложницы отошли на задний план перед красавицей Ян Гуй-фэй, которую народ в простоте душевной прозвал Тай-чжэнь, что означает «истинная, настоящая святая». Любое желание этой красивой полной девушки с ускользающей, непонятной, жестокой улыбкой становилось законом. Так, например, однажды она пожелала, чтобы к столу императора каждый день подавались свежие плоды личжи, растущей только на далеком юге. В тот же день особым декретом император учредил специальную курьерскую линию, по которой днем и ночью сломя голову неслись гонцы, везя за несколько тысяч ли маленькие корзиночки с плодами.
Но если бы дело было только в этом! Вот уже пятнадцать лет не собирался Высший Государственный совет. Император перестал показываться народу, он стал подозрителен и нетерпим. Своего сына, наследника Шоу, из гарема которого была украдена для императора Ян Гуй-фэй, он приказал казнить, дабы тот своим удрученным видом не напоминал ему о происшедшем. Правитель Сяо, старый преданный друг, был уволен в отставку за невинную шутку; другой чиновник, повторивший эту шутку в кругу друзей, поплатился головой.
Император стал очень бояться заговоров. То здесь, то там бдительное и недреманное око Гао Ли-ши пресекало опасность — и летели головы одна за другой. Казни совершались мгновенно, ибо преступно было бы тратить время на долгие ненужные формальности. К тому же заговорщики — за очень редким исключением — всегда во всем признавались. Иногда их собственноручно подписанные признания подносились императору, который в конце концов пришел к печальному убеждению, что даже самым верным друзьям свойственна неблагодарность и что он может верить лишь себе самому, Ян Гуй-фэй, Гао Ли-ши и Ли Линь-фу. Он заперся во дворце Пылающего солнца. Литературой он больше не интересовался, музыкой — тоже, а предавался тем утехам, которые может (а также тем, которые не может) позволить себе человек семидесяти четырех лет.
И вот теперь он бежал. И не только он.
Едва лишь карета, окруженная двойным кольцом гвардейцев, скрылась в темноте, на дорогу, ведущую к югу, в Чэнду, потянулись другие, столь же роскошные кареты. Пронеслась черная с желтым верхом карета государственного советника и императорского евнуха Гао Ли-ши. Сверкнула серебром карета министра Ли Линь-фу. Под усиленной охраной покинули город три первые жены императора, его девять вторых жен, двадцать семь третьих и восемьдесят одна четвертая. Затем был вывезен из города его гарем — тысяча сто наложниц, затем последовали подводы с золотой посудой, драгоценностями, серебром…
Молча и хмуро смотрел народ, как императорский двор покидает столицу, которой угрожает враг. Тесно, плечо к плечу, стояли рабочие солеварен, скрестив изъеденные язвами руки. Распространяя вокруг себя кислый запах, всем цехом стояли кожевники. Стояли сукновалы в черных шапочках пирожком, стояли золотых дел мастера, виноделы и каллиграфы, золотари и каменщики… Стояли и смотрели. А золотой, серебряный поток все утекал и утекал — наследники престола, их гаремы, министры, секретари, начальники управлений — словом, все, кто имел хоть какой-нибудь вес, чтобы добыть драгоценную серебряную пластину, дающую право на выезд.
У тех, кто молча стоял по обеим сторонам Южной дороги, ведущей к Чэнду, таких пластин не было. Суровые воины с копьями в руках, стоявшие у ворот, мгновенно пресекали все попытки вырваться из города — несколько неудачников уже лежали в придорожных кустах с перебитыми позвоночниками.
— Враг у ворот! — кричал охрипший глашатай на площади Дракона. — Слушайте императорский указ! Все граждане столицы, способные носить оружие, должны исполнить свой долг и, не щадя жизни и имущества, преградить дорогу презренному изменнику и его войскам!
После каждой фразы глашатай ударял в барабан. Ярко пылали факелы, освещая искаженные бегающими тенями хмурые лица горожан. Плакали дети. Женщины бессмысленно метались, волоча за собой тележки со скарбом. Вооруженные солдаты тащили упирающихся ремесленников к складам оружия. А дозорные на Северной стене принимали все новые и новые сообщения с передовой заставы Хаць- гуань, где генерал Гэ Шу-хань со своей армией готовился к бою с надвигающимися ордами мятежников. Огненные сигналы передавали: «Силы врага огромны. В конных отрядах около тридцати тысяч человек. Сто тысяч пехоты… тысяча пятьсот боевых колесниц… десятки тысяч запасных коней…»
Генерал Гэ Шу-хань, оставленный один на один с армией восставших, запросил указаний от военного министра. Дозорные сигнальщики, передавая ответ, зло усмехались и плевали вниз с высоких белых стен: военный министр генерал Ли Гуань-би еще несколько часов назад покинул Чанъань во главе императорского гвардейского конвоя.
А противник был уже рядом.
В своем шатре, более похожем на дворец, мятежный цзе — души Ань Лу-шань, губернатор провинций Пинлу, Фаньань и Хэдун, слушал донесения лазутчиков. Огромный, грузный, с черными навыкате глазами, расхаживал он по шатру. Слушал, запоминал. Время от времени подходил к сидевшему за маленьким походным столиком секретарю и проверял правильность записи. По одному входили и выходили лазутчики; одни были одеты в богатые одежды купцов, другие носили простое пеньковое платье, ни один из них не знал другого, некоторые докладывали о том, что уже было известно от предыдущих. Каждый, выходя, кланялся до земли и уносил с собой горсть золотых монет и новое задание.
Пока секретарь — худой и молчаливый — сортировал и обобщал показания лазутчиков, цзедуши, уже проделавший всю эту работу в уме, отдернул полог шатра и вышел в темноту. Ветер, теплый и приветливый, лениво колыхал над шатром знамя Среднего дворца — личное знамя главнокомандующего с изображенной на нем синей звездой. Внимательно, пристально всматривался мятежный цзедуши в картину, открывшуюся перед ним, и картина эта была словно ожившей иллюстрацией к докладам лазутчиков. Итак, он бежал, великий император, его недавний повелитель, его благодетель. И все другие тоже бежали вслед за ним, все эти лисы и шакалы, так любившие изображать из себя барсов. Ему не хватало одного-двух переходов, чтобы захлопнуть ловушку… Одного-двух. Где были потеряны эти несколько дней? Под Лояном? Или в битве под Тунгуанью? Впрочем, теперь это уже все равно.
Теперь он уже почти у цели. Вот она, столица Чанъань, вот она лежит внизу перед ним. Еще усилие, одно, последнее… Долгие годы ждал он этого мгновения, долгие годы копил свою ненависть, скрывал ее, хитрил, изворачивался, заигрывал со смертью и не щадил себя в битвах. И час пробил. Этот жалкий старик, этот великий император, этот маленький человечек с пустым взглядом — бежал. И самый заклятый враг Ань Лу-шаня, Гао Ли-ши, жирный и женоподобный евнух, тоже бежал, и эта высохшая мумия, первый министр, Ли Линь-фу. Но недолго придется им быть в бегах. Лазутчики доносят, что император со своей сворой бежал в Чэнду. Вот и отлично. После Чанъани Ань Лу-шань двинется на Чэнду. А если надо будет — и дальше. И если надо будет, он проведет свои полки хоть до границы и еще дальше, в государство Линьи, или в Чжэньла, или даже в Бояго. Он настигнет своих врагов, победит их и накажет. Он щедро вознаградит всех своих друзей и даст начало новой династии, равной которой не было вовеки. И основателем этой династии будет он, безродный Ань Лу-шань, обязанный всем лишь самому себе.
«И своей любви к Ян Гуй-фэй».
Он сказал это сам себе, и тут же его разум, столь трезвый всегда, затемняется мутной волной безумия. Огромным напряжением воли он берет себя в руки, приказывает себе забыть об этом. Слишком долго он Ждал встречи с единственной женщиной, которую любил… Спокойно, говорит он себе, спокойна. Еще спокойней, еще чуть-чуть…
Размашистыми шагами ходит цзедуши по площадке перед шатром. Он ждет донесений от передовых отрядов. Ему не надо было даже глядеть на карту: голоса гонгов и свирелей справа указывали ему местонахождение правого крыла — там, где упрямый коротышка генерал Тянь Чен-сы вел отряды туфаней — «небесных гордецов», бесстрашных воинов, поклонявшихся голове дикого барана и пожиравших прямо на поле битвы печень поверженного врага. Судя по звуковым командам, знамя Синего дракона уже вышло на исходные рубежи, более того, войска туфаней продвинулись еще вперед, охватывая подковой заставу Ханьгуань… Но слева… Левое крыло опаздывало. Отряды коци, конных лучников, которыми командовал этот беспутный мальчишка, его сын, должны были обойти заставу, не то старая лиса Гэ Шу-хань может выскочить из западни. Генерала Гэ Шу-ханя мятежный цзедуши знал давно. И знал, что шутить с ним не приходится.
Время шло. Как далекий прибой, нарастал и опадал шум взбудораженного миллионного города, готовящегося к осаде. Яркие огни сигнальных знаков взывали о помощи и предупреждали об опасности. Генерал-губернатор Ань Лу-шань, в свое время бывший инспектором пехоты, приложил немало усилий, чтобы наладить четкую службу огневой сигнализации. И теперь он не мог не отдать ей должного — служба работала бесперебойно. Но вот на правом фланге погас и замолчал один пост, затем другой. Этот Тянь Чен-сы и его не знающие страха туфани уходили все дальше и дальше. Не слишком ли далеко?
Левое крыло все еще запаздывало. Положение становилось угрожающим. Если старый Гэ Шу-хань решится ударить всеми силами по правому крылу, спасти отряды Тянь Чен-сы будет невозможно. Решится ли Гэ Шу-хань? Медлить нельзя. Короткий свисток, несколько отрывистых фраз. И вот уже четыре всадника исчезли в темноте: двое — на поиски знамени Белого тигра, под которым двигался левый фланг, два других — в резерв, где с отборными войсками под знаменем Черной черепахи стоял лучший полководец мятежной армии, «железный хусец» Ши Сы-мин.
Но не успел топот их коней затихнуть во тьме, как огненный семафор заставы Ханьгуань передал, что генерал Гэ Шу-хань приветствует своего старого друга, цзедуши Ань Лу-шаня и желает переговорить с ним наедине. Через несколько минут ответная депеша указала место встречи и количество почетного конвоя.
Они встретились. Некоторое время они испытывали неловкость, не могли начать разговор. Глядели друг на друга, отмечая перемены. Генерал Гэ Шу-хань стал еще суше, кожа на его лице казалась пергаментной. Он, как заметил Ань Лу-шань, все еще находился в ранге военного чиновника третьего класса — немного для такого искусного военачальника. Ань Лу-шань шутливо намекнул на это генералу Гэ Шу-ханю. У того пергаментное лицо стало еще высокомернее, и Ань Лу-шань понял, что попал в больное место старика. Он, Ань Лу-шань, сумел бы по достоинству оценить военный талант такого полководца. Гэ Шу-хань смотрел на него пронзительным взглядом водянистых запавших глаз.
— На каком посту? — спросил он напрямик.
Ань Лу-шань мгновенно ответил:
— А ваши условия?
Генерал Гэ Шу-хань выпрямился в седле, закрыл глаза:
— Пост военного министра.
— Невозможно, — сказал цзедуши.
При свете факелов было видно, как побагровело лицо старика.
— Пост военного министра обещан Ши Сы-мину, — продолжал Ань Лу-шань. — Тут я ничего не могу изменить.
Старый Гэ Шу-хань открыл глаза, но ясно было, что он ничего не видел — он еще не вернулся из страны несбывшихся надежд. Наконец он проскрипел:
— Это будет стоить вам правого крыла. Они зарвались, вам это известно. Кем вы хотели назначить этого недоучку Тянь Чен-см?
— Генеральным инспектором пехоты, — машинально ответил Ань Лу-шань.
. — Через два часа эта должность будет у вас вакантной, — и он повернул коня.
Ань Лу-шань положил руку на его поводья.
— Не торопитесь, — сказал он. — Если вы мне докажете, что мой левый фланг не успеет прийти на помощь туфаням, должность генерального инспектора пехоты — ваша.
— И звание чиновника первого класса, — договорил Гэ Шу-хань.
— И оно — тоже, — подтвердил Ань Лу-шань.
Старик поманил цзедуши пальцем.
— Твой сын в восьмидесяти ли отсюда ждет меня в засаде, — сообщил он и, ужасно довольный, заскрипел старческим смехом.
Ань Лу-шань не поверил.
— Они поймали моего лазутчика с секретным приказом посту номер три, — пояснил Гэ Шу-хань. — Из этого приказа они узнали о засаде, которую я будто бы им готовлю. Зная вашего сына, можно было не сомневаться, что он клюнет на эту удочку. Вся сложность была только в том, чтобы мой лазутчик случайно не разминулся с передовым отрядом вашего левого крыла. Судя по всему, он не разминулся.
— Этот человек шел на верную смерть, — задумчиво сказал цзедуши.
Старый генерал пожал плечами: это было таким пустяком! Все же он добавил:
— Этот человек считал, что таким образом он спасет много других жизней. Он сам вызвался на это. Теперь вы мне верите?
— Да, — сказал Ань Лу-шань, — теперь верю.
— Генералу Тянь Чен-сы повезло, что мы договорились, — сказал Гэ Шу-хань, прощаясь.
— Как звали этого смельчака? — спросил Ань Лу-шань.
Генерал Гэ Шу-хань понял не сразу.
— А, этого, — сказал он. — Какой-то Ду Фу.
И он ускакал, не услышав, как Ань Лу-шань пробормотал: «Странные вещи творятся на свете».
Через час жители столицы с ужасом и отчаянием увидели, как под грохот бубнов, горнов и литавр армия, защищавшая заставу Ханьгуань, с развернутыми знаменами двинулась навстречу армии мятежников, вошла в нее, растворилась и исчезла навсегда. А с нею для горожан исчезла и последняя надежда.
Утром того же дня делегация из девяти выборных горожан Чанъани, прибыв к Ань Лу-шаню, подала сигнал открыть все ворота.
Мощным потоком, поражая взор пестротой одеяний, а слух — разноголосьем наречий, текла, без конца и края, двухсоттысячная армия Ань Лу-шаня в распахнутые ворота Чанъани. Через Западные ворота двигалась кавалерия туфаней, носивших на левом плече изображение дикого барана; их длинные нечесаные космы и острый запах наводили невольный ужас. Люди, оказавшиеся в это время у других, Восточных ворот, могли видеть, как под знаменем Белого тигра в город входили конные лучники, коци, набранные целиком из людей племени кидань, славившихся своим непревзойденным искусством укрощения диких коней и стрельбы из лука. Они носили желтоверхие шапки, отороченные дымчатым соболем; за спиной у каждого был короткий лук и триста стрел в кожаном круглом колчане.
Но самое величественное зрелище можно было наблюдать у Северных ворот, куда под знаменем Среднего дворца, украшенным синей звездой, входили отборные отряды Ань Лу-шаня. Сам он ехал впереди, прямо за знаменосцем, на огромном и злом черном жеребце, небрежно держа красные с золотом поводья, которые как высший знак отличия были пожалованы ему некогда еще императором. На нем был лиловый халат с золотыми кистями, а поверх халата — серебряный, казавшийся кружевным панцирь. На груди и спине Ань Лу-шаня каждый мог увидеть желтый четырехугольник с изображением разъяренного единорога — знак принадлежности к первому классу военных чиновников страны. Следом за Ань Лу-шанем на боевой колеснице ехал глашатай, выкрикивавший слова новых декретов, главным из которых был декрет об освобождении от налогов всех граждан города сроком на один год.
За колесницей с глашатаем двигалась другая, еще более существенным образом подтверждавшая наступление лучших времен, ибо на ней стоял огромный сундук, откуда два солдата, стоявшие на колеснице, размеренными движениями швыряли в толпу горсти мелких серебряных монет…
Затем шли войска.
Основное ядро этих войск состояло из пограничных китайских отрядов, которые сам бывший генерал-губернатор обучил и сплотил во время службы на дальних рубежах. Долгие годы службы вдали от родных мест сделали этих простых людей почти похожими на кочевников, среди которых им приходилось жить и время от времени — сражаться. Но все же в самых глухих закоулках души они оставались китайцами, и теперь им было приятно — кому снова, а большинству впервые — увидеть свою великолепную столицу и услышать родной тягучий говор. Гордо выпрямившись в седле, ехали они по широкой улице Бучжэнли, одинаковые в своих темно-серых шерстяных халатах с красными кушаками. У многих на груди блестели высокие солдатские награды — серебряные продолговатые бляхи с надписью: «Отважный воин».
С еще большим изумлением смотрели на невообразимое великолепие китайской столицы остальные войска, состоявшие из кочевников. Впервые в жизни видели они такие дома, такие роскошные дворцы, такой многолюдный город. Со страхом и скрытой надеждой смотрели на входящих победителей жители Чанъани. Чего можно ожидать от этих полчищ? «Конечно, ничего хорошего», — утверждали одни и спешили домой, чтобы припрятать наиболее ценное. «Хуже не будет», — говорили другие. «Но ведь это же дикари!» — «Ну и что же? Кроме того, среди них много и наших, китайцев». И многие продолжали стоять, словно прикованные друг к другу, не сознавая, что их удерживает на месте извечный человеческий порок — любопытство, равно как и извечное человеческое качество — неистребимая вера в лучшее будущее.
А солдаты все шли и шли, и гордо двигались впереди своих полков генералы, и по толпе полз прерывающийся шепот: «Вон тот, глядите… левее, левее… это генерал Ши Сы-мин… А тот одноглазый — это принц Аббас. Вот тот, ростом более семи чи, — наш, китаец, генерал Ли Бао-чень, смотрите, на груди у него лев…» И мальчишки просили поднять их повыше, чтобы и они могли увидеть прыгающего льва на халате генерала, и самого генерала — высокого и равнодушного старика, и посмотреть на заморского принца Аббаса, изящно сидевшего на белоснежной кобыле…
И шли нескончаемым молчаливым потоком серые от пыли и усталости простые воины, положив на плечо переднему ряду длинные раздвоенные копья, чьи-то мужья, чьи-то братья, чьи-то женихи, шли, тяжело ступая по улицам чужого им города, неся на концах своих копий свою и чужую жизнь, разрешение чьих-то честолюбивых надежд, замыслов, желаний.
И мальчишки восхищенно смотрели на них, и завидовали, и долго бежали вслед, не слыша грозного зова отцов и тревожного крика матерей.
* * *
Приказ гласил — перерезать все дороги и тропы, ведущие от города на юг. Людей, задержанных в окрестностях столицы, допрашивать с пристрастием. Пойманных лазутчиков направлять под усиленной охраной в штаб, ремесленников — в распоряжение управления обороны, судьбу прочих после проверки определять на месте.
Были ли лазутчики в этой толпе заморенных и грязных бродяг? Офицер заставы презрительным и равнодушным взглядом обвел задержанных. За то время, что он был здесь начальником — уже без малого три недели, — он научился угадывать ремесло каждого — по рукам, по взгляду, по выражению лица, по манере держаться, по запаху, наконец. Крестьяне были сгорбленны и жалки с их огромными потрескавшимися ступнями и рабским взглядом животного.
— Вот ты, и ты, и ты, и вот те двое пусть отойдут в сторону. И вон те двое ремесленников — пусть станут чуть левее. Наверняка сбежали из шерстобитен, так и несет от них козьей шерстью.
Женщины с детьми, цепляющимися за оборванные и грязные, желтые от впитавшейся пыли подолы, — куда их деть прикажете? Толка от них никакого, жалкие, загнанные клячи. Да, здесь поощрений от начальства не получишь. И офицер быстро решает — отпустить. Пусть проваливают, да побыстрей…
Понемногу все задержанные оказываются разбитыми на небольшие группы, и вот уже остался только один человек лет сорока с худым и морщинистым лицом. Остальные задержанные явно его не знают. Офицер смотрит на его руки. В глазах мелькает какое-то подобие интереса — это явно не крестьянин. Офицер подходит поближе, принюхивается. И не ремесленник тоже.
— Кто такой?
Человек поднимает на него взгляд глубоко запавших глаз. Устало смотрит он на молодого офицера, на воронье перо — боевой знак отличия, лихо воткнутый в шлем, на золотые кольца, на саблю в богатых ножнах.
— Ты — шпион? Лазутчик? Признавайся.
По произношению, по коротким рубленым фразам видно, что молодой офицер родом из пограничных районов. Учился он чему-нибудь кроме военного дела?..
— Ну! Отвечать. Признаешься?
— Да, — сказал человек. — Признаюсь. Я не шпион.
— Не хитрить. — Взгляд офицера становится цепким. — Обыскать его.
Человека обыскали. Офицеру докладывают — в мешке у человека обнаружено шесть чистых листов бумаги, семнадцать — исписанных, палочка туши и прибор для письма в дорогом футляре.
Офицер мельком взглянул на исписанные листы. Вынул из яшмового футляра кисть и осторожно потрогал упругое жальце. Быстро, в упор, взглянул на человека. После этого сказал убежденно:
— Ты — шпион.
Остальных задержанных он велел своему помощнику распределить согласно приказу. Этого он допросит сам.
Офицер сидел под навесом и ждал, пока солдаты уведут крестьян и ремесленников в сарай за караульным помещением — оттуда их в специальных повозках ночью увезут в город. Тонкой бамбуковой щепкой офицер ковырял в зубах, стараясь скрыть ему самому непонятное смущение. Он был очень молод и очень храбр — именно храбростью он заслужил офицерский чин и воронье перо, это было совсем недавно, при штурме Лояна. Этот человек, не похожий ни на крестьянина, ни на ремесленника, не нравился ему. Кто он? Может быть, и на самом деле лазутчик?.. Три недели службы в этой дыре, вдали от Чанъани, надоели офицеру сверх всякой меры. Только и дела, что вылавливать вшивых крестьян и отправлять, как скот, в город. Кто тут мог оценить его офицерское звание? Офицеру очень хотелось в столицу, где его более удачливые товарищи день и ночь веселились в обществе красивых девушек. Но приказ был строг — заставу разрешалось покидать только в исключительных случаях. Все эти долгие три недели исключительных случаев не представлялось. Но, может быть, ему сейчас повезет…
— Ну так что?
Человек с усталым взглядом еще раз посмотрел на офицера. Потом он сел. Офицер с изумлением таращил глаза. Он не мог сразу решить, что ему надо делать. Он нерешительно взялся было за саблю… Нет, не то. Он вынул из-за пазухи маленький костяной свисток и дунул в него два раза. Тут же появился хромоногий писарь, присел рядом с офицером, положил на колени дощечку. Человек сидел на земле, с наслаждением вытянув ноги. Он шел без передышки двое суток. За последний месяц он трижды чудом избегал смерти. Он пережил предательство генерала Гэ Шу-ханя, которое было для него еще хуже, чем смерть. Он устал. Он смертельно устал и не хотел больше ничего. Куда он шел? На юг. Зачем? Он и сам задавал себе этот вопрос, но все равно шел. Если бы ему удалось миновать эту заставу, он бы выбрался за линию мятежных войск. Не удалось. Что же…
— Как тебя зовут?
На мгновение им овладело искушение назвать какое-нибудь другое имя. Интересно, разыскивают ли его? Нет, он не станет вымаливать себе жизнь, а умирать все же лучше под своим именем.
— Меня зовут Ду Фу.
— А твое настоящее имя?
— Это настоящее.
— Ты шпион.
— Нет.
— Имя!
— Я уже сказал.
Офицер смерил человека внимательным взглядом. Пожалуй, он был даже доволен. Если этот человек и дальше будет вести себя так же, не исключено, что тот самый случай представился. Подозрительная личность. Только бы он не рассказал все раньше времени. На всякий случай офицер сказал громко:
— Не умничать. Отвечать на вопросы. Не то будет очень плохо.
Голос у офицера был высокий и ломкий. Ему недавно исполнилось девятнадцать лет, и он был красив. Красота молодости…
— Имя?
— Ду Фу.
— Ну ладно, — миролюбиво сказал офицер. — Мы еще вернемся к твоему имени. Возраст?
— Сорок четыре года.
— Профессия?
Он и сам был изумлен своим ответом:
— Поэт, — сказал он.
Бамбуковая щепка застряла на полпути ко рту.
— Кто, кто?
Человек снова пошевелил потрескавшимися губами:
— Поэт.
— Что значит — поэт?
Ду Фу с трудом разлепил веки. Было очень жарко, двое суток он не спал, пробираясь на юг. Он был голоден, его мучила жажда. Язык терся о десны, причиняя боль. И все же. У него хватило сил удивиться. Так вот, значит, каков один из новых хозяев столицы. Он спрашивает, что такое поэт. Читал ли он что-нибудь в своей жизни? Где он учился? Учился ли он вообще? Какое молодое у него лицо. И вообще, как хорошо быть молодым… Солнце светило прямо в глаза, и веки смыкались сами. Как забавно, что его задержал именно этот пост, начальник которого не знает, что такое поэт. Какой глупый, какой наивный вопрос. Что такое поэт…
И вдруг он понимает, что вопрос это совсем не такой простой и что он не знает, как на него ответить…
Офицер ждет. Он заинтересован. Он не знает, что такое поэт. Сейчас он это узнает. Человек раскрывает рот. Он что- то говорит. Что?
— Дайте мне воды, — шепчет человек. — Во-ды…
— Что он там бормочет?
Офицер с трудом понимал здешний диалект. Писарь встал, аккуратно отложил дощечку для письма, наклонился.
— Воды… — прохрипел Ду Фу.
Теперь офицер понял. Он вскочил. Писарь поднял на него глаза и немного побледнел. Сейчас доблестный Ши Гуань вытащит свой благородный меч и глупая голова этого болвана покатится по земле. Писарь даже отодвинулся немного, чтобы кровь не брызнула ему на халат. Офицер нервно тянул меч из ножен. Вытянул. Плашмя опустил его на спину писаря.
— Проклятый сын свиньи! Живо! Ну…
От боли и неожиданности писарь споткнулся и упал. Офицер смеялся, показывая острые белые зубы, — да, это тот самый исключительный случай.
Ду Фу сидел в полузабытьи, свесив голову на грудь. Он так и не успел объяснить офицеру и кавалеру вороньего пера, что такое поэт. Прибежал писарь с кувшином воды. Ду Фу глотал, захлебывался, пил, пил, пил… Все. Писарь встал. Офицер Ши Гуань рассматривал исписанные свитки, испещренные ниспадающими четкими строками. Остановившийся в двух шагах от него писарь с испугом пытался понять, почему начальник держит исписанный лист вверх ногами. Офицер, обернувшись, перехватил его взгляд, побагровел, быстро свернул лист в трубочку.
— Это шифрованное донесение, — сказал он. — Пусть приготовят экипаж и конвой. Я сам доставлю этого человека в Чанъань. Приготовь протокол допроса. Человека, называющего себя поэтом по имени Ду Фу, накормить и привести ко мне. Все. Убирайся.
Писарь исчез. Он слишком хорошо знал крутой нрав своего начальника. Вечером, в сопровождении офицера и двух солдат, задержанный отбыл по пыльной дороге в Чанъань.
И это столица? Из окна экипажа, подпрыгивавшего на улицах Чанъани, Ду Фу всматривался в изменившийся, непохожий, непривычный облик притихшего города. Куда подевались разноцветные толпы, наводнявшие в прохладные утренние часы бесчисленные улицы? Где разноголосье бродячих певцов, торговцев, ремесленников, где не имеющая ни конца ни края теснота движущихся, толкающихся, кричащих людей? Где длинные — на полквартала — процессии официальных лиц, прибывших издалека, дабы преклонить колени перед Сыном Неба? Где пестрота, аромат и вонь торговых рядов? Ничего нет. Пусто и безлико. Голые осыпающиеся стены, редкие прохожие, испуганно жмущиеся к забору при виде экипажа с эскортом из двух нездешнего вида всадников. На заборах — огромные, почти в человеческий рост, иероглифы. «Гао Ли-ши — виновник разорения страны». «Оторвать голову изменнику государства Ли Линь-фу». Ду Фу читает надписи, повторяет вслух. Офицер смеется:
— Так мы покончим со всеми изменниками и врагами государства. Тех двух, которых вы назвали, кажется, еще не поймали. Зато другие уже получили свое сполна. Скоро мы их увидим.
И действительно, скоро Ду Фу увидел тех, кто получил сполна. Вот они. На базарной площади торчат их головы, на тонких и длинных бамбуковых копьях. Некоторых еще можно узнать. И Ду Фу узнает их — видные сановники, да, но не имевшие никакого влияния на ход государственных дел. Очевидно, они имели несчастье сразу подвернуться под руку.
Офицер и кавалер вороньего пера Ши Гуань, не знавший до вчерашнего вечера, что такое поэт, говорит Ду Фу с тем снисхождением, с которым сила относится к слабости:
— Мы переделаем эту страну. У нас есть свое солнце — великий полководец Ань Лу-шань. Он один будет думать за всех, а все будут ему повиноваться. И — никаких вопросов. А всем, кто посмеет в чем-нибудь сомневаться, мы приделаем бамбуковые шеи.
И красивый молодой офицер заразительно смеется чистым детским смехом, откидывая голову. Бамбуковые шеи! — это он здорово придумал, надо будет запомнить.
— И еще, — говорит он, насмеявшись вдоволь, — мы переломаем собачьи ножки тем, кто много воображает. Да. И они, эти умники, будут ползать перед нами на брюхе, пока не подохнут.
И, снова давясь от смеха, он легонько толкает Ду Фу в бок, словно приглашая его разделить веселье. Но Ду Фу молчит. «Так вот, значит, каковы, — думает он, — намерения этих победителей. Переломать ноги всем несогласным. Способ действенный, что и говорить… Но не нов. Нет, совсем не нов, это уже было и совсем недавно, и давно, и будет, надо полагать, не раз еще в дальнейшем». Тем меньше он видит оснований для смеха.
Ду фу смотрит в окно. Вот какой-то прохожий боязливо прижался к стене… «Как сказал офицер? Переломаем их собачьи ножки? Лексикон победителей…» Теперь он начинает понимать, почему так тихо стало в столице Китая Чанъани, тихо, если не считать резких и четких звуков военной команды и гулкого шага молодцов, марширующих с песнями по вымершим улицам притаившегося города.
Ду Фу повезло. Дежурным комендантом в этот день был некто Сяо Жу, офицер центрального штаба Ань Лу-шаня. В отличие от кавалера вороньего пера Ши Гуаня, ему не нужно было объяснять, что такое поэт. Более того, он даже знал, кто такой Ду Фу. Лет за пятнадцать до конца периода Кайюань он, тогда еще кандидат на офицерский чин, был свидетелем стремительного взлета Ду Фу, когда стихи его заслужили личную похвалу императора и вознесли его из безвестности в число немногих избранных. Знал он также и другое, во всяком случае, догадывался, что Ань Лу-шань хотел бы привлечь таких людей. Поэтому храбрый и доблестный Ши Гуань был не. мало удивлен тем вниманием, с которым офицер центрального штаба отнесся к его докладу.
— Ваше чутье не подвело вас, — сказал в конце рапорта Сяо Жу. — Вы, кавалер Ши Гуань, заслуживаете поощрения, и я намерен доложить о вас на вечернем совещании генералу Ши Сы-мину.
Воспользовавшись случаем, кавалер Ши Гуань попросил разрешения задержаться в столице. Получив желанное разрешение, он прямым ходом отправился в ближайший публичный дом и там, напившись до чертиков и изрубив своим боевым мечом столик и изрядное количество посуды, поведал всем, что он, Ши Гуань, поймал и обезвредил «самого Дай Фай».
Девушки, всегда отдающие предпочтение храбрым мужчинам, были в восторге. Несмотря на это, стоимость испорченной мебели и разбитой посуды кавалеру пришлось возместить.
— Так вот вы теперь какой…
Большими тяжелыми шагами Ань Лу-шань, цзедуши и генерал-губернатор, а ныне владыка столицы, приблизился к Ду Фу. Вгляделся.
— Я узнал вас. Ну а вы — помните меня?
Ду Фу кивнул. Спазма сжимала ему горло. Слишком много выпало на его долю в этот месяц. Слишком много он видел, бредя по пыльным желтым дорогам, затерявшись среди тысяч беженцев, изможденных и грязных, среди детей и стариков, бесшумно и легко падавших на дорогу и остававшихся лежать, загребая вязкую пыль деревенеющими пальцами. Слишком резок был переход от караульной будки с солдатами, бросающими кости на земляном полу, до императорского дворца и этого человека, с неслыханной дерзостью посягнувшего на божественную власть императора. Вот он сидит рядом, этот человек, принесший в страну горе и разорение. Ду Фу мог бы прикоснуться к нему, он чувствует запах, исходящий от него, — запах заскорузлого Солдата.
— Так вы и вправду помните меня?
Да, Ду Фу помнит генерала — так устроена его память. Но генерала Ань Лу-шаня и в самом деле трудно забыть. Эти живые темные глаза навыкате, эти огромные тяжелые руки с длинными, словно живущими отдельной жизнью пальцами. Это было так давно — по существу, в иной жизни, на приеме в императорском дворце. Они оба были тогда в расцвете славы — молодой герой, победитель страшных киданей Ань Лу-шань и молодой поэт, удостоенный громогласной похвалы императора. После приема несколько дней и ночей провели они в одной и той же веселой компании, среди прекрасных девушек столицы. Но затем пути их разошлись — самый молодой генерал-губернатор уехал на север командовать пограничными войсками округа Пинлу, а поэт, разочаровавшись в ложном дружелюбии двора, ушел странствовать по бесконечным дорогам людского горя. Теперь они встретились, и один из них — изменник, другой — неудачник. Изменник хочет стереть прошедшие пятнадцать лет, он обращается к неудачнику:
— Вы должны мне помочь.
— Я — вам?
— Да, — говорит цзедуши. — Именно вы. — Лицо его мрачнеет. И он повторяет снова: — Вы мне нужны. Именно вас я ждал. Сама судьба послала вас ко мне. После того как мне рассказал генерал Гэ Шу-хань, я уже не думал, что когда-нибудь увижу вас… Но погодите, я, кажется, плохой хозяин. — Он берет в руки маленький колокольчик.
Откуда взялись эти люди? Они появляются бесшумно, они исчезают еще более бесшумно, услужливые и безмолвные привидения. После них остаются разостланные обеденные ковры, столики черного дерева с причудливой инкрустацией, серебряные блюда и давно уже забытый запах — суп из верблюжьего копыта, еда пресыщенных богачей. Этот резкий, острый аромат словно заполнил комнату далекими призраками пятнадцатилетней давности.
— Садитесь, ешьте, пейте, — говорит цзедуши Ань Лущань. Сам он слишком взволнован, ему не до еды.
Исподлобья смотрит Ду Фу на бегающего Великана, в каменных складках лица которого какая-то непонятная судорожная одержимость. И — напряженная, невольная недоверчивость.
— Вы ешьте….
И Ду Фу обжигается, старается не спешить, но не может не спешить, спешит. Жирный прозрачный благоухающий суп янтарными каплями застывает на старом халате. Он бы ел этот прекрасный суп, и ел бы, и ел…
Он отодвигает чашку.
— Я докажу им всем! — страстно говорит в это время Ань Лу-шань. Он резко останавливается у окна и вперяет взор туда, где, должно быть, находятся его противники, те, кому он должен доказать, — Я докажу им…
Он подбегает, садится на корточки, заглядывает Ду Фу в лицо.
— И вы тоже, — тихо говорит он с упреком. — И вы тоже. Знаю, знаю.
Он встает.
— Вы тоже найдете для меня слова упрека. Вы видели головы… Видели, я знаю. И то, что наболтал вам глупый мальчишка… Мне обо всем уже доложили… Это все не для вас. Мы вынуждены поступать подобным образом — пока.
Это продлится недолго. А этих… — Он внезапно успокаивается. — Мне пришлось их казнить. Они были слишком упрямы… Им предложено было выбрать между старым императором… и новым…
— Вы хотите сказать?.. — от волнения Ду Фу не договорил.
Ань Лу-шань долго не отвечает, разглядывая в дальнем углу что-то видимое ему одному. Потом он начинает говорить. Голос его тих, едва слышен, и в нем — горечь.
— И вы… — произносит он и качает головой. — Вы тоже не верите. Император! Сын Неба! Для вас это слово столь священно, вы ведь китаец, полноценный, чистокровный, без примесей. А я? Кто я — в ваших глазах, в глазах тех? Полукровка, дикарь. Почти что обезьяна… Может быть, не без способностей, занятная обезьяна, может быть, даже полезная. Но божественный император… О, я знаю, каковы, чистокровные китайцы, ханьцы, относитесь к людям другой крови. Я испытал это на себе. Вы позволяете кое-что таким людям — например, умирать за великий Китай в битвах с киданями, или туфанями, или уйгурами. Тех, кто не умер, вы можете даже наградить… и поставить тут же на место, потому что и награждая вы награждаете дикарей. Люди второго сорта — вот кто мы для вас. Расторопные слуги, которых можно похвалить и которые от этой похвалы должны чувствовать себя на седьмом небе от радости. И даже вы — вы! — не можете побороть в себе этого. Быть всегда людьми второго сорта? Ну, нет. Вот вам одна из причин, почему мы восстали. И почему нас поддерживает народ. Он так же угнетен, хотя и по другой причине. Это восстание людей второго сорта, которые хотят доказать, что они не хуже других. Во всем.
— Я никогда не считал вас человеком второго сорта, генерал.
— Я буду императором, — тихо сказал Ань Лу-шань, и от этого тихого голоса Ду Фу содрогнулся. — Я докажу, что и я — полутюрок, дикарь, обезьяна — смогу управлять государством не хуже чистокровного Мин Хуана. И вы — вы мне в этом поможете. Вы должны мне помочь, вы нужны мне. — Он раскидывает руки. — В моей империи не будет несправедливости. Не будет людей разных сортов. Все будут равны — китайцы, тюрки, си, шивэй. Все будут иметь равные права и равные обязанности. Все, кто захочет меня признать.
— А кто не захочет?
Ань Лу-шань обернулся так резко, что кисти на длинном скрученном шнурке не успели мотнуться за ним.
— А тех… — сказал он жестко, — сначала мы попробуем их уговорить. В этом-то вы и должны мне помочь. Но если вы — и такие, как вы, — откажетесь мне помогать, и не будет никого, кто захотел бы мне помочь, я… — Он постучал согнутым пальцем по оконному переплету. Усмехнулся. Вздохнул. — Тогда мне придется их заставить. Я смогу это сделать.
В этом сомневаться не приходилось. Головы на бамбуковых шеях…
— Нас, китайцев, десятки миллионов, — осторожно сказал Ду Фу. — И у каждого есть глаза. Они смотрят этими глазами на тех, кто сейчас распоряжается их жизнью. Они сравнивают то, что есть, с тем, что было. И с теми… Вам понадобятся чиновники, вам понадобится много людей. Ваши офицеры, из которых вы хотите сделать чиновников, храбры, но необразованны. Некоторые… — он запнулся, — мне кажется, что некоторые не умеют даже читать. Еще менее образованны ваши солдаты. Они грубы и жестоки. Может быть, они такие, потому что молоды и лишены образования, но от этого ничего не меняется. Так как же смогут они решать важные для страны — и для вас в конечном итоге — вопросы, как смогут они управлять, руководить, судить, выносить приговоры?
— Их здоровый дух подскажет им правильное решение. Когда волк нюхает след, он знает, чей это след — врага или друга. Я не требую от своих подчиненных знания. Я требую повиновения и исполнительности. А думать за них буду я.
И вы будете, мой дорогой друг, вы будете думать. Вы и те, кто захочет мне помочь.
— Но… ведь это… измена…
Шепот, но он был услышан.
— Измена? Кому? Императору Мин Хуану? Или, может быть, евнуху Гао Ли-ши? — Голос генерала стал мягок, он вибрировал, наполняя собой огромное пространство зала.
Ду Фу молчал.
Значит, императору.
Ань Лу-шань вытянул вперед руку, словно взвешивая;; это слово на ладони, затем решительно отмел, выбросил, забыл.
— Страна обязана ему многим, — упрямо сказал Ду Фу. — И я — тоже.
— Конечно, вы ему обязаны, — подхватил генерал. — Не он вам — вы ему. Еще бы — он вас заметил, приласкал. Император… разве он не такой же человек, как другие? Разве он не хуже многих, кого знаем вы и я? Да что говорить! Вы ведь жили при дворе, нагляделись. Не зря же ушли… В чем вы увидели его гений? Он выигрывал войны. Но не я ли водил его полки? Может быть, он получил в боях восемнадцать ранений? Он выигрывал войны… Это я выигрывал войны. Я побеждал в сражениях, я и мои друзья и недруги — Ли Хуай-сянь, Ши Сы-мин, Ли Бао-чень. Он повесил нам на грудь и спину львов и единорогов, а затем отослал подальше от столицы, на север и на юг, на восток и на запад, только бы подальше. Он помыкал всеми, как рабами, — вами и нами равно. Его люди проверяли благонадежность вся и всех. Хватали и припрятывали всех, кто казался подозрительным Гао Ли-ши или Ли Линь-фу. Да, я казнил восемнадцать человек, это так. А сколько казнил ваш обожаемый император, которому вы все так боитесь нарушить верность? Где, скажите, наследный принц Шоу? Где три его брата? Где тысячи других, арестованных за одно неосторожное слово? Вы молчите… Вы все еще считаете, что страна и вы лично обязаны ему многим… Я не считаю этого. Государство не может считаться справедливым, если никто в нем не может быть спокоен за свою жизнь. Я назвал вам несколько примеров. Я мог бы назвать их втрое, вдесятеро больше. Я назову еще только один пример. Вы помните, наверное, шум, поднятый вокруг заговора семи генералов Южной армии? Какой только грязью их не поливали! Затем их казнили как последних собак. Их повесили под окном императора во дворце Пылающего солнца. Так вот — они были невиновны. Ни один из них не был предателем. Ни один и не помышлял об измене. Они были слишком известны — вот и вся их вина. Но вы-то все это прощаете вашему Сыну Неба — это, как и многое другое. Почему же вы так непоследовательны, мой ученый друг?
— Чего же вы хотите от меня? — в замешательстве прошептал Ду Фу.
— Мы должны все перестроить. Это будет великий процесс. Мы изменим эту страну. В ней все будет иным. Но один я не могу это делать. Вы правы. Мне нужны люди. Мне нужны вы и ваши друзья. Я знаю — среди моих сегодняшних друзей и соратников много таких, что с радостью и без колебаний предадут меня, лишь задует ветер посильней. — Он понизил голос, — Мой сын — один из них. Они считают, что власть берут лишь для того, чтобы набить сундуки поплотней. Я все знаю. Помогите мне. Для того чтобы установить царство справедливости, мне нужны умные головы. А если вы все откажетесь и оставите меня — вам же самим будет хуже. Итак, чего вы хотите? Выбирайте…
«…райте» — повторило эхо в дальнем углу мрачного пустого зала. «Выбирайте» — это прошептало нечто неведомое внутри самого Ду Фу. Огромная тяжесть сдавила ему плечи и грудь, словно это свод неба, вечный и нерушимый, опустился на него. Вот оно, Слово. Оно рождается, уже родилось, оно произнесено и уже не исчезнет. Но ты ведь хотел этого, ученый и поэт по имени Ду Фу. Ты хотел этого всегда — принести себя отечеству, родине, стране, всем людям. Что же медлишь ты, почему колеблешься? Ведь слово произнесено и в твоей воле поймать, подхватить его, как поводья скакуна, либо упустить навсегда. Но странная робость сковывает язык. Почему? Вот оно, оказывается, как бывает, когда внезапно исполняются невысказанные, самые глубокие желания. Ни радости не испытываешь, ни изумления — только страх, словно увидел под ногой разверзшуюся бездонную пропасть. Страх, тяжесть — и тоскливое чувство одиночества.
Ань Лу-шань стоял у окна, вцепившись пальцами в ажурную решетку. За его спиной все накапливалась и загустевала тишина. Там, в тишине, зрело решение — но какое? Этот человек был нужен ему, именно этот. Сейчас он боролся один на один с самым искушающим из всех желаний — желанием власти, реальной, всемогущей. И, как стон, донесся до генерала голос:
— Но что? Что я могу?
Он только этого и ждал, цзедуши и генерал-губернатор Ань Лу-шань. В одно мгновенье он оказался рядом со сдавшимся человеком.
— Мой дорогой цзиныпи, — шепнул он, — вас надо понимать так: «Что могу я, поэт?» Да, мне нужны поэты. Но — облеченные властью. Когда-то вы говорили, что поэты, как и врачи, держат руку на пульсе человечества. Будьте же врачом этой страны. У меня много воинов, по натуре они ближе к хирургам. Но тех, кто мог бы лечить без ножа, — нет. Вы — первый. — Он отступил назад и произнес официальным голосом: — Цзиныпи Ду Фу! Вы возводитесь в чин советника первого разряда. — И добавил уже шепотом, на ухо: — Вы будете теперь держать руку на пульсе страны. И лечить. А если понадобится отворить кровь — вот для этой неприятной работы и пригодятся необразованные солдаты вроде кавалера Ши Гуаня.
И еще сказал он, помолчав:
— Я понимаю, высокочтимый друг: склонив вас к согласию, я сослужил вам плохую службу. Прежде у вас было мало друзей, теперь будет много врагов. Но один друг у вас все-таки есть, один есть.
Спустя неделю в конце улицы Минкэцюй, ведущей к Абрикосовому саду, в доме известной певицы Чэн Четвертой встретились двое молодых людей. Ничто не выдавало в них высокого положения, может быть только торопливость, с которой остальные гости поспешили покинуть уютный домик, да та предупредительность, с которой им были поданы вино и закуски. Потягивая вино, молодые люди внимательно и со знанием дела слушали простую протяжную мелодию, которую выводила на флейте хорошенькая девушка. При этом они обменивались короткими фразами.
— Итак, — сказал один между двумя глотками, — ты говорил с ним?
— Нет еще, — с явным усилием ответил второй, и мягкий подбородок его дрогнул.
— Трусишь? — с равнодушным презрением сказал тот, что выглядел постарше. — Что ж, я понимаю тебя, Ань Цзин-сюй. Он ведь все-таки твой отец. При этих условиях ты можешь и не выполнить нашей клятвы. Я это знал. Знал, что так будет. Но…
Безвольный подбородок второго напрягся.
— Клятву я сдержу. Обещаю тебе, Ши Чао-и, что сегодня же поговорю с ним.
— Нет, нет, прошу тебя, — небрежно сказал первый, поправляя подушку, — не надо. Я не хочу причинять тебе ни малейшего вреда. Кроме того, может случиться, что, когда ты станешь сыном императора, ты вспомнишь вдруг какую- нибудь обиду и тогда — кто знает причуды монархов — прикажешь меня казнить. А? — Он произнес это почти с удовольствием. — Да, да, ведь ты же станешь наследником престола.
— Нет, — воскликнул второй, безвольный, — не бывать этому. Я…отправляюсь сейчас же.
Первый вскочил:
— Извини меня. Я знаю — ты умеешь держать слово. — Он казался растроганным. — Слово «свобода» — для тебя не пустой звук. Не буду держать тебя. Встретимся завтра во время смотра. Ну, не робей.
Оставшись один, он подумал: «Иди, иди, бедный глупец. И если свой пыл ты не совсем растеряешь по дороге ко дворцу, ты сослужишь себе хорошую службу. Я сказал — „себе“? Нет, мне». Затем он произнес вслух странную фразу, которую маленькая Чэн запомнила, но поняла много позднее: «Так много голов — и всего три ступени». И еще: «Тяжелей всего начать».
— Вы что-то изволили сказать, господин? — спросила девушка, прервав игру на флейте.
— Отложи-ка ты свою флейту, — сказал ей красивый и мрачный юноша, — и иди поскорее ко мне.
Потом он спросил ее:
— Ты веришь в меня, Чэн?
— О да, мой господин, — прошептала девушка, — ведь вы такой щедрый.
— Ты еще не такое увидишь, — пообещал он, — Все увидят…
Старая служанка, бесшумная, как тень, задула светильник.
В этот же вечер, часом позже, двое стариков вели разговор: некто третий, притаившийся за портьерами, слышал каждое слово и, не видя собеседников, хорошо представлял их: высокого, с громоподобным голосом, и низенького, невозмутимого, спокойного, с голосом резким и сухим. Собеседники были уверены, что они одни, друг друга они знали давно, с детства, со времен, когда третьего, что стоял сейчас за портьерами, еще не было, ибо он родился от одного из них.
Нет, он вовсе не собирался подслушивать, он шел к отцу… Они сами, увлеченные разговором, войдя в этот зал, не заметили тени, метнувшейся к портьере. А метнулся он именно потому, что услышал слова, которых не должен был слышать…
— Итак, — сказал скрипучий спокойный голос, — ты решился?
Громогласный подтвердил:
— Да.
После того наступила тишина.
— А ты далеко шагнул, — снова проскрипел невозмутимый, но это было лишь констатацией факта, зависти в нем не было. — От начальника десятка до императора.
На это громогласный заметил дружелюбно:
— И ты тоже: от солдата до министра.
Скрипучий словно в раздумье:
— Император — Сын Неба. А что такое министр? Тот же солдат, которым командуют…
— Тобой не покомандуют, — заверил его громогласный. — Правой рукой императора распоряжается только он сам.
«Пока он. жив, — уточнил тот, кто был третьим, — Интересно, приходит ли им это в голову?»
Тишина и шаги.
— Значит — династия, — проскрипел спокойный. Впрочем, он, кажется, был не так уж спокоен, произнося последнее слово.
Тот, кто стоял за портьерой, прижал рукой собственное сердце, чтобы заглушить его стук.
Тот из собеседников, у кого был грузный, твердый шаг, заходил по комнате еще быстрее.
— Династия, — сказал он, остановившись. — Да.
— Мы не вечны, — заметил его собеседник, — Тот, кто идет за тобой следом, наследует титул. А кто наследует дела?
— Но я еще не собираюсь покидать этот мир, — заметил громогласный.
На что спокойный сказал:
— Все в руках судьбы. — И затем, явно колеблясь: — Твой сын…
— Ах, брось… Его тебе бояться не следует.
— Это почему же? — осторожно спросил спокойный после некоторого раздумья, а у того, кто подслушивал, напрягся безвольный подбородок.
— Потому… — сказал громкий голос, — потому что-.. — Он, казалось, колебался. Ладно, он скажет. — Потому что в случае моей смерти престол наследуешь ты. А он будет править лишь после тебя, если обнаружит к этому способности.
— Многим такое решение не понравится. Они и так… Мои агенты докладывают о некоторых разговорах… Многие из молодых офицеров хотят взять поводья власти сегодня. Они говорят: мы воевали, а у власти опять старики. В чем- то их нетерпение можно понять. Назначение Ду Фу на высокую должность вызвало целую бурю.
— Он умнее всех этих крикунов в десять раз, — сказал громогласный. — А что касается нетерпеливых… им придется все же подождать. Они и так уже получили больше, чем заработали.
— И все-таки лишать твоего сына престола — это незаконно, — задумчиво сказал спокойный.
На что громогласный засмеялся:
— Законы зависят от того, кто издает их. А издаем их мы. Ты обижаешь своего сына, — не унимался один.
— Я не люблю его, — признался другой, и у того, кто подслушивал, от этого признания остановилось сердце. — Ты знаешь, от кого я хотел бы иметь сыновей.
— Ян Гуй-фэй, — тихо сказал спокойный.
— Ян Гуй-фэй, — отдаленным раскатом грома пророкотал второй голос. — Не могу ее забыть. Ты же помнишь ее малышкой. Ну конечно, ты помнишь. Она уже в тринадцать лет была как взрослая.
— Ты сильно любил ее тогда, — сказал спокойный голос. — Но кем ты был тогда, кем были мы оба: я — солдат, ты — десятник… Нам не на что было рассчитывать. Но ты любил ее тогда, я помню.
— Я всю жизнь ее люблю. И теперь. Теперь, когда ее нет, я люблю ее еще сильней. Двадцать лет назад я сказал ей, что она станет первой женщиной в стране. И я сдержал бы слово, только ее уже нет. Всю жизнь я шел к ней, шел и терял ее: первый раз — когда ее продали в гарем наследника Шоу, второй — когда ее увидел Мин Хуан, третий — когда они ее убили. — Грузные шаги вновь зазвучали под сводами комнаты, громкий голос прерывался. — Они задушили ее шнурком от халата. Ты ничего этого не знаешь, друг моего детства Ши Сы-мин, мой наследник. Это произошло в грязном местечке, оно называется станция Мэвэй, будь оно проклято. Они только остановились на ночлег, как эти молокососы из императорской гвардии, которые, убегая, обмочились от страха, почувствовали приступ храбрости. Они взбунтовались — благо никого, кроме них, не было. Сначала они задушили ее брата, ты помнишь красавца Ян Го-чжуна? Это он сосватал в свое время девочку в гарем наследника. Что ж, он получил свое. Говорят, он даже умереть толком не сумел — валялся в ногах, вымаливая себе жизнь. Ничто не помогло. Ему отрубили голову и насадили на копье. И тогда, войдя во вкус, они потребовали ее головы. И этот старый каплун согласился. Но он плакал. Ты слышишь — он плакал. Он заплакал и в знак траура надел белые одежды, словно она уже умерла, а она была еще жива, и безбородый Гао Ли-ши, никогда не спавший с женщиной, задушил ее шелковым шнурком.
Хриплое дыхание говорившего доносилось до того, кто подслушивал, и он тоже задышал хрипло и прерывисто — от страха, а может быть, и от ненависти. Он услышал больше того, что хотел, и безвольный подбородок его не предвещал ничего хорошего одному из говоривших, — время этому скоро подойдет.
— Вот почему я не люблю своих сыновей, — сказал громкий голос не без печали. — Они напоминают мне о том, чего уже никогда не будет. Ни один из них не похож на меня, они все пошли в матерей, и так же грызутся между собой, как их матери. Меня они не любят и никогда не любили. А один из них — ты знаешь кто — считает даже, что я не должен объявлять себя императором. Он хочет предложить другой род правления. Глупец! Он не знает, что иного рода правления нет.
«Неправда! — беззвучно кричит за портьерами тот, — Неправда! — И шепчет в ужасе: — Кто же предал меня? Об этом знали только мы двое…»
А громкий голос продолжает, словно специально для того, кто подслушивает:
— Другого быть не может. Так бывало всегда, так оно пребудет вовеки. Верховная власть должна быть в руках одного человека. И люди это понимают. Они хотят видеть одного и согласны признать его выше всех, лишь бы в нем было больше величия и блеска. Народу чуждо равноправие. В нем оно рождает только неуверенность и зависть. Народ хочет — сам — поклоняться идолу, кумиру, которого он представляет только в виде императора. И сейчас они должны получить нового идола и кумира.
— Тебя, — сказал спокойный, который все сказанное мог бы произнести сам. — Они получат тебя.
— А затем — тебя.
«Посмотрим», — сказал себе третий, уловив то, что он услышал. И, воспользовавшись тем, что говорившие вышли на галерею, он исчез.
— И все же сдается мне иногда, — грустно сказал спокойный, — что тогда, в нашем далеком селенье, мы были более счастливы. Все тропы мира были перед нами в самом начале, и жизнь была полна сладостных, нераскрытых тайн. Теперь же позади пройденные тропы. Жизнь на исходе, а счастья нет. Стоило ли идти этими путями?
На это Ань Лу-шань ответил тихо.:
— Иногда я думаю о том же. — И признался: — Власть завораживает лишь в чужих руках. В своих собственных она чаще оказывается не золотом, а навозом. Но обратно вернуться нам не дано. Ни нам, ни другим.
— Это так, — признал спокойный.
Они долго молчали.
Затем они расстались. Один из них — громогласный — после этого разговора прожил год и погиб от руки того, кто подслушивал; второй — спокойный — казнил отцеубийцу, но через несколько лет сам был убит своим сыном, который лежал в тот вечер в объятиях прекрасной Чэн, в ее уютном маленьком домике в самом конце тихой улицы Минкэцюй. Каждый из этих четверых, захватив хоть ненадолго власть, объявлял себя императором…
Но все это произойдет лишь через год, через два, через пять. А пока что все они живы, все — и бывший генерал-губернатор Ань Лу-шань, провозгласивший себя Сыном Неба, властелином Китая, и его правая рука, генерал и министр Ши Сы-мнн, и их сыновья, будущие отцеубийцы. И еще многие и многие другие, кого также не станет через год, через два, через пять. Имена одних забудутся сразу и навсегда, имена других проживут годы и десятилетия, третьи будут жить вечно. Наперед же судьба каждого никому не известна, она, подобно волнам, изменчива и неопределенна. Вверх — вниз, вверх — вниз бросает судьба хрупкое и временное на этой земле человеческое существо.
Вот неудачник по имени Ду Фу. Три раза пытался он в прошлом сдать в столице экзамен на степень минцзин и трижды сдавал, но так и не получил заветного звания, хотя и был отмечен императором. И великое может быть сведено на нет малым — так внимание императора было парализовано интригами евнуха Гао Ли-ши.
И неудачи последовали одна за другой. Счастье отвернулось от человека по имени Ду Фу. Чего достиг он к сорока с лишним, чего добился? Ничего. И даже степени минцзин не получил. Продавал свои стихи и песни в домах более удачливых слуг императора, и многие из тех, кто приглашал его к себе в праздник, в будни отворачивались, встречая его на улице. Но вот волна вскидывается вверх, и однажды утром столица Чанъань, проснувшись, узнает, что приказом нового императора некто Ду Фу возведен в степень Доверенного и Высшего советника — новая должность, введенная специально для Ду Фу. Она соответствует рангу министра культуры.
Должность новая, зато все остальное — старое. Что такое министр — известно всем, более же всего тем, кто никогда министром не будет. Министр — это значит собственный особняк, и сотни слуг, и четыре колесницы для выездов, и породистые кони в конюшне; но важнее всего то, что все это великолепие — за государственный счет. Это значит громадный оклад, и к этому же огромная власть. И даже все свои расходы министр относит за счет государственного казначейства. Но ведь это только справедливо, ибо для чего и живет такой человек, как не для того, чтобы дотла сгорать на костре общегосударственных интересов, жертвуя собой ради процветания народа и его императора.
И вот Ду Фу — министр, хотя министерства как такового у него нет, а круг обязанностей расплывчат. Но — министр, и потому у него все как положено: и особняк, и кареты, и лошади, и деньги. И друзья, друзья… Просто удивительно, как много теперь у него друзей; все это люди, утверждающие, что они всегда, всю жизнь были его друзьями. Теперь, когда он появляется на улице — в носилках из зеленой парчи (впереди два телохранителя с красными зонтами — знаком министерского достоинства, а сбоку еще двое с огромными веерами, ограждающими от нескромных взглядов, и скороходы кричат: «Прочь с дороги, дорогу Доверенному советнику императора», — и солдаты личной охраны бьют плашмя ножнами по спинам любопытствующих), — сейчас он окружен, завален, затоплен друзьями, а также теми, кто хотел бы друзьями его стать. Это похоже на стихийное бедствие, он задыхается от этого небывалого обилия людей вокруг него — едва ли половину из них он еле знал, другую же половину не знал вовсе. Но что за беда — они, его верные и преданные друзья, помнят его прекрасно. И, по их уверениям, всегда его помнили, «нашего дорогого Ду Фу, гениального поэта», и всегда они были обижены тем, что он их забыл. Кто были они? И бывшие чиновники, в иные времена едва удостаивавшие его кивка, и бывшие, ныне не у дел, сановники, и девушки легкого поведения, желавшие занять место в его гареме, полагавшемся любому сановнику.
Были среди людей, заполнявших его дворец, и вправду старые его друзья, и им лишь одним был он рад, но им было трудно пробиться к нему сквозь густую толпу тех, кто жаждал разрешения на открытие балаганов, театров или публичных домов, или даже — на разработку… соляных копей, — одним словом, среди всего этого толстого слоя накипи, завидующей хозяину, друг другу и всему на свете, которую во все времена можно встретить в передних высокопоставленных лиц в дни прилива удачи и которую первый же отлив уносит дочиста.
Эта жизнь закрутила Ду Фу, как карусель, — такая же крикливая, пестрая, праздная… Утром его облачали в малиновый шелковый халат с вышитым изображением журавля. Если он собирался выходить, то надевал шляпу с огромным рубином в виде шара. За столом ему прислуживали девять слуг — меньшее количество уронило бы в глазах людей звание императорского министра. Еда подавалась только на золотых блюдах, она приготовлялась лучшими поварами столицы, а вино доставлялось из императорских запасов. После завтрака следовал прием посетителей, затем он должен был явиться во дворец с докладом, а вечером присутствовать на заседании Высшего совета. Железный круговорот церемоний и этикета не оставлял ни одной свободной минуты ни для раздумий, ни для дел. За три месяца Ду Фу не написал ни строчки.
Теперь, похоже, ему предстояло, подобно другим вершителям народной судьбы, узнавать о радостях и горестях этого народа лишь с высоты зеленых парчовых носилок, проплывая по улицам над морем голов, одинаково склоненных под свирепыми взглядами личной охраны. А что было там, за этими головами, за спинами, — что?
Несколько раз тайком выбирался он из дворца и бродил по городу в пеньковом платье простолюдина, но его узнавали и, хмуро уступая дорогу, молчали. И он чувствовал, что люди, чьи сердца были прежде ему открыты, не доверяют ему и боятся. Однажды ему сказал об этом прямо некий Хао Бин, по прозвищу Железная Голова, лучший в Чанъани специалист по изготовлению кистей.
— Ты теперь вознесся высоко, высокочтимый мастер, — сказал он. — Ты теперь совсем близко к солнцу, ты слишком часто смотришь на него, но не забывай о том, что внизу, у твоих ног. Если ты ослепнешь от слишком яркого света, тебя уже никто не излечит. Смотри же почаще вниз, господин императорский министр.
Он не забыл о том, что внизу, но как он мог это увидеть из дворца?
— Покажите мне все, — попросил он.
— Все?
— Да, все.
Тогда ему показали.
Он увидел пустующие жилища. Увидел закрытые и разграбленные лавки ремесленников, опустевшие базары, где все хотели продать, но мало кто имел возможность купить, он увидел растущие толпы нищих. Увидел зеленых юнцов в военной форме, увидел разрушенные и опустошенные дворцы, увидел загаженные парки, разбитые статуи, разоренные могилы.
Возвратившись во дворец, он пытался что-то сделать, прекратить бесчинства. Он шел к Ань Лу-шаню. Говорил спокойно, потом менее спокойно. Его всегда принимали, внимательно выслушивали, доброжелательно, терпеливо объясняли. Да, возможно, не все делается так, как надо. Молодым свойственно увлекаться. Но общее направление правильно — старое мешает новому. Оно сковывает, внушает страх. Чтобы освободиться от этого страха, старое нужно разбить — тогда и новое сможет скорее прорасти. Это не прихоть, убеждал его высокий покровитель, это необходимость, имя которой — политика. Старые корни надо вырывать. Естественно, это связано с какими-то потерями. Так объясняли ему, объясняли просто, понятно, терпеливо. Его призывали к мудрости. Сердцу, эмоциям в этой мудрости места не было. И он уходил, Доверенный советник Ду Фу, большей частью ни с чем, и даже пробовал быть мудрым. Затем он узнавал через тех немногочисленных друзей, которые у него ничего не просили: вырублен парк в окрестностях старого дворца у горы Лишань. Он узнавал: отряд туфаней ворвался в помещение Академии музыки «Грушевый сад» и занял ее под казармы. Другой отряд сжег хранилище рукописей. И он снова шел на доклад, доказывал, убеждал, требовал. И снова его выслушивали, и снова ему отвечали и даже соглашались — да, это варварство. Но казармы нам сейчас нужнее музыкальных академий. Это плохо сейчас, но необходимо для нашего же блага в будущем. И еще говорили — это политика. И это слово, «политика», подобно крышке гроба, опускалось на все его протесты, возражения и угрозы. Ему советовали набраться терпения, его призывали быть благоразумным. Быть благоразумным — вот и все, что требовалось от этого странного человека. Это означало — делать свое дело и своим молчанием без слов одобрять то, что делают другие от имени всех.
Безусловно, это были мудрые советы и это была мудрая линия. И иногда он очень жалел, что не может заставить себя быть мудрым.
— Кто там?
Слуга заглянул в глазок.
— Это Ин Лань.
— Пусти ее.
Длинный переливающийся луч, пробравшись сквозь щелку в портьере, оставлял на полу веселое золотистое пятно. Ду Фу дрожащими руками поднял чайник с вином и налил еще чашку. По его небритому лицу пробежала гримаса отвращения. Неслышными шагами приблизилась к нему девушка, присела на корточки за его спиной; он чувствовал ее дыхание, и оно заставляло его руки дрожать еще сильнее. Чашка была налита до краев, несколько капель упало на халат — на дорогой парадный халат с вышитыми на спине и груди журавлями. Ду Фу нетвердым движением опрокинул чашку, поперхнулся… струйка вина потекла по обвисшим усам. Чашка со звоном покатилась в угол.
— Зачем вы так много пьете, господин? — робко спросила девушка. Ее полные белые руки невесомо легли на вишневый шелк халата.
Ду Фу, глядя в угол, долго моргал красными от бессонницы глазами.
— Иди ко мне.
Девушка покорно опустилась перед ним. В глазах ее была преданность и тревога. Ей было уже шестнадцать лет, но она впервые узнала человека настолько великого, что сам император Ань Лу-шань прислал ему в подарок ее, красивейшую девушку из своего гарема. Она происходила из очень знатной семьи, с детства ее обучали музыке и пению; у нее был хороший вкус, и стихи Ду Фу она полюбила задолго до того, как увидела его самого. Но быть его возлюбленной! И, однако, это было так. И она полюбила этого замкнутого печального человека так, как только мыслимо любить, — верно, преданно и молчаливо. Если бы нужно было умереть за него — она умерла бы без слов. И он знал это. Она чувствовала это по тому, как он глядел на нее, как прикасался к ней, как ласкал ее — так, словно она и впрямь была недолговечным диковинным цветком.
— Девочка, — сказал он и погладил ее по блестящим черным волосам.
Вот этого она не любила. Девочка… Вот уже год, как она — женщина — заплетала волосы в косички. И она не хотела быть девочкой, особенно в его глазах. Нет, женщиной была она, она давала ему наслаждение и радость, и ее каждый раз обижало, когда Ду Фу обращался с ней как с ребенком.
— Зачем вы позвали меня?
Он гладил ее полные руки.
— Только ты у меня и осталась.
— Вам плохо? — Впрочем, это было видно и так, — Хотите, я спою вам?
— Да, — сказал он, — да, — и потянулся к серебряному чайнику с вином.
— Не пейте больше, господин, прошу вас, — шепнула она. — Лучше приласкайте меня, господин.
Она мяла широкий рукав его халата, коснулась руки.
— Уйдем отсюда… не надо грустить.
Он еще раз провел рукой по ее упругим черным волосам, внимательно, в упор посмотрел на круглое детское лицо.
— Пойдем.
И, уже задергивая за собой полог, он вдруг обернулся. Что там услышал он — стон, хрип, — что? Расширенными зрачками вгляделся он в темноту пустой комнаты, перерезанной пополам золотым лезвием луча. Это кажется ему, или это было? «Не было, — попробовал сказать он сам себе. — Не было». И тут же перед его взором встала другая комната — неподалеку отсюда, в каких-нибудь четырех ли. Словно в тумане разглядывает он эту другую комнату. Он видит мозаичный пол, высокие стеллажи. Затем он видит лицо — молодое, юношеское лицо, с растерянным выражением глядящее на него, кренящееся набок, падающее — и толстую струю удивительно алой крови, бьющей из широкой раны на горле. И еще он видит тонкие смуглые пальцы, безнадежно скребущие гладкий, полированный пол. И тогда он понял, что все это было и что действительно он, Ду Фу, в своей жизни не обидевший ни одно живое существо, убил человека.
Он не хотел его убивать.
Он не хотел. Так вышло.
Он никогда не сможет этого объяснить, но и забыть не сможет тоже.
Он обходил в тот день залы императорской библиотеки, стараясь определить характер разрушений, нанесенный бесценным сокровищам недавним нападением отряда «новой молодежи». Ду Фу был в ярости. И на этот раз он действовал непреклонно и быстро. Вызвал на помощь местной охране своих собственных телохранителей, добился встречи с военным министром Ши Сы-мином… Действиям отряда было высказано порицание, командира отряда сняли с должности, перевели куда-то. Но девять тысяч рукописей — некоторые из них насчитывали пятьсот, семьсот лет и имелись в единственном числе — были уже уничтожены. Среди них труды по математике, кораблестроению, юстиции. И поэзия — несколько тысяч свитков со стихами…
Он шел длинным коридором к залу поэтов — маленькому круглому залу, где хранилось семнадцать тысяч рукописей на шелке, стихи самых знаменитых китайских поэтов всех времен. Он шел и радовался, что хоть этот-то зал, расположенный в глубине здания, остался цел и невредим. Какой-то странный запах преследовал его, пока он шел, и чем ближе подходил он, тем явственней этот странный запах становился. И сейчас Ду Фу помнил это — сердце у него странно забилось, словно предчувствуя несчастье, ноги стали ватными и непослушными, и, с трудом переставляя эти непослушные ноги, он побежал к последней двери в длинном коридоре; уже подбегая, он заметил, что дверь эта чуть приоткрыта…
И вот он вбежал…
Молодой солдат из охраны сидел на корточках в углу, у окна. С веселым любопытством, совсем не стесняясь, смотрел он на запыхавшегося Ду Фу, его сабля стояла рядом, у стены, а кругом, по всей комнате, валялись скомканные и загаженные бесценные шелковые свитки. И тогда Ду Фу почувствовал, как им овладевает беспощадная тупая злоба. Там, в углу, на корточках, нагло ухмыляясь, сидел не глупый молодой солдат, не научившийся читать, нет — это был символ всех тех, кто загадил его страну, и его жизнь, и жизнь тысяч других людей. И от тупой, заливающей сердце злобы Ду Фу уже не помнил себя и только — словно со стороны — увидел, как испуганно пытается подняться молодой солдат. Но сабля уже прочертила короткий и блестящий путь, и на белой, по-юношески тонкой шее появился широкий бескровный сначала порез, а затем кровь — удивительно веселого, яркого цвета — забила свободной струей, и солдат, загребая воздух правой рукой, упал и умер на его глазах, среди крови и испражнений. А он все стоял и стоял — поэт и министр Ду Фу, и весь мир виделся ему как скопление загаженной человеческой мысли, крови и смерти. Затем он поставил саблю на место, где она стояла, вышел, плотно прикрыв за собой дверь, и медленно пошел по коридору, длинному, как бесполезно прожитая жизнь. Потом вернулся к себе, молчаливый и постаревший. Сидел, отгородившись от всего мира, пил вино, пил и думал, пил и морщил лоб, задавая себе вопросы, снова пил. «Зачем все это? — спрашивал он себя. — Зачем? Зачем эта жизнь, это суетливое и суетное передвижение во времени и пространстве? Зачем этот шелк халата, эта чуждая ему роскошь, зачем дворец, нелепые церемонии новой жизни?.. Зачем жирная, пряная пища, золото и серебро? И эти бесконечные и бесполезные попытки что-то спасти, кого-то убедить, чего-то не допустить, предотвратить…»
Задавая себе эти вопросы, он пил — час, два, три, сутки… Но не пьянел. Даже этого ему было сейчас не дано. Потому — понял Ду Фу, — что он изменил себе. Он изменил своему призванию, ушел к сильным мира сего. Так он потерял себя, свою точку опоры — потерял, не приобретя ничего взамен. Ничего он не приобрел такого, что было бы ему дорого, о потере чего он стал бы сожалеть, — кроме девушки по имени Ин Лань.
Она пришла к нему как незаслуженная награда, и за это он любил ее. Она попыталась спасти его из этой беды, в которую он попал наполовину по своей воле, отдавая ему все, что имела, — себя.
Ду Фу снова провел рукой по ее удивительной нежной коже. Маленькая девочка, которой так не терпится повзрослеть.
Девушка коротко вздохнула во сне, Прижалась к его руке, еще раз вздохнула. Не отрываясь, смотрел на ее полудетское лицо Ду Фу. Колебался свет ночника.
Неслышно ступая, он прошел в маленькую комнатку за спальней. Вернулся оттуда переодетым в простое прочное пеньковое платье простолюдина. Он не взял с собой ничего, ни одной вещи из своих новых богатств — только яшмовый прибор для письма, перешедший ему по наследству от отца. Все остальное он оставлял здесь. И эту девушку…
Она спала, счастливая и удовлетворенная, ничего не ведая, ничего не зная, — прообраз истинного счастья, ибо самое настоящее счастье, — думал он, — счастье неведения.
Ду Фу повернулся и пошел. И вернулся. Ничто не шелохнулось в теплом воздухе уснувшей комнаты. «Я вернусь к тебе, Ин Лань», — пообещал он. Кому он обещал это — ей? Или себе?
И тогда он ушел совсем.
Охрана, привыкшая к причудам своего хозяина, безропотно пропустила его из дворца на улицу.
Был час третьей стражи. У ворот заспанный сторож лениво переругивался с крестьянами, спешившими выйти из города пораньше, чтобы успеть проделать часть пути еще до дневной жары. Сторож, пересчитав медные деньги, загремел засовами и выпустил собравшуюся толпу.
Вместе с ними в простой потертой одежде с узелком за спиной покинул столицу Китая Чанъай, человек по имени Ду Фу — сначала мелкий чиновник, потом — не прижившийся при дворе поэт, затем изменник, Доверенный советник и министр, потом убийца, теперь — бродяга. Путь его был далек и тяжел, он длился без перерыва почти четырнадцать лет, пока, наконец не привел его — больного и старого — на берега быстрой холодной реки.
Глава третья
Теперь он возвращался долгой.
Домой, в Чанъань.
На этот раз — навсегда.
Ворота крепости Чанша раскрывались медленно, со скрипом, словно им было лень совершать даже такую несложную работу ради того, чтобы пропустить в город весь этот пестрый сброд, толпившийся и оравший в клубах коричневой пыли у высоких стен. Два стражника, держа в одной руке саблю, а в другой копье, не спеша вышли вперед и стали по обе стороны ворот. За ними появился заспанный чиновник в мятом халате; в руках он держал большую деревянную чашку для сбора налога. Лицо чиновника, всегда одутловатое и красное от чрезмерного употребления различных напитков, сейчас было неприступным и даже возвышенным от сознания важности настоящей минуты. Чиновник любил свою службу, кое-кому казавшуюся незавидной, именно за такие вот мгновения, когда он был властелином и повелителем всей этой толпы, жадными глазами взирающей на оазис за его спиной. Сладкие мгновения неограниченной власти!
Сегодня все было как обычно.
Народ толпился и лез. Молчаливые стражники сноровисто били по спинам древками копий. Порядок должен быть, порядок. А ну, осади назад! Назад, еще! Ревели ослы, плакали дети. Язык тяжело ворочался в пересохшем рту:
— Ну, что там впереди? Они пустят нас наконец?..
— Наведите порядок!
Передние верблюды пятились, толкая задних, пыль поднималась к солнцу, застилала его, мешая дышать, видеть, думать, — опускаясь, она оседала на лица, въедалась в кожу, проникала в легкие. Пот, протекая через этот бурый слой, осевший на лицах, оставлял неровные, извилистые следы.
В криках и гаме проводники каравана безуспешно пытались навести порядок. Чиновник брезгливо морщился — всегда у этих остолопов одно и то же. Однако он ждал терпеливо — свое он получит все равно. Караван пятился назад, еще назад и еще, растягиваясь на сотни шагов: хвост каравана совсем утонул в пыли.
Наконец разобрались. Первые монеты, словно капли дождя, упали на заждавшееся пустое дно большой чашки. Чиновник из-под опущенных век цепко смотрел, не попытается ли кто-нибудь, спрятавшись среди поклажи, проскочить без пошлины. Дождь из монет падал не переставая, звук соприкосновения металла с металлом приятно отзывался в душе чиновника — примерно каждая четвертая монета перекочует в его собственный карман. Вскоре вместо наполнившейся чашки принесли другую — караван был большим. Передние верблюды, вращая фиолетовым измученным зрачком, уже ложились на базарной площади, а конец каравана еще только подходил к воротам. Чиновник трудился, чашка, стоявшая у его ног, была уже четвертой по счету.
На последней повозке, запряженной двумя полувысохшими мулами, лежал Ду Фу. Он лежал на боку, в неудобной позе. Сквозь грязные лохмотья проглядывало голое тело. Два дня назад на караван, с которым он шел, напали уйгуры. Всех, кто сопротивлялся, они убили, тех, кто представлял хоть какую-нибудь ценность, угнали с собой. Стариков вроде Ду Фу они не стали даже убивать, они просто сняли с них все и так оставили — сами подохнут. У Ду Фу они отобрали старый халат вместе с зашитыми в подол золотыми монетами и векселем, а также отцовский яшмовый прибор для письма. Что было дальше — он не помнил: тяжелый удар по голове свалил его на землю. Там его и подобрал какой-то сердобольный бедняк, ехавший в Чанша, к брату жены, — брат жены был большим человеком, он служил старшим поваром у коменданта гарнизона и обещал помочь с работой…
Наконец повозка въехала в ворота. Стражники толкали их, закрывая. Чиновник, разминая уставшие ноги, подошел поближе. Ткнул в голое, просвечивающее сквозь лохмотья тело концом палки.
— А это еще что за падаль? У нас своих покойников много.
Муж сестры повара, заикаясь, объяснил, что нашел старика без сознания на том месте, где недавно уйгуры напали на караван.
До чиновника дошло слово «уйгуры». Уйгуров он терпеть не мог — все сплошь жулики, мерзавец на мерзавце, считал он. Их пригласили подавить мятеж Ань Лу-шаня, а теперь уже восемь лет неизвестно, как от них избавиться. Сбившись в большие банды, не подчинявшиеся никому, уйгуры все эти годы рыскали по дорогам, грабя плохо защищенные караваны, — чиновник считал, что таким образом они делают беднее лично его: много ли пошлины соберешь с разграбленного каравана?
— Ладно, — сказал чиновник, услыхав про уйгуров, и без любопытства посмотрел на измученное лицо Ду Фу. — Ладно. Плати налог за въезд и проезжай. Проклятые мошенники эти уйгуры! А вы, бездельники чертовы, поживей запирайте ворота!
И он ушел в помещение — считать сегодняшний доход: это пошлинный сбор, это инспектору по налогам, это губернатору города, это ему самому.
Тележка, запряженная двумя мулами, медленно протискивалась сквозь тесноту праздничного базара. Солнце поднималось все выше и выше, словно шагая со ступени на ступень. Кричали продавцы холодной воды, ударяя деревянными чашками о запотевшие бока кувшинов. Всюду толпился народ, наступая друг другу на ноги, обминая бока. Перед полуоткрытыми глазами Ду Фу, медленно и странно подпрыгивая, проходили полузабытые картины — мирная жизнь и мирные заботы людей. Он то закрывал, то вновь приоткрывал глаза. Каждый толчок повозки отдавался во всем теле и в мозгу. Звуки… Птичий щебет. «Это продают птиц», — подумал он. По его лицу покатилась мутная старческая слеза. Пятьдесят лет назад отец купил ему говорящего попугая… А теперь стрекотание такое, словно тысячи маленьких кузнецов бьют, не отдыхая, по своим звонким наковальням. Он напрягает зрение, силясь увидеть, — да, вот они, продавцы сверчков, со своим стрекочущим товаром, в огромных плетеных корзинках. А вот, отдельно, маленькие лакированные клетки, и в каждой сидит смешной насупленный сверчок. «Тр-рр-тир-р-три-р…» Вокруг другие продавцы, громко нахваливающие свой товар: одни продавали собак, другие — кошек, и то и другое — лучший деликатес к праздничному столу. Фокусники вытягивали из носа у прохожих яркие гирлянды бумажных цветов, акробаты ходили на руках по кругу, дрессировщики показывали искусных — ну, прямо люди! — ученых мышей, обезьян, коз, медведей. Длинная очередь стояла к прорицателям — по панцирю черепахи каждый мог узнать наперед свою судьбу. На камышовых ковриках сидели рассказчики, окруженные толпой доверчивых слушателей, а неподалеку выстраивались в хвост те, кто желал написать прошение в высокий адрес, — там работал каллиграф.
Миновав все это, повозка обрела наконец свое место между тюками дешевой материи и мешками с мукой. Мулы заработали по охапке сена, бедняк отправился искать высокопоставленного брата своей жены, а Ду Фу неожиданно для себя уснул крепким сном, погрузившись в базарный шум, как в пучину вод.
Он проспал несколько часов, ничего не слыша, не чувствуя. Когда проснулся, солнце уже перешло зенит и заметно клонилось к горизонту. Полноводный людской прилив все еще бился в тесных берегах лавок и торговых рядов, и шум был еще сильнее. Ду Фу почувствовал, что хочет есть; тогда он с трудом поднялся. Попробовал пошевелить правой рукой. Нет, не получается. Кое-как он оправил на себе лохмотья, пригладил волосы. Голод становился нестерпимым. Возможно, он смог бы заработать несколько монет, написав какое-нибудь прошение, но появиться перед людьми в таком виде не решался. А еще можно было просто просить милостыню, так, наверно, и следовало сделать.
Он попробовал лечь и снова заснуть. Но едва он закрывал глаза, как видел перед собой кусок лепешки или чашку риса. Это было еще хуже. Тогда он стал думать о событиях последних дней.
Он был уже совсем плох и безропотно приготовился к смерти. Но сейчас здесь, в чужом незнакомом городе, он снова почувствовал — и было даже как-то странно и удивительно ему ощущать это, — снова почувствовал он вкус земной жизни, словно начинал в ней новый, еще неведомый ему круг. И в самом начале этого нового круга пытался предугадать он, не оглядываясь назад, — что же предстоит ему еще?
Прошлое не тяготило его и не имело над ним никакой власти. Он никогда не вспоминал то время, — да и было ли оно наяву? — когда он жил во дворце. Чаще всего он вспоминал свою молодость, когда, не зная усталости, полный надежд, бродил по дорогам Китая, готовясь завоевать его своими песнями и стихами… Иногда — со смутным недоверием к своей памяти — он вспоминал о высоком грузном человеке с темными глазами навыкате. И никогда не вспоминал о девушке по имени Ин Лань — никогда.
Без горечи взирал он на прошлое, черпая в превратностях судьбы силы для встречи с неведомым будущим. Ибо, понял он, все дурное в жизни — как долго бы оно ни длилось — всегда лишь тень, слабое мерцание и — преходяще: вот оно есть и вот его уже нет. Вечно лишь одно — люди, память людей; так уж оно повелось. Были императоры — и ушли в небытие. Были великие полководцы и вожди — но вот имена их, некогда вознесенные и недосягаемые, утрачены и полузабыты. Все это сделали люди. Вот эти — бедные, покорные, согнутые. В памяти своей они сохранили достойное.
Ну а он, поэт, — будет ли он жить в их памяти вместе с ними? Да, если только народ решит, что человек по имени Ду Фу заслужил эту великую награду.
Странно, он почти забыл про голод. Он словно воспарил над реальным миром, оказавшись на некоторое время на грани забытья и действительности. Странные, причудливые мысли появлялись и исчезали, не успев принять четкие формы и этим лишь усугубляя неопределенность ощущений. Слух его обострился, как у слепого, — и вот уже что-то слышит он… Но, быть может, это ему лишь мерещится.
Нет, ему не мерещится. Откуда-то — Ду Фу и сам не понял откуда — выплыли и зазвучали мучительно знакомые сочетания слов, казалось, навсегда забытых. Появившись, они достигли его слуха, заставили вернуться в реальный мир. Эти странно знакомые ему сочетания слов, связанные простой, но будоражащей мелодией, позвали его. И он, не в силах противиться этому зову, уступил… С трудом поднялся. Сделал шаг, один шаг, мучительный, неверный… Еще один… и еще… Куда же идет он?
Ду Фу не помнил, как он шел, и не помнил, как пришел к тому месту, откуда доносились до него невнятно знакомые звуки. Он стоял, стиснутый тяжело дышащей толпой, и слова песни, проносясь над толпой, попадали прямо в его сердце: ведь это же была его песня, его, его!.. Это он сочинил ее некогда, в иные, более счастливые для него времена.
А песня неотвратимо нависала над притихшими людьми, овладевала ими, и голос певца рассказывал всему свету то, о чем думал когда-то поэт:
О, если бы Такой построить дом Под крышею Громадною одной, Чтоб миллионы комнат Были в нем Для бедняков, Обиженных судьбой! Чтоб не боялся Ветра и дождя И, как гора, Был прочен и высок, И если бы, По жизни проходя, Его я наяву Увидеть мог, Тогда — Пусть мой развалится очаг, Пусть я замерзну — Лишь бы было так.И вот кончилась песня.
Тихо было вокруг. Много народу стояло тесной толпой, рядом, и в отдалении, и совсем далеко, и еще долгое время звучал для них высокий голос бродячего певца. Затем подошел человек и положил к ногам певца три лепешки. Другой положил две мелкие медные монеты, чохи, с дыркой посредине. Третий принес чашку риса. Четвертый — чайник с теплым вином. Потом еще посыпались монеты, и приходили все новые, и новые, и новые люди, услышавшие — бог весть как — о необычной песне бродячего певца. И тот снова и снова пел эту песню — о бедняках, которым нужно построить один огромный дом, чтобы жить в нем в счастье и тепле, — и те, кто умел писать, записывали эту песню, а кто не умел — заучивали наизусть.
И тогда, увидев и услышав все это, Ду Фу понял: это и есть ответ. Закат жизни близок, он неотвратим, но вместе с горечью приходит успокоение. Он мог быть спокоен, умирая: самая страшная судьба — забвение — миновала его. И, поняв это, медленно побрел он прочь. Дойдя до какого-то переулка, без сил опустился на землю. И первый раз в жизни, жестом, неизменным во все времена и у всех народов, протянул перед собою руку, прося подаяния.
И ему не было стыдно.
На следующее утро караван покинул крепость Чанша и двинулся дальше на север. Ду Фу ехал верхом на осле, за него ему пришлось отдать все собранные вчера деньги. А собрал он немало, ибо, подкрепившись в базарной харчевне, сам потом пел свои песни в Чанша.
Утро было прохладным и ясным. Голубело безмятежное небо, отдохнувшие верблюды гордо поглядывали вокруг, наполняя воздух звуком больших колокольчиков. Ду Фу дремал в седле. Время от времени он встряхивался, открывал глаза, смотрел вперед. Путь до Чанъани был еще далек, но с каждым шагом становился все короче и короче. Назад, туда, где все ниже и ниже становились крепостные стены, Ду Фу не взглянул ни разу. Он чувствовал себя сегодня удивительно молодым и здоровым, только сердце иногда вдруг начинало биться слишком гулко и тяжелая сладостная дрема наваливалась на веки. И еще эти колокольчики на мохнатых верблюжьих шеях.
Динь, ди-линь, ди-линь…
Сквозь полусон донесся до него голос — молодой, сильный… Ду Фу вслушался, не открывая глаз, и тут же узнал слова и мелодию. И снова сердце у него забилось вдруг так сильно, что он даже сказал себе — проснись! Но сердце билось все сильнее и сильнее, и все выше взлетала над караваном песня о доме для миллионов бедняков, обиженных судьбой, и сердце уже не поспевало угнаться за песней, оно торопилось, спешило… Но нет, не могло догнать слова, угнаться за голосом.
И тогда оно остановилось.
Но Ду Фу этого не почувствовал. Ему только стало вдруг холодно — сначала немного, потом все больше и больше; потом стало совсем холодно, и подул ветер. Он сделал усилие — одно, последнее, и вдруг понял, что Чанъань уже близко. Он раскрыл глаза, в них ударил свет и отразилась дорога и зелень вокруг, но он не видел дороги и не видел зелени, а увидел белую вершину горы Лишань и высокие гладкие стены с резными воротами. Странно, что никого не было вокруг, удивительная стояла тишина, но даже это было неважно… Ворота быстро приближались, вот они раскрылись перед ним сами собой, и он въехал в город. И тут же из-за угла высокого дома выбежала ему навстречу девушка и бросилась к нему, протягивая прекрасные белые руки.
И тогда он вздохнул, удовлетворенный, и закрыл глаза. Рука его выпустила поводья, тело медленно сползло вниз, на землю, и он наконец вернулся в Чанъань…
1984 г.
Некоторые происшествия середины Жерминаля
С утра было жарко, и дороги, раскисшие после долгой и мокрой зимы, стали уже дымиться и просыхать, но к полудню солнце исчезло и небо затянули тучи. Они оседали на город, опускаясь все ниже и ниже, пока не повисли на церковных шпилях. И, наконец, пошел дождь, противный и мелкий. В такую погоду самое лучшее место на свете — это свой дом. Или сад — пахнущая пряностью земля, нежная ранняя зелень… Вместо этого приходится идти через всю улицу Фобург за повозками.
Работа…
Посыльный принес вызов в два, но лишь в половине четвертого кони наконец были запряжены и повозки готовы. Шарль-Анри Сансон сел на переднюю, на вторую взобрались его помощники Жако и Пьер. Обиднее всего, что дело было пустяковым и, по чести говоря, Шарль-Анри Сансон не понимал, почему все это нельзя было бы отложить на завтра. Он считал, что вполне заслужил сегодняшний отдых. В конце концов он, как и любой другой гражданин, имеет право на выходной день. Вместо этого он вынужден ехать через весь город из-за каких-то двух человек. Поэтому у Шарля-Анри Сансона есть все основания считать сегодняшний день испорченным. И еще этот дождь…
Итак, они едут.
Облака опустились еще ниже. Сансон поплотнее завернулся в плащ, натянул капюшон. Сколько времени может занять это дело? В уме он привычно прикидывает: отсюда до Консьержери не менее получаса. Минут пятнадцать, а то и более займут всякие формальности. Путь от Консьержери до площади Свободы — тоже полчаса, а по такой погоде и того больше. Хорошо еще, что сама работа не займет много времени. После этого он отправляет одну повозку на кладбище святой Магдалены; с этим вполне справится Пьер. Вторую отведет на место Жако.
Сам он вернется домой пешком — такова традиция. В итоге получалось, что день его разбит из-за каких-то двух часов. Нет, это было явно несправедливо.
А ведь начался день совсем неплохо. И погода была хороша. С утра он принял ванну, сделал в дневнике записи за последние дни, затем прочитал несколько страниц из трагедии своего любимого писателя Пьера Корнеля под названием «Цинна, или Милосердие Августа». Какие там были гордые, возвышенные слова! «Всегда желанною останется свобода. В ней — благо высшее для римского народа».
А еще он собирался пойти в театр. После театра, вечером, можно было бы не спеша посидеть в саду, послушать жужжание пчел, выпить доброго вина. А потом пойти в гостиную и там со стариком Марешалем или со Шмидтом сыграть дуэт из «Ифигении».
И Шарль-Анри Сансон представил себе эту прекрасную картину, которой теперь, увы, не будет.
Не будет… потому что он, вместо того чтобы сидеть дома, сидит в повозке, кутаясь в плотный брезентовый плащ, хотя дождя уже нет.
Повозку встряхивает. Шарль-Анри Сансон, очнувшись от своих мыслей, вопросительно смотрит на возницу. Тот без слов показывает на дорогу — сплошное месиво, одна яма за другой. «Если на улице Сен-Жак то же самое, — размышляет Шарль-Анри Сансон, — можно застрять минимум на полчаса, а то и больше». А что думает возница? Но тот, оказывается, не думает ничего. Он недавно на этой работе, и ему все равно, где ехать. И сколько. Ему платят за выезд. Пять франков за выезд, хоть на час, хоть на три. Пять франков за несколько часов работы — это большие деньги. Все дорожает, а где заработаешь? Вот муж сестры — опытный скорняк — едва- едва натягивает полтора франка в день. Правда, возить Шарля-Анри Сансона в его красной, словно от крови, повозке не слишком приятно. Но пять франков за выезд — хорошие деньги. Хлеб стоит уже двадцать су за фунт, булочник норовит не принимать ассигнаты, эти бумажки.
При таком положении дел приходится кое-чем поступиться.
И все же вознице неприятно сидеть рядом с палачом. Ибо палач — это и есть должность и профессия Шарля-Анри Сансона. Эта должность перешла к нему от его отца, а тот получил ее от своего. В соответствующее время сын Шарля- Анри Сансона тоже займет это место — место главного палача города Парижа. Правда, сам Шарль-Анри Сансон никогда не называет себя палачом и не считает себя таковым: он — судебный исполнитель приговоров. Но необразованный народ не понимает разницы между палачом и исполнителем приговоров. Поэтому все называют его — палач.
И сторонятся.
Он, конечно, заметил, как старался отодвинуться от него возница. Раньше — давно — такие вещи его задевали. Теперь он уже не молод и относится к этому равнодушно. Через полтора или два часа он вернется к себе в просторный, большой дом и, кто знает, может быть, еще попадет в какой-нибудь театр из тех, что начинают позднее. В театр Водевиль, например. Или в Оперу.
А пока он решает свернуть. Нет никакого смысла ехать по широкой улице Сен-Жак, где народ будет оборачиваться и пялить глаза на две повозки, выкрашенные в темнокрасный цвет, и тыкать в тебя пальцами. И Шарль-Анри Сансон говорит: около Пантеона мы свернем… Это правильное решение — они доедут до Пантеона, свернут налево к площади Сен-Мишель и безлюдными переулками, миновав улицу Вожирар, выедут на улицу Троннвиль. Дальше — набережная Конти, Новый мост и Консьержери.
Пожалуй, это и впрямь самый короткий и правильный путь. Но если это так и он успеет уложиться не в два, а в полтора часа, то он и в самом деле еще успеет в театр. И хотя он предпочел бы попасть в театр Водевиль, но и Опера, в конце концов, тоже неплохо!
Снова закапал дождь. Возница, стараясь не прикасаться к сидящему рядом Шарлю-Анри Сансону, погоняет лошадей. Повозка подпрыгивает на плохо вымощенной улице, проваливается в ямы, грязь летит во все стороны, и народ, завидя их, испуганно жмется к домам.
Кажется, кто-то идет… Нет, ему показалось.
Государственный обвинитель Революционного трибунала Фукье-Тенвиль смотрит на часы. Время еще есть.
Он сидит в мягком, очень удобном кресле у себе дома возле окна. Его квартира расположена прямо в Консьержери, в башне Цезаря. До помещения, где проходит процесс, отсюда рукой подать — еще одна причина, по которой он может не спешить. Он только что пообедал; обед показался ему на редкость вкусным, что случалось довольно редко; его жена Мари от похвалы пошла багровыми пятнами, проговорила что-то и, счастливая, исчезла. Сейчас настроение у Фукье-Тенвиля было отличным. С удовольствием и дальше сидел бы он в этом кресле с высокой спинкой, глядя на жемчужно-серые крыши. Но не позднее, чем через полчаса, ему нужно быть внизу, в Трибунале, ибо процесс Дантона еще не закончен…
Этот процесс всех измучил. Особенно его, Фукье-Тенвиля. Вот и сейчас, толком не отдохнув, должен он идти вниз, продолжать эту бессмысленную и вовсе не такую уж безопасную игру; продолжить и довести наконец до финала этот процесс, который пресса, столь падкая до сенсаций, уже окрестила «заговором иностранцев». Что ж, иностранцы среди подсудимых, действительно, были. Что касалось самого заговора, то многие, недоуменно оглядываясь, пожимали плечами: Дантон — заговорщик? Здесь что-то не так. И уж, конечно, лучше других истинное положение вещей было известно самому Фукье-Тенвилю.
И все же приходилось удивляться и, удивляясь, констатировать, что он, этот ясный исход, казался вовсе неясным для других.
Например, для Дантона.
Конечно, никому не хочется умирать в тридцать пять лет; Дантон не был исключением. Но он был человеком умным и не мог не понимать, что это был совсем особенный процесс и, следовательно, к нему неприменимы понятия обычного, классического судопроизводства. Дантон сам учредил в свое время этот Трибунал. Так ему ли было не знать, что здесь к чему. И все же — и вопреки здравому смыслу, и вопреки своему богатому опыту — все эти дни Дантон вел себя совершенно неразумно. Более того, он вел себя вызывающе — он оскорблял и судей, и его, Фукье-Тенвиля, он выступал, грозил, требовал. Он боролся бешено, спасая головы своих товарищей и свою собственную. Он вел себя так, будто и вправду не знал, что у суда нет иного выхода, чем смертный приговор.
И, вспоминая бурные, язвительные речи Дантона, Фукье-Тенвиль не мог не подивиться, сколько энергии просыпается в человеке, не желающем умирать. Но одновременно это его и огорчало, ибо в таком поведении полностью отсутствовала элементарная логика.
Взять хотя бы Демулена, троюродного брата. Не он ли своим «Разоблаченным Бриссо» отправил на гильотину жирондистов? И кто как не он с молчаливого одобрения Робеспьера натравил Конвент на Эбера? Разве не Камилл рукоплескал, когда повозки Сансона повезли к эшафоту добрую треть Коммуны? А ведь он знал, как слабы были позиции обвинения в этих случаях. Он знал это, как знал, конечно, и Дантон. Это были точно такие же процессы. И головы крайне левых, и головы жирондистов нужны были комитетам, чтобы удержать власть, чтобы избежать междоусобицы. Нужно было принести этих людей в жертву ради единства — и жертва была принесена.
Теперь настала очередь Дантона, ибо из всех обвиняемых страшен Конвенту мог быть он один. И вот Дантон, так много повидавший в своей жизни, предстает теперь перед всей Францией в столь неблаговидном свете — со всеми этими вызывающими речами, обращенными к трибунам, полным народа, со всеми заверениями в своей невиновности. Ничего он этим, конечно, не изменит, но ему, Фукье-Тенвилю, от этого лишние заботы.
Да, процесс определенно затягивается. Сегодняшний день уже третий. По закону государственный обвинитель имеет право потребовать у присяжных вынесения приговора по окончании трех суток. Так именно Фукье-Тенвиль и намерен поступить. Будет очень жаль, если Дантон не поймет его. Он должен понять. Ведь Дантон знает, что Фукье-Тенвиль ему не враг. Более того, они были довольно близки, не раз проводили время далеко за полночь в кабаках Пале-Рояля. Да что и говорить, Фукье-Тенвиль попросту благодарен Дантону: ведь не кто иной как Дантон назначил его на это место — место государственного обвинителя, а просил его об этом Демулен.
И вот оба теперь сидят на скамье подсудимых, а он, Фукье-Тенвиль, должен требовать для них смертной казни. Он искренне огорчен этим обстоятельством. И он очень хочет лишь одного: чтобы и Дантон, и Камилл поняли все правильно. Чтобы они могли отделить Фукье-Тенвиля — человека от Фукье-Тенвиля — государственного обвинителя. И чтобы, поняв это, не создавали ни себе, ни ему дополнительных трудностей.
Сейчас они эти трудности создают.
Вот почему Фукье-Тенвиль объявил перерыв в заседании Трибунала и послал доверенного человека с письмом в Конвент — просил указаний по ходу ведения процесса.
Фукье-Тенвиль недовольно ерзает в своем удобном кресле. Они большие хитрецы, там, в Конвенте. Да и в комитетах. Не так уж трудно было им единодушно проголосовать за арест Дантона, а он должен теперь выкручиваться. Но для того, чтобы соблюсти хотя бы внешнюю видимость правосудия, он должен располагать настоящими документами. Эта лиса Бадье из Комитета общественной безопасности может сколько угодно бормотать, что-де заговор уже раскрыт и только и остается, что наказать презренных заговорщиков. На присяжных подобные слова уже не действуют. Они хотят видеть доказательства.
Доказательств пока нет.
Фукье-Тенвиль по-прежнему смотрит в окно. Но он уже не замечает ничего. Он уже снова там, внизу, в зале Трибунала, по крайней мере мысленно.
Мало, слишком мало документов у обвинения; для последнего, заключительного удара их может не хватить. Собственно говоря, это всего лишь доклад Сен-Жюста, построенный на очень сильных, но, увы, весьма общих обвинениях, да кое-какие улики второго сорта, вроде писем, адресованных третьим лицам, донесений агентов секретной службы и тому подобного.
Поэтому он и ждет от Конвента поддержки, быть может точных распоряжений или указаний, что ему делать.
Но Франсуа, его доверенный, все не идет.
Что ж, он подождет еще немного. В конце концов пусть и там, наверху, поломают голову. И Фукье-Тенвиль снова смотрит рассеянным взглядом в окно, где сквозь дождь расплывается нечеткий туманный Париж. «Пусть подумают», — бормочет он и решает дождаться Франсуа здесь.
Но через минуту меняет свое решение. Бессмысленно сидеть и ждать Франсуа. Да, он пойдет сейчас вниз, в зал Трибунала, — там он чувствует себя как-то спокойнее. Внезапно он понимает, что нервничает. Это удивляет его: такое случается впервые. «А, — думает он и понимает, что не забывал об этом ни на мгновенье, — это все истеричные выкрики Демулена». «Убийца! — крикнул ему Демулен через весь зал. — Прикажи прямо отвезти нас на гильотину. Это не суд, а бойня…»
На беднягу Камилла обижаться не приходится, все-таки ему хуже. Так говорит себе Фукье-Тенвиль, но это его не утешает. Несправедливость всегда тяжела, особенно от людей, от которых можно бы ждать понимания и сочувствия. Полный смирения, государственный обвинитель встает с кресла. Горько сознавать, что ты обижен несправедливо. Что ж, такова его. доля.
Через плечо он надевает широкую трехцветную ленту, берет шляпу с кокардой.
— Мари, — говорит он громко, — я ухожу. Когда Франсуа вернется…
Мари ловит его мысль с полуслова, глядит на него кротким восхищенным взглядом, торопливо кивает: да, да, она поняла. Как только Франсуа вернется, она тотчас пошлет его вниз. Ей очень хочется спросить, придет ли ее муж домой, но она не решается: она знает — Фукье-Тенвиль не любит подобных вопросов.
Он уходит.
Маленькая женщина смотрит на дверь, прислушивается, лицо у нее задумчивое. Она стоит так еще долго, даже после того как тяжелые, властные шаги замирают совсем.
Двумя этажами ниже, в арестантской комнате, четыре человека сидят за большим квадратным столом. Жандарм Наппье и старший сержант Обри играют в карты со старшим тюремщиком и его помощником по имени Мишель.
— Хороший сегодня денек, — говорит жандарм Наппье. — Верно, Обри?
Старший сержант Обри степенно подтверждает: да, неплохой. И действительно, день неплохой, дежурство приходит к концу, особых происшествий не было. Кроме того, они, кажется, в выигрыше.
Большая квадратная комната арестантской разделена на две части. Меньшая часть отделена от большей толстой металлической решеткой. За решеткой — заключенные; там, на широкой скамье, проводят они последние часы своей жизни, дожидаясь, пока за ними придет палач. Он приезжает обычно к четырем, но сейчас уже четыре, а его все нет.
— Странно, — говорит старший тюремщик Латур, — странно. — Наморщив лоб, он пытается вспомнить, какие карты вышли в предыдущем заходе. Пытается — и не может, ибо старший тюремщик Латур уже не молод и никак не может привыкнуть к новым названиям карт.
— Значит, так, — бормочет он, — туз теперь не туз, а закон, король — это гений, дама, то есть бывшая дама, — свобода, а валет — равенство. Итак, закон пик, да, там был пиковый туз, две дамы… две свободы… или это были гении?
Он вытирает со лба пот. Затем глядит в маленькое окошко — никого не видно. Ни палача, ни его повозок, окрашенных в темно-красный цвет.
— Странно, — еще раз говорит старший тюремщик Латур и решает пока прикуп не брать.
Прикуп достается жандарму Наппье и портит ему всю игру к немалому удовольствию Латура, — может быть, им еще удастся отыграться? Тогда за обед в ресторане Жирардена придется платить жандармам — таков уговор. Впрочем, он и сам может за себя заплатить, а если нужно, то и за всех. Как сказал этот Наппье? Хороший денек? Да, пожалуй. Но не только сегодня. Все последние недели были так же хороши. С каждым днем Трибунал приговаривал к смерти все больше и больше народу, и нет ни одного, кто миновал бы эту комнату, вернее, ту ее часть, что за решеткой. И у каждого — почти у каждого — есть последняя просьба. Обычно это какое-нибудь письмо, или записка, или безделушка, которую надо передать по адресу. Ему, Латуру, не тяжело это сделать, он человек не злой. Он не отказывает никому. За это ему дают деньги. Иногда это даже большие деньги, но Латур берет их с чистой совестью — во-первых, человеку за решеткой эти деньги уже не нужны, а во-вторых, как ни говори, он все-таки нарушает инструкцию и риск есть риск. Такое письмо есть у него и сегодня, а вместо денег ему вручили перстень с камнем; если он не ошибается, этот перстень стоит немалых денег. Поэтому у старшего тюремщика Латура есть все основания считать сегодняшний день хорошим, даже если он проиграет и за обед в ресторане знаменитого Жирардена придется платить ему. Но еще лучше, если платить будут жандармы. Поэтому он снова углубляется в игру и повторяет про себя: «туз — это закон… король — гений… дама — свобода… валет — равенство». Он повторяет это несколько раз. Все верно. И старший тюремщик тюрьмы Консьержери Латур улыбается, довольный. Это верно, хороший нынче денек.
Только вот Сансон запаздывает.
Случайная, непредвиденная задержка: Марешаль, старый расклейщик газет, обернулся в тот самый момент, когда Сансон почти уже миновал перекресток на улице Вожирар.
— Марешаль!
И вот он уже подходит, высокий, тощий. В одной руке у него шест, в другой — ведерко с клейстером, и это делает его похожим на Дон Кихота. На груди у него бляха — знак того, что Марешаль потомственный расклейщик, так же, к примеру, как Сансон — потомственный исполнитель судебных приговоров. Только шестьдесят человек во всем Париже имеют право носить такие же бляхи, но сейчас из шестидесяти осталась едва ли половина — старики умирают, а молодые неохотно берутся за такую работу. Молодые рвутся к иному, более интересному. В ведерке же с клейстером интересного, надо признать, немного.
— На работу, — не то спрашивает, не то констатирует Марешаль, глядя на повозки. И зябко потирает руки. — Ну и погода! Если бы не клейстер, — шутит он, — я бы замерз. — И он показывает на ведерко, из которого идет пар. Клейстер — это предмет многолетней гордости Марешаля и предмет зависти со стороны его коллег. Этот клейстер не замерзает при любой погоде и ложится на лист ровным и тонким слоем, отодрать же лист потом невозможно.
— Что у тебя там? — и Сансон кивает на ранец за спиной Марешаля, из которого торчат газеты.
Марешаль пожимает худыми плечами — праздный вопрос!
— С тех пор как на этих повозках ты прокатил папашу Дюшена с его жаровнями, — говорит он, — в Париже выходит всего одна газета, правительственная «Moniteur universale». Только разве это газета? Ты только взгляни на эту бумагу — серая, жесткая, в колючках. Расклеивать ее — никакого удовольствия.
В голосе старого Марешаля профессиональная досада.
— Впрочем, — говорит он, — на, посмотри.
И пока Шарль-Анри Сансон разворачивает газету, действительно серую и колючую, расклейщик Марешаль предается воспоминаниям. «Какие времена были, — думает он, — какие времена. Нет, конечно, и при короле бывало порой неинтересно работать, когда, к примеру, выходила только придворная „Французская газета“, но там хоть бумага была другая. Зато потом наступили поистине золотые дни. А теперь что?»
И еще подумал расклейщик Марешаль, удивляясь при этом, как подобная мысль не пришла ему в голову раньше: «Выходит, что мы с Сансоном живем один за счет другого. Чем больше сначала работы у меня, тем больше потом работы у него. И очень похоже на то, что я скоро вовсе останусь без работы, тогда как старине Сансону придется скоро приискивать еще одного-двух помощников».
И тут Марешаль, похоже очень к месту, вспомнил объявление в сегодняшней газете, в которой до сведения граждан доводилось, что в тюрьмах города Парижа на сегодня, пятнадцатое жерминаля, содержится ровно семь тысяч триста двадцать четыре заключенных.
Шарль-Анри Сансон тоже прочитал это сообщение Комитета общественной безопасности. Он наткнулся на него почти сразу. Поэтому он не просмотрел как следует репертуар театров и, таким образом, не узнал, что из двенадцати постоянно работающих театров в трех — Национальном театре на улице Закона, в театре Лицея искусств в саду Братства и театре Пантеон — спектаклей нет, а в театре Водевиль пойдет «Кормилица-республиканка». Он только прочел о продолжающемся процессе над Дантоном, Демуленом и другими обвиняемыми и совершенно машинально запомнил общее их число — девятнадцать, подумав при этом, точно так же машинально, что меньше чем тремя повозками здесь не обойтись. И в следующий момент он увидел сообщение Комитета общественной безопасности, после чего забыл и о театре Водевиль, и о тех девятнадцати, которыми ему придется заниматься в самое ближайшее время, потому что какое уж тут могли иметь значение девятнадцать человек…
Рассеянно попрощался Шарль-Анри Сансон с расклейщиком Марешалем. Тот понял всю сложность проблемы, вставшей перед его другом, и не обиделся. Колеса повозок уже тарахтели по Новому мосту, лишенному конной статуи Генриха Четвертого. Консьержери была совсем рядом, а Сансон, ничего не замечая, все прикидывал, что же это получается… Получалось, что если даже каждый второй человек, сидящий сейчас в тюрьме, будет признан невиновным и выпущен (само по себе это было совершенно фантастическим и нереальным предположением), то и тогда ему, Шарлю-Анри Сансону, оставалось на целый год — без выходных — работы, считая по десять человек на день, ибо именно такое число он считал предельным; и все это было верно при втором, не менее нереальном предположении, что число заключенных больше не будет расти.
После всего этого — какой уж тут театр! Шарль-Анри Сансон к своей работе исполнителя судебных приговоров относился в высшей степени добросовестно. Заметка в газете его расстроила. «Это все следует обдумать всерьез и без спешки», — сказал он сам себе, но в это самое время повозки, прогрохотав по булыжнику, остановились наконец перед резной решеткой тюрьмы Консьержери.
— Гражданин обвинитель…
Фукье-Тенвиль быстро оборачивается. А, это всего лишь Никола, типограф. Неловко протиснувшись в маленькое оконце, он протягивает бумагу:
— Так?
Фукье-Тенвиль берет желтоватый листок. Широкими расплывающимися буквами отпечатано на нем постановление Революционного трибунала. Шевеля губами, государственный обвинитель читает приговор. Итак, заговорщики признаются виновными в контрреволюционных замыслах против Республики и приговариваются… ну, ясно к чему. Внизу поставлена дата — шестнадцатое жерминаля. Это будет завтра, шестнадцатое жерминаля. Фукье-Тенвиль вспоминает, что по новому календарю шестнадцатое жерминаля — День латука. Сегодня же пятнадцатое, — День тюльпана. По прихоти судьбы Фабр д’Эглантин, придумавший все эти нелепые названия, тоже упоминается среди приговоренных к смерти в День латука, потому что не позднее, чем завтра, с этим делом будет покончено.
Значит, все верно.
— Так, — говорит Фукье-Тенвиль.
Никола, типограф, добродушно смеется и исчезает.
— Эй, Никола!
— Да, гражданин обвинитель.
— Сколько думаешь отпечатать?
— Тысячи две, как всегда.
— Пять, — поправляет его Фукье-Тенвиль, — На этот раз пять.
— Я смогу потом уйти?
— Нет, — говорит Фукье-Тенвиль, — Нет. Подожди. Процесс ведь еще не закончен.
Это что-то новое. Уж не становится ли гражданин государственный обвинитель суеверным? Раньше за ним такого не водилось. Никола, как истый парижанин, предпочитает проводить вечера в местах, совсем не похожих на помещение Трибунала. Он пытается возражать.
— Практически, — говорит он и кивает на желтоватый листок, — практически для них все кончено. Они, считай, уже… — и он постукивает ребром ладони по шее.
— Практически — да, — соглашается Фукье-Тенвиль. — Но дело нужно еще довести до конца. Так что уж гражданину Никола придется потерпеть до завтра, он еще успеет отдохнуть. Я дам тебе два свободных дня. Ну?
Это совсем другое дело. Весьма довольный, типограф Никола исчезает в своей каморке.
Фукье-Тенвиль снова один. Пора начинать. Куда же запропастился Франсуа, мерзкая скотина! Может быть, с ним что-нибудь случилось? Ведь до Тюильри, где заседают комитеты, рукой подать. Фукье-Тенвиль идет к своему бюро. Это бюро из красного дерева, добротной старинной работы. Оно опирается на бронзовые позолоченные ножки в виде свирепых грифонов; сегодня грифоны выглядят еще более свирепо, чем обычно.
Со своего места Фукье-Тенвиль окидывает взглядом пустой зал. Он будет пустовать еще несколько минут, пока не раздастся звонок. Когда ему зазвенеть, решает только он, Антуан Фукье-Тенвиль.
«…Антуан-Квентин Фукье-Тенвиль, — произносит он про себя. — Антуан-Квентин Фукье-Тенвиль, государственный обвинитель», — и слова эти прекрасной музыкой отдаются глубоко в самых недрах его существа. Произнося их, он невольно подтягивается, распрямляет спину, разворачивает плечи. Всякий, кто увидел бы его сейчас, в эту минуту, вынужден был бы признать, что у него очень внушительный вид. Он и сам это чувствует и распрямляется еще больше. Так он стоит и смотрит в молчащий зал, который будет молчать еще столько, сколько он того захочет. И этот Фукье-Тенвиль совсем не похож на того, который получасом раньше сидел у окна, сомневался, сожалел. Здесь, положив руки на бюро из красного дерева, стоял другой человек, и человек этот не знал ни сомнений, ни пощады.
Он походил на полководца, рассматривающего поле битвы. Он и был полководцем, а зал этот был полем битвы, где Антуан Фукье-Тенвиль давал свои сражения, которые он неизменно выигрывал. И какие сражения… Здесь нашли свой бесславный конец жирондисты, и красноречие их должно было умолкнуть, не спася им жизни. Здесь оказалась бессильной красота той, которую прозвали прекраснейшей женщиной Европы, — Марии-Антуанетты, вдовы Капет.
И храбрость, и знатность, и все прочие добродетели, ровно как и пороки, умолкли здесь навсегда; принцы крови, маршалы, генералы, Эбер со своей шайкой заговорщиков, знаменитые писатели и ученые и люди, неведомые никому, — все они побывали здесь. Весь этот огромный зал с темным оскалом галереи, уходящей под потолок, украшенный резным дубовым набором, как подземное царство Плутона, можно было бы наполнить тенями мертвых.
Когда-то здесь, в этом зале, который назывался тогда Залом потаенных шагов, один из Капетов, Людовик Четырнадцатый, произнес: «Государство — это я». Фукье-Тенвиль не мог бы повторить это за Людовиком Четырнадцатым. Но сказать: «Правосудие — это я» — он мог бы.
Но он этого не скажет. Он не хочет испытывать судьбу пустой бравадой. Дело не в словах. И все-таки ему хочется их произнести, и самому себе он может признаться: сознание своего могущества — безусловно, ощущение, не сравнимое ни с чем.
Вот он стоит, государственный обвинитель Фукье-Тенвиль, один из людей, чье имя вызывает трепет во всем мире. Тяжкий путь пришлось пройти ему, прежде чем революция вознесла его на эту высоту: нищее детство в Пикардии, мытарства и нужда в Париже, голодные глаза детей. Он не мог зарабатывать достаточно, чтобы прокормить семью, в то время как двор задыхался в распутстве и золоте! И он с силой сжимает кулаки, но не с безнадежным отчаянием, как тогда, а с чувством удовлетворенной справедливости.
Высокий широкоплечий человек в черном фраке глядит в пустой зал. Молчат трибуны для зрителей, куда через несколько минут хлынет крикливая громкоголосая толпа. Пусты скамьи подсудимых — скоро заполнятся и они. И присяжные отдыхают, переводят дух, и тоже пусты их скамьи вон там, у окна, как раз напротив обвиняемых.
А вот и стол, где сидят судьи. На темной поверхности стола белеют аккуратные стопки бумаги.
Пора!
Фукье-Тенвиль поправляет султан на шляпе, дотрагивается до широкой трехцветной ленты на груди…
Из боковой двери показываются растрепанные усы дежурного полицейского Тавернье.
— Народ волнуется, — говорит он и вопросительно смотрит.
Последнее мгновенье. «Если б меня видела покойная Женевьева, — думает Фукье-Тенвиль. — Она так и не дожила до хороших дней».
Сегодня такой день. Это день, когда имя Антуана-Квентина Фукье-Тенвиля навсегда войдет в историю.
День тюльпана.
Фукье-Тенвиль берет в руки колокольчик.
— Впускай! — говорит он полицейскому Тавернье.
И звонит.
Расклейщик Марешаль заканчивает свою работу. Осталась еще одна газета, последняя. Старый Марешаль ловко нацепляет газету на шест с перекладиной. Он делает это уже сорок лет. Так же механически обмакивает кисть в клейстер. Раз… и два. Затем он поднимает шест с перекладиной и прижимает газету к стене.
Ну вот и все.
Теперь можно передохнуть. Он достает трубку, закуривает, сплевывает, затягивается глубоко, с наслаждением. Отступив на несколько шагов, смотрит на свою работу. Газета приклеена так, словно она всегда была здесь, на этом месте. Марешаль доволен — рука его еще тверда, глаз точен. Он подходит ближе, но не вплотную, — дальнозоркость. Теперь, когда работа закончена, можно прочитать эту паршивую газетенку повнимательней. Хотя простому, вроде него, человеку, читать здесь нечего. Дебаты в Конвенте. Сообщение Комитета общественной безопасности, которое так расстроило беднягу Сансона. Вести из провинций… Ему это все неинтересно. Театр, театр… В театре он не был уже давно, для этого у него нет свободных денег, а на благотворительные спектакли для санкюлотов он тоже не ходит — там всегда выступает второй состав, благодарю вас… Но спешить ему некуда, чуть-чуть он согрелся, он может себе постоять несколько лишних минут. Он читает — «Национальная опера»… «Театр Республики»… «Театр санкюлотов» — бывший Мольера… Читает он медленно, не торопясь, всю театральную колонку до конца, нет, ему ничто не нравится. Кроме того, он собирался заглянуть к Сансону — по пятым и десятым дням у исполнителя судебных приговоров собираются любители классической музыки. До вечера, правда, еще далеко.
Сколько же он сегодня заработал?
В прошлом месяце им опять повысили расценки. За сто расклеенных афиш и газет он получает теперь один ливр и семь су. Уйма денег; до революции он получал за эту работу вдвое меньше. Но тогда фунт говядины стоил шесть су, а теперь двадцать. И вино с тех пор подорожало вчетверо.
Несмотря на все это, Марешаль считает, что живется сейчас интересней. Одно то, что нет ни герцогов, ни принцев, не говоря уж о прочих, одно то, что он, Марешаль — гражданин Марешаль, — равен сегодня любому другому человеку из двадцати пяти миллионов, населяющих Францию, уже только это одно заставляет его быть искренним и непоколебимым республиканцем, и он не пропустил еще ни одного собрания в секции Французского театра, к которой он принадлежал. А его сын Виктор… в двадцать три года он получил уже чин капитана, — виданное ли это дело! Сын расклейщика в старое время и мечтать о таком не мог, только четыре поколения предков-дворян открывали доступ к офицерским чинам. Нет, Марешаль доволен революцией. А если ею доволен такой старик, как он, то что уж говорить о молодежи. Для нее наступила поистине прекрасная жизнь. Вон Сен-Жюсту, второму после Робеспьера человеку во Франции, двадцать шесть, подумать только. Итак, Марешаль за революцию… вот только жить стало бы чуть полегче. Хорошо, он живет один, ему много не надо. Но он знает, как живут его соседи — медники и печники, шляпники и сапожники, белошвейки и позументщицы. Они голодают, работая по двенадцать часов в сутки. О тех, у кого работы нет, и говорить нечего. Если бы не помощь соседей, они в эту зиму все до одного перемерли бы. Спекулянты все взвинчивают и взвинчивают цены, а правительство установило максимум зарплаты… Правительство… Так что жаловаться некому.
И Марешаль вздыхает. Конечно, сейчас война. Всем тяжело, все должны приносить жертвы. Но почему-то выходит так, что самые большие жертвы приходятся на долю тех, кто победней. Сержан, булочник, скупил уже три национальных имения и купил своей любовнице дом под Парижем, — об этом знают все. Значит, для него жертвы не так уж тяжелы… А разве таких, как он, мало?
И еще… Марешаль даже наедине с собой боится об этом Думать… Происходят странные вещи. Арестовывают тех, кто еще вчера считался примерным республиканцем. Они пробовали было обсудить эти вопросы на заседании в секции, но комиссар из Конвента запретил включать этот вопрос в повестку. «Распоряжения комитетов не обсуждаются, — сказал он- Они исполняются. И горе тем, кто примкнет к врагам революции, осужденным на смерть Трибуналом».
Кто спорит — врагов революции надо уничтожать, или, как писал Барер, закапывать их в землю свободы. Но ведь арестован и казнен Эбер, помощник генерального прокурора Коммуны, это произошло лишь несколько дней назад… А сам генеральный прокурор Коммуны Шометт тоже посажен в Люксембург и ждет суда. За Шометта старый Марешаль может поручиться, он, кажется, знает его лучше, чем родного сына. Ведь это по его, Марешаля, предложению секция Французского театра выдвинула Шометта в революционную Коммуну десятого августа. Кто же в городе не знал Шометта, уж это ли не патриот из патриотов! И такого человека арестовывают по обвинению в контрреволюции и даже запрещают в его защиту петицию от секции. Нет, здесь определенно что-то не так. Но что?.. У кого спросить? Народ испуган — аресты, аресты, аресты, плата за донос повысилась до ста су… И очень для многих эти сто су являются неотразимой приманкой. Не у кого спросить, люди неохотно говорят о политике, даже самые старые знакомые перестали доверять друг другу, ибо они доверяли — жизнь…
Есть, правда, один человек… Этот человек — любовник его дочери Марго. Она живет на улице Флорентин с этим Броше, ее любовником, мерзавцем. Марешаль очень не любит своего будущего зятя и называет его только так. Впрочем, только за глаза: последнее время тот пошел в гору. Теперь он большой человек, занимает пост секретаря военного министерства вместо Венсена, казненного вместе с Эбером. У них сейчас отличная квартирка во втором этаже, сам Марешаль никогда о такой и мечтать не смел. Но все равно этот Броше увел его дочь, еще и семнадцати ей не было. И теперь пожалуйста — живи один. Дочь — с любовником, сын на войне. Живи один как хочешь. Хорошо, что он все еще может заработать себе кусок хлеба. Правды ради он должен бы признать, что и Броше и дочь не раз предлагали ему переселиться к ним. Но он на это не пойдет, нет, нет, хотя, конечно…
Он идет, разговаривая сам с собой, ранец за его спиной похож на странной формы горб. Так, не торопясь, добредает он до набережной Конти. На набережной словно ничего и не изменилось: рыболовы, они замерли над черной водой. Марешаль останавливается и смотрит в медленную темную воду. Так же медленно текут его мысли.
Он расклеил сегодня сто газет и восемьдесят афиш.
Значит, он заработал… заработал два ливра с лишним.
Зайти к дочери…
Все эти дела не займут много времени, до вечера еще далеко. А вечером он прихватит бутылочку вина и отправится к Сансону в его уютный, просторный и теплый дом на улице Нев-Сен Жак. Еще он возьмет с собой скрипку, которую он купил в тысяча семьсот пятьдесят третьем… нет, пятьдесят четвертом году. Они сядут в большой гостиной, может быть, даже Шмидт придет, но лучше бы, пожалуй, он не приходил сегодня, уж больно он воображает последнее время. Да, хорошо бы без Шмидта… И… и они будут играть мелодии, волшебные мелодии Генделя и Глюка.
Он закрывает глаза. В тысяча семьсот пятьдесят четвертом году, когда он покупал скрипку… Или это был все же пятьдесят третий? Там была эта… как же ее звали, черненькая хохотушка… Жаннет… Мари… А ему было тогда девятнадцать… и, покупая скрипку, он играл только для нее, — С ее приданым ей нашли, конечно, жениха посолидней… Ну, так сегодня он опять ее увидел на том же месте. И он нашел, что она — как же ее все-таки звали? — очень, очень изменилась… да, очень, но и он, вероятно, тоже, потому что она смотрела на него в упор и не узнала, а он — узнал.
Сами на себе мы никаких изменений не замечаем.
И это хорошо, это избавляет нас от лишних страданий. Но музыка — музыка всегда остается молодой и прекрасной.
Как мы сами в наших воспоминаниях.
Расклейщик Марешаль стоит с закрытыми глазами. Он слышит в себе музыку… Он напевает…
Тихо течет черная вода.
Неподвижно стоят рыбаки, вглядываясь в темную воду.
Расклейщик Марешаль напевает арию из оперы Глюка «Орфей».
Небо то проясняется, то вновь затягивается стремительно бегущими тучами.
Красные повозки Шарля-Анри Сансона одиноко стоят у решетки тюремного двора Консьержери. Они пусты.
Ветер наконец разогнал тучи, и в просвете выглянуло низкое апрельское солнце.
До вечера не так уж далеко.
«Не огорчайтесь, Броше. Думаю, что вы найдете выход из положения. Я уверен в этом. Все наладится, Броше, время есть. До вечера еще далеко».
Броше стоит у окна и смотрит, как по улице Флорентин идет человек, которому принадлежат эти слова. Он стоит до тех пор, пока высокая, чуть согнутая фигура в серой накидке не исчезает за углом. После этого он стоит все так же, словно чего-то ожидая. Поворачивается. Заложив руки за спину, ходит, прихрамывая, по кабинету, звук шагов его тонет, поглощаемый толстым ковром. Теперь, когда он остался один, на лице у него отчаянье.
Если бы кто-нибудь из сотрудников военного министерства увидел на лице Броше выражение отчаяния, человек этот был бы, наверное, очень удивлен. Секретарь военного министерства Броше известен как раз своим необыкновенным хладнокровием, невозмутимостью, умением находить наилучший выход из самых, казалось бы, безнадежных ситуаций. Теперь в это трудно поверить. Глядя на щуплого, прихрамывающего человека с растрепанными белокурыми волосами и выражением растерянности и отчаяния на осунувшемся лице, вряд ли можно заподозрить в нем и хладнокровие, и невозмутимость.
«До вечера еще далеко».
Эта фраза похожа на звон похоронного колокола. Именно так воспринимает ее Броше, именно так отдается она в его мозгу. Да, так, ибо сегодня вечером могут состояться похороны его карьеры. Если до вечера, до которого вовсе не так уж далеко, он не придумает чего-то — чего, он еще не представляет. Долгие годы поистине каторжного труда положил он, чтобы пройти, нет, протащиться по всей бесконечной лестнице повиновения, прежде чем заработать право повелевать другими. И вот теперь все готово пойти прахом.
И снова повторяет он это слово, отдающее могильной плесенью: прах, конец… Сколько у него еще осталось времени? Два, три часа? Он должен взять себя в руки. От этого зависит его будущее. Его карьера. Его жизнь. От этого зависит будущее его семьи, женщины, которую он любит, ребенка, которому еще предстоит появиться на свет. Он должен найти какой-то выход. Как сказал Герои — до вечера еще далеко?
Он садится за свой рабочий стол. Он сидит, положив острый подбородок на ладони. Он должен сосредоточиться. Спокойно, Броше. Он видит свой кабинет, картины на стенах, дорогой ковер на полу, драгоценный фарфор за стеклом. Над его головой висит огромное полотно в позолоченной раме. Это картина Франсуа Буше «Галатея и Пигмалион». Военный секретарь приобрел эту картину за бесценок на распродаже национальных имуществ. Он купил ее вовсе не потому, что является поклонником творчества Франсуа Буше, вовсе нет, но потому, что история о Пигмалионе и Галатее напоминает ему его собственную жизнь. В чем смысл легенды о Пигмалионе? В том, понимает Броше, что сильное желание может свершить невозможное, свершить чудо. Только этот один смысл и есть в древнем мифе, все остальное — несущественно. Броше всем в жизни обязан лишь самому себе — самому себе и революции. Он — человек, который создал себя из ничего. Одним только желанием, одним непрекращающимся многолетним усилием поднялся он из ничтожества к высотам общественной жизни, он, научившийся читать в тринадцать лет, работая учеником переплетчика, не помнивший матери и не знавший отца. И вот теперь глупый случай, роковое стечение обстоятельств грозит обрушить все здание, возведенное им с такой заботой и с таким трудом.
«Придумай же что-нибудь, Броше!»
Он думает. Прямо перед собой и немного выше он видит ангелов, густо заполнивших все пространство картины Франсуа Буше. Напряженным невидящим взглядом скользит он по нежным розовым бедрам оживающей Галатеи. Что же ему придумать…
Из кожаной с тиснением папки достает он лист бумаги.
Этот лист — копия доноса, поступившего в Комитет общественной безопасности, о заговоре в Двенадцатом драгунском полку. Имена заговорщиков. Среди них — под номером двенадцать — полковник Виктор Марешаль. Именно он, говорится далее в доносе, должен вечером пятнадцатого жерминаля прибыть в Париж для проведения в жизнь злобных замыслов против республики.
В настоящую минуту нет на свете человека, который вызывал бы у Броше такую ненависть, как полковник Марешаль. Броше вообще недолюбливал профессиональных военных, но теперь он ненавидит их, и более всего — своего дорогого родственника, полковника Марешаля, этого болвана. Он ненавидит их узость, их напыщенные речи, их упоение своими подвигами, как существующими, так и выдуманными, их вечные претензии судить обо всем со своей низенькой колокольни. У них есть одна профессия — воевать. Профессия, с которой они справляются, кстати, без особого блеска. Тем не менее любой капитан, прибывающий в Париж по вызову военного министерства, ведет себя так, словно он по крайней мере Юлий Цезарь.
Безмозглые идиоты! И первый из них по праву — его родственник Виктор Марешаль, который числится в листке из кожаной папки под номером двенадцать.
Правильнее всего было бы просто умыть руки. Иного и не стоит кретин, который позволяет втянуть себя в заговор, в это дерьмо. В том, что полковника- Марешаля втянули, никаких сомнений нет — для самостоятельных действий ему не хватило бы мозгов. Но Трибуналу нет дела до подобных тонкостей, и глупую голову Сансон отрубает так же, как и умную. И если бы полковник Марешаль не был братом его Марго, он мог бы уже считать себя покойником — инструкции, теория и практика комитетов на этот счет нс оставляют места для иллюзий. Но Марго никогда не простит ему, если он не попытается спасти этого дурака. А если Марго не простит ему, если она уйдет, Броше знает — ему тогда ничего не нужно. Он сам ненавидит себя за эту слабость, за это безволие. От одной мысли об этой женщине Броше ощущает одновременно жар и холод, он теряет над собой контроль, становится тряпкой. Поэтому он должен спасать полковника Марешаля так, как если бы спасал самого себя. Он уже не думает о том, что арестованный по обвинению в заговоре полковник бросил бы гибельную тень на секретаря военного министерства. Он думает о том, что вся жизнь его стоит сейчас под ударом и что все зависит, как и всегда, от него самого. И он видит только один выход: он должен действовать сам. Он не должен допустить дело полковника Марешаля до Трибунала. Он должен перехватить инициативу, взять дело в свои руки и представить его так, словно военная разведка сама давно следит за заговором. И это, пожалуй, единственный способ выгородить, вытащить из этой истории Марешаля.
Есть только один этот выход, и тут ему должен помочь сам Марешаль. Он должен написать подробный доклад на имя военного министра. Он, Броше, сможет оформить его задним числом, и тогда все еще можно будет спасти.
Ну, а если нет…
Тогда дело плохо. Он сам, пожалуй, выпутается. Он слишком много знает, он нужен, его честность и преданность революции проверены не раз и не подлежат сомнению. Карно его не выдаст, да и в самих комитетах у него есть друзья — и Вулан, и Амар, и Колло… Но Марго — Марго не станет слушать его ни минуты. Все будет напрасно, она уйдет, и тогда… Безнадежно замкнутый круг.
Значит, выход один: уговорить Марешаля. Он соберет всю свою волю, призовет на помощь все красноречие. Он должен убедить Виктора Марешаля написать донос.
Для этого он должен его увидеть первым. Он должен его увидеть первым, до того, как агенты Комитета арестуют его. И во всем Париже есть только один человек, способный оказать ему эту услугу, — тот, кто принес ему этот листок, кто, уходя, сказал: до вечера еще далеко.
Броше звонит. Секретарю для особых поручении он говорит:
— Это письмо немедленно передай Герону. Он сейчас во дворце Правосудия.
— Ответ нужен?
— Нет, — говорит Броше. — Нет. Ответа не нужно. Секретарь для особых поручений исчезает. Броше откидывается в кресле, тонким батистовым платком вытирает вспотевший лоб. Теперь остается одно — ждать. И он ждет.
Он сидит и ждет, пока наступит вечер.
На картине художника Франсуа Буше легкомысленные ангелы безмятежно порхают вокруг розовеющих плеч Галатеи.
— Наконец-то!
Жандарм Наппье сидит лицом к двери и первый замечает Сансона. К этому времени Наппье и его напарник, старший жандарм Обри, проигрались в пух и прах, поэтому Наппье зол как сатана. Он с удовольствием дал бы кому-нибудь по роже. Поэтому он подходит к решетке и, чтобы хоть как-нибудь разрядиться, кричит в полутьму:
— Эй, покойнички, проснитесь… Черт бы вас побрал! — и он пинает решетку сапогом. — Аристократишки проклятые!
— А ну заткнись, — говорит тюремщик Латур. Он человек старой закалки и насмешки над приговоренными к смерти считает кощунством. — Ох уж и молодежь нынче пошла, — ворчит он, — ничего святого…
Он подходит к конторке, достает оттуда толстую книгу в прочном кожаном переплете с металлическими застежками. В книге всего две графы: «прибыл» и «убыл». Сейчас тюремщик Латур делает четкую запись в графе «убыл». Он пишет:
«Переданы гражданину Сансону для приведения приговора в исполнение:
— Торговец скотом Жан Маске.
— Бывший дворянин Этьен-Жак-Арман де Ружмон».
Последнее слово он, правда, записывает не сразу, ибо не знает, как оно пишется правильно.
Обладатель такой сложной фамилии насмешливо говорит через решетку:
— К чему формальности! Милейший Латур, мы попадем на ужин в преисподнюю даже в том случае, если явимся на тот свет и вовсе без фамилии.
Но Латур не поддерживает веселого тона. Он человек набожный и верит в загробную жизнь. Ему не нравится шутка бывшего дворянина, но он решает промолчать. Все же он думает про себя: «А Робеспьер-то прав. Не зря говорил он, что атеизм — это порок аристократов. За час до смерти богобоязненный человек не стал бы вести себя так легкомысленно, обрекая душу на чудовищные мучения». И ему искренне жаль этого человека.
Итак?
Легкомысленный человек за решеткой по буквам подсказывает ему, как пишется эта фамилия — Ружмон. Пишется так вот уже тысячу лет, с тех пор как первый из Ружмонов присутствовал при коронации Карла Великого… Впрочем, это вряд ли имеет сейчас такое уж значение.
Тюремщик Латур заканчивает запись. Он пишет правильно: Ружмон. И передает перо Сансону. Тот, в свою очередь, пишет: «Пятнадцатого жерминаля второго года Республики, единой и неделимой, мною, Шарлем-Анри Сансоном, из тюрьмы Консьержери получены для приведения приговора в исполнение Жан Маске, торговец скотом, тридцати шести лет, и бывший дворянин и бывший граф Этьен-Жак-Арман де Ружмон, тридцати лет».
Слово «Ружмон» он пишет правильно. И расписывается аккуратно и неторопливо — «Шарль-Анри Сансон, судебный исполнитель приговоров». Он дает чернилам просохнуть, затем прочитывает написанное и ставит время — четыре часа пятьдесят семь минут пополудни. Формальности окончены. Теперь осужденные полностью переходят в распоряжение Сансона. Латур, гремя ключами, отпирает решетку и отводит заключенных в соседнюю комнатку, где Сансон подстрижет им волосы на шее. Так делается всегда. И это не прихоть Сансона, хотя он и предложил подобную унизительную процедуру. Это действительно необходимо, чтобы нож гильотины не потерял силы удара и не затупился слишком быстро.
— Давай, давай, папаша Сансон, — кричит вслед жандарм Наппье, — подстриги их как следует, да смотри не обрежь лишнего, ха-ха-ха…
Шарль-Анри Сансон никак не реагирует на этот выкрик. Сейчас модно всячески оскорблять приговоренных. Все эти крики и оскорбления, считает он, не от великого ума. Более того, он не раз уже замечал, что яростнее всего толпа поносит того, перед кем вчера трепетала, — явление для человека думающего весьма примечательное. Вот почему на жандарма Наппье он попросту не обращает внимания. Зато старший жандарм Обри больно ударяет глупого Наппье по ноге.
— Ты что, спятил? — говорит он, — Ведь Сансон при исполнении служебных обязанностей. Вот он напишет на тебя рапорт Фукье-Тенвилю — и загремишь в провинцию. Понял?
Жандарм Наппье независимо сплевывает.
— Тебе никак жаль этих подлых контрреволюционеров, — огрызается он.
Старший жандарм Обри молчит — что толку разговаривать с идиотом.
Из маленькой комнатки выходит Сансон. Двое приговоренных, Жан Маске и бывший граф де Ружмон, идут за ним, волосы у них коротко острижены, руки связаны за спиной.
— Счастливого пути, господа, — снова кричит Наппье. — А ты, Сансон, ты недобрил их, ты их только подстриг. Так побрей же их своей славной бритвой там, на площади!
Так жандарм Наппье ревностно поддерживает свою репутацию истинного республиканца. «Национальная бритва» — это «mot», словечко, пущенное в оборот Барером, членом Комитета общественного спасения, признанным остряком. И все истинные патриоты или желающие прослыть таковыми упражняются сейчас в остроумии, обыгрывая столь удачно найденное обозначение гильотины. «Национальная бритва»… ха-ха-ха! Ну, а Сансон… кто же он тогда? Он, выходит, национальный брадобрей… И жандарм Наппье смеется до слез.
— Побрей их хорошенько, гражданин брадобрей, — кричит Наппье в последний раз и утирает слезы.
Обычно Шарль-Анри Сансон не страдал излишним любопытством. Но сейчас, против своей воли раздраженный выкриками жандарма, он чувствовал странную потребность поговорить с кем-нибудь не похожим на этого остолопа. Поэтому он изменил своему правилу и обратился с вопросом к бывшему графу, который с жадным любопытством смотрел в нахмуренное мокрое небо. За что, спросил его Сансон, за что он был приговорен к смерти? Бывший граф не без удивления посмотрел на Сансона.
С самого начала революции, — ответил он, — я дал себе торжественное обещание ни при каких обстоятельствах не высказывать Своего отношения к происходящему. И пока я следовал этому правилу, все шло как нельзя лучше. Но однажды в присутствии прекрасной женщины я увлекся и позволил себе некоторые сомнения в бесспорности всего происходящего. Более того, я позволил себе некоторые критические замечания. И хотя присутствовали только друзья, в доносе значилось, что я громогласно высказывал особо опасные для Республики мысли. В доносе не уточнялось, какие именно, но суду оказалось достаточно и того. Так что опасайтесь иметь свои мысли, сударь, — закончил бывший граф и дворянин.
Вот она, долгожданная записка из Конвента. Фукье-Тенвиль берет, почти выхватывает ее из рук секретаря, распечатывает, читает. «Гражданин государственный обвинитель, — читает он, — мы всецело одобряем методы ведения тобой этого дела. Интересы Республики требуют строгого наказания презренных заговорщиков. Помни, что на осуждение врагов свободы и народа должно уйти не больше времени, чем требуется для признания их виновными. Не медли. Не останавливайся перед любыми необходимыми мерами; в случае возникновения беспорядков прибегни к силе, дабы восстановить спокойствие и создать условия для полного торжества справедливости и правосудия.
Все честные патриоты и Конвент с тобой в эти трудные минуты.
Да здравствует Республика!»
Ниже шли подписи: Барер, Колло д’Эрбуа, Билло-Варен, Вадье, Амар… Подписи Робеспьера, отметил Фукье-Тенвиль, как всегда, нет. А где Франсуа? Секретарь Вольф показывает взглядом — он там, в коридоре.
После шума и яркого света в зале Трибунала коридор кажется особенно темным и тихим. Некоторое время Фукье- Тенвиль привыкает к этой тишине и к этому освещению. И тогда он замечает Франсуа.
Франсуа стоит, привалившись к одной из колонн, небрежно вертя в руках шляпу с преувеличенно, как и положено по новейшей моде, широкими полями. Так одевается сейчас вся золотая молодежь и те, кто ей подражает: шляпа с огромными полями, высокие чулки, на шее бант и непременный высокий воротник. И духи; они считают особым шиком употреблять их в пику санкюлотам; вот и сейчас Фукье-Тенвиль чувствует крепкий, резкий аромат. «Надушился, как шлюха», — думает он, вглядываясь в красивое лицо Франсуа. Сейчас на этом лице ленивая, дерзкая и вместе с тем чуть смущенная улыбка, которая кажется Фукье- Тенвилю просто наглой усмешкой.
При виде Франсуа в душе государственного обвинителя поднимается тяжелая волна неприязни. Это неприязнь человека, знающего цену дарам жизни, к баловню счастья. Быть может, это просто зависть, ибо в свои восемнадцать лет бездельник Франсуа достиг почти того же, чего и сорокавосьмилетний Фукье-Тенвиль. Достиг причем без всякого труда, и это, пожалуй, больше всего другого возбуждает у Фукье- Тенвиля такую неприязнь. При всем этом Фукье-Тенвиль не может не признать — шалопай Франсуа ему весьма полезен. И все же Фукье-Тенвиль знает, что, не будь Франсуа племянником самого Карно, никогда не посмел бы он стоять перед ним вот так, развалясь. Он вылетел бы с этой работы в два счета и думать не мог ни о какой стажировке.
К сожалению, Франсуа тоже догадывается об истинных чувствах, которые питает к нему государственный обвинитель. Но пока он остается племянником своего дяди, можно позволить себе роскошь не обращать внимания на любовь или неприязнь Фукье-Тенвиля. Так он и поступает.
— Ты опоздал, мой мальчик, — говорит Фукье-Тенвиль с отеческой укоризной.
Франсуа вежливо объясняет: он задержался в Конвенте. И тут же, вспомнив, смеется:
— Это надо было видеть! От одной только мысли о Дантоне всех бросает в холодный пот.
И Франсуа снова смеется. Фукье-Тенвиль тоже улыбается, но улыбка у него выходит несколько натянутая — от того, что он услышал, ему не по себе. Конечно, никто не вспомнит про его знакомство с Дантоном или родство с Демуленом, но все же…
— Ну, ну, — поощряет он Франсуа, — ну, а остальные?
— То же самое, — беспечно говорит Франсуа. — Робеспьер дважды брал слово. Вид у него был загнанный, а голос скрипел так, что уши заложило.
— Он не подписался, — говорит Фукье-Тенвиль.
Франсуа кивает.
— Да. Билло-Варен сунулся было к нему с этой бумажкой, но Робеспьер нацепил вторую пару очков и сказал, что, по его мнению, правосудие должно обходиться без кнута.
— А твой дядя?
— Он сказал, что у него и без того хватает дел, эти его не касаются. Его дело — война, сказал он, а дерьмо пусть разгребают те, кто его натащил.
От таких подробностей Фукье-Тенвилю становится не по себе. Франсуа стал слишком уж смел. Впрочем… пусть.
Так…
И Фукье-Тенвиль еще раз читает записку. Он уже не улыбается. К сожалению, он не состоит в родстве с Карно. Пока что в этой записке он не видит никаких указаний. Ее уклончивый тон таит в себе опасность — прежде всего это опасность для самого Фукье-Тенвиля. Но ведь те, кто подписывал эту записку, должны понимать — у него связаны руки. Вновь и вновь перечитывает он записку, стараясь уловить намек, увидеть знак, отгадать скрытый смысл. И он находит этот намек — вот он: «в случае возникновения беспорядков…»
Обрадованный, едва веря себе, Фукье-Тенвиль вглядывается в косые падающие строчки и видит ключ, который ему вложили в руки, — «в случае возникновения беспорядков». Сейчас беспорядков нет… пока нет, поправляет он себя. Но если они возникнут, он имеет право прибегнуть, как это сказано в записке, к любым нужным мерам. Очевидно, вплоть до крайних. Что это значит? Это значит, он может очистить галереи от зрителей и даже удалить обвиняемых из зала, удалить их и потребовать от присяжных немедленного вынесения приговора.
Вот путь, которым нужно следовать, чтобы довести дело до успешного завершения; спасительная гавань еще далека, но все же и видна. Теперь все зависит от того, когда возникнут беспорядки.
Фукье-Тенвиль несколько удивлен, что такая простая мысль не появилась у него самого. С большим уважением думает он теперь о членах комитетов, подписавших записку. Какой изящный и простой выход!
— Кто писал записку?
— Барер.
Ну конечно. Это его стиль. Недаром он стал незаменимым в Комитете общественного спасения, этот франт, всегда элегантно одетый, с холодным и в то же время приветливым взглядом. Значит, Барер…
— Больше он ничего не велел передать?
— Он сказал, что еще напишет вам.
Оба замолкают, погруженные в собственные заботы. Франсуа думает о том, что послезавтра истекает срок пари. Он поспорил с драгуном Моло, что за неделю, не больше, сумеет добиться благосклонности любой женщины.
«Кандель», — тут же сказал Моло, и все засмеялись.
Кандель, актриса, была красивейшей женщиной Парижа и далеко не самой глупой, Франсуа понял это по насмешке на лице драгуна: что ты сможешь сделать там, где сам Моло потерпел неудачу!
Мог ли Франсуа отступить, признать себя побежденным на глазах всего кафе Шартр?..
«Идет», — сказал он с небрежным видом, хотя чувствовал себя совсем не так уверенно.
С тех пор прошло уже пять дней. Все эти пять дней Франсуа провел почти целиком в Национальном театре на улице Закона… Завсегдатаи кафе Шартр с интересом наблюдали за этими усилиями. Все кончилось тем, что Франсуа влюбился по-настоящему, и теперь ему стыдно было за свое пари. Надо было совершить нечто такое, что заставило бы всех позабыть про злосчастное пари, это должна быть какая- нибудь сумасшедшая выходка… вроде той, которой один из их кружка, Дитрих, сын казненного мэра Страсбурга, завоевал всеобщее восхищение. Дитрих поспорил, что вместе с Сансоном доедет до эшафота в повозке — и что же… Он подпоил помощника Сансона, пьяницу Жако, и, надев его плащ, прокатился за спиной Сансона до самой площади Свободы. С такой репутацией Дитрих мог без всякого ущерба для своей чести проиграть любое пари. Он, Франсуа, этого себе позволить не мог.
К Кандель он больше не пойдет, это ясно. Хватит того, что он выставлял себя на посмешище все эти пять дней. Но едва он вспоминал ее синие ласковые глаза, ее большой рот, изящный, чуть вздернутый нос, ее смех… вся его решимость исчезала и он чувствовал себя мальчишкой. А ведь ей, как и ему, было только восемнадцать.
И вот у него появляется идея, нелепая, невыполнимая, безумная. Он испугался, отогнал ее, она вернулась, такая заманчивая, соблазнительная, великолепная. Эта идея могла стоить ему головы, но, с другой стороны, он разом мог все отыграть. И чем дальше, тем неотвязнее он думал об этом, пока не решил — ему терять нечего. Он был уже готов к тому, чтобы погибнуть; она о нем еще пожалеет, а друзья из кафе Шартр будут при случае говорить: а помнишь малыша Франсуа?.. Это был герой!
И он решается. Для этого ему нужно содействие Фукье- Тенвиля. И вот уже он выкладывает свою идею Фукье- Тенвилю. Отчаянным, охрипшим от волнения голосом он рассказывает о своей идее и о своей готовности умереть. Он просит у Фукье-Тенвиля поддержки. Ему нужно тридцать пропусков на сегодняшнее заседание Трибунала. По этим пропускам он приведет на заседание всех своих друзей, и при них, при переполненных трибунах он устроит публичный скандал, оскорбит присяжных и судей, набьет морду жандарму и тем самым докажет, что он человек, не знающий страха. Он не надеется убежать, наоборот, чем громче будет скандал, тем больше будет его, Франсуа, заслуга. Вот и все.
Остолбенев, слушает все это Фукье-Тенвиль. Он, конечно, как и все, уже прослышал о пари, которое держал Франсуа. Что ж, Кандель — это женщина, из-за которой стоит совершать безумства. Но идти на верную гибель… вот что значит мальчишка. Он думает, очевидно, что, узнав о его сумасбродстве, красивая женщина даст вечный обет воздержания. На самом деле она, вздохнув, отправится в постель с очередным поклонником. Впрочем, не его, Фукье-Тенвиля, дело разбивать иллюзии.
И вместе с тем…
Вместе с тем это решение вопроса. Это ли не беспорядки, которые ему так нужны!
Спокойно, Антуан, спокойно.
Этот малыш для тебя находка. К тому же, говорит он себе, человек, который поможет замять эту историю, может рассчитывать на более теплое отношение со стороны Карно- старшего.
И он чувствует, как в нем поднимается неподдельная симпатия к этому мальчику. Конечно, он его спасет. Он даже знает как. Жандарм Тавернье арестует его и поведет черным ходом, а там… всякое может произойти даже с двухметровым жандармом.
Но это все потом.
А пока он начинает спокойно отговаривать Франсуа. Проявляет к нему участие, спорит, еще спорит и, наконец, сдается.
— Я постараюсь помочь тебе, — растроганно говорит он наконец. — И, конечно, я дам тебе эти билеты.
Успокоенный, возвращается Фукье-Тенвиль в зал к своему бюро на золоченых ножках, выполненных в виде грифонов. Он испытывает большое облегчение, просто гора с плеч. Поистине судьба сама заботится о нем — ему остается только быть всегда начеку.
Он смотрит в переполненный зал, щурится от яркого света, вспоминая шалопая Франсуа, вспоминает синие глаза актрисы Кандель. И улыбается. Теперь он может позволить себе эту улыбку несмотря на то, что он не родственник Карно. Он может также позволить Дантону говорить столько, сколько тот сочтет нужным: рано или поздно он скажет все и закончит.
Время у Фукье-Тенвиля есть.
Трибуны кричат. Они кричат яростно, неистово, неутомимо, повторяя и скандируя одно слово. Сначала может показаться даже, что это не слово, а только два звука — «а» и «о», все время только «а» и «о». Но на самом деле это не звуки, а слово, и слово это — Дантон.
Дантон!
Он только что закончил свою речь. Громоподобные раскаты его голоса заполнили огромный зал Трибунала, переполнили его, затопили. Через раскрытые окна они выплеснулись наружу, пронеслись над садом, как ураган, обрушились на набережную. И ответной волной в зал Трибунала донесся многоголосый рев: «Свободу Дантону!»
Он говорил три часа подряд. Это была лучшая из его речей. Теперь каждому ясно, что он невиновен. Он восстановил свое достоинство и свою честь, он спас себя и спас своих друзей. Не дыша внимали его друзья этой речи. Каждое слово, произнесенное Дантоном, отзывалось в их сердцах и на их лицах благодарностью, гневом, надеждой.
И вот он стоит, Жорж-Жак Дантон, стоит среди крика, топота, свиста. Сотни глаз обращены сейчас к его огромной фигуре, к его безобразному, отталкивающему лицу. В своем красном суконном сюртуке он походит на гигантский факел, а слова, только что произнесенные им, все еще, кажется, висят в воздухе, и многие вытягивают шеи, словно желая разглядеть их. И, позабыв про усталость, жажду и духоту, все сильнее кричат, топают, свистят, требуя одного — свободу Дантону!
А он стоит и молчит. Разве нужно добавлять что-то к тому, что он уже сказал? И сам он и это его молчание достаточно красноречивы перед лицом подлых, трусливых, лживых обвинений. За ним, за его спиной — его друзья, которые с ним вместе и в радости и в беде: безрассудный Камилл Демулен, язвительный Фабр д’Эглантин, суровый Филипо. И непреклонный Эро де Сешель, и Гусман, испанский гранд первого класса, — его замки и поместья останутся в Испании, а голову ему суждено оставить здесь. Дантон говорил от имени всех их, достойнейших из достойных, и в своей речи — не оправдательной, нет, в обвинительной — он защищал их всех.
Теперь понятно, почему так неистово ревут трибуны. Громко, яростно, нетерпеливо требуют оправдания, освобождения Дантона и его товарищей. Уже слышны крики: «Судью на фонарь!»
Государственный обвинитель Фукье-Тенвиль, однако, спокоен или умело притворяется таковым. Но спокойствие, каким бы оно ни было, дается ему не без труда. Лицо его побелело, следы оспы стали очень заметны. Он бросает взгляд налево, туда, где у входа, то и дело хватаясь за саблю, опоясанный широким трехцветным шарфом, стоит Сантерр — бывший пивовар Сантерр, который, впрочем, уже забыл, как пахнет его пиво. Теперь он пьет вино, и теперь он генерал национальной гвардии, здесь он обеспечивает порядок.
И он обеспечит его, пусть только мигнет государственный обвинитель… Но он не мигает, и Сантерр делает успокаивающий знак — все в порядке. Фукье-Тенвиль подзывает жандарма Тавернье. Надо закрыть выход из галереи — на всякий случай. Пусть Сантерр поставит туда взвод национальных гвардейцев.
Вот так-то, мои дорогие, у нас все предусмотрено. Это только разумная предосторожность, не более. Государственный обвинитель Фукье-Тенвиль не боится ни этих криков, ни тех, кто сейчас кричит на галерее. Он знает способ, как в любую минуту использовать их, направить их ярость в нужном направлении. В свое время он так и поступит. Ну а пока пусть покричат. Галерея же на всякий случай будет закрыта.
Дантон садится на скамью. Ему жарко, ему не хватает воздуха. Он с силой втягивает этот спертый, душный воздух, задыхается, пот стекает с его лица. Камилл Демулен бросается ему на шею.
— Ты гений, Дантон, — кричит он прерывающимся и восторженным голосом, — ты гений! Мы спасены… Ты спас всех… да, да… Мы скоро обнимем своих жен… а наши презренные обвинители будут втоптаны в грязь, в прах…
У самого лица Дантон видит темно-карие, широко раскрытые, восхищенные глаза своего лучшего друга, слышит слова, наполненные верой в невозможное и в то, что он, Жорж-Жак Дантон, может это невозможное совершить. Ведь он уже совершал это не раз, когда Франции угрожала гибель.
— Ах, Дантон, — шепчет Демулен, и по его острому смуглому лицу текут слезы счастья. — Только сейчас я понял, как хороша, как прекрасна жизнь…
Дантон молчит. Он хочет ответить и — не может, спазма перехватила ему горло. С нежностью, с горечью смотрит он в горящие надеждой глаза своего друга Камилла, и под этим взглядом бьется… и угасает пламя темно-карих живых глаз. Бледнеет, вытягивается еще больше, становится серым острое некрасивое лицо.
— Что с тобой? — растерянно шевелятся толстые искусанные губы. — Что с тобой, Дантон? — И в голосе его испуг.
Но Дантон уже и не слышит его. Он отыскивает какую- то точку в зале. Отыскал.
— Дверь, — произносит он хриплым, сорванным голосом. — Дверь…
Дверь?
Да, вот она, эта дверь. Сейчас Дантону она кажется похожей на глаз неведомого животного, коварного, хитрого и безжалостного. Теперь он припоминает, что и в речи своей он сбился два раза, когда, не выдержав, бросал взгляд на эту дверь, что была ему чуть видна. Она была хитра, она притаилась, спряталась за зелеными толстыми шторами, окаймленными красным шнуром. Тем страшнее она была. И даже если бы она совсем не была видна, она существовала и сводила на нет все, что говорилось и делалось здесь.
Она ждала.
«О нет, — думает Дантон, — это не глаз. Это пасть. Это пасть, и она сожрет нас всех».
Ему становится холодно.
Ему хорошо знакома эта дверь. За ней — комната присяжных. Маленькая невзрачная комната, кладбище всех надежд. Там скоро будет решаться их судьба. Но именно в этот миг Дантону становится ясно, что их судьба уже решена. Пасть раскроется — и все будет кончено. Конец спектакля.
Дверь — это ведь его рук дело. Ее не было, пока сам он того не захотел. Он видит строчки платежной ведомости, словно держит ее в руках. Видит неровные косые строки и жирное пятно в левом нижнем углу.
«Дверь одностворчатая из голландского дуба, толщина два с половиной дюйма. Украшена восемью львиными головами и бронзовым кольцом. Изготовлена столяром Лемаршаном по заказу Революционного трибунала. Просьба ускорить выплату в размере шестисот пятидесяти одного ливра и семнадцати сольдов упомянутому столяру Лемаршану».
Дантон помнит даже, как он подписывал эту бумагу, чтобы упомянутый столяр Лемаршан мог вовремя получить заработанные им шестьсот пятьдесят один ливр и семнадцать сольдов.
Все, все, что сейчас окружает Дантона, было вызвано к жизни им самим.
И сама революция.
И эта дверь.
И этот Трибунал.
И Фукье-Тенвиль.
Круг замкнулся.
Конец, всему конец.
Своими маленькими, глубоко запавшими глазами Дантон оглядывает зал. Он видит все сразу — узкую полоску двери, ведущей в комнату присяжных, взгляд, которым обменялись Фукье-Тенвиль и Сантерр, жандарма Тавернье, на ходу вынимающего ключи от галереи из кармана синих форменных брюк. Зрение его обострилось, он схватывает всю картину в целом, но одновременно замечает также мельчайшие составляющие ее. Вот присяжный Реноден что-то шепчет со смехом другому присяжному, Люмьеру. А за спиной у судей, в полутьме, стоят покрытые пылью гипсовые бюсты великих мучеников за свободу. Двух из них — Марата и Лепе летье — он знал, а Брут — что ж, Брут, если разобраться, был всего лишь удачливым ростовщиком, честолюбцем и не слишком прозорливым заговорщиком. «Как часто бессмертье зависит от того, вовремя или нет успевает умереть человек», — с горечью думает Дантон. Ему самому, чтобы оказаться среди гипсовых мучеников четвертым, достаточно было умереть год назад от ножа, как Марату, или полтора, как Лепелетье, но он опоздал к раздаче лавровых венков, на его долю остался лишь готовый к услугам Шарль-Анри Сансон и долгое бесчестье. Не эти ли мысли, которые напрашиваются сами собой, мучают сейчас и других? Взор Дантона, жадно вбирающий в себя картины ускользающего бытия, существует вне зависимости от мысли, и взор этот отмечает: горькую усмешку на прекрасном лице Эро де Сешеля, мучительное усилие, с которым держится прямо в своем кресле в первом ряду вот уже два месяца больной Фабр, и растерянную веру пополам с отчаянием в глазах Демулена.
Они все опоздали. Спасенья не будет. За толстыми зелеными занавесками недаром существует почти невидимая дверь, но стоит лишь потянуть за красные шнуры — и откроется вход в преисподнюю. Смейся или плачь, держись мужественно или потей от страха — все одно. Все кончено!
Ему душно. Темная пелена застилает глаза, они уже не видят ничего, и ищущий взор обращен внутрь. О, если бы знать, что кончится этим…
«Моя возлюбленная», — шепчет он.
И видит ее. Снова видит он ее в тот день и тот час, когда ему ниспослано было счастье впервые познать ее. Перед ним ее глаза — прекрасные, испуганные, остановившиеся глаза, мерцающие в тусклом свете свечи, он видит ее, забившуюся в угол широкой постели, руки, прижатые к груди, губы, повторяющие раз и другой, и снова: «О нет, сударь, нет, нет…» И снова, как тогда, его охватывает экстаз, и почти святотатственная нежность, и близкое к потере разума желание дотянуться, дотронуться до этой нежной бархатной кожи, ласкать, едва прикасаясь кончиками пальцев, убедиться, что это не сон, что оно существует наяву, это девственное тело шестнадцатилетней девочки. Желание заполнить собой весь воздух, чтоб вернее окружить, окутать, прильнуть, раствориться, растопить этот останавливающий шепот, ласкать, задыхаться, вдыхать, приближаться, слышать оглушительный грохот своего сердца. Чувствовать, как отходят в твоих руках и теплеют руки. Не веря, улавливать биение другого сердца — сначала поодаль, потом все ближе, вот уже рядом, вот уже вместе; твердая мякоть губ, объятие, соль крови, еще и еще, сильнее, невозможность, — нет, сударь, нет, — стон, вскрик, всхлип, его собственный голос, похожий на рык, исчезновение и возвращение. И благодарность. И нежность, заполняющая мир. Огромная, неохватная, неизмеримая, вечная нежность.
«Моя любимая…» — снова и снова шепчет Дантон.
Любовь.
Дантон открывает глаза. Что это было?
Он ничего не видит.
Затем он видит дым, облако, туман.
Затем — тишина. Вот она превращается в легкий шум. Громче. Что это было — мираж? Или это был сон? Или это еще только будет?..
Или уже не будет никогда…
Ну, нет… нет. Он будет жить. Он должен жить. Он только сейчас понял, что ему грозит, что он теряет. Он теряет навсегда эти руки, эти глаза, которые теперь уже не смотрят на него с испугом, это тело. И стон, но уже стон наслаждения, и сладко-соленую кровь на губах. Он не оставит этого никому. Он будет бороться. Сейчас, немедленно. Скорей, не теряя и мгновенья. Уже и так упущено много. Сколько времени провел он, предаваясь видениям, — час, два?
Но прошла лишь секунда. Секунда, не более.
Демулен еще смотрит на него сбоку растерянным, угасающим взглядом.
Фукье-Тенвиль вынул из кармана платок, но не успел поднести его ко лбу.
Дежурный жандарм Тавернье еще не дошел до двери.
И как липкая, вязкая, клейкая паутина, тяжелая, непонятная ему самому безнадежность овладевает Дантоном. Он сидит не в силах пошевелиться. Он уже наполовину ТАМ.
Он молчит. Он не двигается.
А за толстыми, цвета травы портьерами все же есть вход в комнату. Но выхода оттуда — нет.
Ты проиграл, Дантон.
Там — смерть.
* * *
У северной заставы кипит жизнь. Толчея — повозки, кареты. Пешие и конные, мужчины и женщины. Полосатый шлагбаум подымается и опускается, как нож, отрезая от толпы маленькие кусочки. Национальные гвардейцы в синих мундирах, перепоясанные красными кушаками, грозно топорщат нафабренные усы; вид у них такой, словно они вовсе не гвардейцы, а по крайней мере ангелы, охраняющие доступ в рай.
Проверка документов.
Вполне может быть, что кое-кому это не нравится. Но таков приказ. Таков строжайший приказ Комитета общественной безопасности — бдительность, бдительность, бдительность.
После удач на фронте это может показаться излишним. Но именно сейчас опаснее всего проявлять беспечность, ибо, кроме врагов внешних, существуют еще и внутренние, которые опаснее всего. Кто не имеет удостоверения о благонадежности, выданного и заверенного революционным комитетом секции, тот человек подозрительный, пока он не докажет обратного. И тут уж ничего не поделаешь.
Очередь движется медленно. Темнеет. Национальным гвардейцам приходится зажечь фонари.
— Твои документы, гражданин.
Виктор Марешаль, полковник Двенадцатого драгунского полка, расквартированного в резервном лагере в тридцати семи милях северо-западнее Парижа, в сопровождении двадцати четырех драгун следует в Арсенал по распоряжению командования. Он протягивает свое удостоверение.
Национальный гвардеец, похоже, не слишком силен в грамоте. Поднеся фонарь к самому листу, он читает, шевеля губами. Сверху, с усмешкой нетерпеливой и одновременно снисходительной, поглядывает на него полковник Марешаль. В общем, он настроен даже снисходительно, и эта непредвиденная задержка не может испортить его прекрасного настроения. А причина этого прекрасного настроения — новенькие полковничьи нашивки, полученные бывшим капитаном лишь три дня назад, — запоздалое признание его недавних боевых подвигов. И хотя полковник Марешаль понимает, что это несолидно и по-мальчишески, все же нет-нет да и бросает взгляд на новенькие нашивки и тут же волей- неволей скашивает глаз на окружающих — видят они или нет. Впрочем, это извинительная слабость, поскольку полковнику Марешалю нет еще двадцати четырех лет, он полон надежд. В частности, поручение, которое он выполняет, может открыть для него совершенно новые перспективы. Так, по крайней мере, понял он намеки своего начальника, генерала Ленотра, когда тот посылал его в Париж. Полковник Марешаль должен будет действовать по указанию некоего лица, в распоряжение которого он поступает вместе со своими драгунами. Имя этого лица упомянуто не было, но почтение в голосе генерала показывало высокое положение этого лица. Что ж, полковнику Марешалю это задание пришлось по душе. Действовать он любил, тем более что, по уверению генерала Ленотра, неизвестное лицо всегда окажет полковнику высокое покровительство в случае неожиданного поворота дел. По правде говоря, полковнику очень хотелось спросить, что же именно все-таки затевается, но как-то неудобно было спрашивать, генерал мог подумать, что он трусит…
— Ну, все в порядке?
— Одну минуту, полковник…
Что за чертовщина!
Рыжая кобыла полковника Марешаля приплясывает, перебирая тонкими стройными ногами. Кобылу зовут Марго — полковник назвал ее так в честь своей сестры. Вот уж кто обрадуется его успехам — Марго, сестренка. Ему хочется поскорее ее увидеть. Ее и старика. Ну, тот лопнет от гордости, шутка ли — полковник! Виктор Марешаль вполне понимает чувства, которые скоро предстоит испытать старому расклейщику афиш, — то, что совсем недавно испытал он сам. Старик не подаст, конечно, виду и даже проворчит что- нибудь вроде: для чего, мол, было и революцию совершать, как не для таких вот дел. Но в душе — о, в душе старик будет рад и горд за сына и, оставшись наедине, скажет, наверное: до чего же удивительна эта самая распроклятая жизнь!.. А потом отправится к приятелям, таким же старикам, как он сам, и там, как бы невзначай, будет выкладывать свою сногсшибательную новость…
Между тем национальный гвардеец относит сопроводительную бумагу в караульное помещение. Там за неоструганным столом сидят двое — начальник заставы и человек с бесцветным усталым лицом, закутанный в серую шерстяную накидку. Начальник заставы передает ему бумагу.
— Нет подписи и печати комиссара Конвента, — говорит он хриплым голосом.
Рука в нитяной перчатке берет бумагу, глубоко запавшие глаза устало пробегают по строчкам, и только на имени взгляд задерживается чуть дольше, словно человек в сером перечитывает фамилию…
— С твоего разрешения, Мартен. — И, медленно поднявшись, он выходит из караульной.
* * *
— Полковник Марешаль?
Полковник с удивлением смотрит вниз — это еще что за чучело?
— Попрошу вас спешиться.
— В чем дело?
Человек в серой накидке, не говоря ни слова, идет обратно к караульному помещению. Волей-неволей приходится следовать за ним и полковнику Марешалю. Теперь их уже трое в маленькой тесной комнате с грязным полом. Полковник Марешаль в нетерпении подергивает ногой, шпора тихонечко звенит. Голос у человека в сером так же бесцветен и невыразителен, как и его лицо. Этим своим бесцветным голосом он предлагает полковнику присесть. Ну, знаете! Полковник взбешен. Он вне себя, он едва сдерживается. Ничего, он постоит. Он постоит, черт побери, пусть ему только объяснят, в чем дело. Он слушает! Серый бесцветный человек едва заметно пожимает плечами. Затем объясняет — от него хотят следующего: чтобы все дальнейшее происходило без всякого шума. Полковнику надлежит отдать своим драгунам приказ — немедленно вернуться в расположение части. При этом — никаких вопросов.
Полковник, захлебнувшись от гнева, хватается за саблю. Начальник заставы тихим жестом выкладывает на стол пистолет. Человек в сером отворачивается со скучающим видом. Полковник Марешаль со звоном всаживает саблю в ножны. Он вдруг ощущает непонятный ему страх, у него зябнут ноги. Он садится. Какая-то мысль скачет у него в голове, и он не может ее остановить.
— Что это все значит?
Человек поднимает на него глубоко запавшие глаза. У них мало времени, объясняет он, у него и у полковника Марешаля. Поэтому хорошо бы ускорить дело. Полковник смотрит в темный угол, — мысль, которая скачет, необходимо поймать. Вот она…
— Я арестован?
На этот раз человек с усталым взглядом отвечает не сразу. Он молчит примерно минуту, и за эту минуту каждый из троих, сидящих в караульной, успел пережить очень много. Наконец раздается:
— Еще нет.
Пошатываясь, полковник Марешаль выходит. На мгновенье у него мелькает дикая, шальная мысль — сабли наголо, прорваться сквозь заставу, никто и моргнуть не успеет… Он подходит к своим драгунам. В глазах у драгун — ожидание. Они уже видят жаркие огни кабаков, ощущают во рту терпкий вкус вина, а под ладонями упругие и податливые женские бедра…
— Вахмистр Дюке! — хрипит полковник. — Принять команду. Слушайте приказ: всем вернуться в лагерь. Немедленно.
Чудовищные усы вахмистра Дюке вздымаются и опадают.
— В лагерь? Обратно?
— Я что, неясно выражаюсь? Выполняйте приказ.
Бедный французский язык не в силах выразить чувств вахмистра Дюке. Поэтому он добавляет в него весь свой запас немецких, испанских и иных бранных слов, которые ему известны. Окончания полковник Марешаль уже не слышит: опустив плечи, он идет в караульное помещение.
— Куда вы меня везете?
Человек в сером молчит. Голова его опустилась на грудь. Можно подумать, что он спит, но его выдает напряженное положение тела, словно каждую секунду он готов отразить или нанести удар.
Окна в карете занавешены, колеса жестко подпрыгивают на выбитой колее. Виктор Марешаль откидывается на сиденье.
Постепенно он начинает приходить в себя — впервые с того момента, когда человек в сером произнес свое «еще нет». Самым унизительным было то, что полковник не мог решить, как ему следует себя вести. Если бы речь шла о том, чтобы с десятком драгун или на худой конец без них атаковать неприятельский строй, он не колебался бы и мгновенья. Но как надлежит ему реагировать на это странное «еще нет» — он не представлял. Если бы он был уверен, что самое лучшее — это задушить человека с таким странным стертым лицом, тот уже давно был бы мертв. Но полковник вовсе не был уверен. Военный опыт подсказывает ему, что, когда не знаешь, как действовать, лучше не действовать совсем. «Подождем, — решает полковник, — Бывало и хуже».
Карета замедляет ход, останавливается. Молчаливый человек, не обращая на полковника никакого внимания и не говоря ни слова, выбирается наружу. Полковник остается сидеть, он ждет еще немного, затем тоже выбирается из кареты — и застывает: перед ним знакомый трехэтажный особняк на улице Флорентин. А в воротах, рядом с человеком в серой накидке…
— Броше! — кричит полковник Марешаль. — Черт возьми, что за плохая комедия!
— Благодарю вас, Герон, — говорит Броше и пожимает серому руку. — Значит, завтра в Комитете. — Затем подходит к полковнику и смотрит на него долгим непонятным взглядом. — Пошли, — говорит он. — Пошли, поговорим.
Они говорят долго. Точнее будет сказать, что говорит один Броше. Он говорит подробно, внятно, убедительно. Ему, по крайней мере, кажется, что убедительно. Полковник слушает, время от времени произнося короткие фразы. Он уже окончательно пришел в себя. Он был прав: ничего страшного, бывало и похуже. Надо только держаться все время настороже и не говорить лишнего. Запугиваний он не боится. По своему военному опыту он знает — говорят тогда, когда не могут действовать. Поэтому все эти угрозы и опасения, которыми пытается испугать его Броше, лишь уловка. Вот почему спустя два часа после начала их разговора Броше не удалось достигнуть видимых успехов. Но Броше терпелив. От успеха этого разговора зависит для него слишком многое, чтобы он мог дать волю своим эмоциям. Он начинает все сначала. Он говорит долго.
— Ну, — спрашивает он, — теперь ты понял? Все понял?
Полковник сидит, положив ногу на ногу.
— Нет, — говорит он. Он понял не все.
— Например, — говорит терпеливый Броше. — Что например?
Полковник покачивает ногой и, склонив красивую голову, прислушивается к позваниванию шпоры. Он не понял все же, с чего это Броше проявляет такую заинтересованность в его спасении. Не потому ли, что он и сам может многое потерять?
— Да, — откровенно соглашается Броше. — Именно поэтому.
Потому, что может потерять. Он молчит. Затем снова начинает говорить, уже с усилием, голос его то гаснет, то странно вибрирует — вибрирует, когда Бррше произносит имя Марго.
— Ты знаешь, — говорит он, — я люблю Марго. Вот почему я все это делаю. Для нее, а значит, и для себя. — Он молчит, затем запинающимся, почти виноватым голосом: — Она ждет ребенка. — Он говорит: — Не упрямься, Виктор. Вникни в то, что я говорю. Ты уже достаточно всего видел, чтобы понять, насколько все сложно. Тебя обманули, провели. Тобой пожертвовали, не задумываясь. Пойми, ты был лишь пешкой в чужой игре. Ради кого ты рискуешь головой? И кому твоя голова дороже, чем тебе самому? Она нужна тебе? Так спасай ее. Спасай себя.
— Где я должен себя спасать? — спокойно спрашивает полковник. — И когда?
— Сейчас. Здесь.
— А почему не завтра? Или послезавтра…
На мгновение Броше чуть было не поддается своей ненависти. Целое мгновение он раздумывает — может быть, именно так и следует поступить? Пять человек круглые сутки дежурят у его подъезда. Стоит подойти к окну и подать им условный знак — раздвинуть занавески, — и человек, вышедший из подъезда, будет немедленно арестован. Неужели он должен еще дальше терпеть этого человека, который настойчиво стремится испытать судьбу, не подозревая, что жребий уже брошен? Он начинает понимать, что все его попытки изменить ход вещей — несостоятельные попытки, не более. Это не удастся ему, как не удавалось, впрочем, еще никому другому. Тем не менее он должен попытаться еще раз. Он должен испробовать все пути. Поэтому он сдерживает себя. Он начинает все сначала, только голос у него с каждым словом становится все более тусклым.
— Ты должен помочь мне и себе. Есть только один путь, я уже говорил. Сейчас же, не выходя отсюда, ты должен полностью раскрыть всех, кто связан с этим делом. Я могу подтвердить, что ты специально проник в этот заговор. О том, что происходит здесь, не узнает никто. И не медли, Виктор, времени мало. Сделай это сейчас, немедленно.
— Значит, — протяжно говорит полковник, — ты хочешь, чтобы я стал предателем?
— Будь кем хочешь, — говорит Броше, — только не будь дураком. Донести на заговорщиков — не предательство. Все они бывшие аристократы, они ненавидят Республику и роют ей могилу. И ты помогаешь им в этом — ты, кого Республика вытащила из ничтожества, которому она дала все. Что связывает тебя с этими людьми?
Полковник Марешаль поднимает к Броше лицо, в котором презрение военного.
— Меня связывает с ними кровь, которую мы проливали для Республики. Меня связывает с ними честь, — жестко говорит он. — Это слово не слишком, кажется, популярно среди политиков. Попробуй понять меня, Броше. Подумай об этом.
— А ты подумай о Марго, — говорит Броше, и зубы его странно лязгают.
— А я и думаю о Марго. И я уверен, она бы меня поняла, будь она здесь. И если мне суждено умереть, лучше ей быть сестрой казненного, чем предателя.
— Вспомни Библию, Виктор. Живая собака лучше дохлого льва.
Полковник Марешаль улыбается одними губами.
— Это с точки зрения собаки, дорогой мой Броше.
— Да, — говорит Броше. — Конечно. Ибо труп, кому бы он ни принадлежал, уже лишен возможности иметь свою точку зрения.
Молчание.
— Ну, ты поможешь мне?
— Нет.
Значит, нет. Броше садится на свое место, за свой рабочий стол в своем рабочем кабинете. В своем чистом уютном рабочем кабинете, где на полу ковры, а на стенах картины в позолоченных рамах. Кабинет этот после лагерной грязи и вони полковнику Марешалю кажется средоточием роскоши. Конечно, этому Броше очень не хочется терять такую чудную жизнь. Теперь Марешалю становится понятна горячность, с которой уговаривает его Броше, по-человечески его можно и понять. Поскольку вся эта обстановка, вся эта роскошь принадлежит и его сестре, Марго, он ничего против Броше не имеет. Но и втягивать его, боевого командира, в грязь каких-то тайных планов, которые наверняка имеются в голове у Броше, он не даст. Сегодня он уже проверил свое счастье, свое везение. В сомнительном для него случае он положился на судьбу. И что же? Оказалось, ничего страшного, просто он зачем-то понадобился своему новому родственнику. Для какой-то темной игры. Ну нет!
И он произносит это вслух:
— Нет!
Это «нет» падает на Броше, как опущенный нож гильотины. Как нож, который опустится на шею этому дураку. Нет. И голова падает в ивовую корзину или в кожаный мешок. Нет.
— Нет?
— Нет.
— Ты понимаешь, что тебя ждет?
— Тюрьма.
— А затем — Трибунал.
— Ну и что? — говорит Марешаль. — В Трибунале — тоже люди. Ведь оправдали же они Марата.
И у него тоже немало заслуг перед родиной. Пусть предъявят ему обвинение. Он восемь раз был ранен. Он патриот не хуже некоторых. В конце концов он, полковник Марешаль, верит в правосудие.
Все это он говорит спокойным, почти веселым тоном. Он уже поборол свою неприязнь к Броше и выбрал специально этот тон, чтобы доказать отсутствие обиды и враждебности. Но именно это деланное спокойствие, эта деланная веселость показали Броше, как мало значили его слова для полковника Марешаля, как мало веры он им придавал. Этот тон вывел всегда спокойного секретаря военного министерства из себя. Он встал из-за стола, лицо его было покрыто серым восковым налетом.
— Вот что, мой дорогой, — начал он. И вдруг не сдержался. Он закричал. И вот он кричит высоким пронзительным голосом, и слова вылетают, как шрапнель: — Болван! — кричит он Марешалю. — Тупица! Кретин! Неужели своей тупой солдатской башкой, своим куриным мозгом ты не понимаешь, в какое дерьмо ты влип! Баран! Думаешь, в Трибунале только и мечтают о том, чтобы поговорить с тобой, чтобы выслушать твой ослиный бред? Да, они ждут тебя, идиот ты этакий, ждут не дождутся. Ты осел, полковник Марешаль. Ты — ничто, и грош тебе цена, тебе и тому, что, ты хочешь сказать. Заслуги… Да, ты герой там, на фронте. Там у вас каждый герой, кто не подох от поноса. Но когда тебя приведут в Трибунал, ты от испуга напустишь в штаны. Там, в Трибунале, видели и не таких героев. Ты возомнил, что Республика не сможет без тебя обойтись? Тогда, если выдастся минутка, загляни в Трибунал, идиот, там судят сейчас Дантона. Ты и в подметки ему не годишься, понял? — и Броше безнадежно махнул рукой.
Бесполезно. Он оставляет изумленного полковника и идет к окну. Все бесполезно. Никому не дано играть роль господа бога. Пусть совершится то, что должно совершиться. В щелку между портьерами ему хорошо видны пятеро, в непринужденных позах расположившиеся напротив особняка. Все бесполезно.
Он отдергивает шторы.
Раздвигает занавески.
На противоположной стороне улицы пять человек, застыв, вглядываются в освещенное окно. Один из них снимает шляпу.
Сигнал принят.
Броше задергивает занавески и шторы. Возвращается на свое рабочее место. Голосом спокойным и размеренным он объясняет полковнику: у него, к сожалению, много дел. Ему надо работать. Он надеется, что полковник извинит его. Самому полковнику надо как можно скорее явиться в комен- датуру и отметить прибытие — таков порядок. Он не может уделить ему больше внимания. Он протягивает руку к звонку. Вошедшему слуге он говорит:
— Проводи полковника, Мишо.
Из своего стола он достает бумаги, готовясь к работе, которой так много у секретаря военного министерства.
Ошеломленно смотрит на эту поразительную перемену полковник Марешаль. Он ощущает какую-то неуверенность. Может быть, он все-таки делает что-то не так? Он встает. Он говорит:
— Надеюсь, ты на меня не обиделся, Броше?
Тот, не поднимая головы:
— Нет, нет, что ты…
Беззвучно открывается и закрывается дверь. Военный секретарь Броше сидит, бессмысленно глядя прямо перед собой. Теперь ему уже нечего ждать. Затем он слышит шум, приглушенный звук голосов. Он знает, что означают и этот шум, и эти голоса. Бессознательно его губы повторяют слова, произносимые в эту минуту одним из тех пятерых: «В Люксембург».
За минуту до появления жандарма Тавернье человек, сидевший в нижнем ряду галереи, покинул свое место. Прикрыв лицо отворотом серой накидки и не замеченный никем, он вышел из дворца Правосудия и, перейдя мост, направился в южную часть города. Он был не одинок в этот вечерний час на улицах Парижа, это помогло ему. Смешавшись с толпой, которая двигалась в том же, что и он, направлении, человек достиг вскоре Люксембургского сада и там растворился, исчез, пропал среди гуляющих парочек, заполнивших все обширное пространство, ибо, как до революции, так и во время ее, не было для влюбленных более привлекательного места, чем Люксембургский сад, за исключением, пожалуй, Пале-Рояля.
Раньше, до революции, это место называлось «садом Люксембургского дворца». Давно, еще в тысяча шестьсот десятом году, Мария Медичи купила у герцога Люксембургского охотничий домик, на месте которого королевский архитектор Жак Дебросс построил красивый белый дворец, окруженный садом. С тех пор дворец переменил немало хозяев — сначала в нем жила сама вдова Генриха Четвертого, затем герцог Орлеанский, герцогиня Монпансье; последним его владельцем был брат короля граф Прованский. Каждый из них внес посильную лепту в украшение своего жилища. Высокие светлые залы не раз служили для художественных выставок, великолепных приемов, интимных пиршеств. Сад за это время разросся, причудливо переплетенные кустарники его скрывали множество удобных потаенных уголков, чью затерянность могли оценить многие поколения влюбленных. И жители Парижа любили этот свой сад во всякое время, но больше всего, конечно, весной заполняли его. И даже в самые напряженные для Франции дни они не изменяли своей привязанности, так что могло казаться, что это единственное место, не претерпевшее никаких перемен.
Но перемены были. Незначительные, несущественные перемены. Сад изменил свое имя. Теперь он назывался «садом Люксембургской тюрьмы», так как творение Жака Дебросса, потеряв своих старых хозяев, обрело новых. Этими новыми хозяевами были заключенные. Пришлось в связи с этим произвести некоторые изменения и внутри. На месте просторных зал, где еще не так давно можно было встретить прекрасных дам и элегантных любезных кавалеров, пришлось построить многочисленные высокие перегородки, которые служили стенами камер. Широкие окна были забраны крепкими решетками. Сквозь эти решетки новые обитатели бывшего дворца имели возможность выглядывать наружу, и когда они делали это, то с горечью убеждались, что жизнь на свободе, такой желанной и такой для них недоступной, кипит по-прежнему. Как всегда, был полон прекрасный парк. Парочки появлялись и исчезали среди куртин и беседок. Иногда обитателям камер казалось, что они слышат даже стоны и вздохи, раздающиеся с невидимых им широких скамей, а иногда они и вправду видели неясные мелькающие тени и слышали наяву сдавленный женский смех, но даже и тишина — тишина тоже была наполнена жизнью, прекрасной жизнью на свободе, к которой большинству узников уже не суждено вернуться.
Отсюда был только один выход — в Консьержери, в Трибунал. День за днем проходили в напряженном ожидании: чей сегодня черед. Каждый день прибывали и прибывали новые обитатели бывшего дворца, и так же неизменно день за днем увозили отсюда их на север, по прямой и просторной улице Вожирар во дворец Правосудия. А оттуда путь был тоже накатан, и вел он под треугольное лезвие. Неудивительно поэтому, что обитатели бывшего дворца жадно ловили любые вести, столь скудно доходившие до них из внешнего мира, ибо каждая такая весть могла приблизить и без того близкий конец, но ведь могла его и отсрочить.
Все три дня процесса тюрьма прожила особенно напряженно. Перед тем как попасть в Трибунал, все обвиняемые побывали здесь, в Люксембурге, отсюда их увезли. Еще, казалось, висели в воздухе их голоса. Судьба этих людей была барометром. Она показывала изменение политической погоды. В эти три дня вся тюрьма, четыре этажа, сотни камер, расположенных в самом причудливом порядке, ждала вестей из Трибунала.
И эти вести пришли. Человек, незаметно исчезнувший с нижнего ряда галереи дворца Правосудия, сумел передать новости за высокие стены, отгораживавшие тюрьму от внешнего мира. Из коридора в коридор, из камеры в камеру разнеслась весть о возмущении народа, требовавшего освобождения Дантона, о растерянности судей, о вынужденном перерыве в заседании Трибунала, и было немало людей, которых эти вести радовали.
С тревогой, с отчаянием, затем с надеждой внимали им заключенные. У всех в памяти свежи еще были слова Дантона — первые слова, произнесенные им после ареста в тюремном дворе Люксембургской тюрьмы: «Если бы я еще неделю пробыл на свободе, — сказал он тогда, — вы тоже были бы свободны». Можно надеяться, что, победив, Дантон не забудет своих слов. Осуждение Дантона убивало последние надежды.
Эти вести донеслись и в камеру номер двадцать шесть, в которой был заключен генерал, точнее бывший генерал Диллон. Огромного роста, в воинском мундире со следами споротых нашивок бригадного генерала революционной армии, он бегает из одного угла камеры в другой. И хотя камера номер двадцать шесть одна из самых просторных во всей тюрьме, генералу тесно в ней, он задыхается, и лицо его багрово, а голос, привыкший перекрывать рев пушек, проникает из камеры в коридор, в самые дальние его концы.
— Победа! — радостно гремит генерал. — Клянусь сатаной, я всегда верил в этого Дантона. Я предсказывал это, не так ли? Надеюсь, вы отбросили ваши колебания, дорогой мой Лафлотт!
Маленький изящный Лафлотт, бывший посланник Французской республики во Флоренции, сидит верхом на единственном стуле. Серыми настороженными глазами смотрит он на громыхающего генерала и молчит. Генерал взволнован и обрадован новостями, возбужден и раздражен сопротивлением и сомнениями Лафлотта — третий день тот все колеблется. Но теперь ему придется высказаться до конца. И, как последний козырь, раскрывает генерал перед бывшим посланником картину блистательного будущего, до которого так близко, до которого рукой подать, — уж ему, генералу Диллону, в таких делах надо верить без оглядки, победу он чует за милю.
Не возражая, с холодной, ускользающей улыбкой слушает его Лафлотт. Эта улыбка окончательно выводит из себя самолюбивого генерала.
— У нас все готово, — громыхает он так тихо, как только может, и при этом трясет перед Лафлоттом какой-то запиской. — Народ не позволит крысам из Трибунала осудить Дантона. А уж Дантон не забудет про тех, кто был с ним в трудную, решительную минуту. Как только Дантон и Демулен окажутся на свободе, Робеспьеру крышка. И тут должны быть под рукой верные люди, которыми можно будет заполнить освободившиеся места. И поверьте — это будут совсем неплохие места.
— А если Дантона все же осудят?
Генерал смеется. Забавны все же эти штатские — такие трусы. Ведь он убедил Лафлотта, ему это ясно, но Лафлотту, видно, хочется быть совсем припертым к стене; точь-в-точь как потаскушка, которой нравится, чтобы ее брали силой.
— Не бойтесь, — со скрытым презрением бросает он, — и это предусмотрено. Верные люди уже спешат на помощь. Мои драгуны не так-то легко поддаются страху, — хитро говорит он и только потом спохватывается: Лафлотту об этом знать необязательно. И он снова говорит, уже торжествуя победу: — Смелей, дружище. Смелей! Вы нам нужны, и вы не пожалеете. Идет большая игра… Итак — вы с нами?
— С нами? — говорит Лафлотт, — С кем это —.с нами?
Генералу этот вопрос не нравится. Внезапно им овладевает подозрительность. Из дальнего угла налитыми кровью глазами смотрит он на чересчур уж осторожного Лафлотта.
— Если вы вздумаете выдать нас, я задушу вас собственными руками. Вы поняли?
Лафлотт пожимает плечами. Он оскорблен и обижен, но испугать его не так-то просто.
— Я не выпытываю у вас секретов, генерал, — говорит он и встает.
Генерал смущен. В конце концов и Лафлотт рискует головой. Он, конечно, мог бы быть и посмелей, но… Генерал извиняется. Лафлотт должен его понять — дело слишком серьезно. Он доверяет Лафлотту. У них одна судьба, но кроме них замешаны и другие люди. Они, эти люди, так же невиновны в преступлениях против Республики, как сам Лафлотт, как он, генерал Диллон. В знак особого доверия он называет все же несколько имен. Это бывший депутат Конвента Симон. Это генеральный прокурор Парижской коммуны Шометт. У них налажена связь с друзьями на воле через Люсиль Демулен. У них есть деньги — много денег. Все возможные варианты предусмотрены.
— Ну, Лафлотт… вы чувствуете, как близка свобода?
И так как Лафлотт — сдавшийся, сломленный Лафлотт — молчит, он понимает — теперь можно проявить великодушие. Он подходит к безмолвному хрупкому человеку, дружески обнимает его за узкие плечи.
— Так-то, — громыхает он добродушно, — так-то, дружище Лафлотт. За свободу придется пролить еще немного крови, и вы должны быть к этому готовы, как готовы мы. Итак?
— Да, — слышит он ответ, более всего похожий на вздох.
Генерал доволен. Он все-таки одолел этого упрямца.
Впрочем, иного исхода и быть не могло — он, генерал Диллон, всегда привык добиваться своего. Добился он и сейчас. Все-таки ему жаль Лафлотта. Надо бы его подбодрить. Для бодрости нет ничего лучше доброго вина, и он угощает Лафлотта, тот может пить не стесняясь, здесь хватит на троих. Сам он сейчас уходит, он заглянет к Симону, затем попробует передать весточку бедняге Шометту. А может быть, и не только весточку — и генерал, отвернув полу мундира, показывает широкий клинок.
Лафлотт остается один. Это хорошо, что он один. От всего, что он узнал, у него кружится голова и пол уходит из- под ног. Только теперь ему стали ясны и прежние намеки генерала, и его непонятная настойчивость. Надо обдумать, и обдумать хорошенько, то, что он узнал. Он оказался в самой середине заговора — теперь это не вызывает сомнений — вне зависимости от того, хочет он сам этого или нет. В глазах судьи Трибунала он такой же заговорщик, как и любой другой. От этой мысли, такой простой, Лафлотт вздрагивает; затем встает, ходит из угла в угол и снова садится на единственный стул. Что делать? — думает он и сжимает кулаки. Ладони у него мокрые. Лафлотт вытирает их, но тщетно — похоже, что влага струится из него через ладони. Что же все-таки делать? Допустим, заговор удастся. Самое большое, что может его ожидать, это старый пост или что-то в этом роде. Как показала жизнь, ни пост, ни должность ни от чего не спасают — его же не спасло пребывание во Флоренции. Конечно, во многом виноват он сам. Кто велел ему возвращаться в Париж? Теперь он понимает: желание доказать Комитету общественного спасения свою невиновность было бравадой, нелепым, детским поступком. Он даже не добрался до Комитета. Едва он оказался во Франции, как был арестован и под конвоем доставлен прямо в тюрьму. Какая потрясающая глупость, тем более непростительная для дипломата! Вполне можно было скрыться — в Венеции, на Ближнем Востоке, в Азии, наконец, в любом крупном городе — исчезнуть, раствориться в ожидании лучших времен. Нет, он хотел до конца выдержать роль благородного господина, которую привык играть, будучи послом. Что ж, теперь он больше так не поступит, если только у него появится когда- либо возможность совершать поступки по собственному желанию. Сомнительно, чтобы эта возможность у него появилась, если он предстанет перед Трибуналом. Он до сих пор не знает ни того, в чем его обвиняют, ни того, кто на него донес. Тем меньше у него желания познакомиться с обвинением. Итак, гибель, гибель со всех сторон — и в том случае, если он попадет в Трибунал по доносу, и если предстанет там как соучастник заговора. Он чувствует себя загнанным в угол. Смерть близка, она за спиной, она кругом, всюду. Еще немного — и он отправится в ивовой корзине, голова отдельно, туловище отдельно, на кладбище святой Магдалены, где и будет лежать, засыпанный слоем извести, пока не исчезнет навсегда. Но он не хочет умирать! Он молод, ему только тридцать четыре года, жизнь только-только приоткрыла перед ним свои тайны. Он всегда был строго лояльным, и республиканцем он был не хуже других. Он не хочет умирать за Республику, тем более по подозрению в монархических симпатиях. Он честный человек — насколько можно вообще быть честным в этом мире. Он хочет немного — просто жить: ходить по земле, дышать, есть, пить, спать с женщинами… жить… Мало? Нет, это немало. Это безмерно много. Но тогда ему надо доказать свое право на это. Он должен доказать это право тем людям, от которых зависит, жить ему, единственному в своем роде Александру Лафлотту, в этом прекрасном мире или нет. Он может доказать свою преданность Республике только одним способом. Он должен донести.
Вот оно, это слово, и оно произнесено. Конечно, если он донесет, он спасется. Но тогда уже ничто не сможет спасти остальных, кого он назовет, — генерала Диллона, Симона, Шометта… И эта несчастная Люсиль Демулен — она тоже погибнет. Нет, нет, конечно, он не сделает этого. Лафлотт облегченно вздыхает — странно даже, как могла появиться сама мысль. Чудовищная мысль — послать на эшафот доверившихся ему людей. Человек, решившийся на это, должен был бы презирать себя до конца жизни. Насколько благородней идти со всеми плечом к плечу и вместе погибнуть или победить.
Хорошо, если победить. А если нет?
Александр Лафлотт, бывший посланник Французской республики во Флоренции, берет себя в руки. Он призывает на помощь всю свою интуицию, всю логику. Он взвешивает все за и против, он размышляет, сравнивает, делает выводы. Выводы эти неутешительны — шансов на успех не просто мало, они ничтожны. Ведь в тюрьме сидят не только бывшие республиканцы: большинство заключенных — аристократы, фанатичные монахи, не пожелавшие даже под страхом смерти присягнуть конституции, здесь дамы высшего света, ставшие проститутками, и проститутки, вышедшие замуж за аристократов. Злейшие враги народа справедливо заключены в этих камерах. И все они жаждут победы монархии, восстановления религии, старых привилегий. Но к их помощи неминуемо придется прибегнуть. Если в действительности попытка восстания в тюрьме и имеет ничтожный шанс на успех, то только с их помощью. И Лафлотт чувствует, как совесть республиканца восстает в нем против этого. Он скорее согласится пойти в Трибунал, будучи уверен в своей невиновности, чем объединиться с врагами народа. Но ведь именно к этому и толкает его генерал Диллон.
И Лафлотт чувствует, как в нем поднимается гнев. Конечно, не ради него, Лафлотта, старался генерал. Ему нужно было незапятнанное имя Лафлотта — не для того ли, чтобы этим именем вербовать других? Или чтобы прикрыться самому? А что, собственно, он сам знает о Диллоне? Может быть, он собирался организовать заговор для того, чтобы, выдав его членов, получить свободу?
Лафлотт, ты должен подумать. Ты должен подумать и решить. И не откладывать, времени не так уж много. Тебя втянули в скверную историю. Ведь он же не просил этого болвана рассказывать о заговоре, он не желал ничего знать и тем не менее был принужден все выслушать. И теперь Лафлотт понимает — его подло обманули. Он был всего лишь пешкой в чужой игре. Но эти подлые планы он сорвет. Он не желает подставлять свою шею. Действуй, Александр Лафлотт, не медли.
Он уже знает, что надо делать. Надо встать. Надо встать, подойти к двери, вызвать дежурного по тюрьме… Сегодня дежурит Бенуа… да, подойти и вызвать Бенуа. И все. Вызвать Бенуа, попросить у него разрешения пройти в канцелярию. Лист бумаги и перо. И все… свобода. Так просто.
Лафлотт встает, судорожно сжимает и разжимает кулаки, тяжелой негнущейся походкой идет к двери. Все так просто, шепчет он и облизывает пересохшие губы. Все так просто…
Он открывает дверь.
Закрывает дверь.
Возвращается.
Садится на стул. Из его ладоней текут две реки.
Нет, он не может. Не может, не может, не может.
Не может.
Шометт, Анаксагор Шометт, Пьер-Гаспар Шометт, тридцать один год, заключенный камеры ноль. Камера имеет такой странный номер потому, что это вовсе не камера. Это просто кусок коридора, отгороженный решеткой. Ни окна, ни щелки; внизу — каменный пол, вверху — каменный потолок, слева и справа — высокие влажные стены. Сюда помещают самых опасных преступников, вернее, преступника, ибо это одиночка. В камеру ноль помещают преступника номер один. Именно таким преступником номер один признан бывший генеральный прокурор Парижской коммуны Пьер-Гаспар Шометт. Камера имеет размеры: длина — один метр пятьдесят сантиметров, ширина — восемьдесят сантиметров, высота — четыре метра. В ней можно свободно стоять. В ней можно сидеть. В ней нельзя лежать. Заключенный камеры ноль, которую другие обитатели Люксембургской тюрьмы называют «кошачьей западней», лишен тех привилегий и прав, которыми обладают остальные заключенные: права на отдельный тюфяк, права на переписку, права на передачи, права на свидания. Права приобретать через тюремщиков какие-либо съестные припасы за свои деньги он тоже лишен. Впрочем, если бы он и не был лишен этого последнего права, он не смог бы извлечь из него никакой пользы, так как за полтора года пребывания на посту руководителя Парижской коммуны не скопил ни единого су, во что, правда, никто не верит. Тем не менее — никаких прав, и постоянный часовой, которого сменяет другой часовой, и так каждые четыре часа.
Заключенный Пьер-Гаспар Шометт сидит на каменном полу, подстелив под себя какое-то тряпье. Глаза его открыты. С таким же успехом они могут быть и закрыты — в подвале, где расположена «кошачья западня», всегда темно. Свет появляется здесь редко, но все-таки не реже, чем раз в четыре часа при смене караула. Кроме того, свет появляется, когда приносят пищу, заключенный получает чечевичную похлебку дважды в день. Кроме того, приходит еще золотарь и уносит из камеры ведро. Иногда он забывает это Делать по нескольку дней, и тогда в подвале становится трудно дышать. Еще заключенный видит свет, когда к нему приходят.
В положении о заключенных в камере ноль сказано «без права свиданий». Но это относится к людям, которые хотели бы прийти оттуда, из-за стен, со свободы. Тех же, кто уже внутри, в тюрьме, это правило не касается, во всяком случае такое можно предположить. Поэтому с того самого дня, как обитатели тюрьмы узнали об аресте генерального прокурора Коммуны, ставшего отныне заключенным номер один, начались регулярные визиты любопытных, что вполне понятно и объяснимо.
Объяснимо и понятно.
Добрая треть людей, заполнявших многочисленные камеры Люксембургской тюрьмы, попала в эти камеры на основании «закона о подозрительных». Автором этого закона, позволявшего трактовать понятие «подозрительный» весьма широко, был не кто иной как Пьер-Гаспар Шометт, взявший себе имя древнегреческого философа Анаксагора. Неудивительно поэтому, что многие, очень многие спешили посмотреть на человека, бывшего, по их мнению, причиной их несчастий.
Сделать это было нелегко. Но не невозможно для того, кто пожелал бы этого слишком сильно. Все заключенные Люксембургской тюрьмы пользовались теми правами и привилегиями, которых был лишен Шометт. Они могли свободно передвигаться в пределах тюрьмы — в дневное, конечно, время; они обладали правом на свидания и правом на передачи, равно как и многими иными правами. Почти все они были людьми состоятельными, некоторые — богатыми, некоторые — богатыми очень. И поскольку все расходы по содержанию в тюрьме несли сами заключенные, это неминуемо приводило людей состоятельных к тесным контактам с охраной, тюремщиками и жандармами. Завязывались и укреплялись деловые отношения.
При таком положении вещей можно было при известных усилиях (в том числе и финансовых) добиться разрешения на доступ к камере ноль.
Они приходили чаще всего группами — по камерам. Они приходили группами — бывшие графы и герцоги, маркизы и принцы, маршалы и генералы, женщины, одетые словно к королевскому приему, простые дворяне, священники, шлюхи, спекулянты. Они приходили — все те, с кем он всегда боролся не на жизнь, а на смерть и тогда, когда был еще безвестным журналистом, и когда стал генеральным прокурором Коммуны. И теперь, когда он оказался вместе с ними, но еще более униженным, они приходили взглянуть на него. Они приходили — сытые, веселые, хорошо одетые, приносили с собой свечи, вино, еду. Гонимые странным любопытством, подходили они к решетке, освещали узкую тесную нору и долго, пристально вглядывались в человека, которому некуда было спрятаться от этих взглядов и от этого света. С удивлением, близким к разочарованию, видели они человека небольшого роста, с огромным выпуклым лбом, с лицом, поросшим неопрятной рыжеватой щетиной, и странными глазами ярко-синего цвета; некоторым они казались черными, а некоторым — совершенно серыми.
Они вглядывались в этого человека долго и пристально. Не в силах отвести взгляд, они рассматривали его, с трудом освобождая место для других, громкими, возбужденными голосами они обменивались мнениями, женщины прерывисто дышали — и эта камера, и человек в ней, и этот спертый тяжелый воздух вызывали в них странные, острые желания, бывало даже, что некоторые, не в силах противиться этому, брали мужчин и уходили с ними наверх и там предавались наслаждениям, испытывая при этом почти болезненное удовлетворение. Оставшиеся подходили к решетке снова и снова; иногда они произносили речи, почти всегда эти речи звучали язвительно и всегда, без исключения, оскорбительно и высокомерно. Затем они пили и ели, поднимали тосты за лучшее будущее, где не будет места таким людям, как автор «закона о подозрительных», они поднимали стаканы за здоровье всех честных людей, подчеркивая при этом, что человека за решеткой они ни в малейшей степени таковым не считают.
Время от времени кто-нибудь, милосердный более других, протягивал сквозь прутья решетки кусок мяса или стакан с вином. Но заключенный камеры ноль не замечал ничего. Глаза его в такие минуты были широко раскрыты, но смотрел он не на людей и видел он не их. Он видел свет. Никогда раньше не мог бы он предположить, что маленький колеблющийся огонек может дать человеку так много, легкое пламя, загасить которое можно так же просто, как человеческую жизнь.
Каждый раз, когда он видит свет, он смотрит на него не мигая, и, когда посетители, кто бы они ни были, уходят, унося с собой трепещущую искорку, глаза его сужаются, закрываясь надолго с наступлением полной темноты.
Уходит, исчезает свет; некоторое время еще слышен шум шагов, затем пропадает и он. Слышно легкое позвякивание. Это позвякивают деньги. Уходя, посетители дают их часовому, дают всегда, иногда очень щедро, при этом женщины всегда более щедры. Пост у камеры ноль считается поэтому очень выгодным, за право занимать его приходится приплачивать начальнику караула, что, впрочем, всегда окупается.
Так проходят дни Пьера-Гаспара Шометта, дни, наполненные светом, темнотой, посетителями. Сколько уже прошло их, этих дней… Сколько их еще пройдет? Шометту кажется, что прошли уже месяцы и годы, долгие сотни дней. В то же время он знает, что на самом деле не прошло и месяца. Может быть, прошло всего двадцать дней. Но ему трудно поверить в это. Время для него остановилось, замерло, оно потеряло всякий смысл, стало необъятным, бескрайним… и ненужным. Время потеряло протяженность, вместо этого оно приобрело вес, оно стало тяжелым, оно давит. Оно стало ощутимым, как боль, и с ним, с этим временем, которого всегда так не хватало генеральному прокурору Коммуны Анаксагору Шометту, заключенный Пьер-Гаспар Шометт должен был бороться изо всех сил.
Ни минуты отдыха не было у него все эти последние восемнадцать месяцев. Каждый день он работал до изнеможения по пятнадцать, шестнадцать, двадцать часов. Часто он валился с ног прямо в Коммуне, засыпал на жесткой скамье, подложив под голову плащ. Он открывал школы, благоустраивал жилища бедняков, организовывал мастерские, закрывал публичные дома и церкви, открывал богадельни и клубы, упразднял старые богослужения и вводил вместо них культ Разума, формировал батальоны, уходившие на фронт, писал и произносил речи, выступал на митингах, возглавлял шествия, провозглашал петиции, благословлял браки и разрешал разводы. С той самой минуты, когда ночью девятого августа тысяча семьсот девяносто второго года он вывел из казармы на улицы Парижа батальон марсельских добровольцев, у него не было и получаса, который он мог бы посвятить самому себе.
Но теперь у него было достаточно времени. У него было чудовищно много времени, впервые оно принадлежало ему, и только ему. Но теперь он не знал, на что его употребить, что с ним делать.
Он может употребить его на размышления. Да, это так — он может сидеть, стоять, наконец лежать, согнув ноги, и размышлять. Думать. Осмысливать то, что было, и то, что есть, сопоставлять прошлое с настоящим, сравнивать причины и следствия. Может он также задуматься и над будущим, попытаться представить, угадать, что его ожидает, хотя мысли последнего рода вряд ли способны принести ему утешение.
Он может сделать попытку связать все разрозненные события своей жизни, сравнить их при этом с событиями и жизнью всей страны, попробовать проследить некоторые закономерности, соединяющие прошлое с настоящим. Обстоятельно и не торопясь, может он обдумать всю свою жизнь и решить, насколько закономерно его сегодняшнее положение.
Он обдумывает свою жизнь. Вспоминает ее течение день за днем. Он приходит к выводу, что не может обнаружить той причины, той закономерности, которая привела его на тридцать первом году жизни в «кошачью западню» Люксембургской тюрьмы.
Но ведь он здесь! Значит, он что-то забыл, чего-то не учел. И он думает снова. Он должен понять, должен разобраться, найти причину. Как говорят у него на родине, в Невере, «у каждой птицы такое гнездо, какое она себе свивает». Выходит, он сам свил себе свое сегодняшнее гнездо — не так ли? И он горько улыбается в темноте — если это так, то, надо признать, гнездо он себе свил не слишком уютное.
И все же: причина его сегодняшних бедствий он сам.
Разве не так?
Разве он протестовал, когда арестовали Эбера, Венсана, Ронсена, Моморо, Клоотса и, обвинив в злостном заговоре против Республики, отправили на эшафот? Нет. Он молчал и своим молчанием одобрил это.
Или еще раньше — когда комитеты во главе с Робеспьером набросились на Жака Ру не в силах простить ему речи двадцать пятого июля? «Не бойтесь чересчур осчастливить народ», — сказал тогда Ру, а такие слова Якобинский клуб не забывал и не прощал… Но ведь первым поддержал Робеспьера тот же Эбер, и Ру, не желая представать перед Трибуналом, покончил с собой…
И тогда Шометт промолчал.
А может быть, все началось еще раньше? Где и когда он позволил себе не видеть, уговорил себя закрыть глаза на несправедливость?
Все это — только слова, попытка оправдаться, оправдаться во что бы то ни стало, любым способом, за любой счет. На свободе ли, в тюрьме ли, все одно — оправдаться от укоров совести. И на помощь приходят все те же слова: «Я не знал, я не предполагал, что это так, если бы я только мог предполагать…»
И он сам, Анаксагор Шометт, и Эбер, которого уже нет, и Дантон с Демуленом, которых скоро не станет, — все они виновны, и судьба, их постигшая, заслужена ими. И тот, кто сегодня на вершине власти, кто торжествует, видя всех своих противников поверженными, Максимилиан Робеспьер, он тоже виновен и участи своей не избежит.
«Поздно, слишком поздно ты понял свою вину, Пьер- Гаспар, — говорит себе человек, уже много дней сидящий в „кошачьей западне“. — Ради единства ты пожертвовал своими убеждениями, но ты не понял тогда, что там, где совершается несправедливость, не может быть единства. А когда ты понял это, ты уже не в силах изменить ничего.
Тебе надлежит смириться, бедный Пьер-Гаспар. II пусть твоя судьба послужит назиданием другим.
Смирись!»
Нет, он не может. Еще не все потеряно. Ведь он не виновен, не виновен ни в чем — в том, по крайней мере, что вменено ему в вину. Он знает за собой вину более тяжелую, и, зная ее, он осудил себя на жизнь. Он должен жить, чтобы больше не погибали невиновные, чтобы виновные не ушли от расплаты. Он должен выйти на свободу. Он не боится смерти, но насколько лучше умереть в бою, лицом к лицу с врагами…
Вся его былая энергия просыпается вновь. Нет, революция еще не погибла. Ее еще можно спасти.
Еще не поздно, твердит он себе, еще не поздно.
Нет, он не пойдет вместе с Диллоном, вместе с Симоном. И он нисколько не скорбит о судьбе Дантона и Демулена. Он более не верит никому — только народу. Покойный Марат был прав: они погубят революцию, догматики и краснобаи, и первый среди них — Робеспьер. Только народ может спасти страну. Народ, который получил от этой революции так мало, народ, именем которого прикрывается каждый… Но теперь все. Пусть его вызывают в Трибунал, он не боится этого. Как песок, сметет он все обвинения. Он вскроет нарыв и очистит рану, он воззовет к народу, и народ поверит ему, как верил не раз в минуту смертельной опасности. Он будет оправдан. И тогда — берегись, Робеспьер! Ты ответишь народу за смерть его лучших друзей. Еще не поздно. Поднимутся секции — Обсерватории, Святой Женевьевы, Гобеленов, Ботанического сада. Его поддержат печатники из секции Французского театра, строители из секции Красного Креста, ремесленники из секции Пик. Он добьется поддержки самой революционной из секций — Гравилье, и они отомстят за смерть Жака Ру.
Отныне его девиз — борьба.
Заключенный Пьер-Гаспар Шометт, бывший юнга, бывший студент, бывший ветеринар, бывший бродяга, бывший журналист, бывший генеральный прокурор Парижской коммуны, сын сапожника, тридцать один год, поднимается с каменного пола. В полной темноте стоит он в камере ноль, называемой иначе «кошачья западня». От имени всех истинных патриотов, от имени невинно осужденных, казненных и преданных он клянется; человек, погубивший революцию, будет повержен. Он повторяет слова величайшего человека Франции, Вольтера: «Раздавите гадину».
И на влажной, сырой стене выводит имя — Робеспьер.
— Нет, нет, — говорит Робеспьер. — Все хорошо.
Мамаша Дюпле стоит в дверях, прикрывая ладонью глаза, и смотрит на него с недоверием. Он так кричал…
— Максимилиан, — говорит она, — может быть, что-нибудь нужно? — И она снова смотрит, воплощение неведомой ему материнской любви и доброты.
— Все хорошо, — повторяет Робеспьер, — и ничего не нужно.
Все же она стоит еще, и вся ее грузная фигура выражает нерешительность и заботу. Потом она уходит. И Робеспьер снова один.
Немного он проспал, полчаса, не более. На рукав голубого камзола осыпалась пудра с парика, и чуть смялся белый жилет. Все остальное было в порядке, как всегда: так же стояли книги на еловых полках и комната напоминала жилище спартанца, предметы находились на своих раз и навсегда определенных местах и даже из окна легкое движение воздуха доносило все тот же никогда не приедающийся смолистый запах свежераспиленных досок. И дажє книга была раскрыта все на той же странице, закладка не успела соскользнуть, и он мог продолжить свои занятия, как если бы не было вовсе никакого сна.
Но ведь он был, сон… И теперь он пытался его вспомнить. Что же это было?
Он испытывал тяжесть — во всем теле и в мозгу. Впрочем, голова у него болела весь последний месяц, и от напряженной ночной работы воспалились и стали слезиться глаза.
Он наморщил лоб, затем мелкими, аккуратными и размеренными движениями стал стряхивать пудру с рукава и в то же время пытался исподволь, как бы нехотя, вернуться к сну, восстановить хотя бы какую-то его часть, зацепившись за которую можно будет потом вспомнить и остальное. Но вспомнить он так и не мог. Сон не давался, ускользал. Единственное, что осталось, это ощущение внезапного ужаса и еще что-то связанное с темным цветом, и какие-то пятна… Но что это были за пятна и какое они имели во всем происшедшем значение — это оставалось неизвестным ему.
Было около часа ночи. Незадолго до полуночи окончилось заседание Конвента. Ему не хотелось об этом вспоминать, но тут уже было обратное — он не хотел, но события всплыли сами, явились помимо воли и даже вопреки ей и выстроились четко, будто отгравированные резцом. И он увидел все сначала — и Колло д’Эрбуа, читающего донос Лафлотта, и торжествующего Билло-Варена, услышал ликующий хрип Вадье: «Теперь мерзавцы в наших руках!» И Люсиль, ее имя в списке заговорщиков. И взгляды всего зала, обращенные к нему, и во взглядах этих — откровенная насмешка.
И ордер на арест.
И свою подпись — Робеспьер.
Он закрывает ладонями глаза. Осторожными, медленными, аккуратными движениями он массирует воспаленные веки, тихонько трет их, гладит. Понемногу ему становится легче. И тут же, почти бессознательно, возникает еще одна связь со сном, но связь, не имеющая ни начала, ни продолжения, — внутри у него будто все вымерзло, так что он не испытывает ни сострадания, ни волнения, ни душевной боли. Но и сквозь эту столь спасительную для него сейчас нечувствительность всплывало из сокровенных глубин имя — Люсиль. Еще дальше угадывалось другое слово — Трибунал. А за ним, скорее угадываемое, почти невидимое, в тени, таилось молниеносное и блестящее — смерть.
И вновь — но откуда? — мелькнуло это лицо, запрокинутое, покорное, безмолвное и умоляющее, но без жалобы, без слез… ее лицо.
Он сидит недвижно, прикрыв глаза руками, поглаживая, массируя воспаленные, уставшие веки. Очки его подняты на лоб, они мешают ему, и он ощупью, осторожно снимает их и снова сидит, а услужливая память показывает ему различные картины. Он забылся — впервые за последние два года случилось с ним такое, ибо долгими усилиями он приучился к повиновению самому себе, своему мозгу, своему разуму. Но, видно, и в разуме его что-то замерзло, нарушилась какая-то связь подчиненности — только таким образом и могла возникнуть такая недопустимая, недостойная слабость.
И с закрытыми глазами он видит книгу, лежащую перед ним, и чернильницу, и перо, готовое к работе, и свечу, которая не прогорела и до половины. Время чуть оплывало вместе с воском свечи, каплей, похожей на слезу, стекало вниз — и застывало. Время уходило, уходило, и работа ждала его, и надо было, не теряя и минуты, браться за нее, и он знал это…
Вместо этого он сидит застыв, сидит, закрыв глаза, и видит себя самого, но не изнутри, а как посторонний — совсем со стороны. И рассматривает себя даже с интересом, но также и с удивлением, как рассматривают друга юности после многолетней разлуки и находят, что он изменился слишком сильно, чтобы это можно было признать без неловкости. И тогда, вместо того чтобы признать настоящее, возвращаются к прошлому, обладающему спасительной бесспорностью, и в прошлом этом находят оправдание и надежное убежище. То прошлое, которое явилось Робеспьеру, возникало какими-то кусками, вне всякой между ними связи — во всяком случае связь эта никак не прослеживалась. Так, например, он увидел себя двадцать с лишним лет назад, когда лучший ученик коллежа Святого Людовика читает королю свои стихи. Так ясно и до боли отчетливо видит от этого тощего мальчика, преклонившего колени под монотонно струящимся дождем, что даже и сейчас ему хочется подняться и вытереть с лица холодную серую воду. Но еще яснее видны ему шевелящиеся в нетерпении короткие толстые пальцы короля Людовика Шестнадцатого. Он видит их совершенно отдельно от всего, видит даже тонкие рыжеватые волосы на них, видит перстни, каждую грань драгоценных камней, но более всего это нетерпеливое пошевеливание, властное и презрительное…
Вслед за этим возникает другая картина — он видит дилижанс. И рядом себя — радость на лице, веселая, открытая улыбка, легкость во всем теле. Он уезжает из Арраса в Париж, в руках у него маленький, но очень поместительный сундучок — все его богатство. Хотя нет, не все, есть у него еще трогательно безвкусный кошелек, а в нем десять луидоров. И кошелек, и луидоры — подарок любящей тетки… Так покидает он свою родину, устремляясь в плавание по неведомому и безбрежному морю — политике, двадцатидевятилетний адвокат из никому неведомого захолустья, депутат Генеральных штатов от третьего сословия.
Следующая картина — тогда же, на парижской заставе. Жандарм производит осмотр багажа и проверяет составленную им самим опись. Жарко, даже мухам лень летать. У жандарма расстегнут ворот. Темным корявым пальцем он водит по строчкам описи, оставляя на грубой бумаге вдавленный след. Он читает:
«Черный суконный фрак — один».
«Атласная куртка, почти новая, — одна».
«Куртка потертая, из сукна, — одна».
«Брюки черного бархата, потертые, — одни».
«Брюки из саржи, старые, — одни».
«Брюки из сукна — то же…».
Жандарм поднимает глаза, и Робеспьеру видно во взгляде жандарма осуждение.
«Щетки для чистки платья — две».
«Сапожная щетка — одна».
«Рубашек — шесть».
«Носовых платков — шесть».
«Чулок — три пары — почти новых».
«Башмаки».
«Шляпа».
И, наконец: «Коробка с иголками, нитками и шелком».
Все.
Удивленный жандарм:
— Немного вы везете с собой в Париж, господин депутат. Можете ехать…
Появляются другие картины — части целого, обрывки, детали:
Тесная каморка на улице Сентонж, 18.
Завитые щегольски усики Поля Вилье.
Бесконечные обеды ценою в тридцать су, отдававшие привкусом бедности.
Чулки, которые надо обязательно отдать в штопку.
Его первая речь в Собрании — смех среди депутатов, его провинциальный выговор, свист среди монархистов, хохот, оскорбления, облеченные в безукоризненную форму.
И жалкие крохи, которые он ухитряется отослать сестре в Аррас.
Бедность.
Широко раскрытые, наполненные слезами глаза Люсиль за секунду до того, как она стала Люсиль Демулен, и его подпись под брачным договором Камилла Демулена. Он видит ее, эту подпись, — Робеспьер. Четко и разборчиво, как всегда.
Он видит прекрасные дни 1791 года.
Грозные дни 1792 года.
Тяжелые дни 1793 года.
Распоряжение об аресте Дантона и Демулена. Подпись — Робеспьер. Это было совсем недавно.
И еще одна такая же подпись — несколько часов назад. Об аресте Люсиль, единственной женщины, которую он любил.
Он ничего не чувствует. Ни боли, ни страха. Только усталость. Усталость, да еще воспаленные, слезящиеся глаза.
Он слышит радостный голос Бадье: «Теперь мерзавцы в наших руках! Ничто более их не спасет».
И быстрый искоса взгляд на него, Робеспьера. Откровенный, циничный, торжествующий взгляд… «Ничто. И никто».
Люсиль должна умереть, ибо — «никто». И он — тоже.
Робеспьер открывает глаза. Он закончил путешествие в прошлое. Он оставил там человека, которого хорошо знал когда-то. Оставил навсегда.
Человека по имени Максимилиан Робеспьер.
Вернувшийся из далекого путешествия оглядывает свое жилище. Оно знакомо ему, но, может быть, это лишь кажется. Внешнее сходство — он знает это слишком хорошо — может оказаться таким обманчивым.
Похожее окно и запах отогретой земли, который смешивается со столь же знакомыми запахами стружки и смолы.
И простые еловые полки с книгами.
И узкая кровать.
И синее с белым одеяло на ней.
И сундучок в углу.
На сундучке он задерживает взгляд, внимательный и холодный. Он вновь, на мгновение, не больше, возвращается в запретную для него сейчас страну воспоминаний, возвращается украдкой, тайком, со странной смесью жалости и любви к двадцатидевятилетнему адвокату, который радостно устремляется в Париж со старым сундучком, наполненным подержанными вещами, в то время как сам он исполнен надежд.
Вещи, ставшие еще более подержанными за это время, до сих пор лежат в сундучке. А вот надежд — их уже давно нет. Их нет, как нет и того адвоката, который торопливо целовал морщинистую теткину руку, покидая старый дом на улице Рапортер.
Холодно. Почему так холодно? А, ведь окно открыто. Надо закрыть его, думает Робеспьер и не трогается с места. Сколько мертвецов между настоящим и прошлым, и мало кто среди них умер своей смертью. И вообще, как мало осталось их — и его друзей, и его врагов.
И как он устал…
— Надо работать, — говорит он себе, ибо знает: в этом его спасенье. Работать. И еще раз, через несколько минут: работать. Прошлое ушло, его нет и не будет, есть только незавидное настоящее и неопределенное будущее. Работа — самое бесспорное из всего, что еще осталось.
Надо работать. Он повторяет это снова и снова, как заклинание, как молитву.
Надо работать.
Он поправляет свечи. Движения его скованы, нервны, даже несколько суетливы. Вот очки. Карандаши, очиненное перо. Закладка в книге. Книга его учителя и друга, наставника и советника, книга Жан-Жака Руссо. «Прогулки одинокого мечтателя». Отопки нераспечатанных писем, горкой сложенных в левом углу стола.
Порядок.
В майоликовой глубокой тарелке — апельсины, засахаренные орехи, каштаны — все, что он так любит, единственная роскошь его бытия. Начатый, но незаконченный набросок речи, которую он должен завтра прочесть в Якобинском клубе.
Работа ждет его.
Движения его по-прежнему скованны, но уже проглядывает в них порядок и аккуратность. Он подвигает к себе книгу, осторожно вынимает и откладывает в сторону закладку, берет очень остро отточенный карандаш. Как всегда в тяжелую для него минуту жизни, он ищет утешения и поддержки в трудах великого учителя.
Он читает:
«Тот, кого могущество возносит над людьми, должен быть выше человеческих слабостей…»
Словно к животворящему источнику, припадает Робеспьер к этим коротким строчкам, подобно земле, иссушенной зноем, впитывает спасительные слова. Благодарным взглядом окидывает он каждое слово и букву — и покой, долгожданный покой снисходит в его исстрадавшуюся, наболевшую душу. Теперь он может в этом самому себе признаться — минуты сомнения были.
«Тот, кого могущество возносит над людьми…» Могущество — возносит… В этом основа, причина, не зависящая от воли и усилия отдельного человека, как бы судьба, воплощенная в неких скрытых силах. Не человек возносится сам, но его возносит! Может ли это объясняться случайностью? Робеспьер покачивает головой — совокупность всех причин должна обусловить правильный выбор. Такой выбор, произведенный самой судьбой, неизвестной человечеству причиной, освобождает тем самым избранного от всякого отчета перед людьми, ибо ему уготован высший жребий. В самом вознесении над людьми и заключен сокровенный смысл, людям, возможно, и недоступный. Но тогда они лишены и другого — права судить того, кто избран. Это право принадлежит лишь тайной силе, возвысившей одного над многими, только ей и надлежит давать ответ. И тогда уже становится понятен смысл второй половины фразы — о человеческих слабостях. Вознесенный выбором могущественных сил не может руководствоваться мерками обычной, обыденной жизни, они для него не подходят. Провидец опережает свое время.
А обе половины фразы, складываясь, образуют единое целое, надежное убежище, спасительное в своей отрешенности и возвышенности.
И он, Максимилиан Робеспьер, избран тайной силой, так же как могуществом ее он возвышен и вознесен над другими людьми. Пяти лет не прошло с тех пор, как из глубин безвестности начался этот тихий, но непреклонный, ни на минуту не останавливающийся подъем.
Но может быть, он сам тоже изменился?
Заглядывая в себя, он признает — да. Он и не мог бы сейчас быть таким, как прежде, даже если бы захотел. Нет у него спасительного права на обычные человеческие недостатки и слабости — только достоинства и добродетели человека, вознесенного над другими. Ему видны все, но и он виден всем. Он справедлив. От людей он не требует ничего такого, чего еще раньше не потребовал от самого себя. Он не знает снисхождения к порокам, но ведь и к своим тоже. Его называют Неподкупным, но неподкупность — это такая малость по сравнению с иными безднами, таящимися в душе. Быть неподкупным — это всего лишь наружный край добродетели, наиболее доступный. Укрощать чудовищ пороков, толпящихся в бездне, выползающих по ночам, когда слабеет воля, укрощать их день за днем — вот лицо истинной добродетели.
Вот почему выбор пал на него. Он заслужил свое право быть вознесенным. Он заплатил за это самую высокую плату — отречение от одной своей половины ради торжества другой.
Он избран для спасения людей от деспотизма пороков. И он спасет их, слабых и колеблющихся, сильных, но заблуждающихся — всех, кто ему доверен. Он обязан спасти их и открыть перед ними ворота в прекрасное царство добродетели, если потребуется — сделать это вопреки их воле и, если надо, ценой крови.
Ради этого он готов отречься от самого себя.
Невидящим взором глядит он перед собой. Он сидит очень прямо, правой рукой крепко сжав левую. Он сидит так долго, в напряженной, неудобной позе, по лицу его пробегает судорога, и шея дергается к левому плечу. Эта судорога появилась у него в момент, когда был арестован Демулен. Теперь им самое время проститься. И он говорит: «Прощай, Камилл. Ты был мне братом, а я тебя убил. И ты, Люсиль, прощай. Тебя я любил больше жизни, но жизнь моя мне не принадлежит, все пути отрезаны, и я тебя убил, ибо Бадье сказал: „Ничто и никто“. Я не мог спасти тебя. И Камилла тоже. Теперь меня уже ничто не связывает с прошлым, и напрасно радуются те, кто смотрел с ухмылкой, как судорога сворачивает человека, подписывающего приговор своим друзьям. Я знаю, я тоже проживу недолго. Но кое-что мне, быть может, еще удастся совершить для нашего дела. — И он доверительно жалуется: — Я так устал. Вам и только вам могу я в этом признаться. Если бы кто-нибудь знал, как я устал… Но и это — только одно из испытаний. Самое страшное, прощание с вами, я уже прошел, остальные — пройду».
«Работать, — шепчет Робеспьер, — работать…» И. видит сквозь неяркий жемчужно-серый рассеянный свет запрокинутые безмолвные лица этих двоих. Откуда они взялись? Он бредит… Или это уже наяву?
«Я переутомился», — говорит себе человек с зеленоватым от постоянного недосыпания лицом и воспаленными красными веками. Но он не жалуется, нет. Он лишил себя права на снисхождение и поэтому еще раз пересиливает самого себя и природу. Он принуждает себя к повиновению, заставляет себя встать, сделать первый шаг. И он встает и делает первый шаг, а за ним другой и третий. Он ходит по комнате, аккуратной и чистой, и ведет долгий, бесконечный разговор со многими людьми — живыми и мертвыми. Он останавливается у книжных полок, любовно дотрагивается до корешков, — Руссо, Корнель, Расин. Проходя мимо стола, механически берет из глубокой чашки засахаренные фрукты, орехи, каштаны.
И ходит, ходит, ходит…
Затем садится к столу и начинает работать — аккуратный, спокойный, прямой.
Если бы кто-нибудь сказал Шарлю-Анри Сансон. у, что он может опьянеть от двух бутылок вина, он только рассмеялся бы. Однако сейчас это было именно так — от каких-то двух бутылок, а может быть оттого, что просто устал. Он брел по темной неосвещенной улице, ругая на чем свет стоит все на свете: Трибунал, Фукье-Тенвиля, подсудимых, дрянное вино и беспросветно темную улицу, на которой сам черт сломит ногу. Он брел, ругался, спотыкался на каждом шагу и ругался еще сильнее. От этого ему становилось как будто легче, впрочем, ненадолго.
Ну как это можно было еще назвать, если не распоследним свинством? Вытащить его, немолодого уже человека, едва не из постели и продержать в Трибунале чуть ли не до двух часов. Для чего? Для того лишь, чтобы он сиднем просидел рядом с судьями четыре часа, как распоследний дурак. Ясно, конечно: прокурор хотел показать подсудимым, что их ожидает в недалеком будущем. Надо признать, он добился, чего хотел. Как только Сансон в своем парадном костюме появился за судейским столом, у всех словно горло перехватило. Наступила мертвая тишина, и Шарль-Анри Сансон почувствовал на себе взгляд нескольких тысяч глаз; и он не может сказать, что это такое уж большое удовольствие. Совсем нет, потому что во всех взглядах можно было увидеть лишь одно выражение — ужас. И хотя через минуту процесс покатился своим обычным руслом, каждому, кто сидел в зале, стало ясно, что отныне незримо присутствует некое видение, известное всем, хотя и незримое: два столба, окрашенных в красный цвет, с косым треугольником стали между ними. И этот человек в зеленом форменном жилете и черном галстуке, сидевший у края стола рядом с судьями, одним своим присутствием доказывал, что это не выдумка, но сущая явь, может быть более реальная, чем многие из людей, присутствующих ныне в зале.
Да, цель, которую преследовал Фукье-Тенвиль, была достигнута за его, Сансона, счет. Но это был, конечно, отчаянный ход, который ясно обнаружил шаткость позиций государственного обвинителя, ибо крайние средства применяются лишь в критических случаях. Поэтому он мог бы вести себя вовсе не так заносчиво. Тон, который он позволяет себе в последнее время, попросту возмутителен, и с ним, Шарлем-Анри Сансоном, этот номер не пройдет, вот так. Он держал в своих руках людей и повыше рангом, чем государственный обвинитель, и тому не стоило бы об этом забывать. Не исключено, что однажды ему доведется увидеть и Фукье-Тенвиля привязанным к поворотной доске гильотины.
Было бы весьма занятно дожить до этого момента.
Интересно, где же его дом? Не так уж он и пьян, чтобы не найти его. Он любит свой дом и хочет поскорее попасть к себе домой, чтобы забыть обо всяких там Фукье-Тенвилях. У Фукье-Тенвиля, к слову, никогда не было своего дома, а такой, как у него, Сансона, ему и не снился. Фукье-Тенвиль живет на казенной квартире в Консьержери, и если он потеряет должность, то ему придется спать на улице. Он целиком зависит от своей службы, этот наглец, она дает ему и жилье, и заработок. И то и другое намного хуже, чем у Шарля-Анри Сансона. Отсюда объяснимо чрезмерное усердие гражданина государственно-го обвинителя: вне своей должности он ничто, поэтому, чтобы сохранить ее, он готов на все. Иное дело Шарль-Анри Сансон. Не говоря уже о том, что его заменить совсем не так просто, как Фукье-Тенвиля, он может в любой момент отказаться от своей должности. Да, он может себе позволить уйти в отставку, и он поступит так, если дело дойдет до крайности. До конца его дней ему есть на что прожить безбедно, и ему самому, и прислуге, и всей семье. Вот почему он может вести и всегда ведет себя независимо, не то что этот выскочка Фукье-Тенвиль.
Плевать он на него хотел.
И Шарль-Анри Сансон действительно плюет — вот так.
Но самое главное еще впереди. Этого самого главного никто не знает. Никто на всем белом свете, лишь он один. И Шарль-Анри Сансон улыбается в темноте ужасно хитрой улыбкой. Есть одно дело. Одна, так сказать, деталь. Никто не знает, никто не ведает, только он. Шкатулка имеется, а в ней… Не драгоценности, нет. Но если бы кто-нибудь знал… пожалуй, это стоило бы не меньше, чем золото. Но об этом никто не знает. И не узнает никогда. А если кто и узнает, то произойдет это тогда, когда ему уже будет все равно. Он еще здоров, он проживет, надо полагать, немало. Так что его секрет еще долго останется секретом.
Его записи, его дневник…
Иногда это две-три строчки, иногда — одна, иногда — несколько страниц. И если бы Фукье-Тенвиль знал, что он будет описан, выведен в этих тетрадках, ой трижды подумал бы, прежде чем говорить таким тоном.
Сегодня предстоит много работы. Сегодня дело не ограничится двумя строчками. Страницы, пожалуй, не хватит тоже. Потому что он опишет все по порядку, с самого начала. С того момента, как Амар, Вулан и Давид принесли Фукье- Тенвилю из Конвента донос Лафлотта. Он опишет, как задрожали от радости волосатые руки государственного обвинителя, когда он читал этот документ, лишавший осужденных последних надежд на спасение. Он опишет судорогу презрения, которая передернула лицо Дантона, и его слова, обращенные к Вулану, Амару и Давиду, его слова о наемных убийцах, которые подрядились преследовать настоящих революционеров до самой смерти. Он опишет Камилла Демулена в тот момент, когда Фукье-Тенвиль с многозначительной улыбкой остановился, назвав и. мя Люсиль Демулен среди главных заговорщиков Люксембургской тюрьмы.
— Подлецы! — закричал этот несчастный. — Вам мало моей смерти, вы губите и мою жену! — и рухнул, как подкошенный, на скамью.
Он опишет Дантона, поднявшегося во весь свой огромный рост, его руки, простертые в безнадежном порыве к галерее, и его рев: неужели народ выдаст лучших своих друзей палачам! Он опишет ответный рев трибун, невесть откуда появившуюся золотую молодежь в вызывающе щегольских нарядах, опишет свалку на трибунах и пронзительный голос мальчишки Карно: «На фонарь эту сволочь Фукье-Тенвиля!»
Он опишет, как задрожал от страха этот наглец, какое у него было красное растерянное лицо, как вскочил он со своего места и прерывающимся от страха голосом потребовал применения декрета. И то, как рванулись вниз галереи, как бежали из зала судьи и как национальные гвардейцы, примкнув штыки, едва отбили осужденных. И как четверо дюжих солдат не смогли справиться с Камиллом Демуленом, отбивавшимся скамьей.
Он опишет все, что видел, так, как это было на самом деле, и это будет лучшим ответом Фукье-Тенвилю, какой он может только дать.
Зал пуст. Теперь он действительно походил на поле битвы или, еще вернее, на место стихийного бедствия. Похоже, что над залом дворца Правосудия пронесся смерч, ураган или небывалой силы тайфун, который сломал деревянные ограждения, опрокинул скамью, разметал бумаги и заставил бежать людей. И теперь в этом зале, еще недавно переполненном, живом, забитом до отказа, голо и пустынно. Только воздух, тяжелый и спертый от многотысячного дыхания и не успевший уйти через широко распахнутые окна, тот же, что и прежде.
Ветер лениво трогает легкие листки; подобно сброшенным, ненужным перьям, они белеют повсюду. Еще совсем недавно к этим листкам прикасались человеческие руки, на них с надеждой или с отчаянием останавливался взор. Теперь они лежат бесполезной грудой мертвых мыслей и не имеют никакого значения.
Не об этом ли думает государственный обвинитель Фукье-Тенвиль? Он сидит, привалившись боком к своему прекрасному бюро, и никак не может привыкнуть к тому, что самый важный в его жизни и его карьере процесс уже закончен, что все кончено и не повторится никогда и никакие сожаления уже не имеют никакого смысла, как не имеют смысла слова, написанные на белых, повсюду разбросанных листках бумаги. Дело завершено, и единственное, что ему еще оставалось, это подождать, пока присяжные, удалившиеся в комнату за массивной дубовой дверью, вынесут свой окончательный приговор.
Только сейчас он понял, как он устал. Это было даже не то слово — устал. Он просто выдохся. Руки и ноги у него налились и одеревенели, мускулы лица сводила судорога. Он отдал этому проклятому процессу все свои силы, все без остатка, и теперь чувствовал себя так, словно его провели, обманули, и вместо подъема, который он всегда в таких случаях испытывал, он не ощущал ровным счетом ничего, кроме мучительной усталости и пересохшего горла.
Он сидит. Ему бы радоваться — ведь это идут сейчас те самые минуты, которых он ждал всю жизнь. Еще сегодня по всей Франции разнесется весть об окончании процесса и о той роли, которую сыграл в этом процессе он, Фукье-Тенвиль.
Но он не радуется. В эти самые для него великие минуты наивысшего торжества, его победы и славы, он сидит, устало и равнодушно глядя в пустой и враждебный зал, по которому бесшумно движется человек в серой, до ушей натянутой накидке.
Он узнал этого человека, но понял, что человек предпочитает быть неузнанным, и согласился не узнавать его. Человек неспешно и словно даже не производя никаких усилий передвигался по залу, время от времени поднимая с пола то один, то другой листок. Человек двигался, не глядя по сторонам и в то же время явно что-то выискивая, и в ту минуту, когда он проходил мимо Фукье-Тенвиля, тот произнес: «Это здесь». Человек, ничуть не удивившись, кивнул и протянул руку, и в эту руку, обтянутую серой нитяной перчаткой, Фукье-Тенвиль вложил скомканный лист бумаги. Тут же реальность исчезла, ибо так было надо, — время вернулось вспять, появились переполненные трибуны, зал ожил, но все заслонено было искривленным лицом Камилла Демулена. Длинными тонкими пальцами он комкал лист с начатой, но ставшей уже бесполезной речью и бросил этот комок прямо в лицо государственного обвинителя. Человек в сером бережно и даже с лаской разгладил листок и показал, и Фукье-Тенвиль закивал, с усилием наклоняя голову, — узким стремительным почерком Камилла там были написаны две строки латинского текста. «Я возьму это», — сказал серый человек, и опять Фукье-Тенвиль понял, для кого, и сказал: «Да, конечно». Про себя же он подумал: «Тому, кому этот листок предназначался, вряд ли будет приятно». На что серый, плавно уплывая к двери, бросил, не оборачиваясь: «Ну, уж это точно — вряд ли».
Затем снова все исчезло, и он даже не мог сказать, насколько, а когда он вернулся из забытья, рядом с ним стояли Амар и Вулан. Они что-то говорили ему, широко раскрывая рты, а он ничего не слышал, и только в горле у него першило. Он шевельнул губами и произнес одно слово — и тут же Вулан налил ему полный стакан вина, который прошел в горло как в песок, и второй, и третий, и по мере того как стакан за стаканом вливались в него, все утончалась и утончалась пленка, застилавшая ему глаза. Он уже слышал ржавый хохот Вулана и тонкий, как лезвие, смех Амара… он даже пытался что-то сказать…
— Бедняга, — сказал Амар. — Он сам на себя не похож. Как ты думаешь, он не заболел?
— От такого немудрено и заболеть. Но наш Антуан не из тех, кто переживает, из-за того, что приходится пустить немного лишней крови, а? Положи его на скамью и накрой скатертью. Я сбегаю за доктором.
«Что тут делал этот пройдоха Герон? — думает член Комитета общественной безопасности Амар, сидя рядом с укрытым скатертью Фукье-Тенвилем. — За ним надо проследить…» Затем мысли его обретают иное направление.
Он, конечно, не сомневается в том, какое решение примут присяжные, но все же… С досадой глядит он на Фукье-Тенвиля — в такой момент сдали нервы. Присяжных подбирал он. И Амар вспоминает шутку Вулана. «С такими присяжными, — сказал Вулан, — любой подсудимый более мертв, чем славный наш Людовик Шестнадцатый».
«Что ж, — бормочет Амар, — одного мы свалили. Теперь очередь другого, поважней!».
Из-за дубовой двери, украшенной восемью львиными головами, по-прежнему не слышно ни звука.
* * *
Оставшись одни, они торопливо разошлись по углам, укрылись за искусственной броней отрешенности, словно даже не узнавая друг друга. На самом же деле — и каждый из них понимал это — мнимая отрешенность возникла как раз потому, что они знали друг друга слишком хорошо, и разобщенность нужна была каждому лишь для того, чтобы выиграть время и воздвигнуть внутри себя некий барьер, который затем предстоит преодолеть. В то же время наличие этого барьера должно будет знаменовать и борьбу с собой, и сомнения — так было всегда, когда присяжные собирались вместе. Они уже привыкли, кто с большей, кто с меньшей степенью готовности, к роли людей, взвешивающих на ладонях своей совести жизнь и смерть существ, им подобных, но еще не привыкли делать это равнодушно. Но сегодня, к чему бы они там ни привыкли, случай был совершенно особый, и смущение, которое они испытывали, лишний раз подчеркивало сложность предстоявшей им задачи и те трудности, которые нужно было преодолеть каждому из семерых на пути к решению. Пожалуй, никто из них не сомневался, какой приговор произнесли бы любые другие семеро присяжных, и уж абсолютно никто не сомневался, какого приговора ждут от них. Но именно это знание будило в душе каждого какие-то свои опасения, свои сомнения и свою тяжесть. Все-таки до сих пор им приходилось осуждать на смерть людей, которые были для них чужими, людей, в отношении которых можно было хотя бы допустить, что они являются агентами двора, Питта и Австрии. На этот раз они должны признать, что и среди самых искренних патриотов может завестись гниль измены, и доказать это, признав виновными Дантона, Демулена, Фабра и Эро, а это почти то же, что признать виновными самих себя.
И они молча ходят вдоль стен.
Они ходят вдоль стен, задевая друг друга и не замечая этого. Они мучительно ищут выхода, которого нет. Все эти дни они понимали, они знали даже, что эта минута настанет — минута, когда каждому из них придется произнести свой приговор. Но пока процесс шел, пока он длился, можно было забыть, не думать об этом, не переживать и не мучиться сомнениями, потому что решать надо будет потом, когда придет последняя минута.
Теперь она пришла.
Они знали друг друга хорошо. Даже, может быть, слишком хорошо. Они знали также многое из того, о чем они никогда не говорили вслух. Они знали, что сейчас с той стороны дверей находятся люди, которые ждут, которые остались специально для того, чтобы дождаться, пока все они — семеро — не произнесут своего решающего, окончательного слова. Они не забывали и помнили все время, что их выбрали присяжными не случайно, не случайно именно их, и каждый из них должен был очень крепко подумать, если бы захотел произнести «нет, не виновны», и что те, за дверью, предоставляют им это время в общем-то лишь для того, чтобы они сами придумали для себя достаточно веские мотивы, по которым они непременно произнесут свое «да, виновны».
Этого от них и ожидали. Потом у них будет время, много времени, но только после того, как они произнесут то, чего от них ожидают. Оставшись затем наедине с собой, они смогут обдумать все возможные последствия своего решения.
Но и сами сомнения их были вовсе неодинаковы и касались различных предметов, а у присяжного Ренодена их не было почти совсем. Присяжный Реноден с самого начала процесса предвкушал наступление этой минуты, и если и жалел о том, что она наступила, то потому лишь, что, наступив, она уносила с собой мгновения сладостного ожидания; свершившись, оно, это ожидание, исчезало.
Маленький, совершенно лысый человек, бывший вне стен Трибунала мастером по ремонту музыкальных инструментов, острой непреходящей ненавистью ненавидел Камилла Демулена. Злопамятный, как и все не слишком умные люди, он не мог простить Демулену своего позора, того, как Демулен однажды поднял его на смех в клубе якобинцев. Реноден считал себя неплохим оратором, прирожденным политиком и стратегом. Неудовлетворенное тщеславие гнало его на трибуну всякий раз, как обсуждению подлежали государственные вопросы… пока однажды Демулен не сказал, что патриотизм Ренодена так же свободен от здравого смысла, как голова от волос. Дело едва не дошло до драки, но прозвище «плешивый патриот», прилипшее к музыкальному мастеру Ренодену, приходило на ум каждому, едва лишь Реноден появлялся на трибуне, и смех, самое неуловимое из оскорблений, сопровождал отныне любое его слово.
Музыкальный мастер Реноден по-прежнему не пропускал ни одного заседания клуба, но выступать он уже не мог. Отныне только одна мысль поддерживала его — мысль о мести. И теперь эта минута настала. Правда и справедливость восторжествовали. Лысый у Ренодена череп или нет — теперь это дело десятое. Теперь уже он, Реноден, сможет заявить в клубе, что лучше быть лысым патриотом, чем волосатым предателем, и все, кто не забыл черную гриву Демулена, поймут этот тонкий намек. Да, скоро у Демулена уже не будет возможности безнаказанно оскорблять патриотов. И как же это справедливо, что именно он, Реноден, призван воздать ему по заслугам. У самого Демулена, надо полагать, не возникало сомнений в том, что его ждет. Недаром, увидев Ренодена на скамье присяжных, Демулен потребовал отвода. Не тут-то было. Фукье-Тенвиль — настоящий патриот — не дал себя провести, одурачить ссылкой на формальное право. Ибо, заявил он, истинной невиности не страшны никакие обвинения, тогда как преступная виновность всегда и всюду будет выискивать лазейки и отговорки.
«Да, он не зря волновался, этот Демулен», — думает присяжный Реноден.
Что же касается остальных, то ему, говоря по совести, их судьба безразлична. Она интересует его лишь постольку, поскольку они обвиняются вместе с его врагом. Более того, к некоторым из подсудимых он относится даже с уважением. К Дантону, например. Они не раз встречались, то в самом Трибунале, то в ресторане Мео, то в Якобинском клубе, — и ни разу Реноден не замечал со стороны Дантона никакого пренебрежения. Жаль, что Дантон связался с этим бездарным писакой, Демуленом. Впрочем, Фабр д’Эглантин тоже из этих, пишущих. Говорят, он осмеял в одной из своих бездарных комедий самого Робеспьера. Если это так, то и он получит по заслугам. Что же касается остальных, решает присяжный Реноден, самое умное и честное здесь — это присоединиться к мнению большинства.
Но Демулена он не отдаст никому.
Итак, присяжный Реноден, музыкальный мастер, посланный в Трибунал секцией Французских гвардейцев, первым приходит к определенному решению. Он перестает ходить вдоль стен. Он садится за длинный голый стол. Своим коллегам он заявляет, что уже составил мнение о виновности каждого из подсудимых.
Присяжный Ганнен смотрит на него налитыми кровью глазами.
— Смерть им! — хрипит он, и в его голосе столько ненависти, что спрашивать или сомневаться, какое решение он принял, совершенно излишне.
За все время существования Трибунала присяжный Ганнен принял участие едва ли не в каждом втором заседании и за все это время ни разу не сказал ничего иного, кроме «смерть». Некогда, еще до революции, он был зажиточным крестьянином, пока однажды его сеньор, герцог де Жирак, не отправился на охоту за перепелами. После той охоты зажиточный крестьянин Ганнен превратился в бедняка. Герцог де Жирак был немало возмущен, узнав, что один из его арендаторов посмел высказать недовольство, и вскоре Ганнен попал в тюрьму за оскорбление его светлости герцога, бывшего к тому же еще и епископом Ренским. В тюрьме не в меру строптивого Ганнена били каждый день. С тех пор что-то произошло в его большой и лохматой голове. Стоило при нем произнести слово «аристократ», как он тут же распрямлялся во весь свой огромный рост, словно ища врага. «Смерть» — было единственным, что он мог из себя выдавить, задыхаясь от ненависти, за что получил от судей прозвище Ганнен-смерть. Во время процесса он глаз не отводил от подсудимых. Все эти складно говорившие господа были аристократами, все до одного. И теперь Ганнен с недоверчивым, подозрительным недоумением поглядывает на всех, не в силах понять, в чем дело, за чем задержка. Ему было все ясно с самого начала, ясно и теперь: смерть аристократам! И он опускает на стол свой огромный кулак. Он говорит: «Смерть!»
— Согласен, — говорит высокий, гладко выбритый старик с морщинистым узким лицом. — Целиком согласен с моим уважаемым коллегой Ганненом, — и делает легкий, почти незаметный поклон.
Присяжный Ганнен исподлобья смотрит на кланяющегося старика, на своего коллегу, гражданина Дизу, присяжного от секции Санкюлотов. Присяжный Ганнен не доверяет присяжному Дизу. Он всегда относится к нему с подозрением и принюхивается, словно чувствуя в нем какой-то подвох. Присяжный Ганнен не зря принюхивается. Его интуиция, чутье не обманывают его, только сам он об этом никогда не узнает. Никогда не узнает он того, что заседающий рядом с ним гражданин Дизу, что означает «гражданин десятого августа», есть не кто иной как бывший аристократ маркиз Леруа де Монфлабер, приходящийся двоюродным братом герцогу Де Жираку.
Бывший маркиз принял революцию с нескрываемым удовольствием. Он прожил при дворе долгую жизнь, бесчисленное количество раз менял любовниц, почти столько же раз дрался на дуэли, выигрывал, а также проигрывал целые состояния. Революция внесла в жизнь пресыщенного маркиза ту остроту, о которой он уже и не мечтал. Он без малейших колебаний примкнул к санкюлотам и даже сменил славное имя маркизов де Монфлабер на куцее имя Дизу, более похожее на собачью кличку. Но он не жалел ни о чем. От старого режима он взял все, что мог, теперь он брал все, что мог, от нового. Прожитые годы приучили его скептически относиться к своей жизни. Мог ли он иначе относиться к чужой! Он знал, чего ждут от него в Трибунале, и с презрением истинного аристократа бросал свои постоянные «да, виновен» в общий котел правосудия. При этом он не скрывал, что и себя и других считает актерами, разыгрывающими на подмостках жизни одну из бесчисленных пьес, не имеющих автора, но, будучи в то же время и зрителем, он с удовольствием смеялся над остальными и даже, правда много реже, над собой.
Часто вечерами он встречался со своим старинным другом маркизом де Садом, которого революция освободила из сумасшедшего дома в Шарантоне и который работал сейчас секретарем комитета в секции Арсенала. Оба старика забирались в свой излюбленный уголок, в кабачок «Роза» у Красного моста. Сидя на веранде, они смаковали густое терпкое вино и признавались друг другу, что живут с не меньшим удовольствием, чем во времена блистательной монархии.
Бывший маркиз Леруа де Монфлабер, ныне гражданин Дизу, не без удивления отметил, что на склоне лет стал весьма любопытен. Большой, неслыханной удачей было то, что ему довелось испытать так много совершенно неведомых ему прежде разнообразных ощущений. И все же более всего ему хотелось бы дожить до той поры, когда можно будет увидеть, чем все это кончится. Он понимал, что это, конечно, было бы со стороны судьбы более великодушно, чем он того заслужил, — дать ему дожить до этого времени. Такие подарки ни судьба, ни тем более люди даром не подносят. Чтобы заслужить право на такой подарок от судьбы, от гражданина Дизу требуется сейчас признать девятнадцать обвиняемых виновными в злостном заговоре против Республики. И поскольку обвиняемые не смогли достаточно убедительно опровергнуть подозрения, не представили никаких обеляющих документов, он, гражданин Дизу, с чистой совестью признает их виновность.
— Виновны, — говорит он и садится рядом с присяжным Ганненом.
— Виновны, — говорит им присяжный Люмьер, член революционного комитета секции Музея. Вот кто мог бы объяснить, в чем вина Дантона и Демулена. Их вина в том, что они предатели. Они предали революцию. Разве не они отправили на гильотину Эбера, Венсана и других левых якобинцев? Разве не они помогли арестовать Шометта? Уж не думалось ли им, что такие вещи забываются? Нет, у секций не короткая память. Да, это было ловко сделано — одним ударом Робеспьер убрал со своей дороги всех возможных конкурентов и обезглавил самые революционные секции Парижа. Он сделал это руками Демулена, этого краснобая с продажным фальшивым пером, которому удачно написанная строчка дороже любой правды. Теперь он вспомнил о справедливости — он, Демулен! Нет, все же она еще существует, справедливость, и он, Люмьер, один из ее представителей. Жалко Филипо, честного человека. Вот уж кто гибнет ни за что. Все было верно в его докладе — и то, что Россиньоль пьяница, и то, что в Вандее надо воевать иначе. Но зачем, скажите, он стал жаловаться Конвенту на комитеты? Ведь блудница, ставшая добродетельной, не может позволить и тени подозрения на своей репутации. Люмьер понимает — Филипо ему не спасти, тем более что против него даже не выставлено прямого обвинения. «Ничего, — думает Люмьер, — ничего. Мы занесем тебя, Филипо, в особый список. Придет день, и по этому списку мы начнем получать со всех сполна. А пока…»
— Виновны.
И присяжный Люмьер садится рядом с гражданином Дизу.
Если кто и строил внутри себя барьеры, это Топино-Лебрен, свободный художник, выборный присяжный от секции Друзей отечества. Но его барьеры совершенно особого свойства: их нет вовсе. Со спокойной, чуть иронической улыбкой взирает Топино-Лебрен на своих сотоварищей. Он сочувствует их усилиям обрести душевный покой в деле осуждения людей, виновность которых столь громогласно провозглашена и столь малоубедительно доказана. Он понимает, что сейчас происходит, что творится в душе каждого из них. Острый глаз художника замечает все — и судорожное движение, которым присяжный Реноден поглаживает свою лысую голову; и то, как сжимаются, словно вокруг дворянского горла, огромные кулаки Ганнена. Видит он также сухой огонь, сжигающий присяжного Люмьера, одного из немногих еще уцелевших друзей Шометта и Эбера; не осталась для него незамеченной и усмешка, проступившая на остром морщинистом лице бывшего маркиза де Монфлабера.
И чувства, скрывающиеся за этими внешними движениями, также ясны ему и понятны.
Пожалуй, сам он — единственный человек здесь, который виднт происходящее в истинном, неискаженном свете. Никакие высокие слова, никакие низкие обвинения не в состоянии скрыть от него самую суть этого процесса. За всей этой пышной и несколько смешной в своей высокопарности инсценировкой скрывается самый простои, но и самый сложный вопрос. Речь идет о влиянии на Конвент, борьбе за руководство им. Кто возглавит революцию: Робеспьер или Дантон — вот суть проблемы. И никакие слова, в изобилии произносившиеся здесь, не могут изменить эту уверенность художника Топино-Лебрена. И ему смешно и вместе с тем необыкновенно печально видеть, как люди, взрослые и умные люди, подобные его другу Субербиелю, не в состоянии уразуметь настоящее положение вещей, предопределяющее выбор. Единственный в этой комнате, кто вызывает его сочувствие, это как раз Субербиель. Он был в равной степени дружен и с Робеспьером и с Дантоном. Топино-Лебрену больно смотреть, как осунулось за эти, дни простое и мужественное лицо хирурга с широким шишковатым лбом. Глаза у Субербиеля ввалились, тревожный нездоровый блеск выдает всю смятенность этого бесхитростного человека, которому сейчас надо решить, каким из своих друзей он должен пожертвовать. Руки его, столь виртуозно владеющие скальпелем, побелели от напряжения, и сам он похож больше всего на птицу, попавшую в силки.
Топино-Лебрен наблюдает за ним издали. Все-таки удивительно, что именно таких людей, как Субербиель, жизнь заставляет решать задачи, которые им явно не под силу. Топино-Лебрен хорошо видит тягостное недоумение, застывшее на лице хирурга. Чутьем художника понимает он это недоумение, эту невозможность понять, почему два таких великих человека, Дантон и Робеспьер, два его друга, не могут поладить между собой, не могут договориться. И почему он, хирург Медицинской школы, должен решать сейчас вопрос о жизни и смерти девятнадцати человек, половину из которых он узнал только во время процесса. И что может такой человек, как его друг Жорж Дантон, иметь общего с прохвостами вроде банкиров Фрей, с поставщиком и спекулянтом д’Эспаньяком; какое отношение мог иметь он к афере с акциями Ост-Индской компании и ко всей той грязи, о которой столь щедро говорилось на суде.
Ничего этого он понять не в состоянии.
Топино-Лебрен не может больше видеть этих мучении. Он подходит к Субербиелю. Дружески, ласково обнимает его за плечи, отводит в дальний, темный угол комнаты. Там осторожными, продуманными фразами он начинает объяснять Субербиелю то, что сам он, Топино-Лебрен, знал с самого начала. Он понимал, что, называя вещи своими именами, не оказывает Субербиелю такой уж большой услуги. Мог он также предположить, какие чувства испытывает во время этих объяснений хирург; сам он, оказавшись на его месте, испытывал бы то же самое. Однако он считает своим долгом избавить человека от ненужных, даже вредных иллюзий.
— Взгляните, дорогой Субербиель, на этот вопрос с другой стороны, — говорит он. — Постарайтесь сделать это, и вам не придется мучать себя понапрасну.
С глазами, полными боли, почти отупев от мыслей, разламывающих ему голову, слушает Субербиель мягкий, настойчивый голос художника. А тот, доверчиво, дружески держа его руку, глядит прямо в лицо, говорит, распутывает все узлы. Разве дело в том, виновен или невиновен Дантон, ибо речь здесь идет только о нем? Разве в том дело, был он подкуплен или нет? Милый Субербиель, дело вовсе не в этом. И дело не только в Дантоне, но даже и не в Робеспьере. Все дело в тех силах, что стоят за ними, за тем и за другим. Кто стоит сейчас за Дантоном, чьим знаменем станет он в случае победы? Он станет знаменем модерантистов, умеренных, тех, кто считает революцию законченной. Кто стоит за Робеспьером, какие силы толкают его на борьбу с Дантоном? Это рабочие предместья, еще не оправившиеся от голодной зимы. Это революционные секции, получившие от революции пока что одни обещания. Знаете, что погубило Дантона? Вовсе не воз серебра, который он якобы присвоил вместе с Лакруа, и совсем не те сто тысяч, в которых он так и не смог отчитаться, — такие вещи были, есть и будут. Его погубили наши военные победы… Многих — в том числе и самого Дантона — такое положение вещей вполне устраивало, они уже получили свое. Революция сделала явью все его мечты — он богат и известен. И, хотел этого сам Дантон или нет, он и его друзья — это те силы, которые сейчас стоят за окончание революции. Тогда как Робеспьер за ее продолжение. Вот почему, друг мой Субербиель, вы должны понять — это не судебный процесс. И мы здесь не судьи. Мы — государственные люди. Жить обоим вместе невозможно, как нельзя одновременно и завершить революцию, и продолжать ее. Один из них. должен погибнуть. Хочешь убить Робеспьера? Тогда добивайся оправдания Дантона. Если нет — ты должен осудить его.
Он увлекся, художник Топино-Лебрен. Он начал говорить сдержанным, спокойным, тихим голосом. Он кончил говорить громко, горячо, увлеченно. И когда кончил, увидел, что все взоры обращены на него. Потому что для всех, а не только для хирурга Субербиеля, откровением прозвучали слова, высказанные художником, и всем они поистине раскрыли глаза. С разными чувствами вошли сюда, в эту комнату, эти семь человек. Разными были их опыт, их образование, их темперамент. Но то, о чем рассказал им Топино-Лебрен, они поняли одинаково. Да, именно так обстояло дело. Не мелкие пристрастия, не личные, мотивы руководили ими, когда каждый принимал свое решение.
В этой узкой, плохо освещенной комнате они решали вопрос, быть или не быть революции.
Здесь имена не имели значения и ответ мог быть только один.
Старшина присяжных Треншар поднимает руку. Наступает полная, абсолютная тишина. В эту тишину, подобно камням, брошенным в бездонные воды, падают слова присяжных Революционного трибунала города Парижа.
— Виновны, — говорит присяжный Реноден.
— Смерть, — говорит присяжный Ганнен.
— Виновны, — говорит присяжный Дизу.
— Виновны, — говорит присяжный Люмьер.
— Виновны, — говорит присяжный Топино-Лебрен.
— Виновны, — говорит присяжный Субербиель.
Старшина присяжных Треншар открывает толстую дубовую дверь, ведущую в зал Трибунала. Неподалеку от себя, за столом, он видит людей, уже несколько часов ожидающих этой минуты. Он видит члена Комитета общественной безопасности Амара, видит красное в пятнах лицо Фукье-Тенви- ля, и председателя Трибунала, Германа, видит он и обращенные к нему глаза судей — Массона, Денизо, Фуко, Браве. Над своей головой старшина присяжных ощущает огромный, как небо, свод зала, видит все огромное пространство, заполненное тусклым светом рождающегося дня.
В это пространство, в эти напряженные, замершие, ожидающие лица он бросает одно-единственное слово: «ВИНОВНЫ».
В шесть часов утра он еще работает. Сквозь плотно задернутые шторы в комнату не проникают ни звуки, ни свет рождающегося дня. Размеренно скрипит перо; медленно текут минуты, складываясь в часы. Понемногу оплывает свеча.
Время от времени он прерывает работу. Перо повисает в воздухе. Острая сломившаяся тень, распластавшись по стене, дрожит, сползая на кровать, застеленную двухцветным, синее с белым, одеялом.
Робеспьер сидит задумавшись, недвижим. Этот оборот, пожалуй, слишком длинен. В нем недостает той неумолимой отрешенности, которую он так ценит и которая сильнее всего воздействует на слушателей. Перо опускается, вычеркивает два, нет, три слова, заменяет их одним. Речь, которую он должен произнести вечером в клубе якобинцев, приобретает все более законченный, совершенный вид. В этой своей речи он будет говорить о ценностях истинных и мнимых, о главном содержании человеческой души — добродетели и о той опасности, что подстерегает добродетель на жизненном пути, — соблазне порока. Он обрушит в этой речи все свое презрение на слабые души, упившиеся алчностью и лихоимством, он заклеймит вечным позором спекуляцию, покажет всю мерзостность наживы. В противовес этому он восславит простоту и скромность добродетели, несущей награду в самой себе. Он возвысит, вознесет непреходящую ценность такой добродетели для человеческого рода. Он сделает это так, как делает всегда. Нет, он не посягает на собственность, — это унизило бы его. Он просто презирает собственность, и он научит этому презрению других — тех, кто раскроет ему свои души, тех, кто захочет внять его словам и проникнуться возвышенным смыслом, таящимся в самой глубине этих слов, в самой их сути. Ибо есть ценности, более возвышенные, чем пошлое богатство, и есть истинная добродетель, заключающая в себе как составные части доброту, веру в провидение, пекущееся о нас каждое мгновение, самоотверженность и и бескорыстие. О, он не обольщается нисколько. Еще немало тех, кто мишурный блеск нечестно нажитых богатств предпочитает незапятнанной совести бедняка. Как много еще таких, чья душа очерствела, заскорузла в неотмываемой грязи стяжательства. Да, их очень много, в их души, почти погибшие, уже проник червь порока, и огонь, который он, Робеспьер, разжигает, не для них. Этот огонь предназначен Для чистых душ, и только в них должен он проникать. Ибо они, эти чистые души, и есть основное богатство, достояние, сокровище нации; лишь для них он живет, сжигая свою жизнь на огне, который сам и зажег. И он будет светить, сгорая, пока не высветит для всех чистых душ далекую и желанную цель — царство добродетели.
Он почти закончил свою речь. Перед тем как закончить ее совсем, он перечитывает все написанное, затем отдельные части, обороты, слова. Тщательно отделывает мельчайшие детали. Он произносит эту речь про себя и чувствует, как простые, внешне холодные слова зажигают его душу неукротимым горением. Он ощущает в этих словах тот жар, то пламя, которое призвано зажечь ответный огонь в других сердцах.
Он доволен. Ему остается только закончить эту речь. Нужна одна, последняя фраза. Для него эта часть работы труднее всего остального, ибо он, как писатель, знает: в памяти всегда остается именно последняя фраза. Поэтому в ней, в последней фразе, должен быть сконцентрирован не только смысл всего сказанного ранее, но и содержаться тайный зародыш будущего. На отдельном листке Робеспьер пишет несколько вариантов этой последней фразы, затем читает их, — пишет еще несколько и вновь зачеркивает. Он не может найти тех единственных слов, которые ему нужны. Придется отложить, решает он, и опускает перо. Он знает: это либо приходит сразу, либо некоторое время спустя. Он не волнуется. Нужное ему сочетание слов появится, как только наполнится колодец, который он сейчас вычерпал до дна. Он откидывается на спинку стула. Он закрывает глаза и сидит. Так он отдыхает перед тем, как продолжить работу.
А эту последнюю фразу он допишет позднее.
Работа. Ей нет конца. Она бескрайней океана, он же — одинокий пловец, дерзнувший бросить вызов стихиям. Сила разума и вера в провидение поддержкой ему в этом нечеловеческом труде.
Воспаленные глаза слипаются. В голове у него шум, постоянный, не прекращающийся вот уже много дней. Все существо его, каждая клетка тела молит об отдыхе. Но дух, заключенный в этом теле, столь же могуч и непреклонен, сколь слаба и немощна плоть.
Работа.
Он подвигает к себе письма. Их много, очень. Десятки, может быть, сотни писем — зеленые, серые, белые, розовые конверты, со всех концов Франции, из всех ее восьмидесяти трех департаментов. От частных лиц, от знакомых и незнакомых людей, от патриотических обществ, от клубов, из армии, из-за границы. Длинными худыми пальцами трогает Робеспьер эти конверты. В них — он знает — надежды, сомнения, угрозы, проклятья, восхваления, упреки, все содержимое человеческих душ. Минута, одна еще минута отдыха, и он погрузится в этот мир, в течение этого опасного стремнинами потока, одинокий по-прежнему пловец, которому вера в предначертанный ему удел не позволяет опустить в отчаянии руки. Тяжкая необходимость, равная безвыходности, заставляет его каждый раз вступать в единоборство с не знающей усталости стихией, и, хотя у него нет иного, кроме победы, пути, каждый миг исполнен колебания. И даже тяжкая сладость победы приносит ему с каждым разом все менее надежд. Вот и эти письма будут прочитаны, и ответы, как это было уже не раз и не сто, будут даны до того, как он разрешит себе подняться из-за этого стола. Это произойдет, возможно, через три часа, но, может быть, и через пять. Он положил собственной рукой отвечать на все адресованные ему письма, и раз таково его правило, он не изменяет ему ни разу. Письма — это пульс страны. А он, ее врач, в ответе за нее перед той силой, что вручила ему Францию и вознесла его столь высоко.
Он вскрывает первое письмо, аккуратно надрезав конверт. Но еще до того, как им прочитаны первые строчки, раздается условный стук. Робеспьер знает одного лишь человека, которому доверен этот условный стук-предупреждение. Он откладывает в сторону непрочитанное письмо. Он ждет этого человека.
Этот человек входит. Он появляется в дверях неслышно, словно некий бестелесный дух. На нем серая шерстяная накидка, прикрывающая нижнюю часть лица. Молча подходит он к столу и кладет на него несколько листов бумаги. Затем так же молча он берет стул, придвигает его к стене, садится; при этом кажется, что тело этого человека состоит из множества отдельных частей и, не будь между ними какой-то невидимой связи, оно развалилось бы на глазах. Точно так же, не говоря ни слова, Робеспьер берет бумаги, исписанные безликим каллиграфическим почерком. В этих бумагах — отчет его личного агента Герона о наиболее важных, а также и о второстепенных происшествиях вчерашнего вечера и сегодняшней ночи. Так, Робеспьер узнает о заседании Трибунала, о последствиях доноса Лафлотта, о приговоре присяжных. Узнает он также о некоторых словах, произнесенных членом Комитета общественной безопасности Амаром, о тех его словах, в которых говорилось, чей черед настает после смерти Дантона. Прочел и запомнил эту часть доклада. Почти не обратил внимания на имя полковника Марешаля, убитого при попытке к бегству, когда его везли к Люксембургской тюрьме. Некоторое время Робеспьер смотрел на эти листки, борясь с собой, затем отыскал то место, где приводились слова Амара, и прочитал их еще раз. Ничто не изменилось в его лице, и, если бы в комнате был посторонний наблюдатель, он не смог бы понять, как относится Робеспьер к этим, ставшим ему известными событиям. Он спрятал доклад Герона и поднял взор. Герон сидел на стуле сгорбившись, сложившись, до конца уйдя в свою накидку. Он спал. Так прошло несколько минут. Затем Герон проснулся. Он стал распрямляться, и опять это вышло так, как если бы он состоял из отдельных частей и вот теперь эти части распрямлялись в строго согласованном порядке одна за другой. Наконец распрямилась последняя часть и он поднялся. Несколько мгновений две пары глаз смотрели друг на друга взглядом, который не нуждался в словах. Одни глаза были желто-зеленые, обведенные красной чертой, другие, обведенные такой же чертой, были ярко-серыми.
— Это был трудный день, — произнес наконец Робеспьер, и голос его, обычно такой резкий и звонкий, был до удивления мягок.
— Да, — так же мягко ответил ему Герон, — Да, Максимилиан. Это был очень трудный день.
Он стоял и морщил лоб. Что-то он хотел еще вспомнить, но то ли не мог, то ли колебался. Он пошел, остановился, сунул руку в карман. Достал оттуда скомканный, но расправленный лист бумаги. Вернулся, положил лист на стол и, уже не оборачиваясь, вышел так же бесшумно, как и вошел.
Не отрываясь, смотрит Робеспьер на этот лист. Неуверенным, почти робким движением берет его в руки. С одного взгляда узнает он этот слишком хорошо ему известный, тонкий, сильно наискось летящий почерк. И вот, придвинув свечу, Максимилиан Робеспьер читает слова, которые восемнадцать столетий тому назад Марк Юний Брут написал Марку Туллию Цицерону: «Nimium timemus mortem et exhilium et paupertatem» — написано на смятом белом листе. — «Мы слишком уж боимся бедности, изгнания и смерти».
С первыми лучами солнца десятки тысяч людей двинулись к тюрьме Консьержери. Похоже было, что в эту ночь Париж не ложился спать и с трудом дождался рассвета. Трудно сказать, каким образом стало известно всем этим людям о приговоре, вынесенном присяжными лишь в пять часов утра. Однако об этом знали все. Пять тысяч постановлений Трибунала, заблаговременно отпечатанные предусмотрительным типографом Никола, разошлись, были разобраны, расхватаны в течение нескольких минут. Расклейщики не успевали даже намазать их клеем — желтоватые листки с крупно отпечатанным шрифтом буквально вырывали из рук, и тут же, на месте, они перепродавались сначала по два су, затем по пять, по восемь, по десять…
Это и в самом деле было внушительное зрелище — тысячи людей, нарядившихся, как на праздник: мужчины и женщины, старые и молодые, идущие поодиночке и семьями, целыми домами, кварталами. Печатники из секции Французского театра, торговцы из секции Четырех наций, священники из секции Люксембурга, садоводы из секции Инвалидов шли рядом с бывшими аристократами из секции Гренельского фонтана и слесарями из секции Рюль. Отдельно, из гордости не смешиваясь ни с кем, шла беднота из северо-западных предместий. А проститутки, представлявшие секцию Пале- Рояль и называвшие себя торговым классом, шествовали бок о бок с дюжими мясниками из секции Арси. Бесконечным потоком двигались стекольщики и плотники, писатели и лавочники, стеклодувы и золотых дел мастера, скорняки и белошвейки. Шли люди самых отдаленных окраин, самых противоположных политических убеждений, самых различных имущественных цензов — шли рядом друг с другом, толкались, шумели, ругались, смеялись, говорили, спорили, жевали, взвизгивали, всхлипывали, пели. Спешили, убыстряли шаг, чтобы не опоздать, чтобы увидеть, как повезут на казнь девятнадцать человек, этим утром приговоренных к смерти. Чтобы увидеть, как повезут в огромных, хорошо всем известных повозках людей, еще несколько дней назад составлявших гордость нации. И похоже, что именно это желание увидеть своими собственными глазами, как люди, еще недавно вознесенные на недосягаемую для большинства смертных высоту, на глазах тысяч будут низвергнуты с этой высоты во прах, в ничто, именно это желание и объединяло таких непохожих во всем остальном людей в едином порыве, заставившем их, пренебрегая ежедневными привычками, подняться в такую рань и тащиться через весь город к дворцу Правосудия.
Когда же они подходили, приближались к дворцу Правосудия, к Консьержери, оказалось, что они, поднявшиеся в шесть часов, поднялись слишком поздно или слишком медленно. Не только сам двор, который примыкал к воротам тюрьмы, но и все прилегающее пространство было уже битком забито пришедшими еще раньше и занявшими самые лучшие места. И опоздавшим оставалось только одно — занять то место, которое было еще свободным. И народ занимал свободные места, выстраивался плотными рядами, по всему пути следования: сначала была забита улица Монни, затем улица Оноре, и так на всем протяжении от Нового моста, где самые предприимчивые забрались на постамент низвергнутой конной статуи короля Генриха Четвертого, и до площади Революции, где стояла уже освобожденная от чехлов гильотина. Люди устраивались поудобней, располагались надолго. Вынимали бутерброды и бутылки, громко переговаривались возбужденными голосами, искали и находили знакомых, друзей, родных. То здесь, то там вспыхивали и гасли слова и мелодии песен. Шныряли расхожие торговцы, предлагая свой немудреный товар: оранжад, конфеты, пирожки. Торговля шла отлично: такой день, как этот, стоил месяца в любое другое время. Подкрепившись и устроившись, люди начинали говорить, конечно же, об участниках сегодняшнего представления. Чаще других слышны были и назывались имена Дантона, Демулена, Эро де Сешеля, Филипо… Самые противоречивые сведения, самые фантастические подробности и предположения обсуждались с интересом, с азартом, страстью. Заключались пари: спорящие пытались угадать, кто поедет в первой повозке, кто во второй, кто в третьей или кого казнят первым, а кого последним. Кое-где даже на почве расхождения во взглядах возникали драки, которые, впрочем, тут же пресекались национальными гвардейцами. Утро было прекрасным, чуть свежим, но теплым и безветренным, и оттого все происходящее и впрямь походило на радостный народный праздник, на торжество.
В самых первых рядах, прямо у входа в тюремный двор, сидели женщины неопределенных лет с бесконечным вязанием в руках. Это были трикотессы, вязальщицы, или, как их еще называли, «фурии Робеспьера». Бесконечно, фанатически преданные своему кумиру, они раньше всех пришли к тюрьме, чтобы увидеть гибель врагов Робеспьера. От них- то и расходились по необъятной толпе все сведения, ибо не было такого, чего бы они не знали. Казалось, они обладают сверхъестественной способностью, позволяющей им видеть даже сквозь стены. От них стало известно, что приговоренные находятся в камерах второго этажа, что приговор им еще не объявлен и что это произойдет ровно в десять часов в помещении арестантской. Что специально для этого случая прибыли и находятся внутри такие видные деятели Республики, как члены Комитета общественной безопасности Бадье и Амар, а кроме того председатель Трибунала Герман, мэр Парижа Флерио-Леско и другие; что государственный обвинитель Фукье-Тенвиль уже оправился от приступа лихорадки, поразившей его так внезапно, и что каждого приговоренного до самого помоста будут сопровождать два национальных гвардейца.
В девять часов раздались громкие крики — это одна за другой, с трудом пробиваясь сквозь густую толпу, въехали три огромные повозки. Несмотря на страшную тесноту, вокруг них сразу стало пусто, и они стояли во дворе, у решетки. напоминая странных и страшных животных. Раздвигая галдящих женщин широкими плечами, мрачный Шарль-Анри Сансон, одетый в парадную форму, прошел и скрылся за резной оградой. С этой минуты сам собой шум стал стихать. Он становился все тише и тише… и вот уже на огромном пространстве от тюрьмы Консьержери до площади Революции наступает тишина.
Эту ночь каждый из них провел в отдельной камере. Это были самые лучшие камеры во всей тюрьме Консьержери, и у них был только один недостаток — в них помещались приговоренные к смерти. Но в данном случае приговор им объявлен не был, и все они, насильственно изъятые из процесса, ничего не знали, да и не могли ничего знать о том, как он развивался далее. Поэтому они могли считать себя людьми, чья судьба, чье будущее еще вовсе не решено окончательно. После многих часов заседаний и допросов они упали, они рухнули на сухие, почти мягкие тюфяки и уснули, словно умерли, истощив запасы физических и моральных сил. Их никто не тревожил и не будил, и те несколько часов, что удалось им проспать, вновь вернули им силы, а вместе с силами вернулись и надежды.
Ранее других проснулся Камилл Демулен. Его разбудил яркий луч, проникший в камеру через узкое прямоугольное отверстие в стене, заменявшее окно. Он просыпается с улыбкой — и чистый поток света только укрепляет в нем радостное предчувствие доброго окончания всех его злоключений. Он совершенно уверен, что отныне, с этого часа все дурное уже позади. Он вспоминает события, происшедшие в последние несколько дней, — нелепые, страшные события. И все же они кончились, кончились благополучно. Сама природа подтверждает его догадки: в такое светлое, удивительно ясное весеннее утро ему радостно думать о том, что мрачный сон прошел. Себе он признается — с самого начала несчастий он верил в свою звезду. Он не знал, откуда и каким образом придет к нему спасение, но в том, что оно придет, даже пусть в самую последнюю минуту, он не сомневался. И он, оказывается, был прав. Процесс окончен, а они живы и здоровы.
Это могло означать только одно — судьи ничего не смогли добиться. Да и присяжные, среди которых были его и Дантона лучшие друзья, такие, как Топино-Лебрен и Субербиель, не могли вынести никакого иного приговора, кроме оправдательного. Но главное, что повлияло на присяжных — и эта мысль приходит Демулену в голову внезапно, как озарение, — это, конечно, вмешательство Робеспьера.
Да, именно в этом была главная причина столь неожиданного, но от этого только еще более торжественного и радостного конца — заступничество Робеспьера. Безусловно, Максимилиан был совершенно не в курсе дела. Не исключено даже, что он и совсем не знал о возмутительном фарсе, который разыгрался в Трибунале, а едва узнав, тут же, хотя и с опозданием, принял самые решительные меры. Ну конечно, так оно все и произошло. Не мог же Робеспьер даже на одно мгновение поверить в то, что он, Демулен, или Дантон контрреволюционеры. Конечно, он не сомневался в их честности и невиновности, как не сомневался и в той любви, в том искреннем уважении, которые питал и сейчас питает к нему Демулен. Не мог он, не изменив самому себе, забыть всего того, что связывало их обоих с детских лет. Ведь еще в коллеже Людовика Святого, где они вместе проучились несколько лет, Робеспьер более всего дорожил и гордился прозвищем Справедливый. И теперь, в этот теплый солнечный день, он и его товарищи находятся в преддверии свободы.
И Камилл Демулен чувствует, как поет в нем от радости каждая клеточка тела, живого, здорового тела с густой, горячей кровью. Он закрывает глаза и предается сладостным мечтам о возвращении на свободу. Он признает, что был кое в чем не прав. Он погорячился. Не должен был он нападать на Робеспьера, это ему ясно. Он испытывает теперь угрызения совести. Вместо того чтобы помочь другу, он мешал ему. Что ж, он не из тех, кому преподанные уроки не идут на пользу. Для него эти несколько дней в середине жерминаля не прошли впустую. За эти несколько дней он повзрослел, он проникся всей важностью и сложностью задач, которые надо будет решить им обоим — ему и его великому другу Максимилиану Робеспьеру. Теперь уже никогда из пустого ребячества, из желания блеснуть не станет он задевать щепетильного Максимилиана. Его перо снова станет одним из самых грозных орудий революции, и снова их имена — Демулен и Робеспьер — будут упоминаться вместе, как некогда, внося в ряды врагов Республики трепет и страх.
А Люсиль — Люсиль по-прежнему будет его путеводной звездой…
Тюремщик Латур, стоя у глазка в массивной двери, не без сострадания глядит на худого черноволосого человека, шепчущего что-то с радостной улыбкой на угловатом желтом лице. Тюремщику Латуру дано указание — без особого шума, поодиночке препроводить осужденных вниз, в арестантскую комнату, где представители народа зачитают им приговор. И все же, несмотря на строгий приказ, тюремщик Латур медлит еще некоторое время. Он медлит, потому что он добрый человек, и еще потому, что он понимает — теми секундами, что он простоит у глазка камеры, он продлевает осужденному жизнь. Когда б то было в его власти, он подождал бы много больше, но это не в его власти. Он маленький человек, он лишь выполняет распоряжения других. Поэтому он открывает дверь в камеру, знаком подзывает Демулена, объясняет: ему надо спуститься вниз. Больше он ничего сказать не может.
Но Демулену и не требуется ничего больше. Стараясь сдержать буйную радость, Демулен наскоро совершает туалет. Вот и начали сбываться добрые предзнаменования, и теперь он делает первые шаги к свободе. Он выскальзывает за дверь. Неужели уже девять часов? Ах, какой он соня — проспать такое утро! Его буквально распирает от радости. Даже мрачный каменный коридор, которым они идут, кажется ему совсем не мрачным. Тысячи вопросов у него на языке, но он подождет, подождет… Он вовсе не сердится на милейшего гражданина Латура, наоборот, он готов прижать его к груди, ибо мрачный тюремщик кажется ему сейчас счастливым посланцем богов. Поворот, еще один, и еще. Вниз по лестнице. Дверь. Рывком отворяет он эту дверь. За дверью он видит Амара, Вадье, Германа, Дюкре, Флерио- Леско и Коффингаля.
Эти шестеро вовсе не походили на посланцев свободы. Молча переводит Демулен взгляд с одного лица на другое. Но лиц этих он не видит — только белые плоские маски с провалами вместо глаз. Он еще не пришел в себя. Он стоит, весь дрожа, в ознобе. Он смотрит. Одна из масок — он не мог определить какая — выступает вперед. В руках у маски — листок. Единственное, что Демулен может разобрать, это цвет листка — желтовато-белый. Маска открывает рот. Вялые, невнятные звуки, лишенные всякого смысла, наполняют комнату. Похоже, что квакает лягушка, но не громко, не пронзительно, а сонно, кое-как. Демулен продолжает дрожать. Он стоит, склонив набок голову. С недоверчивым любопытством, с удивлением смотрит он на этот спектакль масок. Он здесь на положении зрителя, которому этот спектакль показывают насильно, для него самого он неинтересен. Он так ничего и не понял из квакающего, смятого голоса. Он поворачивается, он хочет уйти. В ушах у него тонко звенит. Растерянно озирается он вокруг, потеряв ориентир, — в этой страшной комнате так много дверей. Маски смотрят на него дырками глаз, затем показывают — налево… И правда, налево, там дверь. Демулену дурно. Прикрывая рот рукой, он быстро идет к этой двери, входит — и тут же делает шаг назад. Он попал не туда, ему нужен выход. Он видит небольшую продолговатую комнату, из которой нет выхода. Посредине комнаты стоит стул, а вокруг него четверо мужчин в зеленых жилетах, белых рубашках, черных галстуках. Один из четверых держит в руках ножницы. Демулен пятится. Он пятится до тех пор, пока спиной не прижимается к закрытой двери. Безумный страх охватывает его. Затем приходит ярость. Он в ловушке. Только это он и может сейчас понять — в ловушке! Его заманили, предали, обманули. Но так просто он им не дастся. Он дорого продаст свою жизнь. Он улыбается нехорошей длинной улыбкой, лицо его становится жестким, он оскаливает зубы. Он пригибается. Теперь он похож на хищника, попавшего в капкан. Тело его напрягается, становится легким и послушным, движения мягкими и точными. Они подходят все ближе. Еще ближе, еще. Одним прыжком он бросается на крайнего, опрокидывает его, бьет, душит. О, упоительное сознание силы, ощущение мести! Он счастлив. Трое дюжих мужчин набрасываются на него, пытаясь оторвать от жертвы, он вскакивает, расшвыривает их. Хлопает дверь, на помощь приходят еще трое. Из-под груды тел доносится полузадушенный рев Демулена. Шестеро человек с трудом опутывают его веревками и усаживают наконец на стул. Шарль — Анри Сансон чувствует, как затекает у него левый глаз, — он прикладывает к нему ножницы. В комнату один за другим входят национальные гвардейцы; беднягу Пьера уносят на руках. Сансон подходит к стулу и коротко обрезает черные мягкие волосы Демулена, обнажая тонкую белую шею, — это и все, чего он хотел. Демулена поднимают со стула, он весь опутан веревками, его одежда превратилась в лохмотья.
В эту минуту раздается громовой голос Дантона.
— Плевать я хотел на ваш приговор! — громыхает он. — Нас, революционеров, судит потомство. Вот почему оно поместит наши имена в Пантеоне, а ваши — сгниют в дерьме.
— Бей их, Дантон! — кричит Демулен и снова бросается на врагов, которым не помогут их маски. Он связан, но зубы v него еще остались. Он почти достигает цели, когда удар по затылку бросает его в темноту.
Уже девять часов утра. И даже одиннадцать — и ничего не происходит. Толпе надоедает молчать. Она ропщет, и она права — зря, что ли, собрались сюда люди со всего Парижа? Чего они там тянут? Скажите им там! Что слышно? Приговор? Ну, давно пора. Значит, теперь уже скоро. Трикотессы, вязальщицы, которые обладают способностью видеть сквозь стены, передают по цепочке — сейчас выведут. И правда, выходят национальные гвардейцы с ружьями наперевес, десять, двадцать, сорок человек. Став плечом к плечу, они образуют сплошной темно-синий коридор. Этот коридор начинается у выхода из арестантской и кончается у повозок, и вот уже по нему идет первый. Это Демулен. Он окровавлен, вместо рубашки — лохмотья, губы разбиты, слева и справа от него, как братья, гвардейцы. За Демуленом идет Дантон. Он не глядит по сторонам, на его лице, как приклеенная, застыла презрительная усмешка. Идет Эро де Сешель, идет Фабр д’Эглантин, назвавший сегодняшний день Днем латука. Идет испанский гранд первого класса Гусман, чьи предки завоевали Америку; сам он хотел умереть за свободу, и теперь умирает. Идет биржевой игрок и спекулянт Эспаньяк, которому так мало могут помочь сейчас его миллионы, несут Шабо, принявшего яд, но неудачно. Понуро идут банкиры Фрей… Примкнув штыки, гвардейцы очищают место вокруг повозок. Толпа волнуется, теснит, смотрит, кричит, ревет. «Фурии Робеспьера», не прекращая движения спицами, выкрикивают грязные ругательства, которые с одобрительным смехом подхватываются толпой. Представители народа, опоясанные трехцветными шарфами, появляются на возвышении перед дворцом Правосудия — их встречают оглушительными приветствиями. Да здравствует Республика!
Помощник палача последний раз пересчитывает осужденных — счет сходится. Шарль-Анри Сансон взбирается на первую повозку и подает знак. Национальные гвардейцы идут вплотную к повозкам, рискуя угодить под колеса. Крики растут, ширятся, крепнут, шеи вытягиваются. Отцы поднимают над толпой своих детей. Ослепительно светит солнце. Медленно, оставляя на влажной весенней земле глубокую колею, движутся огромные повозки, в которых вместе с гвардейцами стоят приговоренные к смерти.
Жадным рыщущим взглядом смотрит на море лиц Камилл Демулен. Куда бы ни обращал он взор, всюду он видит одно — радостно-грубоватые простые лица, раскрытые в крике рты, горящие простодушным весельем глаза. Ни на одном лице он не видит сожаления, возмущения или хотя бы сочувствия. Неужели это те самые люди, которых он, Камилл Демулен, всего пять лет назад повел на штурм Бастилии? Этого не может быть. Это не они. Те не забыли бы, не предали бы своего лучшего друга в руки палача. Они отдали бы свою жизнь, чтобы спасти его. Он думает так изо всех сил, но из самой глубины его существа выплывает неотвратимое понимание — это все же они. Тогда он обращается к этим лицам. Хриплым, задыхающимся голосом он взывает к их памяти в последней надежде. В ответ он слышит добродушные, грубоватые шутки и необидный, чуть смущенный смех. Этот смех лишает его последних сомнений — это действительно они. Он узнает смех — с ним эти люди шли на смерть в тысяча семьсот восемьдесят девятом году, а он шел впереди. Теперь они посылают на смерть его. Он им больше не нужен. Он бьется и стонет, крупные слезы текут по впалым желтым щекам. Это еще усиливает добродушные шутки и смех.
— Дантон, — кричат из толпы, — утри ему слезы, пока это не сделал Сансон!
Дантон, у которого руки связаны за спиной, стоит неподвижно. Он глядит прямо перед собой. Теперь он наклоняет свою большую голову к Демулену.
— Не обращай внимания на эту подлую сволочь, — говорит он и снова застывает, недвижим.
Взгляд его устремлен вперед, поверх голов, он похож на орла, высматривающего видимую только ему одному цель. Наконец он видит ее. Тогда он снова, во второй и последний раз, наклоняется к Демулену и что-то шепчет. И вот они уже оба смотрят на маленький двухэтажный дом на улице Оноре, мимо которого они сейчас поедут. Здесь во втором этаже находится комната Робеспьера. Окна дома наглухо закрыты ставнями. Он кажется покинутым, брошенным, нежилым. Этот дом словно старается уйти от взглядов людей, спрятаться, исчезнуть из вида. Повозки, скрипя и переваливаясь, равняются с домом. И тогда голосом, слышным на многие десятки метров кругом, голосом, покрывшим все остальные звуки, Дантон кричит:
— Робеспьер, — кричит он, — подлый трус! Посмотри в лицо революции, которую ты предал!
Медленно ползут повозки. Тому, кто находится в доме, должно казаться, что они не движутся вовсе. И вот уже похоже, что маленький двухэтажный дом съёжился от этого громоподобного голоса, что время остановилось и вместе со временем остановилось все — толпа, повернувшаяся к дому номер триста шестьдесят шесть, и сами повозки, и нечеловеческий голос, проникающий прямо в сердце, минуя все препоны.
— Робеспьер, — вещает этот голос, — скоро ты последуешь за мной. Ты последуешь за мной… Ты последуешь за мной…
Нет, время не останавливается, оно бежит стремительно, неудержимо. Красные повозки уже давно миновали дом номер триста шестьдесят шесть, в котором, казалось, никто не живет. Они едут дальше, и движение огромных медленных колес столь же неотвратимо и стремительно, как само время.
Неотвратимо движутся повозки, и уже бесполезно даже выворачивать шею, чтобы еще раз, самый последний, крикнуть:
«Ты последуешь за мной, Робеспьер!».
Неотвратимо.
Движется время, движутся повозки, движется толпа.
На другой конец Парижа в карете движется секретарь военного министерства Броше. Он спешит к своей жене Марго, ожидающей ребенка.
В морге тюрьмы Люксембург с биркой на ноге лежит полковник Марешаль.
Вместе с товарищами по секции Французского театра идет на площадь Революции расклейщик Марешаль. Как и все, он поет революционную песню.
В своей «кошачьей западне» сидит, подогнув колени, бывший генеральный прокурор Коммуны Пьер-Гаспар Шометт, тридцать один год. Ему осталось сидеть так еще пять дней, после чего он будет казнен.
В доме номер шесть по улице Серпент государственный обвинитель Фукье-Тенвиль пьет вино с неким Деме, называющим себя юристом, и его любовницей по имени Жартен.
В бедно обставленной комнате, повалившись ничком на кровать, спит, укрывшись серой шерстяной накидкой, усталый человек по имени Герон.
В доме номер триста шестьдесят шесть по улице Оноре одинокий человек с лицом, зеленым от недосыпания, пытается удержать в руке прыгающее перо. Несколько раз он прикладывает его к бумаге, стараясь унять дрожь, шея его конвульсивно двигается и голова откидывается назад, как у куклы, но он этого не замечает. Наконец он собирает всю свою волю и останавливает дрожание руки. Перед тем как вывести первое слово, он долгим взглядом смотрит на лежащий перед ним смятый лист бумаги с написанными на нем словами Марка Юния Брута: «Мы слишком уж боимся бедности, изгнания и смерти». Неподвижным, застывшим взглядом смотрит Робеспьер на эти слова.
Затем рука его опускается, и перо, переставшее прыгать, выводит на бумаге последнюю, заключительную фразу той речи, которую Робеспьер произнесет сегодня. Ровным, твердым, аккуратным почерком он пишет:
«РЕВОЛЮЦИЯ НЕ УМИРАЕТ, ПОКА В ЖИВЫХ ОСТАЕТСЯ ХОТЯ БЫ ОДИН РЕВОЛЮЦИОНЕР».
1984 г.
Покидая Эдем
Памяти
Михаила Леонидовича Слонимского
Судьбы ведут тех, кто хочет,
и тащат тех, кто не хочет.
СенекаТамара сумела дозвониться до Блинова только после двух, почти в конце смены, хотя об этом, о дне рождения, и о том, что надо позвонить, знала и думала еще с утра. Или нет — знала и думала она об этом всегда, только знание это сидело в ней невидимо и тихо, словно кукушка в часах — пока не приходило время. А потом срабатывал механизм, освобождалась какая-то пружинка — так это и было с самого утра.
Она проснулась за секунду, за мгновенье до того, как должен был прозвенеть будильник. Когда она нажала в темноте на кнопку ладонью, он попробовал было издать первый полузадушенный звук — но было уже поздно. И тут, лежа в темноте, в эти самые первые в новом дне пять минут, когда вся она равно принадлежала зыбкому, уходящему, расползающемуся, но еще не ушедшему миру сна и подступающему, однако не подступившему окончательно миру обязательных забот нового ее дня, в эти единственные, пожалуй, безраздельно и бесконтрольно принадлежавшие ей пять минут — от пяти тридцати до пяти тридцати пяти, она и почувствовала вдруг, как сработала в ней та самая пружинка, от которой распахиваются створки крохотных дверок и кукушка памяти, выскочившая из темноты, отсчитывает время столько раз, сколько показывают стрелки на часах. Ну а в этот день, в это утро, она, кукушка, должна бы куковать до сорока.
Так вот она и вспомнила об этом, о дне рождения, тут она и поняла, что надо позвонить ему, и тут же поняла и другое: что она и не забывала никогда и только ждала, чтобы все произошло само собой — может быть, для этого и требовалась цифра «сорок». А так она не забывала и в тридцать девять, и в тридцать восемь, и вообще никогда, пусть даже последний раз кукушка напомнила ей об этом пять лет назад. Она не забывала, и забыть не могла, даже если бы очень захотела, потому что кукушка эта каждый раз куковала и для нее самой; только если для него, для Кольки, она должна была, как вот сегодня, выбиваясь из сил, куковать, выскакивая из дверок, сорок раз, то для нее самой — всего на два каких-то раза меньше. И выходило, что, думая о нем, о Кольке, Николае Николаевиче Блинове, который спал сейчас в своей квартире, она по существу просто думала о себе. О себе и о своей жизни, в которой он, Колька, пусть даже он был ей не родным, как Пашка, но — она признавалась в этом с непонятным ей самой смущением, да и то лишь самой себе, — был для нее родней родного. Да, она и Колька были всегда рядом. Рядом и вместе, как пальцы на одной руке. А что один палец чуть меньше, а другой чуть больше — не меняло ничего.
Всегда. С того самого момента — ей семь, а ему девять, — что она помнила себя; с того мелькания в открытых дверях теплушки, мелькания необозримых, желтых под солнцем пространств, проносящихся мимо; мелькания лиц, сосредоточенных и суровых; мелькания вокзальных станций — одним словом, с войны и только с нее. Та жизнь, что была до войны, если и помнилась ей, то смутно, каким-то одним пятном, одним мазком, разноцветным и ярким — цвета перемешаны, линии потеряли очертания, события наползали на события, так что она и тогда уже, а теперь и тем более не знала, не сумела бы отделить, что из того, довоенного, она видела сама и что представила и вообразила, слушая рассказы взрослых. Но (и это она знала совершенно точно) с тех пор, как она действительно могла полагаться на свою память, то есть с самой войны, с эвакуации, с теплушек, идущих на восток, она не помнила дня, чтобы рядом так или иначе не было Кольки. А еще точнее, чтобы она упустила случай самой быть рядом с ним, долговязым, веселым, стремительным. А Пашка? Пашка тоже был рядом — но он был другой; то есть он был свой, родной, единокровный, но, может быть, именно потому всегда заслонялся Колькой, что никуда и ни при каких обстоятельствах не мог уже деться. Пашка был другой: тягун, тяжелодум и упрямец, которому все бы наперекор и по-своему, и все б на месте. Он был похож на отца — так же тянуло его в мастерство, к тому, что можно делать руками, что можно резать, строгать, прибивать, вытесывать. А они, она с Колькой, всегда были на бегу, как на крыльях, и всегда рядом — приходилось ли бежать вдоль путей, собирая в ведерко осыпавшийся с проходящих поездов уголь, черный и блестящий антрацит, или сражаться против мальчишек с Третьей Парковой, с которыми все время шла война в пристанционном поселке. Или идти в Старый город — проехать до Нового города на верхней полке вагончика, а потом незаметно выскочить на ходу и бродить весь день между глиняными выщербленными дувалами, где в глубоких норах отсиживались до вечерней прохлады темно-зеленые огромные скорпионы.
Всегда вместе. Играть ли в альчики — в бабки, — бросая бараньи, начиненные свинчаткой, кости, или в лянгу, как они в то время называли маялку. И тут у нее, как у всякого заядлого, уважающего себя игрока, была своя, по ноге, маялка — маленький кусок кожи, вырезанной тайком из бараньей шкуры, валявшейся на дворе, с мехом вверху и тонкой свинцовой пластинкой, подшитой к коже, так что когда от удара ноги маялка взлетала, а затем опускалась, она была похожа на маленький парашют; не дав ей упасть, надо было снова поддать ее вверх — снова и снова, и не только перед собой, но и, выворачивая ногу, из-за спины, а то еще и с поворотом — сто и двести раз, а то и триста, пока не заломит в паху или не сведет ногу.
Всегда. Даже если в этом не было большой нужды. Даже если они просто бежали на базар, который расползался на необозримое пространство, поражая и подавляя взор неправдоподобным сочетанием цветов, — огромный базар с горами арбузов, похожих на полосатые темно-зеленые ядра, дынь, аромат которых можно было ощутить за версту, с корзинами винограда — любого, какой только мыслим, начиная от крошечных, меньше горошины, виноградинок кишмиша до непривычно длинных и желтых дамских пальчиков; с корзинами персиков — круглых или плоских и с горами тонких узбекских лепешек, покрытых от пыли пестрыми платками. Да, восточный базар, да еще с поправкой на время, на лето 1943 года со всеми его недоступными соблазнами: это шум, это инвалиды с красными и желтыми полосками ранений на защитных рубашках, спекулянты, продающие сахарин в маленьких бумажных пакетиках, гадалка с попугаем, какие-то темные жучки, предлагающие простакам сыграть в три листика, цыганки, торгующие самодельными леденцами. А иногда к этому присоединялся еще и рев заезжего зверинца — и тут уж было им раздолье. Тем более что узбеки никогда не жадничали, всегда узнавали их, эвакуированных, так что здесь можно было без особого риска и напробоваться, и наглядеться, а другой раз и подзаработать трешку — то ли постеречь, то ли поднести, то ли позвать… А после базара, напробовавшись и насмотревшись, вся банда — Колька, и Томка (ему одиннадцать, ей девять), и Япон (который вовсе не был Японом, его имя было Самвел, но об этом они узнали много позже), и Ромка, и Вартан, который потом, год спустя, умер от укуса змеи, и еще ребята, но больше ни одной девчонки, — все они бежали купаться либо на Большой арык, либо ныряли в зеленую воду какого-нибудь хауза, где кроме них уже плескалось несколько совершенно голых ребятишек. А затем, обсыхая на ходу, они шли смотреть, как проходит через город караван мохнатых, коричневых, плюшевых гордых верблюдов с колокольчиками на шеях, ведомый маленьким белым осликом.
А потом они возвращались к себе в пристанционный поселок, где осело большинство эвакуированных, к себе в поселок и в свой двор, и тут только мальчишки под любым удобным предлогом спешили отделаться от нее; для того, она знала, чтобы, укрывшись в дальнем конце двора, за старой черешней или толстым и старым тутовым деревом, курить «козьи ножки», крутя их из газеты, а потом, накурившись до кругов в глазах, прятать остатки табака или махорки в дупле тутовника.
Однажды они нашли на земле между бочками свернутые трубочкой пятьсот рублей — десять зеленых пятидесятирублевок. И тут уж был пир: даже после того, как ровно половину они отдали — пусть даже не без некоторых колебаний — маме Шуре, остатка вполне хватило на все и на всех. Тут уж они от пуза наелись и золотистых, тающих во рту лепешек, сложенных высокими стопками под темными плотными платками, и винограда, и персиков, и инжира, и леденцов, которыми торговала у входа на базар огромная усатая цыганка, вся в золоте и драгоценных каменьях; тут уже всем хватило — и Пашке, конечно, и Япону, хотя, конечно, Япон был задавала и все хвалился своими мускулами и тем, что может свободно ходить на руках хоть полчаса, хоть час, и другим.
Всегда вместе, рядом — и тогда, и много, много позднее. И ни разу они не поругались, не поссорились — за исключением разве того случая с черепахой. Когда Колька поспорил с Японом, который утверждал, что если черепахе отрубить голову, а потом приставить, то она — голова — через некоторое время прирастет как ни в чем не бывало. И хотя всем было ясно, что это абсурд, Япон, который на самом деле был просто Самвелом, так убедительно стоял на своем, так божился и клялся и, что более всего убеждало, так далеко и точно сплевывал при этом через зубы, что не поверить ему было до крайности трудно. Ну, тогда-то все и случилось… Только сначала они — Япон-Самвел и Колька — пошли к Мухе, Мухитдину, который жил от них через три дома, и на зажигалку, мастерски сделанную из патрона, выменяли у него степную черепаху, сухую и горбатую, которая, похоже, с самого начала догадывалась об их намерениях, потому что сразу же, как Япон взял ее в руки, убрала внутрь свою плоскую голову и превратилась в камень. Япон предложил подержать ее над огнем, он сам взялся подержать ее над огнем, а Колька, сказал он, пусть стоит с ножом наготове, и как только черепаха высунет голову — пусть режет, а уж приставлять они потом будут вместе…
Она прибежала в тот, пожалуй, последний момент, когда костер, сложенный из сухой виноградной лозы, уже пылал беспощадным бесцветным и жарким пламенем, а Япон, прихватив черепаху двумя металлическими пластинами, примерялся, как половчее просунуть ее к огню, в то время как Колька, болван, с несчастным и упрямым выражением лица стоял наготове с треугольным сапожным ножом в руке, и вид у него был самый дурацкий. Тут она и подоспела. Япон не успел опомниться, как Томка налетела на него и выхватила черепаху, похожую на серый камень. Но она-то знала, чувствовала, что там, под панцирем, сидит, съежившись от страха, беспомощное существо с печальными маленькими глазами, пусть в некрасивых кожаных складках, но живое, живое существо, и ждет, с ужасом и бессилием, этого огня и этого ножа.
Япону помогли, наверное, его мускулы. Наверное, мускулы на руках и на ногах каким-то образом связаны между собой, потому что Япон бежал, как рекордсмен, он даже не бежал, он просто испарился, исчез, как бы перешел из одного состояния в другое, отсутствующее… Впрочем, может быть, все объясняется просто тем, что у него была хорошая реакция. А Колька, у которого, похоже, не было ни подходящих мускулов, ни реакции, только глазами моргал и все не мог понять, что происходит и куда делся Япон, пока она не двинула ему черепахой прямо по голове. Тут, наконец, и у него появилась реакция, а может быть, мускулы на ногах у него тоже были ничего, только не успела она замахнуться еще раз, как он бросил нож и с жутким воем побежал, зажимая рукой то место, куда пришелся удар. А она сама даже не помнила, как все это было, в такой она была ярости. Хорошо, что у Кольки голова оказалась крепкой, так что через месяц от раны и следа не осталось, только на месте шрама с тех пор стали расти седые волосы.
Но это она вспомнила уже потом, после того, как кончились те пять совершенно принадлежавших ей утренних минут — от пяти тридцати, от первого полу-задушенного будильничного хрипа, до пяти тридцати пяти, — вставая и убирая постель в слабом, разбавленном свете ночника, и потом, когда она тихо, на цыпочках, боясь разбудить соседей, выходила в коридор. И потом, умываясь, и уже умывшись, и ставя чайник на пронзительно-синие язычки газового пламени, и тогда даже, когда неожиданно и неизвестно почему в полной и глухой предутренней тишине водопроводный кран прорычал вдруг басом. И потом, привычным привидением скользя по коридору, огибая наугад сундуки и шкафы, с незапамятных времен выставленные там, и снова в комнате, подоткнув сползающее одеяло под ноги двенадцатилетней девочке, горю ее и счастью, что досматривала сейчас сладкие утренние сны на ладошке, подложенной под щеку. И все то время, до той самой минуты, пока она не перевела будильник на половину восьмого и не вышла в кромешную тьму парадного, чтобы через несколько мгновений утонуть в сгущенном молоке тумана.
Ей было десять, ему двенадцать, когда он ушел от них, скрывшись, как тогда чудилось ей, навсегда, за огромной дубовой дверью синего с белым, похожего на огромный корабль дома, стоявшего на самом берегу реки. Ибо даже тогда, когда это «навсегда» оказалось пятью годами, на эти полторы тысячи долгих дней и ночей, что он провел за высокими стенами и дубовыми дверьми, они не расставались, а просто обогнули, обошли эти пять лет, как огибают, обходят с разных сторон, не отпуская рук, небольшое препятствие — скажем, лужу, канавку или еще что. Именно так было и у них, и они не выпускали друг друга из поля зрения, всегда ощущая, что другой рядом, все равно, сидел ли он, тоскуя, у окна, глядя на розовый в блестках гранит парапета, или приходил на воскресенье домой, принося из того рая, в котором он теперь жил, толстые, в картонных, покрытых воском коробках, плитки американского шоколада. Или встречал ее там, у себя, в том доме, где проходили его долгие дни и короткие ночи, во время субботних танцевальных вечеров в высоком, с изысканной старинной лепкой поверху зале, когда военный оркестр под управлением маленького пухлого капитана извлекал из своих сверкающих инструментов звуки польки-тройки, или падекатра, или вальса-гавота, миньона, или еще какого-нибудь из бесчисленных бальных танцев, знание которых считалось для них необходимым и которые они в течение многих лет учили в обязательном порядке, как это и было с самого начала предусмотрено училищной программой. Да, все это и многое другое было предусмотрено в заботливо составленной программе. И не программа, конечно, была виновата в том, что из этого ничего не получилось…
Всегда вместе. И она думала об этом, пока брела ощупью в тумане, ухитряясь каким-то чудом не натыкаться на дома и людей и подходя к остановке, где невидимые трамваи жалобно, словно раненые животные, вскрикивали, предупреждая людей о своем приближении, об опасности. И в самом трамвае, где желтый свет падал на желтые лица, она все думала о нем, о своем брате, о Кольке, которому сегодня исполнилось сорок лет, хотя, может быть, она просто думала о себе и о своих, так незаметно прошедших, промчавшихся тридцати восьми годах, и о том, как она позвонит ему, когда придет время, и о том, что она скажет, и все это волновало ее, как давно уже ничто не волновало. Потому что только в такие минуты она вспоминала то, что было и ушло, казалось бы, безвозвратно, но на деле не ушло, а всегда жило в ней и оказывалось вот тут, под рукой, на самой поверхности, не тускнея, как золотая монета, которую не берет никакая окись, стоит только ее чуть потереть…
Всегда, думала она. И что-то теплело и отходило у нее в груди, когда она думала о том, как они всегда были рядом, не разжимая рук, не отводя взгляда; до тех пор, пока не вмешалась судьба, принявшая облик маленькой черноволосой девушки с очень белым лицом и темно-синими, почти черными глазами, которая однажды вошла в жизнь ее брата и в ее собственную как разделительная черта, как граница, которую нельзя ни нарушить, ни перейти, как запрещающий знак, и разделила их на долгие годы надежней, чем все мыслимые разделения и запреты. Но и это было потом, не сразу. А до этого были еще другие, счастливые годы. И вот их-то вспоминала она в то время, как трамвай едва двигался, захлебываясь в долгом и жалобном звоне, и кондуктор с разрывом в вечность объявлял остановки — «Сытный рынок», «Введенская», «Большой проспект», «Геслеровский», «Разночинная»… И не сразу она поняла, не сразу сообразила, что и названия остановок доносятся к ней из других времен и что нет уже в трамвае кондуктора, как нет Введенской улицы и Геслеровского проспекта. Но тогда они были, только туманов таких она не помнит. И трамвай был другой, и выглядел иначе, и он не полз, а мчался, и всегда был набит битком — только путь его был тем же самым и вел к той же проходной, к тому же грузному прокопченному зданию из красного кирпича, только с одной существенной разницей — они были моложе на двадцать с лишним лет. Да, на двадцать три — ей пятнадцать, ему семнадцать, — когда они ехали вместе, стиснутые, прижатые друг к другу так, что она, засыпая и с усилием открывая слипающиеся глаза, чувствовала рядом с собой даже через суконную черную шинель его поджарое, упругое тело. В тот день и тот миг она была счастлива и ничего больше не хотела, только чтобы это было всегда, чтобы всегда они ехали вот так, в тесноте и давке, рядом, на фабрику. Главное — он был теперь рядом. И, радуясь этому, она готова была забыть про все — про сон, который сладким вареньем слеплял по утрам веки, про единственные чулки, заштопанные, правда, так искусно, что казались совсем новыми, про тяжелые стены из красного кирпича, что примут их сейчас на целый день, про машину, которая опять начнет капризничать, рвать нитки и путать петли. Ей все было нипочем, и на щеках ее в то время лежал нежный и тонкий румянец счастья. И она не думала даже о тех, что опять с утра прибегут к ней, как прибегали вчера и позавчера, чтобы совать ей в руки записочки, в которых — и это ни для кого не было секретом — назначалось ее брату, Кольке, очередное свидание: то ли в развале трикотажа, где было легко укрыться от ненужных глаз, то ли на складе готовой продукции, где укрыться было еще легче, стоило только откатить пару рулонов и забраться в освободившееся место. И хотя она и брала все эти записочки, всегда передавая их по назначению, и хотя знала, что вот эти плечи, эту вот, может быть, грудь будут гладить, ласкать неумелые шершавые и бережные Колькины руки, она не думала об этом, не ревновала и не завидовала. Наоборот, она радовалась и за Кольку, и за девчонок, хотя в радости этой было не то сочувствие, не то небольшая доля злорадства, ибо она знала, была уверена в том, что, пока он принадлежал всем, он, в сущности, не принадлежал никому. В этом-то было все дело — целиком он принадлежал только ей, ей одной, а всем этим девчонкам и бабам, сколько бы их ни было, он принадлежал лишь частично и на очень короткое время. И в том-то и были ее козыри, что она это понимала, а они — нет. И опасность таилась только в том, чтобы кто-то еще, не все, а какая-то одна не предъявила на него права или чтобы сам он не дал ей оснований такие права предъявить.
Как это и случилось однажды. Но это было много позже, потом, а в те блаженные времена до этого было еще далеко и можно было не думать о том, что только могло или должно было случиться, — не думать и быть рядом.
Шум поднимался вверх, выше и выше, ударялся в гранитные колонны, достигал лоджий, бился о своды, дробился, мельчал, становился тише, еще тише, еще, исчезал, пропадая совсем. Чистые альтовые звуки детских голосов, плеск воды, шлепанье маленьких босых ног, удары пробковых, деревянных, поропластовых досок, хлопанье дверей в душевых — все утихало, исчезало, пропадало, растворялось в огромном объеме бывшего храма. Вода, еще мгновение назад бурлившая, расходилась большими кругами; завихрения успокаивались, исчезая сначала в середине, затем у бортов; вода застывала не сразу, она покачивалась, ворчала, всплескивала, замирала, затем вздрагивала, покрывалась рябью и, наконец, застывала — зеленовато-синий прямоугольник остекленевшей прозрачной жидкости, оправленный в раму из четких линий темного кафеля. Кафель прохладен и влажен, рука прикасается к нему, и ощущение напоминает о прохладности нежной девичьей кожи. Красно-черные полосы халата ярко выделяются на блестящей поверхности. Огромные электрические часы с неподвижной сейчас секундной стрелкой показывают абсолютно точное время: девять часов пять минут. Взгляд задерживается на часах, на неподвижной пока секундной стрелке, поднимается выше, туда, где, разбившись, исчезли альтовые детские голоса, еще выше, под самый купол, и, ничего там не обнаружив, спускается вниз, сливаясь с зеленовато-синим камнем, оправленным в прямоугольник кафеля. Картина эта Зыкину знакома, он видит ее не первый раз и тем не менее, погружая свой взгляд в огромную зеленовато-синюю чашу, испытывает удивляющее его каждый раз волнение: ему было пять, когда он впервые ощутил это волнение, — и он продолжал ощущать его и в семь, и в десять, и в пятнадцать.
Теперь ему было двадцать пять. В медкарте можно прочесть: «К. Зыкин, мастер спорта международного класса, рост — 181, вес — 81 кг, объем легких — 7600 см3». Прекрасно. Прекрасно — это говорят уже врачи. Одно оставалось неизменным — прямоугольник зеленовато-синей воды, обрамленный темным кафелем бортов, словно рамой, нежное и влажное мерцание светлого мрамора, темные полосы разметки, таинственно уходящие от мелководья в глубину, и захватывающее дух волнение, которое он неизменно испытывал при взгляде на неподвижную зеленовато-синюю воду. Так было всегда — пять, семь и десять лет назад, но так же и двадцать. В эту кажущуюся монотонной повторяемость изменения вносились большой секундной стрелкой; целыми кругами и долями этих кругов измерялось его умение и мера его упрямства с того самого момента двадцать лет назад, когда он сказал: «Меня зовут Костя Зыкин, пять лет… мама работает…» — «Ну, не надо плакать, ты ведь совсем большой, ведь ты воды не боишься? Ну вот и хорошо, смотри, какая красивая вода, сейчас я скажу: раз-два-три — и потом… правильно. Раз, два, три!..»
Плеск, смех, шум, альтовые звуки чистых детских голосов разбивают тишину, разлетелось вдребезги неподвижное зеркало, «Нет, нет, бояться не надо. Возьмитесь за бортик и ногами — та-та-та, та-та-та. Вот так. Мальчик, тебе нравится? Вот и прекрасно».
Отсюда и началось, и пошло, день за днем и год за годом. «Вот тебе, сынок, портфель, букварь и тетрадки. Ты уже большой, ты школьник, смотри слушайся учителей». Но он-то слушается их давно: «Носочки, носочки тяните, не захватывайте доску руками. Костя, ты уже большой, руки должны просто лежать на доске, работать надо только ногами, ногами, вот так, свободней, расслабься, ритм должен быть, как пулеметная очередь: та-та-та, та-та-та — здесь вдох, та-та-та — и выдох; вдох — выдох, вдох — выдох, вот так».
Из его памяти совершенно стерся день, когда они перешли из лягушатника в бассейн, а жаль. Но кто же оглядывается в семь, десять или даже пятнадцать лет? Вперед, только вперед — туда, где ждет нас будущее. Сейчас оно олицетворено огромным зеленовато-синим пространством, разбито на длинные зеркальные полосы белым пунктиром пробковых дорожек — это дороги, ведущие нас к славе, ибо слава обитает именно здесь. «Костя, смотри, вон идет Минашкин, ты видел, как он плавает?» Он видел. И все видели, и все хотели плыть так же, даже лучше, но пока — так же. И они старались изо всех сил. Господи, как они старались… И разве это старание не приносило успеха? Приносило, иначе они не старались бы так. Секундная стрелка показывала им это, она пробегала, конечно, полный круг, но второго круга ей уже не пробежать, каждый день она уступает; по доле секунды, но уступает, что и убеждает в мысли — необходимо смотреть только вперед. Под вышкой для прыжков за зеленоватой шторой стоит странное сооружение из трех ступенек. Пьедестал почета — вот наша ближайшая цель. И каждый день приближает нас к моменту, когда ширма будет убрана. Пролетают часы тренировок, пролетают дни — а может быть, это годы пролетают, что-то не различить событий, все слилось — пять лет, семь, пятнадцать…
Когда они стали просто плавать, когда они успели изучить все стили: вольный стиль, он когда-то еще назывался кролем, и брасс, и баттерфляй, который после был вытеснен дельфином, — кажется, это было в каком-то другом мире. В котором: «Тяни, тяни носки, вдох — выдох, усиливай проводку руки, на гребке не поднимай плечи, пятки, пятки разводи: р-раз — и выдох, р-раз — и толчок, скользить надо, больше наплыв, не суетись, вы должны быть в воде естественны, как рыба, — вы видели, чтобы рыба суетилась? — вот, вот так… И потом — со следующей недели вам придется ходить на тренировки каждый день».
Каждый… Но только так можно тронуться с места, только так можно подойти вплотную к предмету за зеленой ширмой. Вся жизнь состоит из ступенек, всю жизнь ты их преодолеваешь — все равно, поднимаешься ты или опускаешься, просто в последнем случае усилий требуется много меньше и все занимает совсем немного времени. Зато поднимаясь…
Ступеньки назывались разрядами, настольной книгой была «Единая всесоюзная спортивная классификация», раздел «Плавание», стр. 141 — третий разряд, второй, первый. Маршрут его жизни на долгие годы был строго определен: из школы — домой, чтобы наспех прожевать бутерброды, заботливо положенные на тарелку с голубыми цветами, выпить кофе или чай из термоса — и бегом, бегом в бассейн, благо он совсем рядом, при бане. Быстро раздеться, закрыть шкафчик, обклеенный с внутренней стороны фотографиями чемпионов с ослепительными улыбками, которые снились ему по ночам в тех случаях, когда ему вообще что-то снилось, — и в зал. Разминка, массаж, немного гимнастики; душ — горячие струи барабанят по коже, гомон и смех, голоса уже теряют свою альтовую чистоту, но и он меняется тоже, а потому не замечает изменений, а остальное не меняется — влажный белый кафель, звук воды, барабанящей по твоей коже. Свисток; теперь надо поскорее выскочить из клубов пара, натянуть трусики — и в узкий переход с черной доской на стене. На доске написано мелом: «Сегодня температура воздуха в бассейне — 26 градусов, температура воды — 25». И снова оно тут как тут, это чувство, вызывающее восторг и сжимающее сердце, гладкий зеленовато-синий прямоугольник, которому суждено быть разбитым на множество зеркальных обломков. И так — каждый день, день за днем, вечер за вечером и за утром утро…
— Доброе утро.
— Доброе утро, Николай Николаевич. Вы, как всегда, раньше всех. Туман-то сегодня какой, а?
В вестибюле горела всего одна лампочка, голос вахтерши уносился ввысь и замирал под сводами, лицо ее было помято от бессонной ночи и глаза были красными. Он чувствовал, что этой старой женщине, всю ночь просидевшей на кургузом диванчике, хочется поговорить о чем-нибудь, но не ответил ей, повесил пальто, которое выглядело потерянно и сиротливо среди голого металлического леса пустых крючков, и пошел налево по длинному коридору.
Эти минуты он любил больше всего — пронзительная пустота бесконечных коридоров, беззащитность огромных комнат, утопающих в полумраке, в напряженном ожидании часа, когда многоголосый шум наполнит безмолвные пока пространства звуками голосов, какая-то горькая печаль, причина которой неизвестна; быть может, причина этой печали, как и любой другой, крылась в самом одиночестве и тишине? Эти тридцать минут он был один, совсем один, если не считать старой женщины, оставшейся далеко внизу, — один в огромном тринадцатиэтажном кубе. Никто и ничто не мешало ему начать день в полном согласии с самим собой, что он и делал изо дня в день, зимою и летом, в дождь и снег или в туман — как сегодня.
Сегодня, правда, туман был совершенно исключительным, такого он в своей жизни не видел. Выйдя из дому ровно в восемь часов — с первым ударом на башне универмага, расслышав этот непривычно глухой звук, — он не сразу смог определить даже, с какой стороны он донесся. Похоже было, что мир до самых крыш залило молоком; сквозь молочную белизну то здесь, то там приглушенно и тревожно прорывались звонки трамваев, гудки машин и возбужденные человеческие голоса. До этого, весь месяц не отпуская, стояли морозы, потом последовала внезапная оттепель, и теперь — туман.
Ему показалось вдруг, что все это имеет какой-то скрытый смысл. В этом было какое-то предупреждение, словно природа устроила демонстрацию человечеству, склонному возноситься своим прогрессом и своими достижениями. Перед сегодняшней демонстрацией, такой мягкой и на первый взгляд безобидной, прогресс был явно бессилен. По крайней мере на земле. Видимость была равна нулю, аэродромы не выпускали и не принимали самолетов, люди брели ощупью, выставляя перед собою руки, а машины, как стадо заблудившихся слонов, тревожно и жалобно гудели в непроглядной белизне. Ему нравился этот туман, эта демонстрация, безмолвная и убедительная, от нее веяло спокойной силой, чем-то настоящим и вечным, что было забыто среди значительных и не слишком значительных событий повседневной жизни. Это было лицо природы, это было предупреждение, и оно относилось ко всем. Законы природы еще существовали, они существовали всегда, вечно, на памяти людской и вне ее, они не были отменены, не потеряли своей силы и были такими же грозными, как и всегда, что бы там люди о себе ни думали. А думали ли они? Этого никто не мог сказать — как всегда, когда дело касалось людей и их мыслей. Одно только можно было утверждать — число опоздавших на работу сегодня намного превысит обычную норму, так что все фамилии вряд ли уместятся на табло, которое обычно висит в вестибюле. Не будет ли по этому поводу объявлена всеобщая амнистия?
Его самого все это могло интересовать лишь постольку поскольку; в принципе это не должно было интересовать его вовсе, ибо фраза вахтера всегда звучала одинаково: «А вы сегодня опять раньше всех».
Он всегда приходил раньше всех. Это был его принцип, его кредо, его меч и его щит, но скорее щит, им он защищался от судьбы, ибо полагал, что это возможно. Его щит — он сам выковал его; теперь, считал он, ничто ему не страшно, он огражден надежно и надолго от превратностей судьбы, даже таких, в которых природа являет человеку свой предупреждающий лик.
Его все это не касалось. Он был вооружен мечом и огражден щитом, а вокруг него высились стены. Их он тоже возвел сам, не жалея времени и сил, камень за камнем. Мощные стены, за исправностью которых он следил. Эти стены назывались «одиночество до тех пор, пока…», они назывались «отсутствие врагов», у них были десятки других имен, дело было не в именах. Вовсе нет. Ибо они были, эти невидимые и незримые стены, отнюдь не порождением фантазии, они реально защищали его, его и тот мир, который он сначала придумал, а затем и создал для самого себя. Его рай, в котором он был равен господу богу, Эдем, который послужит ему убежищем, спасет его, укроет от мира до тех пор, пока кто-то, кто имеет на это право, не придет и не произнесет волшебных слов. Но что это будут за слова, он не знал. И в то самое время, пока руки его чисто механически совершали установленный им утренний привычный ритуал, открепляя ли кальку, заботливо прикрывавшую приготовленный для работы чертеж, очиняя ли карандаши «кохинор» НВ, В и 2В, проверяя ли подвижность большой линейки, плавно двигавшейся на латунных роликах вверх и вниз, мозг его, не принимавший участия во всех этих приготовлениях, услужливо и любовно рисовал картины того мира, в котором он жил вот уже столько лет, в котором он создал все именно так, как однажды решил и задумал, и в котором надеялся прожить и дальше столько, сколько нужно, чтобы выждать, дождаться и победить.
Отсутствие врагов? Все правильно. У меня и не было их, ни одного, среди живых существ по крайней мере. Последнее следует подчеркнуть особо, потому что только на мир живых существ распространяется наша власть. Единственный враг, который у меня был, оставался неподвластен мне именно в силу своей принадлежности к иному, механическому миру. Я намеренно избегаю слова «неживой»: маленькое механическое животное, бездушное и хитрое. Когда резкий звук дребезжащего металла разбивает хрустальную чистоту тихих ранних часов, я испытываю ненависть, которой не место в душе. В эти минуты прошлое, застигая врасплох, заявляет свои права, бесцеремонно напоминая о себе торжеством бряцающего железа. Ты не забыл, оказывается, этот звук и все, что связано с ним. Леденящий звук металлического предмета, падающего на тебя с чистого голубого неба; надрывающий душу и выворачивающий наизнанку звук, а затем — та-та-та-та-та — красивый фонтанчик вспарывает крышу вагона, вздымает у твоих ног деревянные брызги и мягко, без звука, почти милосердно пересекает наискось тело прикрывшей тебя женщины, подарившей тебе жизнь второй раз. Больше она не сможет этого сделать никогда. Крик. Чей? Твой? Нет, ничего. Липкая красная краска на твоем лице. «Мама, мамочка, мама…» — «Уведите ребенка». Кто, кто это? «Иди сюда, мой милый, иди к нам, дай я вытру тебе лицо. Нет мамы. Не плачь. Фашист за это ответит».
Открой глаза, закрой глаза, снова открой — это просто будильник. Он ни в чем не виноват. Ты видишь, как трясется его маленькое механическое тельце, может быть, оно сотрясается от рыданий. Не он виноват в твоем прошлом, в темной глубине улегся ил, на поверхности не остается никаких следов. Разве что звук струны может нарушить хрустальную чистоту и безмятежность тихих утренних часов.
Начинается плач гитары. Разбивается чаша утра…Он узнал эти стихи от женщины. Это была маленькая женщина с черными, коротко остриженными волосами. Мария — так ее звали и так зовут ее сейчас, это имя он готов произносить сто, двести, триста и тысячу раз, и каждый раз оно будет приносить удивление, радость и боль, ибо это была единственная женщина, мир без нее не был бы миром, без нее он терял свой смысл и становился бесполезнее разбитой скорлупы.
В эту минуту она должна была спать совсем неподалеку отсюда.
В широкой старинной кровати должна была она спать сейчас; эта картина стояла у него перед глазами, он видел ее все время, он твердо знал, что так оно и должно быть наяву — воображение было столь же явственным, как и сама реальность. Так он решил в то время, когда еще не знал о существовании этой женщины, хотя и знал, что она может, должна быть такой, только такой и никакой иной, и она должна была спать в это время, и ничто не смело врываться в ее мир, полный любви и тишины.
Так оно и было в тот день, когда он осторожно прикрыл за собою дверь, чтобы уйти, а вернувшись, не застать ее больше. Она спала, и лицо ее было безмятежным, словно она заснула под сказку с хорошим концом, где принц обязательно разыскивает Золушку и говорит ей, протягивая руку, так, словно это и было условлено с самого начала: «Ну вот мы и встретились. А теперь пойдем…» Одна рука у нее была засунута под подушку, другая свисала вниз. У нее были тонкие руки, руки подростка, может быть, такие руки были у Золушки в тот момент, когда она услышала: «А теперь пойдем…» Но он-то знал — уже тогда он знал это, — что видимость всегда обманчива и никогда не следует забывать именно о невидимой стороне; и он не забывал. Он думал об этом все время именно потому, что ни на минуту не забывал о невидимой стороне. Тонкая рука под подушкой не была похожа на ту, что беспомощно и доверчиво свисала сейчас вниз, разница между ними была совсем небольшой — не больше, чем между воображением и реальностью. На руке под подушкой чуть повыше запястья был рубчатый багровый шрам — на том месте, где когда-то, не так уж давно, был номер, похожий на клеймо, которое ставят на скотину, готовую к убою. Она и была такой скотиной, Золушка с тонкими руками, — там, где на людей ставили клеймо, готовя их к убою; клеймо было просто необходимо, порядок, «ordnung» должен был торжествовать во всем, в том числе и в убое, бухгалтерия должна была работать без ошибок и без перебоя — порядок и аккуратность, порядок и аккуратность во всем. Но убой не состоялся — не по вине бухгалтерии, конечно, порядок был разрушен вмешательством иных сил, аккуратность не смогла восторжествовать. Но номер на руке, чуть повыше запястья, остался, пока однажды раскаленный паяльник багровым рубчатым шрамом не стер его.
«…Разбивается чаша утра», — прочитала однажды маленькая черноволосая женщина с отрешенными и словно застывшими синими глазами. Я знал об этом и раньше, но с нею я забыл об этом, и не думал, что, пока человек жив, еще ничего не кончено — ни радость, ни горе, — об этом у меня было время подумать потом, потом и сейчас. Теперь я знаю, разбивается не только чаша утра — чаша жизни разбивается тоже, ее может разбить второпях написанная строка — синие буквы на белой бумаге, — и это разбивает хрустальную чашу ничуть не хуже, чем когда за дело принимается хорошо придуманный механический мир; все на этой земле — и радость, и горе — дело рук людей; чаша разбивается, и из нее вытекает красная краска. И ты снова слышишь: «Иди сюда, милый, я вытру тебе лицо. И не плачь. Фашист за все заплатит».
Где тот день, когда я плакал последний раз?
И здесь раздался хруст, что-то хрустнуло или сломалось. Так, хрустя, ломается дерево или кость. Как это называется — открытый перелом, закрытый перелом? Так что же хрустнуло — быть может, рука? Да нет, нет, конечно, и нечего смотреть на руку непонимающе-отсутствующим взглядом, ничего страшного: это всего лишь карандаш, всего-навсего обыкновенный карандаш «кохинор» НВ, только что заточенный; он-то и хрустнул — просто плохая древесина. В руках осталась одна лишь криво обломившаяся половина, другая упала на пол — подними ее, нагнись и подними, половинки будут заточены, ничего страшного. А вот синька испорчена; с такой любовью приготовленная для работы синька испорчена безнадежно, ее поверхность пересечена длинным рубчатым следом, похожим на безобразный шрам. Но и это можно исправить; все можно исправить, привести в порядок, заменить — разве что вот сердце… Оно бьется в темноте грудной клетки, словно зверек, рвущийся на волю. Подожди, подожди. Видишь — непорядок, а ведь его не должно быть. Обломок карандаша, разорванная синька.
А где-то внутри уже завыли сигналы тревоги, замкнувшись, заработали аварийные цепи, уже спасательная служба бросилась в прорыв, уничтожая следы происшествия. Никаких следов. Руки стали снова выполнять привычную работу — сменили испорченную синьку, накрыли ее карандашной серой калькой, принялись за карандаш — и вот уже бритва аккуратно срезает с темного дерева темноватую чешуйчатую стружку. Все улеглось, о прошлом ничто не напоминало. Да и с чего бы это? То было лишь воображение, своего рода легкий подземный толчок — он просто напомнил о могущественных силах, таящихся много глубже. Горе тому, кто разбудит их. На дне озера, где ил уже улегся, таятся силы, перед которыми все — ничто; легкий толчок — всего лишь предупреждение.
Отбой, отбой… Это короткое слово несет всем, кто уцелел, весть о жизни и победе — налет отбит, и жизнь, замершая было, притаившаяся, в любую секунду готовая к борьбе и смерти, к схватке с враждебным механическим миром разрушения, выстояла. В который раз уже выстояла и тем победила. И вот она уже пробуждается снова, жизнь, будничная и простая, и великая в этой своей будничности и простоте, ибо именно в этом залог ее неистребимости. И правда: налет еще только отбит, еще дымятся развалины, а люди возвращаются к своим обычным делам и мыслям. Вот они идут, ничем не примечательные с виду, неказисто одетые, голодные, идут по той стороне, о которой надписи на стенах предупреждают, что она «наиболее опасна при обстреле». Они говорят: «А вчера в двадцать шестом магазине отоваривали жиры», или: «А Любашу опять видели с тем лейтенантом…» Они идут, говорят, смеются, сердятся, влюбляются и ревнуют, они живут, как и положено живым людям, они продолжают дела — все они, кроме тех, кто остался лежать под дымящимися развалинами. Но о них мы не говорим ни слова. О них мы помним и не забудем никогда. Мы потому и не плачем о них навзрыд, как плачут по умершим, потому что считаем их живыми. Они живы в нашем сердце — те, которых нет. Их сохраняет живыми наша память, наша любовь и наша ненависть, хотя ненависть — самый плохой строительный материал для того, чтобы строить стены будущего, — хуже, пожалуй, только забвение.
А лучше всего — память и любовь. И еще — работа.Сотрудники отдела вертикальной планировки, появившиеся наконец в дверях, застают привычную и давно уже переставшую удивлять или раздражать их картину: Блинов Николай Николаевич, их непосредственный начальник, сидит и работает. Но это он делал всегда — чему же тут удивляться?
— Инженера Зыкина вызывает главный инженер проекта. Где Зыкин?
— Зыкин, готов?
— Да.
— На старт…
По команде «На старт!» главное — не суетиться. Надо не торопясь снять халат, чуть-чуть подвигаться, разминая в последний раз мышцы, может быть, слегка помахать руками или похлопать себя по плечам, не торопясь стать на бортик, оттуда — на стартовую тумбу, на шершавый, влажный от брызг бетон. Вспомни — кромка стартовой тумбы должна приходиться как раз по пальцам. Ноги расставь — но не слишком, только чтоб было удобно — и присядь. Нет, не присесть даже следовало, а лишь чуть согнуть ноги в коленях, ноги должны быть напружинены, чтобы прыжок произошел сразу после выстрела, никаких раскачиваний, руки, сейчас опущенные и отведенные назад, резко пойдут вперед, в то время как ноги толкнут вперед все тело. Угол входа должен быть оптимальным — не слишком тупым, чтобы не уйти глубоко под воду, но и не слишком острым — иначе просто плюхнешься на воду плашмя; стоит только вспомнить об этом, так и через двадцать лет заболит живот. Любая ошибка губительна, когда ты соревнуешься со временем, — время не ждет никого, оно уходит, секундная стрелка резво бежит по кругу, а дальше уже твое дело, можешь даже остаться на стартовой тумбе и не прыгать вовсе.
Все это — и отбитый живот, и оптимальный угол входа — предстояло каждому узнать на практике; и кто не выдерживал, тот уходил — таких было много больше, чем тех, кто остался. Но он — остался, и много раз пришлось ему становиться на шершавый и влажный от брызг бетон тумбы, чтобы научиться входить в воду под оптимальным углом; ему пришлось это проделывать сотни и сотни раз — сначала в лягушатнике, потом в бассейне. Шершавая влажность бетона мерещилась ему даже по ночам — такова была плата за подъем еще на одну маленькую ступеньку, которая в этом случае называлась оптимальным углом.
Да, не сразу он понял, что платить приходится за все — за оптимальный угол, за правильный поворот, за то, что секундная стрелка успевает пробегать все меньше и меньше. За все приходится платить. И так всю жизнь, жаль только, что понимаешь это не сразу, а то, может быть, и подумал бы — стоит ли овчинка выделки. Овчинкой тут были и ступеньки, которые некогда скрывались за зеленой ширмой, и призы, и красивые глянцевитые прямоугольники дипломов с большими печатями, и строчки, набранные в типографии. Платить же приходилось книгами, которых не успел прочитать, плохими отметками в школе, косыми взглядами твоих недавних друзей, после того как ты пришел в класс с новеньким значком, платить приходилось и материнскими слезами — и это уж точно была непомерная плата за место на ступеньке, даже если бы предоставилась возможность не слезать с нее до конца дней своих. Но и это понимаешь слишком поздно, разве можно понять это, когда кривая твоих успехов ползет и ползет вверх, пусть даже в последнее время ее подъем не так крут, как тебе того хотелось, но все равно кривая поднимается, ты движешься вперед. Разве не для этого ты влезаешь в долги перед самим собой, — в долги, за которые ты затем будешь расплачиваться очень долго.
Итак, все повторяется и повторяется: школа — раздевалка — гимнастический зал — душ — «температура воды в бассейне». Влажный бетон стартовой тумбы, брызги, за тобой тянется пенистая дорожка, скорость растет и растет, наливаются мышцы, грудная клетка становится все шире и шире, ты тренируешься уже не семь раз в неделю, а восемь, потом девять и, наконец, десять. Но секундная стрелка требует от тебя какой-то иной платы, она не обращает внимания на арифметику твоих усилий, ей наплевать на арифметику. Чего же ей надо? Неизвестно. Зато становится очевидным иное — кривая остановилась. Еще некоторое время как бы по инерции она ползла вверх, вяло изгибаясь, а затем застыла и превратилась из кривой в прямую. Нет, она не падала, простая справедливость не дала бы ей сделать это, но и вверх она не желала идти, а ведь кто не движется со временем вперед, кто стоит на месте, тот отстает с каждым мгновеньем. Секундная стрелка, может быть, знала причину, а может быть, и нет! Но он, Зыкин, не знал. У стрелки, однако, было то преимущество, что ей не приходилось ничего объяснять ни себе, ни другим. Она молча пробегала круг с четвертью — всегда круг с четвертью — и замирала.
— Зыкин, что случилось?
— Я не знаю.
Недоумение.
— А ты случайно не того? Ну-ну, я пошутил.
Шутки…
А стрелка бежит и бежит круг с четвертью, минута пятнадцать секунд на стометровке брассом — ни секундой больше, ни секундой меньше. Может быть, прибавить тренировок? Но он и так уже ходит двенадцать раз в неделю. Перестанем тогда ходить в кино — сходим после, книг мы не читали и раньше — тут ничего не выкроишь.
— Зыкин, надо что-то делать.
— Надо, Виктор Павлович. Но что?
— Мы решим это на тренерском совете.
А секундная стрелка — ни с места. Она забастовала, она безжалостна. Чего-то она от тебя хочет, но чего? Ты ведь и так почти уже не человек, ты машина для плаванья, машина, которая раздевается, закрывает шкафчик, идет в гимнастический зал — сотый и тысячный раз разминается, идет в душ, становится на влажный и шершавый бетон стартовой тумбы — твоим ногам известны уже все выбоины всех стартовых тумб страны… На старт… Внимание… Выстрел! Согнутые ноги послушно пружинят, руки идут вперед, угол входа совершенно идеален — да и может ли он быть уже иным, — вода окутывает тебя со всех сторон, ты выныриваешь на поверхность, краем глаза ты видишь соперников — вы все пока еще рядом, плечом к плечу, да и на финише вас будут разделять секунды или доли секунд, даже у поворота вы совсем еще рядом… Надо бы прибавить после поворота, чуть-чуть прибавить, как в былые времена, когда кривая успехов поднималась круто вверх. Но те времена уже прошли; в воде — как, впрочем, и на суше — тебя не покидает чувство недоверия к самому себе. Ты уже не веришь в себя, ты уже заранее готов смириться с тем, что проклятая стрелка и на этот раз остановится, пробежав круг с четвертью, — так оно и оказывается на самом деле. Тренер молча показывает тебе секундомер, и ты видишь — одна минута пятнадцать секунд. Раньше — давно — тренер говорил: «Минута пятнадцать — прекрасно!» Затем он стал говорить так: «Минута пятнадцать — ну, ничего…» Теперь он просто показывает тебе секундомер. И молчит. И ты молчишь тоже, ни слова не произносится, молчание — и все. Но зерно уже брошено в землю, и всходы не заставят себя ждать.
Тренера можно понять — и он понимает. Действительно, что же это: первый разряд — в десять лет, первый — в двенадцать, и в пятнадцать, и… Где же рост? Неизвестно. Неизвестно, где рост, неизвестно, что случилось, неизвестно, как это исправить и чем это может кончиться.
Годы идут, ты растешь, грудная клетка становится шире, угол входа в воду после старта давно уже идеален, а секундная стрелка по-прежнему застывает, пройдя круг с четвертью. Это называется «неоправдавшиеся надежды». Так и написано было, и каждый, умеющий читать, мог прочитать это в газете. Типографские машины равнодушно набрали и напечатали это черной краской по серой газетной бумаге: «…как пример неоправдавшихся надежд можно привести…».
Отлив, начинается отлив. Все это доступно наблюдению невооруженным человеческим глазом и тем не менее удивляет — чудеса остаются чудесами и всегда удивляют, даже если ты точно знаешь, что женщину нельзя распилить пополам. Ему пришлось наблюдать это на самом себе — исчезли улыбки, исчезли друзья, они уходили вперед, они не оборачивались, как некогда не оборачивался он сам — ведь и ему было некогда…
— Товарищ Зыкин, мы должны с вами серьезно поговорить…
— Да, Виктор Павлович…
— Дело в том, что мы больше не можем…
— Да, Григорий Иванович…
— Надеюсь, что ты и сам понимаешь…
— Да, Владимир Петрович…
— Нам очень жаль, но в связи с тем, что сборная… новые требования… часы тренировок… только для… нет, к сожалению, только поздно вечером… да, после двадцати трех или, скажем, в шесть утра, но ведь ты нас понимаешь?
— Да, спасибо, я вам очень благодарен, понимаю, да, я все понимаю…
Отлив. Отлив, отлив, снова отлив. Без просвета. Семнадцать лет, восемнадцать — отлив, ни с места. Не пора ли бросить все?
— Как твой бывший тренер я все же советовал бы тебе… институт физкультуры — это… ведь мы не забудем, что ты… Что? Технический вуз? По-моему, это глупо. А впрочем, как хочешь. Извини, мне еще надо…
Девятнадцать лет, двадцать, двадцать один. Теперь ты вполне взрослый, усы и борода требуют особых лезвий. «Невой» или «Балтикой» не обойдешься. Да, ты уже большой, ты ходишь в институт, однако по утрам, вставая в половине шестого, ты все тот же, и кругом все то же, лишь слегка уменьшившееся в размерах, потому что твой рост уже метр восемьдесят один. Поэтому и бутербродов больше на тарелке с голубыми цветами, и чай ты кипятишь сам — того термоса уже давно нет. И вот еще что: ты больше не спрашиваешь, во сколько тебе нужно вернуться домой. Кстати, бассейн при бане закрыт, давно прошло то время, когда в городе было два бассейна, теперь их уже десять, и в одном из них — в том, что разместился в бывшей лютеранской церкви, — тебе выкраивают по старой дружбе место на дорожке: час времени с шести тридцати до семи тридцати. Благодари и за это. Благодари и за это, ибо на тебя уже все давно махнули рукой. И разве они не правы — ты здоров как конь, метр восемьдесят один ростом и выдуваешь в трубку спирометра более семи тысяч кубических сантиметров воздуха, а результат твой все ни с места, сопливые мальчишки могут дать тебе фору. Первый разряд в двадцать один год, в двадцать два года, в двадцать три… Твое упорство выглядит простым упрямством, зря ты относишься к этому так серьезно. Говорят, ты даже читаешь книги австралийских тренеров и бегаешь по песку? Смешно это. В твои-то годы? Нет, не называй тренировкой то, что может быть названо купанием. Да и вообще — не пора ли бросить все?
Сам он иногда думает точно так же: не пора ли бросить это все — мучения, режим, утомительные, изнуряющие кроссы. Кроме всего прочего, это отнимает время от наук, не говоря уже об удовольствиях. Ведь ты должен изучить массу предметов — пусть половина из них тебе никогда не пригодится: начертательную геометрию, высшую математику, сопротивление материалов, теоретическую механику, строительные материалы. В мире осталось так много не прочитанных тобою книг, картин, которые ты не видел, фильмов, которые ты не смотрел. Кое-что ты наверстал, особенно в последнее время, но как много ты мог бы сделать, откажись ты от своей страсти, которая начинает уже смахивать на манию.
— Зачем тебе все это? — спросила тебя однажды девушка со странным, одновременно насмешливым и недоверчивым взглядом. — Зачем?
— Я хочу побить мировой рекорд.
Можно было бы понять ее реакцию, любую реакцию. Ведь стрелка секундомера, как и прежде, успевала пробежать круг и еще четверть. В то время тебя пускали в шесть тридцать утра на крайнюю дорожку просто так, по старой дружбе, чтобы не сказать — из жалости. Можно было отнестись к этому заявлению с высшим недоверием, к этому располагало и всегдашнее выражение серых насмешливых глаз. Но ничего подобного. Реакция была другой. Она молча прошла дистанцию, отделяющую вечного перворазрядника от рекордсмена мира, и, пожав плечами, сказала:
— А потом?
Вот что она сказала. И тогда, он понял тогда, что побьет этот рекорд. Но на вопрос: «А потом?» — ответить не мог, для ответа еще не подошло время. Для ответа время подойдет тогда, когда свершится факт, и, что бы потом ни свершилось, все будет прекрасно.
Тогда он не понимал еще, что она хотела спросить: зачем ему все это нужно, для чего, что он будет делать, когда настанет минута свершения? И кто знает, только ли мировой рекорд имела она в виду. Но это стало ясно много позже. А тогда движение узких плеч под черным платьем с белым кружевным воротничком, которое делало ее похожей на молоденькую послушницу, ничего не сказало ему. Он уперся и стоял на своем, и не желал ничего знать и загадывать. Никаких «потом». Я хочу побить мировой рекорд на стометровке брассом. Все.
Для этого он продолжал вставать день за днем в половине шестого, чтобы с первым поездом метро успеть к шести в желтое здание. Историческую справку, написанную на доске, висевшей в нише, он за это время выучил наизусть, и, разбуди его в два ночи или в пять утра, он отбарабанил бы без запинки и о Брюллове, и о наружной деревянной двери, изготовленной по рисунку архитектора Г. Боссе, и о двух симметричных башнях с часами на каждой из них (солнечными и заводными). Ни солнечные, ни заводные часы, увы, не показывали время, — не значило ли это приход нового времени, не только для часов, но и для него тоже? Не устарел ли он, как солнечные часы? Ведь от признания подобного факта ничто не меняется, солнечные и заводные часы украшают башни, между которыми стоит ангел, преклонивший колена, — не значит ли это, что он признал свое поражение в борьбе со временем, даже если часы и не показывают его вовсе?
Но он-то не был ангелом. Он был человеком, который хотел свершения чуда. И каждый день, становясь на влажную от брызг бетонную поверхность стартовой тумбы, чуда просил он, чуда, которое было бы всего лишь справедливым воздаянием за его неугасимую веру, — пусть стрелка секундомера не успеет пробежать своей четверти круга.
И оно совершается, чудо. Ты верил в это всегда. Ты знал, что так оно должно быть, но не был уверен, что будет. Ты счастлив, но это не счастье шофера Сидорова, угадавшего все шесть номеров в «Спортлото». Здесь дело в другом. Здесь награда за верность: ты верил в незыблемость законов природы, ты верил в справедливость, за отливом должен начаться прилив. Дело лишь в том, хватит ли у тебя терпения ждать.
Терпения у него хватило. Он ждал более десяти лет — но что это был за срок по сравнению с наградой! Ему казалось, что пролетели мгновения. Это вчера кто-то спрашивал пятилетнего мальчика: «Ты не боишься прыгать в воду? Вот и хорошо». Любовь владела отныне его сердцем, он не помнил зла, но говорил теперь «нет» так же старательно, как некогда говорил «да».
— Я всегда говорил, что среди моих учеников… я рад… обратно к нам…
— Нет, Виктор Павлович, мне ничего не надо…
— Нет никакой необходимости вставать к шести, когда сборная…
— Нет, Григорий Иванович, я уже привык…
— Надеюсь, ты понимаешь, что все необходимые условия…
— Нет, Владимир Петрович, я ведь на работе…
— Но в связи с тем, что… честь города… ты должен понять… в конце концов, при твоей зарплате мы можем гарантировать…
— Нет, конечно, понимаю, большое спасибо, нет, не надо, не надо. Не надо…
Ему ничего не надо. Он не кривил душой, он был счастлив. Чудо свершилось, он освобождается от гнета лет, ему кажется, что их никогда не было, и теперь осталось только одно — загнать стрелку секундомера за черту, где она никогда еще не была. Ему доставляет огромное наслаждение загонять ее все ближе и ближе, видеть, как она уступает одну позицию за другой, и благодарить неведомое божество, которое дало ему дожить до этих дней, до этого вот дня, потому что это произойдет именно сегодня. Именно сегодня он проплывет стометровку брассом за минуту и четыре секунды, а потом…
Чья-то рука ложится ему на плечо. Это прикосновение, словно мокрая губка, проходится по черной доске его воспоминаний, стирая написанное и возвращая его в мир настоящего, где: прямоугольник зеленовато-синей воды похож на огромное зеркало в оправе из темного кафеля, секундомер, подвешенный на тонком белом шнурке, вздымается и опадает в такт дыханию на голом животе тренера, перевернутый листок календаря на столе главного инженера проекта гласит: «10 февраля — сдача проектной документации по Суходольску» и где часы — электрические, заводные, наручные и карманные, различных марок, фирм и систем — показывают точное московское время — девять часов семь минут утра.
Девять часов и семь минут.
В кабинете главного инженера проекта звонит телефон, большая, покрытая жесткой черной шерстью рука нетерпеливо хватает трубку, губы, кривящиеся от глубоко спрятавшейся боли, нетерпеливо спрашивают, найден ли инженер Зыкин… нет… так где же он? Отгул… какой может быть отгул? Дежурство? Ничего не знаю… Это черт знает что… Блинов? Тогда вызовите ко мне его. Да, Блинова. Черт знает что.
Девять часов и семь минут.
В это самое время девушка с серыми глазами стоит в тонкой рубашке, отороченной кружевами, и без недоверчивости, но вместе с тем чуть насмешливо всматривается в лицо, отраженное в большом зеркале, оправленном в прямоугольную темную раму.
В то же самое время черные и красные полосы халата падают на молочно-белые плитки кафеля. Человек, потративший более десяти лет на сотворение чуда, устанавливает чуть согнутые ноги на влажном бетоне стартовой тумбы. После выстрела стартового пистолета должно пройти не более минуты и четырех секунд, затем наступит время, когда нельзя уже будет отмалчиваться на вопрос: «А потом?» Минута и четыре секунды подведут черту под двадцатью пятью годами жизни, затем будет поставлена точка, и прошлое остановится навсегда, как время на башне с солнечными часами. Все отныне будет другим. Уже стоя на тумбе, он обводит вокруг себя взглядом, словно прощаясь навсегда с миром, которому суждено стать иным через минуту и четыре секунды. Ибо именно в это мгновение — скажет он несколько часов спустя девушке, чей взгляд к тому времени снова обретет недоверчивость, — именно в это мгновение он понимает, что никогда больше не вернется в этот мир.
— Ты готов? — спрашивает вздрагивающий от напряжения голос.
Он кивает. Он завидует человеку, на груди которого вьется белая веревка от секундомера, — сам он уже не волнуется. А жаль — словно умерло что-то…
— На старт…
— Внимание…
Выстрел.
Черт знает что…
Большая, покрытая жесткой черной шерстью рука еще некоторое время продолжает держать телефонную трубку. На перекидном календаре четкая запись: «10 февраля — сдача проектной документации по Суходольску». А вот и сама документация: толстая пачка чертежей, уже сложенных по единому формату, но еще не переплетенных, громоздится здесь же на широком столе. Телефонная трубка издает тревожные короткие гудки — отбой, отбой, но рука все держит черную трубку, словно не в силах расстаться с ней. Наконец трубка опускается на рычаг. Тревожные гудки замирают — но не замирает и никуда не исчезает раздирающая внутренности боль, от которой кривятся прикушенные губы. За окном оседает густой туман, настольная лампа бросает на стол желтое продолговатое пятно. Кругом тишина — стоит на мгновение закрыть глаза, и забываешь, где ты и что с тобой. Где это он слышал: «Умереть — уснуть…»
Главный инженер проекта Кузьмин заставляет себя подняться из-за стола. Щелчок, выключена лампа, продолговатое желтое пятно на поверхности стола исчезает. Все погружается в полумрак. Через окно, занавешенное чуть поредевшим туманом, едва-едва пробивается бессильный утренний свет. Как приятно прижать лоб к холодному стеклу… Что-то происходит… Чертежи на широком столе застыли бесформенной грудой никому не нужных бумаг, перекидной календарь кажется огромной бабочкой, раскинувшей бумажные тонкие крылья. Как это называется — «взять себя в руки»? Сейчас, одну минуту, сейчас… Он возьмет себя в руки, он умеет это делать. Внутри у него сидит зверь. Сидит и ждет своего часа. Что бы он сам ни говорил, что бы ни говорили другие, какие бы чудеса ни творились вокруг, зверь, сидящий внутри, ждет своего часа. Час этот приближается. Зверь сидит глубоко внутри и ждет. Перед этим непреложным фактом бледнеет все творящееся вокруг, бледнеет и теряет смысл, ибо с гибелью человека исчезают все нити, тонкие, надо признать, нити, связывающие его с остающимся в живых человечеством и его достижениями. Исчезает весь мир. А что остается? Остается надпись на могильной плите, которая может звучать примерно так: «Кузьмин В. В., подполковник в отставке». И все. Таков итог прожитых пятидесяти четырех лет. Да еще, быть может, за его гробом на подушках пронесут его ордена. Хотя нет, ордена не пронесут — теперь смерть механизирована. Медленные шествия с подушками, на которых лежат боевые ордена, отменены, что, возможно, и правильно — во-первых, помеха уличному движению, во-вторых, никому не нужное напоминание о неизбежности исчезновения.
Умереть? Это совсем не страшно, бывшему подполковнику тем более. Смерть ему не в новинку: он видел ее, видел ее не раз, всякую, видел кое-что и похуже смерти. Но только теперь он может сказать, что видеть — это еще не все. Одно дело упасть и не встать во время атаки, когда кругом, кромсая человеческое мясо, хлещет металлический дождь, другое — сидеть и ждать того дня, когда маленький неутомимый зверек, невидимая тебе безжалостная тварь выжрет тебя изнутри. «Для того чтобы поставить окончательный и точный диагноз, необходима операция».
Тонкие губы изображают усмешку. Для того чтобы поставить диагноз, человека надо предварительно распороть, как треску. Не слишком ли много за сомнительное удовольствие узнать сомнительный диагноз, который, уничтожая оставляющие надежду сомнения, ничего не может изменить? Нет. Он не доставит медицине такого удовольствия. Свое любопытство ей придется удовлетворять, вспарывая кого-нибудь другого. Главное — отогнать бесконечно возникающую жалкую мысль: «а что, если…» Главное — убедить себя, что у вспоротой трески не может быть никакого «если»: после того как в тебя заглянут, тебе уже не встать. До самого своего конца, который уже не за горами, ты будешь перебираться из одной больницы в другую: сначала погостишь на Березовой аллее на Крестовском острове, затем перекочуешь поближе к вокзалу, в Военно-медицинскую академию, оттуда рукой подать до Песочной. Из Песочной тебя привезут домой. Это произойдет примерно за месяц до того, как тебе придется отправиться в самый последний поход — под камень с надписью.
«Вы можете взять своего больного, постельный режим ему более показан в домашних условиях». Вот как это будет звучать. Вот с какими словами медицина откажется от тебя, какими словами она признает свое бессилие перед маленьким неутомимым зверьком, что день за днем и час за часом, сантиметр за сантиметром прогрызает твои внутренности. И так будет продолжаться, пока ты не испустишь дух, — ко всеобщему облегчению людей, которые вынуждены будут промаяться с тобою этот последний месяц. Какую неоценимую услугу окажешь ты им, когда избавишь их от необходимости каждодневно созерцать твою пожелтевшую кожу и запавшие глаза. Откройте наконец окна и впустите свежий воздух! В комнате, где долго лежал умирающий, еще долго нечем дышать, словно сама смерть цепляется за стены, не желая уходить, — а ведь здесь спешка и ненужна и неуместна, ибо от этого еще никому улизнуть не удалось.
Три года назад так умирала его жена.
Воображение? Да, конечно, и в самую первую очередь. Но и чувства, точнее сказать, способность к обостренным ощущениям, к трансформации реальности, к перевоплощению. При всем при том это происходило без намека на какую-то заданность, натруженность, нет — все происходило само собой, даже словно вне зависимости от воли.
И воображение, и чувства, и способность к трансформации на едва уловимой грани реальности — это были стадии происходившего с Блиновым процесса. Процесса, внешне выглядевшего достаточно нелепо, как всегда выглядят события, в которых нами улавливается лишь внешняя их сторона: остановившийся взгляд, запинающаяся ни с того ни с сего речь, внезапная оцепенелость. Удивление здесь вполне естественно — в той мере, в какой мы признаем за собой право судить о вещах по их внешним проявлениям. «Он цепенеет, — говорим мы, — с чего бы это? Ах, он, наверное, не в себе… не трогайте его».
Именно это происходило с Блиновым — он цепенел; все это знали. Период удивления уже прошел, не внеся в вопрос «с чего бы это?» ясности. Оставалось только принять как данность — такой уж он есть, не трогайте его. Но кому он нужен, чтобы его трогать, особенно в минуты, когда он смотрит перед собою таким бессмысленным взглядом. Начальник сектора оцепенел — вот и прекрасно. «Вы вчера играли в преферанс?.. Да не бойся, он ничего не слышит».
Ничего. Он действительно цепенел. Сначала отключался слух; исчезали один за другим голоса, общий шум, хлопанье дверей и телефонные звонки; затем отключалось зрение: исчезала комната, исчезали люди в ней, исчезал вид из окна — серые тротуары, чуть присыпанные белой мукой поземки, — то есть исчезало все, что можно было увидеть внешним зрением и услышать внешним слухом. Но через некоторое время он обретал взамен утраченного внутренний слух и внутреннее зрение. Какое-то время он глядел еще на разложенный перед ним чертеж, видел тощие линии, должные изображать ручьи и реки, острые зубчики оврагов, закорючки, обозначающие, что на этом пространстве произрастают в каком-то количестве лиственные или хвойные деревья, или, к примеру, что на этом вот месте вырубка, или болото, или еще что-то. Но в неуловимый момент все решительно менялось. Воображение, обостренность чувства и способность к перевоплощению совершали чудо. Чудо? Не слишком ли возвышенно? Ну хорошо, назовите это иначе. Но условность исчезла: так в кино на экране исчезают последние титры и начинается придуманная автором жизнь, которая волнует нас больше реальной. Где же тощие линии, обозначающие реки и ручьи, где закорючки вместо хвойного и смешанного леса, вместо вырубок, где на пнях растут опенки? Всего этого уже нет.
Есть холм, поросший ромашкой; чуть левее, вливаясь в реку, журчит ручей, позади холма — поле, которое стелется под ветром зеленой шелковистой волной, а прямо перед глазами и далеко-далеко, покуда хватает взора, — бескрайняя река: бурые всплески внизу, там, где она отгрызает от подножья холма огромные куски темно-коричневого суглинка, дальше, к середине — серебристое мерцание, заставляющее сердце биться сладостно и учащенно. А далее взор, тщетно стремясь проникнуть за пределы горизонта, тонет в бескрайней синеве.
Трансформация реальности и способность к перевоплощению… Да. Ибо при этом происходили не только изменения, вызванные сменой внешнего зрения и слуха на внутренний, но и более глубинный процесс, название которому он затруднился бы дать. Ощущение единства с окружающим миром? Весьма приблизительно. В минуты перевоплощения он сам изменялся. Он исчезал и вновь появлялся, но уже преображенным, превращаясь в холм, в реку, в поле… Да, он давал жизнь налитым колосьям, он слышал над собою посвист ветра; и в то же самое время он был рекой, он нес на себе радужные нефтяные пятна, черные туши пароходов и россыпь мертвых стволов.
И все это был он, Блинов. Так что же это было?
Можно было называть это проектированием. Для Блинова же это было жизнью. Он жил в изменяемом им самим мире, изменяясь вместе с ним.
Попробуйте определить чувства, испытываемые человеком, который втиснул ногу в обувь на два номера меньшую, чем ему нужно. Здесь даже не требуется воображения, ему здесь нет места, просто удобно или неудобно, здесь жмет, дайте, пожалуйста, вот ту пару… вот теперь совсем другое дело, благодарю вас.
Ему было удобно, если комплекс проектируемых сооружений стоял так, как надо. Он мог угадать правильное расположение объектов с одного раза или подбирать до бесконечности, все это определялось его ощущением — удобно или нет. Если нет, он ерзал, двигал технологические линии, переставлял здания — это сюда, это сюда, вот так, здесь сократим расстояние, здесь отодвинем… Дышать становилось легче… Еще немного… Трубопровод уходил чуть левее, линии электропередач смещались к северу, дорога сама огибала участок косогорного болота, прижималась к опушке, изгибалась плавной дугой, вбирала в себя накатанную колею проселка и выходила в том самом месте, где ей было назначено с самого начала. Там уже стояли ворота, и проходная, и забор, ограждающий площадку от нескромных глаз, затем шла живая изгородь, а все свободное место занимали фруктовые деревья. Он рисовал волнистый кружок диаметром чуть менее одного сантиметра, в середине кружка ставил точку, от точки выносил тонкую линию и выводил печатными буквами: «плодовые деревья», а в скобках добавлял: «вишня».
Вот что он делал и чем он жил — воображение, чувства, способность к перевоплощению и трансформации. Проектирование? Может быть, может быть. Но для него это была жизнь. Иное ее измерение, и только. А поскольку природа никогда не повторяется в отличие от обозначающих ее условных знаков, которые всегда одни и те же, то и сам он, Блинов, всякий раз бывал иным, не похожим на предыдущего, и всякий раз он испытывал разные чувства.
Так, например, в прошлый раз, совсем недавно, он был маленьким озером где-то в тридцати или сорока километрах от Калининграда. Озеро лежало в уютном углублении меж холмов. Холмы были покрыты кудрявой порослью зелени, красные черепичные крыши казались лодками, застывшими в зеленом сказочном море. У самого берега росла липа в несколько обхватов. В дупле этой липы догадливостью местных властей была поставлена вкруговую скамейка со столом в самой середине, и особым шиком как у местных жителей, так и у заезжих гостей считалось посидеть там, в этом природном и чуть лишь облагороженном цивилизацией гроте, с бутылкой холодного пива, которое предусмотрительно продавалось здесь же.
Поблизости и далее по плоскому озерному берегу и на гористом его склоне не было недостатка в многолетних деревьях; там тоже росли и липы и каштаны, среди которых можно было, пожалуй, найти деревья в обхват и более, но, бесспорно, второго такого дерева не было. Говаривали разное — что этой липе двести лет, триста, четыреста, но все это, естественно, было не более чем досужие разговоры; узнать это при жизни липы никому не было дано. Для этого надо было спилить ее или трансформироваться каким-либо волшебным способом. Вот тут Блинов и был на высоте, ибо он в это время был озером и уже по одному этому обстоятельству оказывался постарше липы — любой, пусть даже очень старой, и, если бы он мог как-то довести свои знания до людей, сидящих в тенистой прохладе с бутылкой пива, он сказал бы, сколько этой липе лет, назвал бы ее возраст и точную цифру — пятьсот шестьдесят два года. Первый тощенький и довольно жалкий побег проклюнулся сквозь землю и потянулся ввысь на этом самом месте ровно за год до битвы при Грюнвальде, о которой потом шло немало разговоров. Вот как оно было: 1409 год. А что до того, что липе никто не давал ее лет, — здесь причина та, что человеческий разум может сознательно охватывать временные периоды, лишь соразмерные с пределами жизни самого человека, после которых все становится настолько зыбким и сомнительным, что для человека все едино уже — двести ли, триста ли лет.
Другое дело, если бы человеческий век был хоть как-то соразмерен жизни природы, — это, надо надеяться, избавило бы нас от почти вынужденной суетливости и спешки и, может быть, заставило бы по-иному взглянуть на мир и его слишком уж стремительно меняющиеся внешние приметы.
День заполнялся звуками.
Но сначала была тишина, пронзительная и трогательная, потом ее нарушало эхо шагов, медленно уходящее вверх. Сварливое поскрипывание ключа. Шелест разворачиваемой кальки. Тихое потрескивание карандашной стружки — острое лезвие беззвучно вонзается в тощее деревянное тельце, укорачивая и без того короткий карандашный век. Тишина. За окном — пролитое молоко тумана, в радиаторе довольно и сыто булькает вода, потрескивает сухой воздух. Мягкий грифель тихо шуршит, скользя вдоль линейки, — линии, линии, линии. Кривые: ножка циркуля твердо проходит сквозь девственность листа, пальцы легким вращательным движением заставляют блестящий металлический сустав покорно поворачиваться налево и направо — еще раз… и еще. Тонкая выносная линия. Четкие тонкие печатные буквы. Стрелка. R=30.
Звуки. Они возникают внезапно — тонкие трещины на безмолвном льду тишины. Шум шагов, затем еще и еще — и вот уже топот, гул, сбитое с толку эхо, звуки голосов, хлопанье дверей под все усиливающийся, словно приближающийся прибой, грохот…
Еще одна выносная линия. Карандаш движется по бумаге бесшумно — его тихое соло уже не услыхать. Шум, грохот, симфония разрозненных звуков все ближе, все грознее — и тут он делает попытку уйти, скрыться в глубине, подобно пловцу, уходящему с поверхности туда, где темно и тихо. И он уходит — глубже, глубже, еще и еще. Теперь он снова ощущает себя в безопасности и тишине.
Толстые линии, тонкие линии, выносные линии. Стрелки. Значки, цифры и буквы, выведенные четким печатным шрифтом.
Он работает. Он уходит в переплетение толстых и тонких линий все глубже и глубже, и гул теперь доносится до него едва ощутимым содроганием воздуха, как если бы он доносился из другого мира — мира звуков.
— Здравствуйте…
— Здравствуйте…
— Здравствуйте…
— Да не бойтесь ничего; вы же знаете, что он ничего не слышит. Николай Николаевич!.. Ну, убедились теперь? Он не слышит. Костя, как вчерашний преферанс?..
Он — не слышит.
Он — это я.
Он — это я. Я похож на пловца, нырнувшего в глубину, в темнеющий провал. Плотные безмолвные слои, смыкающиеся за спиной, надежно охраняют меня от угрожающего урагана запахов и звуков того мира, от которого я пытаюсь скрыться. Он — это я. Но разве я не слышу? Я не хочу слышать — вот что есть на самом деле. Я не хочу ничего слышать, кроме осторожного шуршания карандаша о податливую белизну бумаги.
— Здравствуйте…
— Здравствуйте…
— Доброе утро…
Это я-то не слышу? Я, силою воображения способный превратиться в озеро, в холм, в реку, берега которой падают, сползают вниз глыбами коричневого суглинка, — я не слышу?
Они проходят мимо меня — здравствуйте… здравствуйте… здравствуйте… Они проходят, машинально произнося слова приветствия, привыкнув к тому, что безмолвная фигура, склонившаяся над чертежом, не изменит своего положения, не поднимет головы, не издаст ни звука, только линии, толстые и тонкие, будут по-прежнему появляться из-под линейки, бесшумно двигающейся на латунных роликах. Они проходят мимо. Слой потревоженного воздуха, который еще недавно потрескивал в ничем не нарушенной тишине огромной комнаты, тянется за ними, как шлейф — невидимый шлейф, состоящий из густого уличного тумана, разгоряченного дыхания и мыслей, еще наполовину относящихся к оставленным дома делам… Но вот они видят меня — Николай Николаевич… конечно, он давно уже сидит и работает… Тут они начинают понимать, что домашние дела остались там, дома.
— Здравствуйте…
А впрочем, он ведь все равно ничего не слышит.
Звуки. И нет уже в помине никакой тишины. Только теперь к симфонии звуков — хлопанью, скрипу, визгу дверей, к нестройному сбивчивому хору запыхавшихся голосов — присоединяется ничем не управляемая какофония запахов — нежный, чуть приторный запах пудры, вязкий — помады, солдатский и грубый — сапожного крема, гуталина. А надо всем, охватывая все и все поглощая, — терпкий, тревожный и пряный запах тумана.
— Здравствуйте… доброе утро… доброе утро…
Я все слышу. Не хочу слышать, не хочу видеть, а хочу лишь одного — покоя и безмолвия. Мои руки прилежно будут делать свое дело — уверенно и быстро, они привыкли это делать на протяжении многих лет, левая мягко двигает линейку, бесшумно вращаются латунные ролики, мягко, хоть и неслышно, уже давно не слышно, в общем гуле движется по непорочной белизне бумаги карандаш.
Это — я.
Но что такое «я»? Кто я такой? Кто такой Николай Николаевич Блинов? Блинов, что вот уже много лет приходит на работу заранее, один, в полной тишине — «вы и сегодня раньше всех»… Калька, заботливо прикрывающая подготовленную со вчерашнего дня работу, темные нарукавники из протершегося сатина, бесшумное вращение латунных роликов, слабое шуршание грифеля, реальность, возникающая из абстрактного переплетения прямых и кривых, радиусы, обозначенные тонкими выносными линиями со стрелкой, и безукоризненно четкий прямой шрифт надписей. Это я!
А это?
Степь, выжженная степь; теплый ветер, гуляющий меж полураскрытых дверей теплушки, битком набитой женщинами и детьми, уезжающими на восток. Степь без конца, от горизонта до горизонта, горький запах беды, горький ветер, долетающий с перезрелых, неубранных полей; твердые лица солдат в эшелонах навстречу, серебряный луч патрульного фонаря, скользнувшего по лицам в темноте; и снова степь. Яркое, палящее солнце дня, внезапный нарастающий грохот, дробный, чистый звук и струйка расплавленного свинца, вырвавшаяся из хорошо отлаженной, заботливо ухоженной машины; ровная полоса металла — наискось, через вагон, через железо, доски и мягкую человеческую плоть… запрокинутое лицо… «Мама, мамочка, мама…» Кто это, маленький и тщедушный, уткнулся в тело, еще не начавшее остывать? Кто слышит над собою голос, произносящий слова, полные веры и ненависти: «Не плачь. Фашист за все заплатит».
А может быть, я — это человек, светлой летней ночью перелезающий через ограду Ботанического сада, чтобы нарвать там цветов для девушки — самой лучшей девушки в мире. Светлая, ничего не скрывающая ночь, чугунная ограда, полускрытая листвой разросшихся лип, сладкий до тошноты запах ночных цветов, тявканье собаки и холодный нос, ткнувшийся в руку; торжественно-неторопливый говор сторожих, уютно усевшихся на ящиках из-под картофеля; хруст срезаемых стеблей — и тут же назад, ползком, по влажной, жирной земле, еще немного, цветы подсунуты под решетку, теперь подтянуться… и ты подтягиваешься и видишь в белесоватом полусвете — собака смотрит на тебя внимательным, все понимающим взглядом, острая мордочка с торчащими ушами склонена к туловищу влево, и так выразителен этот немой взгляд, что на мгновение ты застываешь, ощущая физически это желание понять, и запоминаешь навсегда — себя на ограде, приторный аромат, разлитый в воздухе как вода, шелест листьев и внимательный, желающий понять взгляд коричневых собачьих глаз. Затем ты забываешь об этом на долгие годы, но однажды вспомнишь и удивишься то ли тому, что так надолго забыл, то ли тому, что мог сидеть на заборе. И, глядя внутренним взором на себя сегодняшнего, который сидит за чертежной доской в черных сатиновых нарукавниках, спрашиваешь с изумлением — неужели это был ты?
Это я.
И еще: сон, сладкий сон шестнадцати лет, за окном — невнятный, как будущее, мрак зимнего утра, в комнате — теплый, душный, спертый воздух, колеблемый дыханием пятерых уставших за день людей; мягкие пальцы, осторожно тронувшие тебя, и шепот: «Коля, сынок… проснись… пора на работу». А сон, как смерть, наваливается на грудь, забивает дыхание, ты плотнее смежаешь веки, тебе кажется, что ты заснул только что, минуту, мгновенье назад, ты все готов отдать за одну, за одну только минуту сна, чтобы не надо было вставать и уходить из теплой комнаты в холод зимней ночи… Спать, спать, спать… Я сейчас… мама Шура, я сейчас. А она: «Да, сынок, да. Вставай, милый, пора, пора на работу… там на кухне я оладушек напекла». Ты встаешь, в глазах у тебя непробудный сон, и ты выходишь на улицу, где холод, стынь, мертвое подмигивание разноцветных глаз светофора — красный, желтый, зеленый, простуженные звонки трамваев; лица, окружающие тебя, как и твое собственное, похожи на непропеченное тесто… Холод и стынь раннего шестичасового зимнего утра года тысяча девятьсот сорок восьмого. В шесть сорок пять ты должен пройти проходную в огромном здании красного кирпича, и ты проходишь ровно в шесть сорок пять, такой парень, руки в брюки, слесарь по ремонту оборудования, краса и гордость рабочего класса. Подпрыгивая на ходу от холода, ты идешь в толпе, состоящей в основном из женщин, и ты чувствуешь их запах — острый, волнующий и запретный, и он, этот запах, преследует тебя, пока ты поднимаешься по ступеням и когда идешь через цех, где заканчивает работу ночная смена; а дальше к этому запаху присоединяется уже другой — запах разогретого масла и машин; тебя охватывает блаженным, усыпляющим теплом потрескивающий воздух, клацанье ткацких станков, громыхание грузовых тележек — и все это вместе с тобой тонет в желтом свете.
Значит, это был все-таки ты?
Да, это я.
Да, это я. И все эти люди — это тоже я, те, кого я вспомнил, и те, кто до поры до времени таятся во мраке, в темном, плотном, слежавшемся иле. Их было много, их много было и есть, много больше, чем мне удается обычно вспомнить за один раз. И все они скрыты в моем сегодняшнем «я», как скрыты одна в другой бесчисленные сувенирные матрешки. И все-таки все они — это я, я, Колька Блин, Коля Блинов, слесарь КИП, и студент Николай Блинов — тоже, и руководитель сектора, кандидат технических наук (диссертация называлась «К вопросу об использовании сланцевых шлаков для производства цементов низких марок», библиотека Инженерно-строительного института, номер по каталогу 111/18–с). Н. Н. Блинов — все это я. Я, и больше никто. Но кто я — я так и не знаю; не знаю, какое состояние оказалось решающим, а может быть, еще окажется решающим когда-нибудь. Кто я — сирота, потерявший в начале войны мать, а в конце ее, а точнее 9 мая 1945 года, отца… Или маленький мальчик, который некогда чужую ему и усыновившую его женщину называет мамой… Кто я — сирота, несчастное существо или счастливчик, который несколько лет жил, как король, в доме на берегу Невы, в огромном синем доме, похожем на сказочный корабль, а настоящий корабль стоял у самой набережной, огромный корабль с шестидюймовыми пушками, одна из которых принесла ему славу на вечные времена. А может быть, я вовсе не счастливчик, а самый несчастный из людей, потому что меня оставила женщина — единственная, знавшая волшебное слово «сезам»…
Все это я, и все эти бесчисленные «я» — мои, все они сидят во мне и, взятые вместе, составляют то мое последнее по времени «я», которое и есть, наверное, мое «я» настоящее — так чешуйки лука, собранные вместе, и есть луковица, и это в последней своей инстанции «я», которое сидит сейчас за столом, левая рука в черном сатиновом протертом нарукавнике мягко двигает линейку, правая — в таком же нарукавнике — проводит прямые и кривые грифельные линии на податливой белизне бумаги, то «я», которое производит все эти действия, — лишь фасад, внешняя форма тех бесчисленных, названных и безымянных Блиновых, которые прячутся за этим фасадом.
И тогда из прошлого, погребенного, казалось бы, навеки, появляется еще какое-нибудь «я», напоминая о том, что давно, казалось тебе, умерло и истлело. И ты смотришь на свои руки, что плавным движением опускают и поднимают по листу ватмана длинную линейку и водят острым карандашом.
Ведь эта же самая рука, эти же самые руки обнимали и гладили, дрожа, узкое нежное тело и едва ощутимым движением, бережным и нежным, притрагивались к твердой острой груди с маленьким розовым соском… Этого не может быть…
Длинный дребезжащий звук. Это металлический петух пропел, прозвонил три раза, — при третьем крике петуха кончается власть привидений. Захлопываются створки времени, и ясная безжалостность «сегодня» занимает свое место. Исчезает все, чему не место в рабочей комнате проектного института: исчезает холм, исчезает озеро, лежащее меж гор, пловец выныривает из тишины подводных глубин, ибо петух прокричал трижды.
— Николай Николаевич! К телефону!
Тому, кто поднял трубку, приходится повторить это по крайней мере трижды, прежде чем Блинов поднимет голову от чертежа. Затем он встает — и в тот же миг все бесчисленные «я» скрываются в нем, как лезвие кинжала может скрываться в рукоятке. Вот он стоит, но он не торопится. Он окидывает взглядом чертеж, смотрит на последнюю проведенную им линию… еще смотрит… и только после этого делает первый шаг. И вот он уже движется через комнату — высокий, прямой, невозмутимый как всегда. Лицо его с маленькими, глубоко, слишком близко посаженными глазами не выражает абсолютно ничего — это просто лицо человека, только что оторванного от работы.
Он берет трубку.
— Да, — говорит он. — Это Блинов.
И тут же в трубке раздается голос, резкий, не допускающий, не терпящий возражений голос. Он сразу переходит в крик. Блинов слушает. Глаза его полузакрыты, он похож на птицу, кажется даже, что он нахохлился. Трубка кричит. Высокий, искаженный мембраной голос выкрикивает неприятные вещи. Обладатель этого голоса не называет себя, этого не требуется, в институте все достаточно хорошо знают друг друга. Этот человек, обладатель голоса, здесь недавно, но его уже знают все, — этот голос принадлежит новому главному инженеру проекта Кузьмину, который сидит сейчас в каких-нибудь пятидесяти метрах отсюда и говорит тоном, не терпящим возражений.
— Черт знает что! — кричит он так, чтобы все это слышали, и все слышат. — Безобразие! — кричит он, и все слышат это тоже. — Вы устроили у себя богадельню… сроки… чертеж… вы, Блинов, ваш Зыкин отсутствует… дисциплина…
Остальные слова постепенно отступают, съеживаются, отходят на второй, третий план, а над всем, прорываясь криком в трубку и от нее в комнату, — дисциплина-дисциплина-дисциплина… Черт-знает-что-такое! Где Зыкин? З-з-з-з…
А потом все перемешивается и уже невозможно разобрать, о чем речь: о дисциплине, о Зыкине, о Блинове, об отделе, о секторе вертикальной планировки — водопад, лавина, сель, скорее всего сель, грязевой поток, несущийся с гор, мощная, сметающая все преграды лавина воды, грязи, валунов. Разрушение, напор, натиск, грохот, гибель.
Голос, вырываясь из трубки, мечется по комнате. Он задает вопросы; вопросы эти подобны выстрелам картечью, они не оставляют надежды. Требуется немедленное вмешательство. Требуется немедленный ответ. Блинов слушает с бесстрастным лицом, чуть отстранив — из-за чрезмерной громкости — трубку от уха. На его лице по-прежнему нельзя ничего прочесть, нельзя понять, слышит ли он громкий, требовательный голос. На его лице ничего не написано, кроме вежливого внимания, кроме естественного нетерпения человека, оторванного от дела. Если бы не легкое подрагивание нижней губы, можно было бы предположить, что он вовсе не здесь, что он ничего не слышит. Потом он начинает отвечать, бросает короткие, отрывистые фразы, он вежлив, он сдержан, он холоден.
— Да, — говорит он. — Нет, — говорит он. — Нет, я не забыл. Нет. Да. Я бы хотел…
Но трубка перебивает его, она рычит, ей вовсе неинтересно знать, чего бы он хотел, она сама хочет, она требует… чего она требует? Она требует немедленного, неукоснительного следования… или, может быть, расследования… она требует расследования и подчинения, повиновения, а может быть, извинения тоже. Разговор бесполезен. Так он и говорит. Разговор бесполезен, бессмысленно разговаривать в таком тоне, об этом он тоже говорит трубке. Короткий обмен новыми «да» и «нет», и он говорит:
— Хорошо. Я зайду к вам. Да, сейчас.
И вешает трубку.
Тишина, тишина, лавина пронеслась мимо, опасность миновала, наступила пора вопросов, можно перевести дух.
— Что случилось?
— Это новый ГИП, — говорит кто-то.
— Ну и глотка.
— Что случилось, что случилось? Он что, с луны свалился?
Тишина. Взоры направлены на невозмутимое, слегка покрасневшее лицо.
Николай Николаевич Блинов, кандидат технических наук, обводит взглядом большую комнату — сектор вертикальной планировки. Взгляд его маленьких, слишком близко посаженных глаз встречается с другими взглядами. В некоторых он читает любопытство, в некоторых — недоумение, или равнодушие, или злорадство. В одних глазах — он знает — тревога, но в ту сторону он не смотрит.
— Ничего, — произносит он своим ровным голосом. — Ничего не случилось.
И вот он снова идет через всю комнату к своему рабочему месту. За его спиной, словно след прошедшего корабля, соединяются прерванные невольной паузой голоса.
Они говорят:
— Ну он и дает, этот новый…
Они продолжают:
— Так вот, вчера в Пассаже… да, такие маленькие, с опушкой.
Они говорят:
— А наш-то, Ник-Ник, бровью не повел.
И еще продолжают они:
— А Зингер… третий буллит — не-ве-ро-ят-но!
— Такие ножки, что…
— Расчет весеннего стока показал…
— В перерыв? Хорошо. А ты слышал, как он — бессмысленно!
— Неужели не читал? Называется «Колыбель для кошки». И ничего смешного нет. Ни-че-го.
Что может так болеть? В скрытой от взгляда глубинной темноте его тела происходят тихие, незаметные процессы: одни клетки вторгаются в другие, пожирают их, увеличиваются — это еще можно понять… Но откуда, почему боль? Когда-то он видел в степи охоту с беркутом: беркут сидел, вонзив кривые втягивающиеся когти в сыромятную рукавицу старого плосколицего киргиза, на голове беркута был колпачок, когти, все время пульсирующие, сжимались — рано или поздно колпачок снимался, и тогда можно было, выпустив рукавицу, вонзить заждавшиеся когти в нежные перламутровые внутренности и рвать их.
Такие вот разрывающие его внутренности когти и чувствовал он. С каждым днем они проникали в него все глубже и глубже… А он должен был терпеть это изо дня в день.
Терпение. Он должен терпеть… До тех пор, пока все не кончится.
Большая, покрытая черной жесткой шерстью рука прижимается к тому месту, где боль особенно сильна. От этого он чувствует некоторое облегчение. Терпеть и терпеть? Но за что? Он всю жизнь мыслил четкими, определенными категориями, он привык докапываться до причин, все должно быть взаимосвязано и обусловлено, во всем должен быть смысл. А какой смысл в его болезни? Он не находил никакого смысла. Он ни в чем не виновен, ни в чем — ни перед собой, ни перед людьми. Жизнь не гладила его по головке, не баловала, не давала поблажек — правда, не давал поблажек и он, этому он научился у жизни. Да, он стал жестким, что есть, то есть. Он — как железо, его не согнешь, нет, подполковника Кузьмина согнуть не так-то просто, а сломать его вовсе невозможно. Никогда. Если бы он был сделан из другого материала — вот тогда это могло бы произойти. Четыре года войны. Он не был в тылу ни дня, он строил под огнем, строил мосты, переправы, блиндажи, доты, — под любым огнем, летом и зимой. Его ордена — они не упали с неба. С неба падали только бомбы, комья земли. Нет, небо не было ласковым к нему, от неба не приходилось ожидать ничего хорошего, он весь принадлежал земле, ясному и жесткому миру причин и следствий. Его болезнь была следствием… но чего? Здесь он останавливался, всегда останавливался в недоумении, он, для которого не было преград, для которого форсирование, преодоление преград было профессией, призванием, долгом. Боль терзала его, причин он не видел и не находил. Терпеть? Он не учился этому. Он не суеверен, нет, он не верит в чертовщину, мистику, покажите ему лицо смерти — и он смело глянет ей в пустые глазницы. Но это…
Терпеть? Он терпит. Он не боится, он ничего не боится. Сколько еще — месяц, два, три? А может быть, надо было рискнуть, согласиться на операцию, разом поставить все на карту? Так или иначе, все было бы уже кончено.
На одно мгновение он пытается себе представить, что все уже кончено. Это нелегко, для этого он должен представить себе то, что человек представить не может, — он должен представить себя несуществующим, умершим. Но не это самое трудное, нет. Самое трудное для него — это представить отсутствие боли. Так что, может быть, не так-то уж было бы и плохо, если бы судьба распорядилась его жизнью по своему усмотрению, он не против… Нет, он против. Он против, черт бы все побрал, он против, против!
Здесь ему становится немного легче. Чуть-чуть, на какую-то долю минуты, боль исчезает вдруг, вновь появляется и снова исчезает, уменьшается, становится глуше — и каждый раз, по мере того как ему становится легче, он меняет свои взгляды на жизнь и на смерть. Сколько народу гибнет ежечасно во всем мире — женщины и дети, молодые и старые, и только что родившиеся невинные младенцы, — все живое обречено гибели, нет ничего вечного; и случайная смерть, и смерть закономерная приходит в свой час. Но жизнь принадлежит живым, а он-то еще пока жив. Он переутомился, это ясно. Ну что ж, переутомился так переутомился. Много курит? Да, черт побери, он много курит. Что ж из того. Это его дело. Он и работает много, слишком много и, как считают некоторые, слишком горячо. Но он иначе и не может — не умеет, не научился. И уже не научится. Нет. Потому что только так он может ощущать себя живым — когда он погружается в эту жизнь сам, весь, с головой, не щадя себя и других. Вот почему он сидит, занимаясь делами, еще долго после того, как все уходят по домам. Эти дела — эти вот чертежи, кальки и синьки — это и есть теперь его жизнь, как некогда его жизнью были наводимые им переправы и блиндажи, которые он строил. Это и есть жизнь, она имеет вещное, вещественное воплощение, и этой жизнью он обороняется от болезни. И пока он может жить так — работая, заставляя работать себя и других, — он хозяин положения. Он военный, и он знает — кто не сдался, тот не побежден. Поэтому он и не стал отсиживаться дома на военной пенсии, поэтому он и пришел сюда, в этот тринадцатиэтажный стеклянный куб, ибо здесь он в гуще жизни, в гуще дел. Именно так хочется ему жить до последнего отпущенного ему мгновения — месяц, два, три… а может быть, и больше. Именно так, в самой гуще, работая с утра до вечера, ругаясь и хваля, наживая себе друзей и врагов, сторонников и противников, внушая любовь и неприязнь. Он никогда не боялся работы, никогда не делил ее на чистую и грязную, он любил ее всякую. Отношение к работе у него было такое же, как отношение к женщинам, — суть он ценил превыше всего и никогда не ошибался. Так вот, он хотел работы, выматывающей, как любовь, такой, чтобы после нее от слабости подгибались ноги.
Отпустило… Если бы можно было сделать сейчас хороший глоток коньяка… Главный инженер проекта кривит свои тонкие, похожие на шрам, губы. Сегодня он не успел принять то единственное лекарство, которое он признавал, — несколько глотков хорошего коньяка; и что же — тварь, что грызет его изнутри, воспользовалась этим и показала когти. Стакан коньяка всегда можно получить здесь неподалеку, между рестораном «Нарва» и гостиницей. Там существует ничем не примечательная щель, прикрытая дверью, за которой — стойка плюс пространство чуть побольше бумажника. Там его хорошо знают… туда он и заглянет. Не сейчас, конечно, много позже. Тем более что тот, внутри, он уже испугался, замер. Да, лучше всего сейчас был бы глоток коньяка, хотя добрый солдатский спирт тоже был бы хорош.
Боли уже почти нет. Только отголоски ее, как эхо, еще блуждают в неподвластной взору темноте, отдаваясь то в одном, то в другом месте. Но это пустяки, испуг уже прошел, черный полог задернут. Главное — это избавиться от неведомо откуда возникающих мыслей, главное — даже мысленно не протягивать руки к наглухо задернутому пологу.
А с остальным он справится другим путем. Этот путь — работа, работа, работа. А в перерыве — несколько хороших глотков коньяка.
Теперь все прошло, даже отголоски боли, подобно эху отдававшиеся то здесь, то там, исчезли совершенно. Сколько времени простоял он так, прижавшись лбом к холодному окну? Часы показывают, что прошло не более трех минут. Да, всего три минуты. Ему становится даже смешно — как мог он так распуститься, вообразить неведомо что. Надо было сразу приниматься за работу, не обращая ни на что внимания, — нельзя давать воли воображению.
Он отходит от окна. И вот он уже снова сидит за столом, губы его искривлены язвительной усмешкой. Щелчок, яркое желтое пятно снова вырывает из темноты груду сложенных гармошкой чертежей, синек. От его взгляда не скроется ни одна ошибка. Тем более такая вот, как эта. Он берет отложенную в сторону кальку, разворачивает ее во всю длину, всматривается, подчеркивает красным карандашом одно место, другое, третье. Движения его резки и уверенны. Этим умникам здесь никакие фокусы не помогут. И он подчеркивает снова и снова.
И вот он уже весь в работе, он опять полон энергии он живет.
Стук в дверь. Интуиция подсказывает главному инженеру проекта, что это идет Блинов, один из этих умников.
— Входите, — говорит он со злобной приветливостью. — Входите, товарищ Блинов…
Только это был вовсе не Блинов.
Блинов идет к своему месту. Он не вслушивается в слова, раздающиеся у него за спиной, он улавливает только общий тон. Тон нормальный, без перебоев… Значит, все в порядке. Это его люди, его отдел, он отвечает за них и за их работу, работа должна идти легко, в хорошо налаженном, спокойном темпе. Он еще раз, почти механически, вслушивается: все на своих местах, все работают, руки проводят вертикальные и горизонтальные линии, вписывают цифры, делают надписи, переворачивают страницы типовых альбомов, в то время как люди — живые люди — говорят, смеются, грустят, вспоминают, негодуют и удивляются, то есть делают то, что и положено делать живым работающим людям.
Все хорошо.
Он стягивает темные сатиновые нарукавники. Замечает, насколько они протерлись. Нагибается, достает из-за стола лист испорченного ватмана и прикалывает его к доске поверх чертежа тремя кнопками — красной, желтой и синей.
Чтобы попасть в кабинет, откуда донесся до него из телефонной трубки резкий, не терпящий возражений голос, нужно пройти длинным унылым коридором, затем свернуть, спуститься этажом ниже, снова пройти унылым коридором и дойти до закутка с коричневой дверью и черной с золотыми буквами табличкой. Он идет, и, пока он совершает этот путь, он словно разглаживает рукой поверхность невидимых вод, на которой все шире и шире расходятся круги воспоминаний.
К тому времени, когда он спускается этажом ниже, на поверхности уже нет ничего.
Моментальный снимок: руководитель сектора вертикальной планировки Н. Н. Блинов идет к главному инженеру проекта В. В. Кузьмину. Причина: выяснение вопроса о готовности чертежа 24/318 — «Подъездная дорога к площадке первого подъема». Срок сдачи проектной документации 10 февраля, так записано на перекидном календаре, раскинувшем бумажные крылья на черном столе под желтым пятном света настольной лампы.
Он стучит в дверь, обитую коричневым дерматином.
Он слышит голос.
— Входите, — говорит этот голос. — Входите, товарищ Блинов.
На этот раз ошибки не могло быть.
Быть рядом… Всегда.
Рядом и неразлучно — сидеть ли дома, ехать, а летом и идти на работу или с работы, и во время самой работы, и тогда, когда, ей шестнадцать, ему восемнадцать, она работала ученицей швеи, а он — учеником слесаря, и потом, когда она перешла в трикотажный и стала работать самостоятельно на мольезных машинах, которые Колька ремонтировал, потому что к тому времени он стал настоящим, заправским слесарем, таким, что всюду нарасхват, — и как она любила смотреть на него, когда он проносился по цеху, рассекая воздух, пропахший маслом и металлом, проносился, никогда не забывая подмигнуть на ходу, высокий, поджарый, ловкий, и тогда уже чуть сутулый, в ладном, хорошо пригнанном комбинезоне, который она вчера вечером тщательно отпаривала на кухне, проносился мимо, и только чуб все свисал ему на глаза да белое пятнышко, прядка седых волос на том месте, куда пришелся удар черепахой, светилось, как светлячок.
И после работы, когда они шли в «шарамыжку», ШРМ-21, в свою фабричную школу рабочей молодежи — здесь, рядом с фабрикой. Во флигеле старого облупленного восьмиэтажного дома с окнами в темный провал двора на пятом и на шестом этажах помещались классы с седьмого по десятый, так что и здесь они хоть и сидели порознь — она в восьмом, а он в десятом — но встречались каждую перемену, не говоря уже о том времени, когда они просто смывались в кино. А когда не было занятий — в среду, субботу и, конечно, воскресенье — и не надо было заучивать все эти чуждые и ненавистные ей Present Perfect и Past Indefinite, а ему можно было на время хотя бы позабыть про роль дуба в раскрытии художественных образов «Войны и мира», они, принарядившись, то есть аккуратней, тщательней, чем обычно, отгладив свои каждодневные скудные наряды, отправлялись рука об руку на танцы — единственно доступную отраду того послевоенного времени, лишенного таких умиротворяющих даров цивилизации, какими в наше время являются телевизор и магнитофон. И тут уж они брали свое. Тут уж не знали удержу — отплясывали до полуночи, до последнего хрипа трубы, до последнего удара барабана, не жалея каблуков и подошв, не жалея легких, которым приходилось вдыхать тучи пыли, поднимаемой в воздух, пропитанный запахами дешевых духов и пота, сотнями шаркающих, топающих, подпрыгивающих — всяк на свой манер — ног, в «Большевичке» или «Мраморном», в «Голубом» или «Десятке», что примостилась на Обводном рядом с барахолкой, или в «Пятерке» — и той, что у Театральной площади, и той, другой, что в самой глубине Пороховых. А то черт заносил их на «Красный выборжец», а то в «Газа», где без свалки не обходился ни один вечер. И даже до железнодорожного клуба на станции Антропшино добирались они, не говоря уж о родном, своем, что всегда было под рукой, — «Ленэнерго» и «Промка» или танцульки под радиолу в близлежащих школах, техникумах и институтах — везде, где раздавались звуки худосочных пазефиров и выморочных падеграсов, редко — один раз на отделение — разбавляемых долгожданными и запретными даже в названии фокстротами и танго, которые назывались тогда «танцем быстрого темпа» и, соответственно, «танцем медленного темпа». Да, везде они были и всюду проникали или, по крайней мере, пытались проникнуть. Они штурмовали парадные входы, прорывались боковыми и пожарными, прокрадывались черными, пролезали сквозь окна, и только через трубу, кажется, никто не догадался пролезть, да и то еще неизвестно.
Всегда вместе, всегда. И уж, конечно же, в воскресенья, когда сутолока и напряжение шести рабочих дней оставались позади и утром можно было выспаться всласть, встать, не торопясь, а потом, набрав с собою немудрящей еды, отправиться на Каменный остров в гребной клуб. Выйти из дома на улицу и увидеть, как светит солнце и небо голубеет, а вода в реке застыла, как стекло. И так хорошо, прекрасно было, взявшись за руки, идти пешком, не спеша, глазея по сторонам, — сперва по Кировскому проспекту через площадь Льва Толстого и через мост вплоть до Березовой аллеи, а потом свернуть налево, и так до самой Крестовки.
И тут уж начинало сильнее биться сердце, когда они шли вдоль извилистого узкого канала, вдоль протоки, где ивовые ветви лежали в зеленой неподвижной воде, где островерхие, замшелые от времени красно-бурые черепичные крыши особняков напоминали о сказочной Голландии. По неподвижной застывшей поверхности уже скользили верткие, нахальные байдарки и неуклюже, рывками, передвигались диковинки тех времен — каноэ. Академические лодки в это мелководье не заходили — не только потому, что здесь негде было развернуться, но здесь и разогнаться-то было нельзя толком, а они, Тамара и Колька, они были завзятыми «академиками» и посматривали на всю эту байдарочную шушеру чуть-чуть свысока, что не мешало им то и дело махать кому-нибудь из знакомых девчонок или мальчишек. Об одном они только жалели, хотя вслух об этом сказали только раз или два, что Пашки, упрямца, не было с ними. Он, как всегда, был сам по себе, и если не изобретал, не мастерил что-нибудь, значит, мчался в свой подвал на Большой Пушкарской и там по особой системе накачивал свои мышцы или, как он сам любил явно с чужого голоса говорить, занимался «строительством своей фигуры», готовясь к победам на мировых конкурсах культуристов.
Так доходили они до Крестовки, еще не окантованной в серый гранит, и вот тут-то начиналось «академическое» раздолье: причалы, пирсы и боны с крутыми сходнями, спускающимися от эллингов к воде, и клубы, клубы: здесь — «Буревестник», рядом — «Энергия», а чуть дальше, за поворотом, — «Строитель», славившийся в те времена своей академической «восьмеркой», отличным причалом и лучшей коллекцией пластинок в радиорубке, коллекцией, включавшей такие шедевры, как «Рио-Рита», «Солнце зашло за угол» и попурри из музыки к кинофильму «Серенада Солнечной долины» в исполнении Цфасмана.
Но они не шли к «Строителю», нет, разве что в те дни, когда тренировки не было или она была отнесена на вечер. Они сворачивали влево и шли берегом Крестовки, мимо старинных зданий, окруженных сплошными заборами, мимо дуба в чугунной ограде, усталого морщинистого дуба, посаженного на этом месте (как это явствовало из пояснительной таблички) собственноручно Петром Первым, и дальше — через горбатый деревянный мостик в том месте, где Крестовка впадает в Малую Невку. И тут они задерживались на несколько минут, останавливались и стояли, опершись о толстый ограждающий брус, до тех пор, пока из темноты пролета не выскакивало длинное сверкающее тело «скифа». Тогда они вздыхали и несколько мгновений провожали удаляющуюся лодку завистливыми глазами; им самим о «скифе» нечего было еще и мечтать. На их долю доставались пока еще только пузатые учебные «четверки», похожие на плавучий гроб, и только изредка, по большой удаче, «клинкера». Но «скиф», настоящий «скиф» с его стремительными обводами, гладкими, лоснящимися боками — красное дерево и медные точки соединений, туго натянутая дека, бесшумные желтые сляйды на колесиках — все это было мечтой столь же недостижимой, хотя и зримой, как ангел на шпиле Петропавловской крепости, с той только разницей, что ангел был им вовсе ни к чему. Но «скиф»… И когда они шли по Вязовой улице, оставляя по левую руку «Пищевик» и «Авангард», а в просвете между домами серебряно и призывно сверкала вода, они говорили друг другу проникновенно и тихо: «Вот когда мы сядем в „скиф“…»
И сердца их бились разом радостно и горячо.
И тут они уже подходили к зеленым воротам своего «Красного знамени», где в глубине запущенного парка стоял странный двухэтажный, весь в крутых черепичных скатах дом, нет, храм, где они по-своему приносили жертвы и давали обеты, их клуб — с просторным эллингом, с кают-компанией и огромным деревянным балконом, с которого в бинокль просматривалась вся гоночная трасса, — самый старый в городе. Да нет, не в городе — во всей стране, а может быть, и в Европе, гребной клуб, основанный еще в прошлом веке.
В кают-компании до сих пор они могли видеть фотографии тех незапамятных времен. И хотя не было уже людей, запечатленных на толстой, чуть пожелтевшей от времени бумаге, но остались их имена, выгравированные на потускневших, потемневших бронзовых пластинках, имена, некогда сверкавшие, как вычищенная корабельная медь, а теперь забытые всеми и не говорящие ничего. На фотографиях, скрестив на груди руки и напрягши мускулы, стояли, не отводя глаз от объектива, эти усатые мужчины в полосатых рубашках и длинных, до колен, трусах. Или они же на других фотографиях демонстрировали приемы гребли, приемы, казавшиеся сейчас смешными даже им, новичкам. Потому что даже новички теперь знали, что нельзя грести на вытянутых, прямых руках, нельзя так откидывать корпус, и смешно было даже думать о том, какой темп можно было развить при такой технике, когда после гребка ты ложишься, откидываешься назад так далеко, что едва не касаешься затылком коленей того, кто сидит сзади. Но мускулистые мужчины в полосатых рубашках и длинных трусах на фотографиях, похоже, были нимало этими обстоятельствами не смущены, и год за годом они все гребли и гребли, откидываясь корпусом далеко назад, и сурово напряженные их лица незримо витали под сводами, когда по давно заведенному обычаю в кают-компании собирался народ, а в углу бушевал старинный самовар с медалями, и крепкий коричневый чай всегда был к услугам любого, кто, промокший и продрогший или просто усталый, будь то знаменитый чемпион или новичок вроде них, вернулся с тренировки в клуб.
Да, они любили его, свой клуб, так не похожий на все эти новые, чрезмерно застекленные, суперспортивные, неотличимые друг от друга сооружения. Им было равно приятно все, что там ни выпадало на их долю: намывать ли тряпкой и мелом круглые окна, красить ли балкон, драить ли суконкой и зеленой жирной пастой латунные поручни, не говоря уже о том, с каким вдохновением, восторгом чистили и скоблили они свои весла, как намывали, облизывали лодки, как любовно смазывали тавотом уключины, подгоняли барашки, балансировали вертлюги. С каким благоговением они произносили великие имена — Тюкалов… Кирсанов… Рагозов… Как подражали им во всем — в походке, в манере носить шапочку, выносить лодку, вытирать весла.
Далекое время, юность, не знающая, что ждет впереди. Смелые планы, дерзкие, необузданные полеты фантазии, радость жизни. Тяжесть лодки, упругое сопротивление синей воды, радужные пятна, уходящие назад, и упругие водовороты в том месте, где только что было весло. Вперед! Руки медленно выносят длинное весло; мягко, с легким скрипом, движется по полозьям сляйд, левая рука легко лежит на рукояти, правая доворачивает, доворачивает весло так, что в момент захвата — плечи впереди, ноги в упоре — лопасть неуловимым, стремительным движением вонзается в воду. Спина напрягается; лодка вздрагивает; пенится, крутясь, вода; еще дальше разорванные радужные пятна, корпус мягко отваливается назад — не так, как на старинных фотографиях, чуть-чуть, лишь для того, чтобы пропустить у живота валек. Водяная пыль ложится на лица, горячий пот стекает по спине, четыре весла, словно ладони, бережно плывут в воздухе, на руках пухнут и наливаются мозоли. А с кормы, где, держа в руках веревочки руля, сидит веселая румяная Томка в зеленой зюйдвестке, слышно:
«И-р-раз, и-р-раз, первый номер, четче захват…»
Острая прохлада, зеленые берега, проплывающие мимо, гулкая темень под мостом и завистливые взгляды нарядной публики, глядящей сверху вниз.
И пот, пот, пот, текущий по спине и груди.
И счастье уставшего, натруженного тела.
И звонкий голос с кормы:
«И-р-раз, и-р-раз… а ну, прибавить!»
Она могла бы вспоминать без конца. Она не думала, что все забыла, но и не думала уже, что помнит все так ясно, так живо, словно это было вчера. Вчера, а не двадцать лет назад, когда они пересели в долгожданный «клинкер» и, вернувшись с тренировки, плавно пристали к бону.
«Раз-два, взяли». Восемь рук выдергивают черное веретено лодки из воды, лодка взмывает над головой, опускается на подставленные ладони и плывет в эллинг на свой стеллаж. Весла, аккуратно уложенные одно к другому, красные лопасти книзу, устало вытянулись на сходнях. А солнце все светит, синяя вода лениво облизывает доски причала, голубеет небо, и в груди нарастает что-то, ширится и рвется наружу. Может быть, это крик радости рвется из груди, предчувствие счастья, любви, нежности. Не потому ли хочется петь, и смеяться, и плакать в одно и то же время, и скакать на одной ножке, и обнять всех на свете, весь мир — деревья, старый одичавший сад, этот нелепый и смешной дом в чешуйках черепицы, кусты и деревья, реку и людей. Не потому ли все это, что ты просто счастлива? Ты счастлив, я счастлива, он — он тоже счастлив. Все мы счастливы, потому что мы молоды и полны надежд, потому что нет войны, потому что светит солнце, и тебе пятнадцать лет, и нельзя, немыслимо думать, что когда-нибудь может быть не так, иначе. Нельзя представить, что будет через десять, двадцать или, скажем, двадцать три года. Сколько же тебе тогда будет? Тридцать восемь? Нет, этого не может быть, представить себе это невозможно, это невозможно представить в пятнадцать лет, как невозможно предположить, что когда-нибудь, через двадцать три, к примеру, года, ты обернешься однажды и спросишь себя: а была ли ты счастлива? И скажешь: да, была. И укажешь точно когда: это было летом тысяча девятьсот сорок девятого года.
«…Он ей скажет… скажет…»
Зыкин стоит под душем. Упругие горячие струи дробно барабанят по телу. В душевой никого нет, пар густыми клубами поднимается кверху, превращаясь в туман; густое туманное облако медленно оседает, опускается, затягивая все кругом. Упругие струи все бьют горячей, почти кипящей водой, смывая горечь долгих, бесчисленных дней ожидания, смывая все, все, что было давным-давно, до новой эры, до сегодняшнего дня, что было в прошлом и чего не будет больше никогда. Огромная, не знающая пределов радость переполняет его, распирает грудь, рвется наружу и, наконец, вырывается в крике, который вязнет в густом тумане. Он кричит снова и снова, этот крик лишен какой-либо определенной формы, это чистый крик радости и победы, первобытный клич, танец при луне над темной громадой убитого мамонта, воздетые кверху руки, сжимающие каменный тяжелый топор.
Он победил… и теперь… он… скажет.
Он закрывает глаза, все равно ничего не видно. Он мог бы не закрывать глаза, но он закрывает их и видит ее, ту, которой он все скажет — сегодня, в этот день, совсем скоро, в этот день, когда крик радости рвется у него из груди, в день, которого он ждал так долго, в который он верил всегда, даже тогда, когда давно уже никто не верил, когда даже он сам, казалось ему, уже не верил, — в этот день он скажет ей то, что не решился бы сказать ни в какой другой. В этот прекрасный день, день его победы… Сегодня.
И в то время, пока он стоит под душем в пустой душевой, в клубах пара под обжигающими струями воды, которые упруго барабанят по телу, уже разносится весть, словно круги по воде, уже звонят и звонят телефоны. Они звонят по вертикали и по горизонтали, все дальше и дальше по горизонтали и все выше и выше по вертикали. И в то время, как он, стоя в клубах пара, закрывает и открывает глаза, ничего не видя кроме той, кому предназначены слова, невозможные ни в какой другой день, в это время разные люди в разных местах — в больших и не очень больших комнатах, в кабинетах, обставленных получше и похуже, в приемных не очень важных и важных очень, — эти люди берут телефонные трубки. Они слушают сначала безразлично, а затем внимательно, записывают, делают пометки, ставят условные значки, задают вопросы, уточняют, опускают трубки, набирают новые и новые сочетания цифр. Весть ширится, круги расходятся все шире и шире, и новые и новые люди, узнающие ее, хмурят брови, снова и снова записывают, спрашивают, отдают распоряжения.
Все эти люди воспринимают весть по-разному: некоторые с недоверием, некоторые с удовлетворением, большинство с недоумением — эти люди задают вопросов больше, чем другие.
— Что? — спрашивают они. — Где, когда? Ах так… так… так…
А затем они добираются до главного, до сути, ради чего с утра стали звонить телефоны на разных уровнях.
— Сколько, — переспрашивают они, — как вы сказали? Минута четыре секунды ровно? Но ведь это же… этого же не может быть…
И вот тут-то, после успокаивающих, авторитетно подтвержденных заверений, и начинается следующий этап звонков по вертикали или по горизонтали, ибо цифры эти, эти слова «минута четыре секунды ровно» обладают, похоже, магическим свойством и повторяются снова и снова — «минута и четыре».
Минута и четыре секунды ровно. Так оно и было.
Ибо именно столько успела пробежать сегодня стрелка на большом секундомере бассейна, равно как и стрелка на маленьком секундомере, который вздымался и опускался на голом животе тренера. Одна минута четыре секунды ровно — что тут можно добавить еще. Минута четыре секунды — это здорово, это прекрасно, это небывало, это неправдоподобно, это фантастично, этого не может быть, и это так. Это новый всесоюзный рекорд, это новый рекорд Европы, это новый рекорд мира. Это лучше старого рекорда мира на секунду — не на десятую, не на две десятых — на секунду, секунду!
Рекорд, рекорд, рекорд… Слово разносится с быстротою звука, оно звучит и передается из уст в уста, ибо это не просто результат, как бы хорош он ни был. Это результат вовремя, это ложка к обеду, это дает надежду, как выразится некий очень высокопоставленный человек, а надежда для нас — это сейчас самое важное. Это значит — Олимпийские игры, может быть, медаль и уж точно очки. Очки, очки, очки, которых нам так не хватает, которых всегда так не хватает и которых на этот раз не будет хватать еще больше, чем всегда, — там, на Олимпиаде, где каждое очко на вес золота, а времени уже нет…
И снова звонят телефоны, и руки делают записи, набирают новые и новые номера, и в телефонных трубках — в разных местах — звучат одни и те же слова: минута и четыре секунды ровно, да, да, выше, на секунду … да, невероятно … Зыкин… Зыкин, «Динамо». Нет, неизвестно. Тренер неизвестен… да… нет… что? Нет, все проверено, да, неофициально, сегодня утром… Нет. Не включен… понимаю… понимаю. Будет сделано. Сегодня же.
Сегодня. Сегодня он скажет ей. Сегодня он ответит на вопрос, на который тогда, когда он прозвучал впервые, он не мог, не имел никакого права отвечать. Вопрос звучал так: «А что потом?» Тогда он не знал, что ответить, ибо сначала должно было произойти то, что произошло. «Я хочу побить мировой рекорд на стометровке брассом, — сказал он тогда, и после этого не раз твердил одно и то же, вслух или молча: — Я хочу побить его, и я его побью». А она спросила: «А что потом?» Так вот теперь он и ответит ей на этот вопрос. Но прежде она сама тоже… она тоже должна будет сказать ему кое-что. Она должна будет ответить на один вопрос, должна будет — теперь — сказать, произнести то единственное коротенькое слово, в котором для него заключена сейчас вся жизнь, весь смысл его жизни, от которого зависит все его настоящее и будущее, все. После чего он и ответит ей на некогда прозвучавший вопрос: «А что потом?»
Он нарисует ей картину мира, и она увидит себя в самом центре его. Он покажет ей этот мир на ладони, он высветит перед нею каждый его потаенный уголок. Никто до него — он был уверен в этом — не создавал в своих мечтах и не преподносил женщине такого подарка. Он распахнет перед ней ворота этого мира. Он знает, на первый взгляд там может показаться пустовато, особенно сейчас. Но его любовь — это солнце, и всю силу этой любви он отдаст ей. Он скажет ей… Он не представлял точно, как он это сделает, что он скажет ей и какими словами это будет сказано, но он был уверен, что найдет нужные слова в тот самый момент, когда это будет необходимо.
Внезапно его охватывает беспокойство. А что, если ее не окажется дома?.. По его распаренному телу пробежал озноб. Что он делает здесь так долго? Он знает, что по утрам она всегда дома. Что за паника, говорит он сам себе, возьми себя в руки. Она дома!
Резкими, лихорадочными движениями он закрывает краны. Уже на пути в раздевалку ему встречается множество людей, он ловит их взгляды, он слышит их голоса. Кажется, они говорят ему что-то, но что? Он слышит свое имя… слышит слова — «минута и четыре»… И когда эти люди произносят «минута и четыре», их восхищение вполне профессионально; в результатах здесь все понимают толк.
Минута и четыре… вон тот, да… он сейчас в раздевалке.
Он все слышит и не слышит ничего. «Она дома, — убеждает он себя и борется с рубашкой. — Она дома, она дома, она дома…» Он наспех вытирает мокрую голову, его короткие волосы растрепаны, он бросает в сумку полотенце, и мочалку, и мыльницу, и плавки… Скорее. Ему кажется, что проходит вечность, пока гардеробщик приносит ему пальто… И снова замечает, сколько людей вокруг смотрят на него, кивают ему и улыбаются… Кто-то хлопает его по плечу, кто-то жмет руку; как в полусне он слышит свою фамилию и слова «минута и четыре ровно». Подумать только, как это всех волнует, а ему самому кажется, что это произошло давным-давно… И тут он понял вдруг: еще немного, и он заплачет.
— Разрешите… разрешите… Спасибо. Да, да…
Тут он понял, что его тянут за рукав, и сквозь размытую пелену он увидел директора бассейна, Евгения Алексеевича.
— Зайди, — говорил он. — Костя, зайди.
Мелькнул длинный стенд с фотографиями, где его никогда не было, пустые крючки запасной раздевалки, красные стены директорского кабинета.
— Костя, дорогой…
— Я не могу, Евгений Алексеевич, — забормотал он. — Я… я работаю.
Но тот в ответ:
— Звонил Владимир Петрович, сам, — тут палец его вознесся, — сам, и просил тебя быть… Да, прямо к нему.
— Нет, — сказал Зыкин, — я не могу.
— К нему? Да ты с ума сошел… это же случай… Он ведь может все …
Но Зыкина уже не было — только на столе остался узкий листок бумаги с косо падающими строчками: «Институт Водоканалпроект, тел. 97-92-90, отдел вертикальной планировки».
Он уже забыл про красные стены, про лес пустых крючков. Все остается позади, все мелькает в его глазах — стены вестибюля, рисунок дубовых тяжелых дверей и давно уже выученная наизусть надпись: «Здание б. лютеранской церкви Петра…»
И вот он уже на улице. Это Невский проспект, туман уже осел, раздавленный и прижатый к земле ногами пешеходов и колесами машин. Зыкин бежит по тротуару, оставляя за спиной две симметричные башни с часами на каждой — солнечными и заводными, и коленопреклоненный ангел, установленный на постаменте над карнизом центральной части фасада, еще долго смотрит ему вслед усталым и все понимающим взглядом: тому, кто спешит, не может понадобиться время, раз и навсегда остановившееся как на заводных, так и на солнечных часах.
Он бежит по осклизлому тротуару, балансируя, проскальзывая, никуда не глядя и не замечая ничего, — здесь где-то должен быть телефон. Телефон, вот что ему нужно сейчас. Этот занят, этот — тоже… вот пирожковая, вот похожий на гигантский утюг Дом книги… и тут занято. Он устремляется дальше, на бегу он успевает заметить время — настоящее, живое время — на башне часов бывшей Думы. Без четырех минут десять. Не может быть, чтобы ее не было дома, не может быть, думает он, она должна быть, в это время она должна быть, должна… Он повторяет эти слова как заклинание, руки его ищут двухкопеечную монету, ищут и не находят, он стоит в согнутой, неудобной позе, прижимая боком сумку… О, черт… ага, вот она. Руки его трясутся. Наконец он опускает в щель зажатую в ладони монету и набирает номер…
Снег, снег, снег… С утра все было в снегу и тумане, нулевая видимость, снегопады на востоке страны, метель над Сибирью. Здесь, в городе, движение с утра почти прекратилось. Какое везение, что ей сегодня не надо спешить, какая удача, что туман, снегопады и метель оказались сильнее первоклассной техники и она получила сегодня с утра отпуск, несколько часов, принадлежащих ей и только ей, часов незаслуженных и от этого еще более желанных и ценимых. Лежать в ванне и смотреть в окно; смотреть, как за окном падает снег, — что в этой жизни может быть лучше.
Эля лежит в ванне и смотрит в окно. Туман прошел, ветра нет, и она видит, как отвесно и плавно, почти не отклоняясь, с тихим покачиванием опускаются снежные хлопья. «Ванна, — думает она лениво и блаженно, — ванна. Ничего не скажешь, придумано здорово. Придумано здорово, хотя так давно, что даже не скажешь, когда именно. Почти все вещи, придуманные в то время, либо бесконечно устарели, либо забыты вовсе. Термы Диоклетиана, — вспоминает она, — знаменитые термы Диоклетиана. Римляне были сами не свои до купаний».
Она вполне могла бы родиться в Риме при Цезаре, Августе или Каракалле. Термы Каракаллы — вот что сохранилось, при чем тут Диоклетиан!
Она никогда не видела Рима, разве что на картинках, она работала с итальянцами не реже и не чаще, чем с немцами, англичанами, французами. В Париже и Лондоне она тоже не была. Равно как и в любой другой европейской столице, но это ей не мешало. Она не чувствовала себя уязвленной, ее самолюбие нимало не было задето. Все, что можно было увидеть в коротких сумасшедших командировках, она могла узнать из книг — из нескольких тысяч книг, заполнявших бесчисленные шкафы и полки во всех комнатах, коридорных простенках, везде и всюду. Книг ее отца, в которых было все, что могло только понадобиться даже самому любопытному человеку; все сведения о привычках и обычаях давно исчезнувших с лица земли народов, ассирийцев, вавилонян, хеттов, халдеев и жителей Элама — и так до наших дней, до Парижа, Рима, Лондона и Мадрида, все мыслимые и немыслимые справочники и путеводители, а если надо — и слайды, дающие полное, стереоскопическое представление о любом месте на земле. Нет, она не чувствовала себя ни уязвленной, ни обиженной.
Особенно в такой день, как сегодня.
Нежная благоухающая пена приятно щекочет ей кожу. Она лежит в душистом сугробе из пены, закрывает глаза, она блаженствует. Вполне может быть, что это и есть счастье. Во всем теле она чувствует истому; будь она кошкой, она, пожалуй, замурлыкала бы.
«Как хорошо!» — думает она. До чего же мало, оказывается, нужно человеку — горячая ванна и полдня свободного времени, как раз то, что у нее и есть сегодня, неожиданный подарок небес. Буран над островом Хоккайдо, в Сибири аэродромы закрыты из-за снегопада, «на северо-западе европейской территории Союза — туманы и гололед». Группа туристов из ФРГ, совершающих вояж по стране, безнадежно, а еще вернее, надежно застряла где-то между Барнаулом и Москвой, где именно — установить пока не удалось. Диспетчерской службе, во всяком случае, не позавидуешь, диспетчерская служба сбилась с ног, разыскивая пропавших путешественников. Бедная диспетчерская служба, бедные путешественники. Что делают они сейчас — сидят ли в аэропорту в специально отведенной для иностранцев комнате или их возят по городу, о котором они и в жизни не слышали, — это она узнает, когда непогода уляжется, иссякнет гнев небес. А пока этого не случилось, переводчицы «Интуриста» отпущены по домам. Наказ один — быть наготове и никуда от телефона не отлучаться.
Вот и прекрасно. Она и не подумает отлучаться. Где он, этот прекрасный аппарат? Он здесь. Следовательно, лежа в ванне, она верна и духу приказа, и его букве. «Прекрасно. Прекрасно и замечательно, что природа вносит свои поправки в такие, например, планы, как воздушное путешествие над СССР. В жизни так и должно быть, — думает она. — В жизни всегда должно происходить хоть что-то непредвиденное. В этом весь интерес, вся соль». И тут она думает о своей группе, которую она еще и в глаза не видела, — бедная моя группа. И даже произносит это вслух своим низким протяжным голосом, который, правда, почти не слышен ей самой из-за льющейся из крана воды:
— Бедная моя группа!
«Schönen guten Tag, meine Herrschaften! Herzlich willkommen bei uns in Leningrad. Ich bin Übersetzerin von Leningrader Intourist, heiße Eleonor»[2].
«Вот так, — думает она, — вот так, meine Herrschaften, будут вас встречать, когда вы наконец найдетесь и прибудете к нам со своими чемоданами, баулами, кофрами, дорожными сундуками»… Но пока они еще не нашлись, она может понежиться в ванне. Будь на то ее воля — она не вылезала бы из ванны вообще. Интересно, во что бы она тогда превратилась? Наверное, в русалку, — от бедер начинался бы прелестный рыбий хвост, она жила бы в озере и лунной ночью заманивала неосторожных путников в беду. «Русалкой вдруг холодной обернулась…» — так, кажется, или что-то в этом роде. «Откуда ты, прелестное дитя?» Да, что-то в этом роде. Но холодной… бр-р-р. Нет, это не пойдет — чего-чего, а холодной ее не назовешь, и холода она не любит.
А что она любит?
Вода, вытекая из крана, монотонно булькает, бурчит, шумит, плещет. Этот звук льющейся воды убаюкивает ее. Чего доброго, она еще уснет и не проснется. Она выключает кран. Сразу становится тихо. Не настолько, правда, тихо, чтобы можно было услышать, как падают на землю белые снежинки, но очень, очень тихо. Вот кто-то прошел внизу. Хлопнула дверь в подъезде… послышался детский смех — все это слышно ей отчетливо и ясно.
Вокруг теплый розовый кафель до самого потолка. Напротив она видит свое отражение в большом зеркале — тот же теплый тон, хлопья пузырчатой белоснежной пены («Лучший в мире ба-ду-сан»), а из пены — хорошенькая головка в тюрбане из махрового — красное с черным — полотенца. На полу толстый и мягкий в зеленую и розовую клетку коврик, рядом с ванной — столик: толстое, дюймовое стекло на массивной, тяжелой раме; на столике в беспорядке разбросаны книги в пестрых глянцевитых обложках и журналы, а на самом краю, чуть особняком — телефон цвета слоновой кости, от которого под дверь, извиваясь, уходит длинный змееобразный провод.
Что же она любит?..
«Смешно, — думает она. — Такой простой вопрос».
Некоторое время спустя она обнаруживает, что не может дать убедительного ответа на этот простой вопрос.
Так что же она любит?..
«Ну конечно, — думает она. — Конечно — себя». Она чуть приподнимается из белой шелестящей пены и внимательно смотрит на девушку, делающую то же самое в большом зеркале на противоположной стене. Она видит тюрбан, из-под которого на лоб выбился темно-русый густой завиток. Она видит большие — слишком, кажется ей, большие — и наискось поставленные серые глаза. Видит ровную линию шеи, плавно переходящую в узкие плечи… Да, эта девушка — там, напротив — ей нравится. У нее открытое лицо и прямой взгляд, и она… Да, это надо признать, она очень хороша собой.
И девушки улыбаются друг другу.
А что она любит еще? Музыку. Если вытащить руку из белой щекочущей пены, можно включить приемник, который стоит на полу, на толстом пористом коврике. Включить?
Она включает; тишина, щелчки и легкое потрескивание. А-а-а, она же не вытащила антенну. Она вытаскивает антенну, и в ванную врывается огромный мир со всеми тревогами, страхами, надеждами, новостями, сенсациями, достижениями. Английская, французская речь, цены на золото растут, надежды на уменьшение безработицы падают, напряженность на Ближнем Востоке остается без изменения. Договорятся ли русские с американцами? Израильтяне с арабами? Кто будет следующим президентом Франции? Кто победит в личных состязаниях по биатлону? В олимпийском Саппоро шансы русских на победу котируются очень высоко… Рука осторожно поворачивает и поворачивает рычажок. И вот уже мягкие, чуть хриплые голоса заполняют пространство. Это «Песняры», они жалуются, они грустят, они просят, они напоминают о былой любви. Четыре гитары сопровождают пение, четыре гитары уговаривают не отчаиваться, верить до конца, верить, что не все потеряно, что все еще может быть, что все еще наладится, будет хорошо, как было когда-то. Чушь…
Она выключает приемник.
Забыть все грустные истории, никаких мыслей, никаких воспоминаний. Легкий поворот рычажка. Будет ли Миттеран избран кандидатом левых сил? Какой он, этот Франсуа Миттеран, что он любит, как он относится к народным песням, собирается ли посетить Советский Союз?.. Думать, думать, думать — о чем угодно, только не поддаваться этому вирусу грусти, только не признавать себя побежденной, — все что угодно, только не это. Надо жить легко, весело, не обременяя никого своими заботами, у каждого хватает своих забот — в Англии, и Франции, и наверняка даже в Перу, и на острове Мадагаскар. Легко и весело? Да, легко и весело. У нее, правда, так не получилось. Нет, нет, никакой грусти. А ну-ка улыбнись — сейчас же, немедленно.
Девушка в зеркале улыбается — не без усилия, но улыбается. Прекрасно! У нее, у этой девушки, для грусти нет никаких причин: то, о чем она не хочет вспоминать, — позади. Она всем довольна. Она довольна работой. У нее много работы, иногда даже слишком много, — но это ничего, она не жалуется. Неудивительно, что у нее так много работы, туристов с каждым годом все больше и больше, людей, знающих языки, нужно все больше, и она — одна из этих людей, которые нужны. Да, вот главное — она нужна, и, как бы она ни сердилась иногда на беспорядки, несогласованность, неразбериху, она видит, как она нужна, чувствует, знает это — и это ей приятно. Это — настоящее, то, что зависит только от нее. Она работает с английскими, немецкими и французскими группами, она владеет этими языками в совершенстве, как подобает дочери одного из крупнейших историков страны. Конечно, ей далеко до него. Для него, кажется ей иногда, вообще не существует языкового барьера, с одинаковой легкостью он читает ассирийские тексты и египетские иероглифы; латынь и древнегреческий для него ясны и понятны, как итальянский и финский. На такую образованность она, понятно, не претендует. Но подучить испанский и итальянский — это в ее силах, романские языки даются ей легко…
Все хорошо, повторяет она снова и снова, все хорошо. Ей хорошо сейчас, ей хорошо вообще, а все плохое позабыто. Позабыто, позабыто, позабыто…
Позабыто? Конечно, нет. Ерунда все это, жалкая попытка обмануть себя. Ничего, конечно, не забыто, это только спрятано, убрано с поверхности, с глаз долой, это только кажется, что забыто. Это только присыпано сверху тонким слоем последнего времени. Чуть копнешь — и вот оно, ее замужество в семнадцать лет. Блестящий, надо сказать, брак, развалившийся через шесть месяцев. Вот они, глупые, пошлые, с отчаянья и злости, никому не нужные связи, и все, что с ними связано. Все прекрасно — не так ли? Да, прекрасней не бывает…
Стоп, говорит она себе. Прекрати. Немедленно прекрати. Она запрещает себе думать об этом. Обо всем, что было. Улыбайся, говорит она себе. Ну-ка! Не хочешь? Это никого не интересует. Молчи. Кто виноват? Ты одна. Молчи. Улыбайся. Вот так. Нет, не так — не скаль зубы, улыбайся по-человечески. Вот так. Ну, ладно.
«Ладно, — думает она, — ладно. Хорошо».
«Глупо, — думает она. — Что было, то было. Бессмысленно ворошить старое, еще бессмысленней переживать его заново. Хватит. Никаких воспоминаний. Она же решила давно. Никаких воспоминаний о прошлом. Ей скоро будет двадцать четыре, это почти четверть века. Никаких воспоминаний, прошлое принадлежит прошлому, что было, то было, и с этим покончено. Я не хочу о нем вспоминать. Хочу жить, работать, лежать в ванне, за окном пусть падает снег, чистый, белый, невесомый и холодный, и она будет такой же чистой и холодной, а прошлое пусть катится ко всем чертям».
— К черту, — говорит она, — ко всем чертям. К чертовой матери.
Ей нравятся грубые выражения. Они встряхивают, они приводят в чувство, прочищают мозги — как раз то, что надо. Она не может себе позволить такой роскоши, как ненужные воспоминания, ей почти двадцать четыре года, жизнь уже прожита. Она не должна распускаться, никогда, ни в чем: на сердце холод, чистота на душе. И чистое тело. И никакой любви.
Отлегло…
«Все в порядке, — думает она с облегчением, — все в порядке». Она полежит еще немного в теплой благоухающей воде, а затем приведет себя в порядок, затем зазвонит телефон, и прилетит ее группа…
Все прекрасно. Теперь можно и почитать.
Она берет книгу, одну из книг в глянцевитых красочных переплетах. На обложке — фотография девушки с широко раскрытыми, чуть наискось поставленными глазами, длинные волосы упали на обнаженные плечи, взгляд недоверчив и вместе с тем печален. Так смотрят, когда знают наперед, что суждено, — только кто ж это может знать! Этого никто не может знать! И это, пожалуй, хорошо.
Дж. Х. Чейз знал свое дело, и если вы принимались за его книгу — будь то «Вот ваш венок, леди» или «Нет орхидей для миссис Блэндиш», — вы попадали в то же положение, в какое попадает человек, севший в поезд-экспресс, который мчится из Ленинграда в Москву без остановок на промежуточных станциях. Что вам остается в данном случае? Только сидеть у окна и ждать, пока все это кончится.
Она успела только заметить на задней обложке какую-то интригующую врезку, которая касалась неведомой ей miss Arnot, как зазвонил телефон. Протягивая руку, она пыталась понять, догадаться, что же такое случилось с этой самой мисс Арно. Уж не к ней ли имел отношение пистолет с перламутровой рукояткой, а если имел, то какое. И в то же время она думала уже о том, что это скорее всего звонок из «Интуриста», и, значит, неугомонная диспетчерская служба нашла ее рейс, а если это так, то сейчас придется вылезать из ванны и стремглав мчаться в аэропорт… Она уже сказала: «Да, я слушаю», — сказала чисто машинально своим низким с неожиданной хрипотцой голосом, глядя на книгу, на девушку с широко раскрытыми глазами, на перламутровую рукоятку пистолета, прикидывая, что ей надеть… Но за мгновенье до того, как в трубке раздался вздрагивающий, задыхающийся голос Зыкина, она уже почувствовала опасность, о которой совершенно забыла, которую упустила из виду, о которой помнила всегда…
— Эля, — сказал Зыкин, — Эля… я сделал это… Я хочу тебя видеть. Мне нужно тебя видеть, очень…
Эти слова застали ее врасплох. Запинающийся голос еще звучал в трубке, с мисс Арно еще что-то происходило, где-то на необъятном пространстве между Барнаулом и Москвой потерялась группа туристов, происходили в мире великие события и события микроскопических размеров. В эти считанные мгновения для нее все отступило на второй, на третий, на пятый планы, ибо по оба конца провода находились сейчас люди, каждый из которых желал невозможного. И именно в это мгновение — в это и несколько следующих — должна была стать ясной навсегда эта невозможность. И, держа трубку и слушая, как замирают последние звуки бессвязной речи, она хотела лишь одного: чтобы что-нибудь случилось — что-нибудь такое, что сместило бы время на несколько минут назад, пока еще не зазвонил телефон и можно было выдернуть шнур, не поднимать трубку, или на несколько минут вперед, когда трубка будет положена и не надо будет ничего говорить.
Потому что я не хочу ничего говорить, — сказала она себе, — не хочу, не хочу, не хочу, не хочу этого разговора, пусть произойдет что-нибудь. Пусть разговор прервется, я ничего не могу ему сказать, ничего из того, что он хочет, потому что я его не люблю. А кого ты любишь? — спросила она себя и ответила, как несколько минут назад: — Никого. Я люблю свою работу, книги и музыку. И это все? И это все. Зачем же ты ему морочила голову? Ты же знала, к чему это ведет: звонки, театр, филармония, чай вдвоем, высокие разговоры об искусстве… ты ведь знала? Да, — сказала она себе, — знала, но неужели это должно кончиться объяснением в любви? Мне не нужна ничья любовь, — сказала она себе. — Я ничего не хочу…
И пока она говорила себе это, это и еще многое другое, она слышала в трубке прерывистое дыхание и те же слова: «Эля, я сделал это… а теперь, сегодня, сейчас… увидеть… я хочу тебя увидеть». И она снова и снова говорила себе: «Я не хочу ничего больше слышать о любви», — но голос ее произносил с безучастной и расчетливой мягкостью одушевленного автомата совсем другое, хотя, если вдуматься, это другое вело к тому же, что она говорила сама себе. Ибо она говорила: «Ах, в самом деле… Я рада и поздравляю, но сейчас я не могу… Я очень сожалею… Нет, Костя, милый, мне очень жаль»… И так продолжалось до бесконечности и походило на дуэт в манере старинной пасторали, где каждый инструмент с небольшими — очень небольшими — отступлениями и изменениями ведет свою партию. У него эта партия звучала: «Эля… мне надо… я хочу… все равно. А через час?.. два?.. Мне все равно, я хочу сказать… я сегодня свободен». А ее партия звучала то с большей, то с меньшей мягкостью, но одинаково непреклонно: «Нет, нет, я не могу, мне очень жаль, мне очень, очень жаль …» — и все это продолжалось до тех пор, пока в трубке не раздались прерывистые гудки, означавшие отбой. Означавшие, что все кончилось, и она поняла, что сидит в уже давно остывшей ванне и с отвращением смотрит на отражение в зеркале, и в руке у нее телефонная трубка, изнемогающая от коротких и резких гудков.
Позвонить. Тамара думала об этом с самого утра, в трамвае, держась за поручни, вспоминая. «Улица Большая Разночинная. Следующая — фабрика». Туман окутывал ее, все было в тумане, и за окном был туман, местами он редел, затем снова сгущался, затем пропадал.
И вот вагон уже не плетется, он мчится ясным далеким утром, старый, еще довоенный вагон, несется, трясясь. Вся жизнь еще впереди, она поворачивает тебя к себе лицом, и ты, едва погрузившись в омут воспоминаний, должна снова вынырнуть на поверхность, вернуться из далекого путешествия, которое ты с утра сегодня совершаешь.
Когда это было? Сон, мираж, который возникает, если забыть обо всем, если закрыть и долго не открывать глаза. Но если открыть их и забыть обо всем, то останется лишь туман, желтые лица в качающемся желтом свете и хриплый, искаженный микрофоном и динамиком голос кондуктора — ах, ведь кондукторов теперь нет — голос водителя: «Улица Пионерская, фабрика. Девочки, поживей». Хлопнут двери, и трамвай умчится прочь, унося свои желтые огни. И она думала об этом еще некоторое время, пока шла по улице между высоких стен красного кирпича, разделявших старую и новую фабрики, пока шла по этой улице те несколько десятков метров, что отделяли остановку от проходной; через вертушку и дальше во двор, а затем под эстакаду, направо; сотни, тысячи раз пройденный ею путь.
И тут — в тот ли момент, когда она только проходила вертушку, или несколькими шагами позже, или у входных дверей, когда она по ступенькам спускалась в гардероб, вдыхая теплый вибрирующий воздух, пропитанный особым запахом масла, машин и сухой ткани, — в один из этих моментов что-то свершалось в ней, какие-то токи пронизывали ее, и она почти бессознательно начинала чувствовать, ощущать себя некоторым неотрывным, нераздельным элементом всего, что происходило вокруг, — и тут она растворялась в том совершенно ни на что не похожем мире, который назывался работой, настолько, что даже такая важная мысль «позвонить, позвонить…» хотя и не исчезала вовсе, но уходила, отодвигалась, маяча где-то на самом горизонте того мира, который она по привычке, поджав твердо губы, окидывала сейчас напряженным взглядом.
Раздевшись, она поднималась по лестнице вверх, в свой цех, на свой третий этаж. А там уже крутились и крутились мольезные машины, старые, неприглядные, безотказные, неприхотливые машины, крутились без остановки, без передышки, не зная усталости, как крутились они вчера и позавчера, и двадцать, и тридцать лет назад, сматывая с катушек бесконечную нить, пережевывая ее, пропуская через себя, выдавливая снизу круглый, непрерывно струящийся рукав ткани. «Как сорок лет назад, — думает она. — И пятьдесят. И шестьдесят, и семьдесят…»
Крутятся, крутятся машины, выползает снизу длинный, нескончаемый рукав, и так — десять, тридцать, шестьдесят лет. Люди рождаются, плачут, вырастают, влюбляются, сжимают друг друга в объятиях, клянутся в вечной любви, рожают в муках, расходятся, страдают, радуются, умирают. Происходят землетрясения, войны, наводнения. С тех пор как начали крутиться эти машины, изобретены телефон, телевизор, атомная бомба, космические корабли, сыворотка против полиомиелита, напалм, лазер. А бесконечная нить все так же уходит на иголки, и круглый рукав все так же тянется, тянется, как сама жизнь, не имея ни начала, ни конца. А машинам все нет сносу. Сколько тысяч метров полотна успело сойти с этих машин хотя бы за те двадцать лет, что она работает здесь? Или с того дня, как они поставили в последний раз в эллинг свою лодку, чтобы никогда не возвращаться туда? Десятки, сотни тысяч метров, тысячи дней, проведенных здесь. Что такое двадцать лет — половина жизни или миг? Что такое двадцать лет, если память преодолевает их быстрее звука, быстрее молнии. Что такое десять лет и какие следы это расстояние во времени оставляет? Только ли морщины на лице? Или это и девочка, что спит сейчас, бережно прикрытая сползающим одеялом, или это просто отрезок времени с того дня, с того мгновения, как она увидела его лицо, лицо своего брата, и сухие его глаза, которые раньше, чем раздались слова, сказали ей то, что потом подтвердили губы: «Томка, — сказал он, — Тома, вот она и ушла».
Нет, не так все было. Здесь передается только суть, содержание происходившего, но процесс был иным, и он протекал иначе. Не четко, не ясно и вовсе не осознанно. Все происходило сразу, перемешавшись.
Она открывала дверь в свой цех и думала: «Ему сорок лет, а мне…» И в это же время совсем сама по себе появилась такая мысль: «Неужели ночная смена выбрала все сырье?» А кругом пахло разогретым металлом и сухой трикотажной нитью. И она, начальник смены, Томка, Тамара, Тамара Анатольевна Иванова, стала забывать то, что было давно, двадцать, двадцать три года назад, потому что… И былой румянец, как много лет назад рдевший на щеках пятнадцатилетней девчонки, ушел, исчез со щек, чуть впалых уже щек тридцативосьмилетней женщины, от румянца не осталось и следа, и губы поджаты, и никто уже не скажет, что они могли быть когда-то такими нежными, розовыми, такими нежными и податливыми. Никто. И еще она видела круги, круги, круги… круги на воде, маленькие плотные воронки, крошечные водовороты, весла уходят в воду, плавно, почти без скрипа, движется сляйд. Захват, лодка вздрагивает, весла плавно проходят над синей водой, и снова захват, и снова уходят назад и назад радужные пятна, и снова — круги, круги, они расходятся все дальше и дальше, это вовсе не от весел круги, это просто камень упал в воду, в темный пруд. Камень упал и исчез, круги все шире, они расходятся и расходятся, они сейчас исчезнут, как исчез камень, который уходит в ил, заносится илом, исчезает. Ровная поверхность, чуть впалые щеки без румянца, твердые, всегда поджатые губы, резкий голос. Это не он, не он был свежим и звонким, это не он выкрикивал, перекрывая ветер: «Первый номер, захват, захват!»; это не он шептал в растерянности: «Коля, Коля, да как это она, ну не надо, Коля…» Нет. Нет ничего, только ровная поверхность. Кругов уже нет, нет и камня, и что за глубина под безмятежной спокойной личиной, сколько метров от поверхности до оседающего, заметающего все следы ила — метр, два, триста, — никто не знает.
Позвонить… Позвонить… Куда?.. Ах, конечно, позвонить на склад, позвонить на склад сырья, сколько оставили ей пряжи. Или лучше прямо в диспетчерскую; и тут же — нет, лучше пойти на склад самой. И тут же — Тимофеева. А, думает она, вот что: позвонить насчет Тимофеевой. Гордость ее смены, беда ее смены Тимофеева опять не то вышла замуж, не то развелась. Лучшая ее работница, забубенная головушка. Что же стряслось с ней на этот раз? Опять будет жаловаться на свою жизнь эта Тимофеева и проклинать женскую, податливую свою, жалостливую, всепрощающую душу. «Опять, — скажет она и заглянет в глаза, и сконфузится, и снова глянет, — опять простила его, подлеца, моего-то». И увидев по твердо поджатым губам, по глазам, не знающим жалости даже к себе, что нет, не простила бы никогда, как и не простила на самом деле, по брезгливой складке у рта уловив молчаливое негодование, осуждение и презрение даже, добавит: «Ну ты, Анатольевна, крепкая, а я вот — нет. Как увидела его, как пришел он — жалкий, морда битая, драный весь, пусти, говорит, хоть просто посидеть, — ну я… А! Ведь человек же он, ведь муж… Ну шлялся полгода, ну… да ведь не собака, живая ведь душа, человек, жалко ведь». И тут же она, Тимофеева эта несчастная, улыбнется, расправится вся, нет, невозможно сердиться, и скажет: «Да вы не беспокойтесь, я опоздание-то отработаю, станков-то свободных хватит, Вы, Тамара Анатольевна, только на меня сердца не держите. Ну, слабая я, ну, баба; я только вот позвоню ему, как он там, а потом останусь на вечер, на вторую смену, так что не волнуйтесь, не надо…»
Так вот будет с Тимофеевой, дурехой разнесчастной; и стоит только об этом подумать на ходу, на бегу, пробираясь по заставленному мешками проходу к кладовой, как наслаивается тут же другое: поговорить в фабкоме о жилье для Симы Токаревой и узнать о распределении освободившихся мест в общежитии в Бернгардовке. И тут же Анка Кузнецова, которая, отворачивая лицо, шепнула ей несколько слов вчера, в конце смены: опять к врачу, опять в больницу… Господи, бедные, глупые, глупые, несчастные бабы, и мужики эти, с которых такие дела как с гуся вода. Но поверх всего, перекрывая все, одна мысль, которая уже не отпустит ее до конца смены, — сырье, сырье, сырье…
И она пробирается узким проходом, с которого предыдущая смена еще не унесла последний съем, последние метры трикотажа, завязанные в большие зеленые брезентовые мешки, а машины вокруг все жуют и жуют бесконечную нитяную жвачку, замирая лишь на те несколько минут, когда ночная смена передает станки утренней.
Эти-то несколько минут и есть у нее, и она спешит, пока смена еще не заступила. Она спешит и, забыв обо всем, пробирается между рядами зеленых мешков. Но на ходу, привычно, наметанным глазом, а может быть, даже на слух, по звуку определяет, что все основные линии на ходу, в работе все эти старые мольезные машины, а вот новые, мультириппы, еще не пущены, хотя из-за них идет демонтаж. И когда это кончится, когда механики перестанут копаться, когда прекратится эта нервотрепка, потому что план остается и никого не интересует — работают, успели ввести в строй новое оборудование или нет…
И тут она уже окончательно исчезает, погружаясь, растворяясь в делах и заботах смены. И тут она еще плотнее поджимает губы, и голос ее становится еще резче, еще тверже, ибо сырья нет — склад пуст, если не считать жалких крох, которых не хватит даже, чтобы заправить все машины. Парфенов, кладовщик, низенький и лысый, смотрит на нее в восхищении и не без трепета — ай да баба, огонь, генерал; смотрит и разводит руками, сочувственно помаргивая красными после ночной смены глазами: «Анатольевна, ничего не осталось, еле дотянули. Диспетчера обещали подтянуть к утру вагон». Свинство. Они же договорились раз и навсегда оставлять со смены на смену запас, чтобы не было и минуты простоя, потому что тут все дело в начале, а как с простоя начнешь, так потом до конца смены будешь дергаться. И она смотрит на Парфенова тяжелым, неженским взглядом, и тяжелые, грубые слова закипают у нее внутри, и она чувствует в себе что-то похожее на ненависть. И под этим взглядом Парфенов как-то оседает и бормочет, почесывает лысину и старается выглядеть как можно более обиженным.
— Ну, Анатольевна, эт ты зря. Зря, — говорит он, — не веришь, ты позвони в диспетчерскую — там даже на перевалочный склад ничего не везут, сразу в цеха, ну ей-богу.
— А ну вас.
— Ей-богу, — уверяет Парфенов, шагая рядом, почти вприпрыжку, пока они идут обратно через весь цех к конторке, к телефону. И тут она дает выход тому, что возникает в ней, когда она чувствует неповоротливость, неподатливость снабженческого механизма. И хотя где-то в самой глубине она понимает и знает, что не диспетчера поставляют на фабрику пряжу и что они, диспетчера, с охрипшими от бесконечных разговоров голосами, никак не могут сделать больше, чем они делают и сделали уже, зная и понимая это, она все же не хочет ни знать, ни понимать. У нее на руках цех, смена, план. Ее не касается, успели подать вагоны или нет. Люди стоят у станков, у машин, которые нечем заправлять…
— Диспетчерская! Это Иванова, из трикотажного… Так какого же… Нет, не знаю, не понимаю, не желаю понимать, пишу рапорт главному… Нет и нет, где хотите… Это у вас каждый день. Сколько? Ну, этого мне хватит на час… Подали? На лифте? Ну ладно, бегу.
И она бежит. Парфенов уже там с тележкой, у грузового лифта принимает сырье. Принимает… Достаточно одного взгляда, как сердце у нее падает; тут даже нужды нет наклоняться и смотреть на этикетки. И это сырье! Бобины в мешках грязных и мокрых, словно их только что вытащили из канавы. Это, конечно, из Чебоксар, а те, другие, такие же грязные мешки, только чуть посуше, — из Донецка. И это все? Но повеселевший Парфенов говорит — вот там, под низом… Он еще не закончил, а она уже увидела их, аккуратные картонные ящики — один, два, три… восемь. Это как раз то, что нужно. И пока Парфенов тянет тележку к рабочим местам, она думает: «Ну ведь могут на „Веретене“ все делать по-человечески, ведь могут…» И снова какая-то злость тяжело поворачивается в груди: вот взяла бы этих, из Чебоксар и Донецка, да и сунула бы мордой прямо в эту грязь. Сколько времени теперь уйдет на просушку, а то и перемотку… Но тут ее зовут к телефону, и она снова бежит. Что? Сколько? А, это хорошо. А откуда?
Тоже из Донецка. В грязных мешках, в каждом полтора пуда весу. А девкам это таскать вручную. Ну погоди, напишут они когда-нибудь в этот самый Донецк. Или там у них такие бабы, что им поднять двадцать восемь килограммов — плюнуть? И все-таки полегчало, не зря она сорвалась на бедную Горбачеву из диспетчерской. С ними иначе нельзя, с ними иначе — так и прокукуешь до конца смены. Что сырье из Донецка — плохо, но слава богу, хоть сушить не надо, и это намного лучше, чем ничего.
И все-таки — воображение.
Ибо только включив его — если оно у тебя есть, — ты понимаешь, что ничего не происходит. До этого ты думаешь иначе. Ты сидишь в длинной узкой комнате, куда, постучавшись, ты только что вошел через обитую коричневым дерматином дверь, ты видишь стол и желтое пятно света, падающее на его черную поверхность. Видишь перекидной календарь, похожий на большую бабочку с бумажными крыльями, и надпись на этих бумажных крыльях и принимаешь это всерьез. И ты видишь окно, за которым падает снег, и человека, стоящего у окна, человека, который только что сказал тебе: «Входите, товарищ Блинов», — его ты тоже принимаешь всерьез и по одному по этому начинаешь принимать всерьез и все остальное, кроме, пожалуй, снега за окном, который, как тебе кажется, не имеет сейчас к тебе никакого отношения.
Да, ты не принимаешь во внимание снег, но человека ты принимаешь всерьез, и то, что он говорит тебе насчет чертежа 24/318 — «Подъездная дорога к площадке первого подъема», — ты тоже принимаешь всерьез, и даже волнуешься, потому что то, что говорит тебе человек, стоящий у окна, тебе неприятно и не похоже на то, что говоришь ему ты. Ты видишь лицо этого человека, большое и красное лицо в длинных продольных морщинах, видишь его подернутые красноватой сеточкой широко расставленные глаза, видишь, как он начинает ходить и ходит по узкой комнатке от окна к двери и от двери к окну, и слышишь его громкий, резкий и неприятный тебе голос, и он говорит, что не потерпит, и что в отделе творится черт те что, и что срок выпуска — здесь он останавливается и тычет пальцем в надпись на бумажных крыльях, — срок выпуска уже подходит, уже подошел, и он удивляется, что здесь некоторые себе позволяют. Он, кажется, недвусмысленно давал распоряжение о переделке чертежа 24/318, но если кто-то думает, что он бросает слова на ветер, то эти некоторые — пауза, — эти некоторые глубоко ошибаются, в чем, как он полагает, им и предстоит скоро убедиться.
И ты понимаешь, кто эти «некоторые», и снова принимаешь все это всерьез, и начинаешь говорить, что-де не понимаешь тона, что все в порядке и что твое мнение о чертеже 24/318 остается в силе, ибо ты сам проверил этот чертеж и нашел, что подъездная дорога запроектирована правильно, и нет здесь никакого вопроса, и ты готов отстаивать свое мнение…
И, говоря все это, ты слышишь свой голос — серьезный голос руководителя сектора вертикальной планировки Н. Н. Блинова, серьезный голос, отвечающий не торопясь, с бо́льшими или меньшими паузами, означающими, что вопрос, о котором ты говоришь, тобою обдуман, а если ты и запинаешься, то потому лишь, что ищешь еще более убедительные аргументы. Ты серьезный человек, ты отвечаешь за работу своего сектора. Да, говоришь ты, это выходит дороже на первый взгляд, потому что… Ты апеллируешь к здравому смыслу. «Вы же представляете себе, — говоришь ты, — что значит навести эту кажущуюся, мнимую экономию. Пылеватый суглинок, превращающийся от переувлажнения в бурую клееобразную кашу…» Ты говоришь о просадке грунта, о машинах весом в двадцать пять тонн, которые застряли в трясине и которые…
Одним словом, ты серьезный человек, ты относишься ко всему серьезно, ты приводишь, выискивая, все более и более убедительные аргументы, апеллируешь то к здравому смыслу, то к техническим условиям, то к заключениям специалистов, все это действительно волнует тебя, и огорчает, и взвинчивает, и ты нервничаешь, и твой оппонент, повышающий голос, слышит, как в ответ повышаешь голос ты сам, и вот уже звучат угрозы, и ты все еще надеешься убедить кого-то своими продуманными аргументами, и все говоришь и говоришь, уверенный в своей правоте. И все это длится до тех пор, пока ты не понимаешь вдруг, что все это напоминает тебе что-то ужасно знакомое, и ты останавливаешься на полуслове, прерываешь в самом начале свой самый неотразимый аргумент и все думаешь, напрягая память, на что же все-таки так похож этот разговор и все, что сейчас происходит. И вот тут-то ты слышишь щелчок, и твое воображение включается, подобно прожектору, и ты видишь все в истинном свете.
И тогда ты все понимаешь. Все, что ты делал, все, что ты говорил и выслушивал, ты видишь с другой стороны, и, увидев то, чего раньше ты не видел, ты умолкаешь вдруг на полуслове. Ты прозреваешь, как если бы до этого ты был слепым и ходил во тьме по путям своим. Здесь все зависит от того, есть ли у тебя, осталось ли у тебя еще воображение, и если оно есть, то оно и производит это чудо, чудо избавления от тьмы. Оно высвечивает все вокруг, и ты видишь в этом исцеляющем свете, что пространство, которое тебе угодно было до сих пор считать огромным и имеющим первостепенное значение миром, — всего лишь микроскопическая точка, острие булавки, соотнесенное со вселенной, и размеры твоих страстей и твоих проблем столь же смехотворно малы. Их попросту не видно, твоих проблем, как не видно и тебя с твоими аргументами, доводами и ссылками.
Вот почему твоя серьезность и твоя страсть, твоя уверенность в своей правоте и твое упрямство могут существовать в одно и то же время со страстью, серьезностью, уверенностью в правоте и упрямстве другого человека, с которым ты говоришь в длинной комнате и с которым тебе, наверное, еще придется говорить.
И ты понимаешь, что именно здесь самое время тебе рассмеяться над своею страстью и своею серьезностью. И как только ты это поймешь — все сразу становится на свои места и остается там до тех пор, пока воображение не покинет тебя. Ты помнишь, знаешь, что, есть ты или нет тебя, все пойдет так, как и должно пойти, ибо если один падает, то неисчислимое множество других пойдут, не оглядываясь, дальше и будут идти так, пока не дойдут до положенного им предела.
В этих условиях можно было, совершенно не волнуясь, вести разговор на любую тему и принимать любое решение — то ли, на котором настаивал, убежденный в своей правоте, ты сам, или то, на котором настаивал, убежденный в противоположном, твой собеседник. Это касалось любого разговора на любую тему, потому что ты уже видел подмостки и декорации — длинный кабинет, стол, на черной поверхности которого так натурально лежало круглое желтое пятно света, и груду готовых чертежей. Ты видел эти весьма и весьма профессионально сделанные декорации и видел актера, который, войдя в свою роль, роль главного инженера проекта Кузьмина, произносил написанные неизвестным ему автором реплики. И, видя все это, ты, вдруг из участника действа превратившись в зрителя, мог только рассмеяться тому, сколько страсти способен вложить в роль человек, принимающий все происходящее всерьез. Здесь оставалось только отметить, что он немного переигрывает, — так, по крайней мере, тебе кажется сейчас из глубины партера. Да еще вот что — он просит тебя подыграть ему, подать реплику, все равно какую, он говорит, обращаясь к тебе: «Ну, вы склонны теперь переменить свою точку зрения?» И, сказав это, он наклоняется к тебе и серьезно смотрит, и ты видишь снова его красное лицо в длинных продольных морщинах и думаешь: «Что же ему ответить, какую подать реплику?» Ведь после окончания спектакля все мы идем домой. Подмостки останутся позади, и один вспомнит о том, что его ждет пустая квартира, где пыль лежит на подоконниках и темный коридор ощерил темную пасть, и надо идти в магазин за телячьей колбасой и бутылкой вина, а другой — тоже придет в пустую квартиру, где, правда, нет пыли, и будет стоять у плиты, листая поваренную книгу, старую поваренную книгу без обложки, пока не найдет то, что ему нужно. То, что ему нужно, окажется на странице 171 и будет называться «телятина жареная», и он прочтет, что: «…телятину (часть задней ноги, корейку, лопатку или грудинку) обмыть, посыпать солью, полить 2–3 ст. ложками растопленного масла, положить на противень или на сковородку и жарить в духовом шкафу или в печи, периодически поливая образовавшимся соком. Готовую телятину нарезать ломтиками, уложить на блюдо и полить процеженным соком. На гарнир жареный картофель или сборные овощи — горошек, морковь, цветная капуста, стручки фасоли и др. Отдельно можно подать красную капусту или салат».
И вот там, стоя у плиты и поливая «образовавшимся соком» телятину (часть задней ноги, корейку, лопатку или грудинку), ты и станешь самим собой. А та роль, которую ты исполнял недавно, час или два назад, в более или менее правдоподобных декорациях, уже не будет иметь для тебя такого значения, как то, прожарилось мясо или нет, и достаточно ли ты поливал его «образовавшимся соком». Да, та роль уйдет от тебя в туман, в дымку, и предложи тебе кто-нибудь продолжить разговор о чертеже 24/318, ты, возможно, не поймешь даже, о чем идет речь, а поняв, скажешь: «Господи, да какое все это сейчас имеет значение?» — или что-нибудь в этом роде.
И голос твой будет звучать так же естественно, как в то мгновенье, когда ты говорил: «Нет, это решение представляется мне абсолютно невозможным», потому что тогда ты произносил реплику, а теперь ты ушел за кулисы и можешь посмотреть на пьесу со стороны и она вполне может показаться тебе плоской. И девушке, которой ты по ходу пьесы клялся в вечной любви, ты говоришь за кулисами: «Нет, я об этом не имею ни малейшего понятия» — и вовсе не собираешься на ней жениться.
Другое дело красная капуста на гарнир. Где ее взять?
Но тогда одно неясно. Одно.
Почему же ты сказал «нет»? Почему ты сказал это в тот момент, когда ты сидел уже в зрительном зале и вполне понимал, что твой ответ не более чем реплика? И что бы ты ни ответил на вопрос, который задал тебе человек, склонивший к тебе длинное красное лицо, твой ответ повлияет на жизнь большого мира не более, чем песчинка может повлиять на величину океанского прилива. Что бы ты ни сказал, все будет так, как было бы, если бы ты вообще не был зачат и рожден: будет построена станция для очистки воды, и будет к ней дорога, и будут ходить по ней машины, и уйдут сброшюрованные в книгу с коричневыми дерматиновыми обложками чертежи. Зная все это, ты все-таки сказал ему «нет».
«Нет», — сказал ты и увидел какое-то смутное выражение на склонившемся к тебе лице: что-то мелькнуло в нем похожее на удовлетворение, как если бы он знал, что ты можешь произнести и другую реплику, которая лишит его возможности играть дальше. Но ты сказал то, что позволяет ему еще побыть в этой нравящейся ему роли. А ты своим ответом втянул себя в цепь событий, каких вполне можно было бы избежать, скажи ты простое «да».
Но ты сказал «нет». Идя обратно, на свой этаж, к своему столу, где ждет тебя заботливо прикрытый листом ватмана чертеж, и линейка, готовая послушно заскользить на латунных роликах, и черные сатиновые, изрядно протершиеся нарукавники, ты думаешь все о том же — почему же ты, отлично все сознавая и понимая, сказал: «Нет, я не согласен».
И не можешь себе объяснить.
«Но, может быть, — думаешь ты, — и это для чего-то нужно — совершать поступки, которые не в силах потом объяснить самому себе?»
И вот дверь, снова дверь, та же, что и утром, та же самая дверь и та же самая табличка «Сектор вертикальной планировки», только утренней тишины давно уже нет, словно не было никогда. Глухой многоголосый шум продолжается еще несколько мгновений, затем исчезает, словно обрезанный ножом. Блинов снова ощущает себя в центре, на нем сфокусирован взгляд нескольких десятков глаз, и в них — немой вопрос, разбавленный изрядной долей любопытства. Вопрос висит в воздухе, он словно материализовался, немой вопрос; тревогу он прочел лишь в одном взгляде, там, в углу. Он отвечает всем, он равнодушно и спокойно обводит взглядом большую комнату, избегая смотреть в угол; идет на свое место; за ним, словно невидимые волны, смыкается потревоженная тишина, впрочем ненадолго. Шум появляется снова, он чуть слышен, потом он растет, пока не достигает своего нормального уровня. Блинов говорит себе: «Все хорошо, их это не касается, это касается только меня. Надеюсь, на моем лице они ничего прочитать не могли…» Взгляд из дальнего угла, этот тревожный, этот всегда встревоженный взгляд, не отпускает его, но Блинов туда не смотрит. «Нет, — устало говорит он сам себе. — Нет. Не надо». Но он чувствует, как приближается то, чего он не хочет, и он уже физически ощущает на себе встревоженный взгляд темно-карих глаз.
Почему мы никогда не можем полюбить того, кто любит нас, почему мы не ценим этой любви и готовы променять ее на собственные страдания, даже если они совершенно бессмысленны? А может быть, любовь — это и есть страдание прежде всего…
Тут он слышит подрагивающий голос:
— Можно мне пойти занять для наших очередь за зарплатой?
Не поднимая головы, он говорит:
— Конечно, Люда. Идите…
Значит, сегодня зарплата.
Мы не любим того, кто любит нас. Тот, кого мы любим, любит кого-то другого. Слишком поздно ты сделал это открытие. Лучше поздно, чем никогда. Это открытие, из которого ни один человек не сможет извлечь практической пользы, ты сделал 1 февраля 1972 года. Тебе помогла его сделать техник Комиссарова, 22 года. И она не открыла еще для себя того закона, который открыл ты. А может быть, женщины толкуют этот закон по-своему?
Если бы он захотел… но он не хочет. Нет.
Зарплата, зарплата, зарплата. Это хорошо.
Но что же это все-таки было? Это было давно. Когда? Это связано с окном. Нет, не помню. Это было сразу после войны. Как давно это было…
И снова Блинов сидит, застыв на своем рабочем месте, на стуле, на котором ему еще сидеть и сидеть годы, а может, и десятилетия. Руки его сами производят обычную, механическую, не требующую умственных усилий работу — открепляют ли они лист испорченного ватмана, вытаскивая из мягкого дерева чертежной доски три разноцветные кнопки, двигают ли большую, бесшумно скользящую на латунных роликах линейку, вытягивают ли из острого грифельного жала линии — вертикальные и горизонтальные. Руки его работают, проводя толстые, тонкие и выносные линии, деревья в виде кружочков все гуще и гуще заполняют чертеж.
Слева от него окно, огромная прозрачная перегородка между ним и остальным миром на высоте тридцати метров. Тумана уже нет, сверху ему видны маленькие сплюснутые фигурки, без видимого смысла снующие туда и сюда по маленьким, словно только что нарисованным на чертеже, тротуарам.
Да, он смотрел сверху вниз и вдаль, и что-то шевелилось в нем самом, словно камень упал в воду и канул на дно, — круги по поверхности все шире и шире, а снизу к поверхности, как взрыв, устремился слежавшийся годами ил воспоминаний.
Да, он помнил это — он сидел у окна. Но что это было за окно, что он видел и в какой связи находилось все это с последующими его поступками, когда он действовал словно бы против своей воли? Прошлое было похоже на плотно слежавшийся ил. Был ли смысл подниматься ему к поверхности памяти? Прошлое было замком за семью печатями, а может быть, их было и много больше, чем семь. Может быть, их насчитывалось десять, пятнадцать или двадцать шесть, если считать по году на каждую печать. Когда ж это могло все быть, неужели в сорок пятом году? А если это действительно в сорок пятом, подумал он, то как бы стал он жить, если бы знал, что через двадцать шесть лет найдет себя сидящим на этом вот стуле у окна, похожего на большую стеклянную стену, отделяющую его от мира.
Закрой глаза.
А потом открой.
И он закрыл глаза, закрыл их крепко, а потом открыл и увидел дом, огромный и синий. Дом стоял у самого берега в том месте, где река разветвлялась. С его места — на третьей парте, в левом ряду слева — ему хорошо было видно все, что происходило за окном, и он не слушал, что происходило в классе, где маленький майор со шрамом через все лицо, вздрагивая у карты указкой, рассказывал о войне какого-то Цезаря с каким-то Помпеем. Блинову все это было неинтересно, он не любил историю и не видел причин ею интересоваться. Он собирался стать командиром торпедного катера, это было решено давно и окончательно, и история ему была ни к чему; другим, полагал он, тоже.
Маленький майор нервно ходил вдоль карты, перекладывая указку из одной руки в другую. Юлий Цезарь решал, переходить ему Рубикон или нет, к торпедным катерам это отношения не имело: на коленях под картой у него лежала книга «Встреча над Тускаророй», а в окно был виден мост. В окно был виден мост и, конечно, река; вода в реке была цвета жести, и только изредка в ней что-то вспыхивало, и тогда она становилась удивительно густой и синей. На противоположном берегу тянулись приземистые здания, справа по набережной сразу за мостом стояли разбитые, оголенные, растерзанные дома, а одно здание было словно распилено гигантской пилой пополам как напоказ, одной половины не было вовсе, и если вглядеться, то даже через всю реку были видны половинки комнат, в одной из которых — на четвертом этаже — стояла никелированная кровать, и, когда солнце поднималось высоко, никель сверкал, как серебро.
На этой стороне реки перед синим домом и дальше по набережной шел гранитный парапет, а вдоль него тянулась надпись, зеленым по розовому. Большие зеленые буквы криво бежали по розовому граниту и, загибаясь, уходили направо до того места, где стояла сгоревшая подводная лодка. Вообще-то надписей было две, но со своего места у окна Блинов мог видеть только первую, да и то не до конца, впрочем, он давно уже выучил ее наизусть: «Где бы немец ни летал, бей фашиста наповал», причем «наповал» уже загибалось вправо. Но если выйти в коридор, то вторая надпись — «днем и ночью — рви немца в клочья», — тоже зеленая по розовому в блестках граниту, читалась совсем легко.
Немцы, только пленные, были здесь же, под окном, они разгребали груды щебня и грузили его на машины, и первое время он думал, что именно к этим немцам относится вторая надпись, та, где говорилось о клочьях, потому что по этим немцам непохоже было, чтобы они когда-нибудь стали летать, и, таким образом, бить наповал их как-то не представлялось возможным. На немцах были темно-зеленые куртки с карманами и такого же цвета пилотки, но сверху они походили на нормальных людей. Они аккуратно сгребали битый щебень и куски кирпича в большие кучи и ходили с носилками мимо зеленых надписей, не глядя по сторонам. Да, внешне они были похожи на самых нормальных людей, и это поражало Блинова больше всего.
Читали ли они эти надписи — особенно ту, что грозила им днем и ночью? Блинов никак не мог отделаться от мысли, что однажды все поймут, что это же немцы, которые еще недавно убивали наших, разрушили дома на той стороне реки и сжигали все и душили, и тут-то все переменится, и они перестанут наконец быть похожими на нормальных людей, а станут теми, про кого и писалась вторая надпись, а тут-то все и свершится, и народ разорвет их в клочья, как то и предсказывала зеленая надпись.
Он не знал, когда были сделаны эти надписи, одно было ясно — не в сорок четвертом, потому что в сорок четвертом, когда они вернулись в Ленинград и он поступил в училище, надписи уже были. Неизвестно, кто их написал и когда, сейчас было уже лето сорок пятого года, война давно уже окончилась — по крайней мере в этих краях. И теперь шли последние занятия, после которых пройдут экзамены, и они уедут в лагеря на целых два месяца, а потом их на месяц распустят по домам.
Вот уже год, как он был воспитанником училища. В мае сорок четвертого они все вернулись в город — он, и тетя Шура, заменившая ему мать, и Пашка, который стал ему братом, и Томка, а потом вернулся с войны, опираясь на костыль, муж тети Шуры, дядя Толя, и — это сообщил Пашка — скоро должен был родиться еще кто-то, так что в комнатке напротив татарской мечети было не скучно.
Впрочем, скучно не было никогда, и он никогда не ушел бы оттуда, если бы не хотел так сильно стать моряком и лететь над водой на своем торпедном катере. Объявление на углу Кировского проспекта и Малой Посадской он прочел случайно. Когда он прочитал объявление, он понял сразу, что вот она, его судьба, означенная черными буквами по серой бумаге, и почувствовал, как из глубины поднимается что-то горячее, и тут же была уверенность — он поступит. Иначе не может быть. Он помнил долго ту последнюю ночь, которую он провел дома перед училищем, — он так и не мог заснуть, они лежали с Пашкой на матрасе у окна, и Пашка всю ночь дрыгал во сне ногами.
Он все сделал, что было надо: отнес табель и документы, пошел на экзамены и сдал их, и его приняли, — голубая бумажка сказала ему об этом. Он держал ее в руке целый день, разворачивал и читал — не обман ли, или, может быть, показалось. «Буду моряком, буду, буду». Дома кружились, кружились улицы, кружилась голова, и море, море, море видел он вокруг себя, много разных морей, разноцветные моря. И он повторял без конца: «Красное море, Черное море, Желтое море». Это были его моря, это была его земля, он летел по разноцветным волнам, вздымая разноцветную пену.
Это произошло летом, поздним летом сорок четвертого, тетя Шура плакала, огромная дубовая дверь открылась и закрылась, и за ней исчезла долговязая тощая фигурка, — уж не навсегда ли? Дверь открылась и закрылась, началась новая жизнь, не похожая ни на что: форма номер один, номер два и номер три, ботинки простые и выходные, из хрома, и бляха с ремнем, и ночные дежурства, и американский шоколад в твердых картонных, облитых воском коробках. И многое было потом, что он частью забыл, частью не вспоминал никогда. Но это он запомнил — маму Шуру; она стоит, слезы катятся по круглому доброму лицу, и Томка стоит, вцепившись в подол, и Пашка, брат, — руки в карманы и губы в ниточку — он тоже смотрел и запоминал навсегда, как открылась и закрылась дверь, и тогда он сказал: «А я… я пойду… в ремесло».
Что он и сделал.
Дверь открылась и закрылась, и началась другая жизнь. Их сразу увезли из города. Он помнил Карельский перешеек, и пустые финские дома, и чердаки, где валялись винтовки, и тропинку в лесу, где за второй развилкой они нашли пулемет и пробитую пулей не нашу каску, по которой деловито проложили тропку маленькие рыжие муравьи.
Их было сто человек, разных, как могут только быть разными сто человек, у которых общим было только одно — они были сироты. И был капитан-лейтенант Шинкарев с двумя орденами Красного Знамени. И гранаты с длинными ручками. «Смотрите», — говорил капитан-лейтенант, и граната, виляя ручкой, неслась и взрывалась в лесной чаще. И Шиков притащил найденный у Белой дачи новенький «вальтер». И они спали на двухъярусных нарах, и Ярошенко был пойман на том, что по ночам ел из тюбиков зубную пасту. И ходил между ними, облеченный доверием начальства, их первый вице-старшина Кузнецов, и две медали позвякивали на его широкой груди, и его широкая рожа, украшенная парой маленьких глаз, обещала им то, что они и получили от него очень скоро.
И была осень — прекрасная осень на Карельском перешейке, и палевые листья тихо плыли по черной поверхности озера, и по ночам они молча плакали в подушку, вспоминая тех, кого им не суждено уже было увидеть. Но только ночью, потому что днем они уже были моряками и мужчинами, и днем они стыдились своих ночных слез.
А потом пришла победа.
Победа — дежурный офицер, вбежавший в столовую, где они сидели поротно, по сто человек за длинными, бескрайне длинными столами, это раскрытый, сведенный судорожным криком рот и воздетые кверху руки, это общий крик, вырвавшийся из груди, забытый обед, нарушенный порядок, грохот, и гам, и неистовое ликование.
Победа — несметные толпы на набережной, тонкие орудийные стволы, вытянутые к черному небу, сотни пушек забивают в оживающее небо тысячи рассыпающихся разноцветных точек, красные, желтые, зеленые искры, падающие вниз, в темную воду реки.
Победа — слезы, текущие по лицам людей, переживших здесь блокаду; тесные объятия, неумолкающий гул тысяч голосов, вспышки огня, вырывающие из темноты руины домов, землю, прорезанную шрамами окопов, серебро медалей на груди мужчин, худые лица женщин; всеобщее братство и горечь потерь — ведь те, кто погиб за этот день, так и не увидели его.
А через три дня начальник училища получил телеграмму, извещавшую его о том, что отец воспитанника Блинова, гвардии полковник Блинов Николай Иванович, погиб в Берлине 9 мая 1945 года при выполнении боевого задания.
Николай Николаевич, вас просит к себе главный инженер.
Потом Зыкин не раз пытался вспомнить ход событий, и каждый раз это кончалось ничем. Какое-то звено всякий раз выпадало, и появлялась лошадь, которой вначале быть не могло. Это было как во сне, когда читаешь загадку и пытаешься ее отгадать, и тут вечно не хватает какого-то маленького связующего кусочка, и кажется: вот-вот ты решишь. И вместо этого нелепица, какая-нибудь лошадь — и ощущение замкнутого круга.
Итак, лошадь, это точно, но не сначала; начало же определялось с помощью логики — он звонил по телефону… Значит, это был телефон, черная трубка и голос в ней: «Нет, Костя, нет, это невозможно, мне очень жаль…» Тут впервые прерывалась связность. Как закончился этот разговор, который должен был стать началом… должен был, но не стал? Он ли повесил трубку? Да, кажется, так. Он сказал: «Я прошу тебя… ты не можешь меня упрекнуть, что я слишком часто прошу, но сегодня…» — «Но почему же именно сегодня?» — «Именно сегодня». — «Мне очень жаль», — сказала она, и тут был снова пробел. Он что — бросил трубку? Но если так, то вся вина — его, он сам все сделал.
А потом была вдруг лошадь, это он помнил очень ясно. Мелкие снежинки опускались ей на спину, и лошадь смотрела на него с нескрываемым сочувствием и укоризной. В глазах ее была укоризна и сочувствие, а он — тоже совершенно четкое воспоминание — разламывал на части батон и то откусывал сам кусок, то давал кусок лошади, и она деликатно брала его мягкими губами.
И все-таки, дойдя до этого места, он ощущал некую недостоверность, как бы разрыв, и всякий раз пытался — то постепенно и с помощью логики, то мгновенно, рывком — восстановить ход событий, как если бы он верил, что, восстановив, он снова сможет вернуться в прошлое и можно будет проиграть этот кусок жизни заново, но по-иному. И тут главным было — или казалось ему, что было главным, — точно все вспомнить.
И он вспоминал — то одно, то другое. Но и здесь было, как с решением задачи во сне, — вспомнив одно, он забывал другое, столь необходимая связь не восстанавливалась. И что за цена тогда была тому найденному им кусочку мозаики, если он не мог определить, откуда этот кусочек.
Вроде бы он стоял посреди города. Ведь из телефонной будки ему некуда было деться, значит, он стоял посреди города, перед глазами была плотная пелена, словно марлевая повязка в несколько слоев. Что-то случилось с ним, какая-то непоправимая катастрофа, и он только никак не мог понять, почему так спокойно все кругом и что ему теперь делать. Кругом был город, не знавший, что что-то случилось. Зыкин смотрел, он и видел и не видел, что творится вокруг него и рядом, глаза его были открыты, и в то же время словно марлевая повязка была на них, и он никак не мог понять, не снится ли ему все это, явь это вокруг или сон и наваждение. Вот видел он ясно людей — он видел, точнее, он знал, что они идут, нормально идут мимо него по своим делам. Но в то же время они как бы скользили вокруг него и будто замедленны были их движения. Получалось как бы раздвоение — одно он видел своими глазами и должен был верить тому, что видел, другое же он знал наверное и точно чувствовал. И как же он мог этим чувствам не доверять? Он знал, что случилась катастрофа, нарушен порядок вещей, что с этой минуты ничего уж не могло быть, как прежде. И в то же время он явственно услышал, как некто, проходивший мимо него, сказал совершенно четко: «Да, да, шапки». — «Шапки? — спросил тут же другой голос. — Меховые шапки? Не может быть!» — «Вот именно, шапки, — настаивал первый голос и, уже удаляясь, подтвердил со страстью: — Да, те самые, по тридцать два рубля…»
Но это уже была полнейшая нелепость, объяснения тут уже, конечно, не было или могло быть только одно — это все мираж и фантасмагория. Это было так нелепо и бессмысленно — шапки какие-то, это было просто отменно глупо, ведь не мог же он предположить, что в ту минуту, в ту самую минуту, когда нарушался порядок вещей, когда человек погибал, стоя посреди большого города, и что-то переворачивалось внутри его от боли и горя, — нельзя же было предположить, что есть люди, способные просто так идти себе и всерьез говорить о каких-то шапках… Ведь какая-то взаимосвязь всех вещей в природе существует, какой-то закон, по которому неблагополучие в чем-то одном тут же отзывается во всем остальном тоже… И тут уже шапкам вовсе не было никакого места и объяснения.
Но нет, конечно, какой-то общий, связующий все части закон существовал. Он уловил несколько взглядов, и они показались ему знаменательными: они были как бы подтверждением того, что его тревога не напрасна. Что-то было такое в воздухе… Он пытался сформулировать как-то свою мысль, но она увертывалась и проскальзывала между пальцами. Он стоял и морщил лоб и как бы слышал со стороны один и тот же вопрос: «Что случилось?» Он плыл сегодня… Это было где-то в другой жизни, и начинать надо было не отсюда… Он должен был сегодня увидеть Элю, он должен был ее сегодня увидеть, он должен был добиться этого любым путем. Это было главным в его жизни, а он вел себя как идиот. Он обязан был найти те самые слова, которые должны были ее убедить. И что из того, что голос ее был мягким, но в то же время непреклонным, — разве не совершаются в мире каждый день и каждый час вещи более невозможные, чем слово «да»? «Нет, я не могу, мне, право, очень жаль, я и вправду не могу». А он-то, он-то что думал, что она зальется от радости румянцем и закричит во все горло — да, да, приходи, дорогой, приходи, мой милый! Этого он ожидал, не так ли? Да разве так бывает? Да разве хоть что-нибудь в жизни далось ему просто так? Разве не приходилось ему запасаться терпением каждый раз, когда он хотел добиться своего? Ведь даже на то, чтобы стрелка, мертвый кусок металла, пробегала на несколько делений меньше, он потратил годы — лучшие свои годы.
Так кто же здесь виноват? Он сам. Так ему и надо. Только что же ему теперь делать, вот что он должен решить. Что ему делать? У него было такое чувство, словно его вычеркнули из какого-то списка и предоставили самому себе навсегда. Или что он вдруг оказался в каком-то чужом городе без всякой цели и смысла — в огромном чужом городе, где его никто не знает и где он никому не нужен.
Он был во всем виноват, это не вызывало уже никаких сомнений. Да, понимал он, катастрофа действительно произошла, она произошла со всем миром, произошла с его собственной жизнью, пусть даже никто, кроме него, в этом не повинен.
Тут он заметил, что холодно: пальцы у него совсем застыли и не гнулись. И в то же самое время он ощущал поднимающийся откуда-то жар. В этом было известное противоречие, он его заметил, и сначала оно показалось ему столь же бессмысленным, как разговоры о шапках… Но позже он понял, что противоречия никакого нет, — ему было и жарко и холодно, вот и все.
Вот тут связная более или менее цепочка его логических построений обрывалась. И тут-то и случилась лошадь. Но разрыв в действиях был точно, ибо откуда же взялся у него в руках батон? Затем появился хозяин лошади — тоже как-то странно появился, словно возник ниоткуда, маленький человечек в чем-то брезентовом и в каких-то противоестественных реденьких повисших усах. Он сказал хрипло: «Ну вот, учи мне ее к батонам; портишь скотину. Эт те игрушка, что ль?»
И снова он шел. Его и трясло от пробирающего до костей холода, и в то же время он чувствовал, как по нему ручьями бежит пот, и горло было совершенно сухое. Как жаль, что зимой нет автоматов с газировкой. И тут он понял — можно ведь просто есть снег, благо кругом его было много. Он захватывал снег в горсть, сжимал его, откусывал потихоньку белый пресный кусочек и брел себе дальше.
Один раз он вспомнил о работе. Ему показалось, что все, не связанное с сегодняшним днем, было как бы в другой его жизни — в том числе и работа. И он вспомнил о работе с каким-то странным чувством. Это был другой мир — большие светлые комнаты, где сидят люди, склонившись над листами ватмана или миллиметровки, линейки и рейсшины плавно ходят вверх и вниз, Николай Николаевич Блинов сидит у окна в своих вечных черных нарукавниках, безучастный ко всему, кроме листка бумаги с переплетением линий, толстая Мария Антоновна поглядывает на часы, не в силах дождаться перерыва, Люда Комиссарова смотрит из угла влюбленными глазами на Блинова, Саша Минкин, листая одной рукой СНИП, другой переставляет под столом маленькие шахматные фигурки из партии Фишера со Спасским, в воздухе легкий гул, тепло, уютно… Другой мир. Где-то на самой обочине сознания всплыла еще мысль, связанная с чертежом 24/318 — «Подъездная дорога к площадке первого подъема», но он отмахнулся от нее. Какое значение мог иметь в его жизни теперь чертеж 24/318, если он не скажет Эле того, что он должен сказать? И не только чертеж, а и все остальное — какую имеет цену, смысл и значение, если нет главного?
А главное — это, конечно, не чертеж 24/318.
Тогда он спросил себя: «А что же главное?»
И сам себе ответил: «Конечно, любовь». Потом поправился: «Эля».
Тогда он спросил себя: «Ну а плаванье?»
И тут он вспомнил, что случилось сегодня, и как он плыл, и как сделал то, к чему стремился целых двадцать лет. Но ничего в нем не дрогнуло, словно это был не он и все это было не с ним, а если и с ним, то давным-давно.
Он не знал, сколько же он ходит. Но ему казалось, что главное — это ходить, таким образом он выиграет время, что-то случится, что-то придумается и он увидит Элю. Увидеть ее — вот что было самым важным, и тут задача была чисто техническая: продержаться. Продержаться на ногах. И он шел и не спешил — куда же ему было спешить, — и думал, думал. Снег шел и переставал, и снова падал. Он прошел один мост и другой, затем шел парком. Какое-то время он стоял у полупустых клеток зоопарка, где косматый зебу, не боящийся снега, терся черными боками о решетку… Затем еще шел и шел… И тут он понял, что вышло очень даже здорово, потому что шел он как бы сам по себе и бессистемно, но пришел прямо к ее дому, хотя и не собирался делать это специально, да и знал умом, что делать этого не надо.
Это был большой дом; две кариатиды поддерживали портик над входом. Ах, как радостно было ему стоять здесь. И он стоял и смотрел на знакомые окна во втором этаже — два из них светились, а три были темными. И уже не шел он никуда дальше, потому что и некуда ему было дальше идти. Он только отошел от дома на десяток метров и сел на гранитный парапет набережной. Отсюда он видел весь дом, и вход, и два светящихся окна, а больше ему ничего не было нужно. Прямо перед ним был домик Петра Первого, почти занесенный снегом, за ним тянулась влево и вправо по первому этажу нового громадного дома витрина гастронома. На том берегу сначала еще виднелась, а потом уже только угадывалась решетка Летнего сада, а справа от него и над самой головой высилась огромная каменная туша диковинного зверя. Зверь был нездешней породы, это был военный трофей, свидетельство чьих-то подвигов, зверь назывался Ши-Цзы и прибыл сюда из Маньчжурии, но какой все это имело сейчас смысл…
Зыкин сидел на парапете, в руках у него был снежок, он сгребал снег с гранитного парапета и откусывал понемногу, сидел и смотрел на два освещенных окна во втором этаже дома с кариатидами у входа. Он сидел, привалившись плечом к безучастному зверю, и ждал.
Перерыв, звенит звонок, перерыв.
Перерыв.
Рука с зажатым в ней карандашом замирает, повисает в воздухе, тонкая линия остается неначерченной. Фраза «При прохождении участка с признаками засоления почвы…» обрывается и остается неоконченной. Перерыв. Согнутые над доскою плечи распрямляются, хрустят расправляемые суставы и в полную силу — наконец-то в полную силу — звучат голоса, ибо прозвенел звонок, символ освобождения, отбой, отбой, и ты свободен на ближайшие сорок пять — нет, уже сорок четыре минуты.
Перерыв.
Голоса:
— Пакеты, кто вчера заказывал пакеты? Да, привезли, но если останется… нет, нет, мне не надо…
— Цыплята, пре-крас-ные, парны́е, по рубль семьдесят пять. Вам сколько, парочку? Хорошо, хорошо, мой муж их о-бо-жа-ет…
— Нет, нет, если бы он не тронул фианкетированного слона… При чем здесь С4?
— Мария Терентьевна, подождите, подождите, я сейчас. Ах, простите, Николай Николаевич, вам ничего не нужно в гастрономе? Мне совсем не трудно…
Перерыв…
— Товарищи, постановляли же открывать окна, это же просто конюшня…
— Ниночка, займите на меня очередь в буфете…
— Николай Николаевич, вам ничего не нужно в буфете?
— Товарищи, кто взял мою ракетку… губчатую…
— А деньги-то дают? Люда? Я бегу… бегу…
— Кто богат рублем? Отдаю сразу после зарплаты…
Перерыв, перерыв, перерыв.
— Девочки, девочки, девочки… там, в угловом… ох, дайте отдышаться, в угловом та-ки-е кофточки — австрийские, воротничок закругленный, всего двадцать четыре рубля. Бегом, там Света из водопроводного…
Перерыв.
Пинг-понг… пинг-понг…
Маленький белый целлулоидный шарик взлетает и падает, взлетает и падает. Взмах руки, удар, подрезка, подкрутка, ноги мягко согнуты в коленях, глаза прикованы к маленькому взмывающему и опускающемуся на жесткое зеленое поле пятнышку. Удар, отбито, еще удар, отбито, накат, прыжок — очко; шестнадцать — семнадцать, подает Смаль.
Инженер Смаль играет в настольный теннис, в пинг-понг, с инженером Ковровым. Мячик, маленькое, безликое целлулоидное существо, загнанный зверек, мечется из угла в угол по жесткому зеленому полю, пытается укрыться то в углу то у сетки, но удары — для шарика они вполне могут называться ударами судьбы — заставляют его снова и снова взвиваться в воздух, вертеться волчком, падать и взмывать, ударяться и отскакивать, перелетать через сетку: влево — вправо, влево — вправо, снова, и снова, и снова под не знающими пощады ударами.
Очко. Двадцать — девятнадцать.
«Десять рублей отдам Дудину, — думает инженер Смаль и отбивает шарик в левый угол длинным подкрученным ударом. — Да, обязательно, — удар, — Дудину и пятерку, — удар, — Прошиной. И, — удар, — рубль, — удар, — взносы. Нет, — взносы — могут — подождать».
Ковров отыгрывает очко, игра до двух. Смаль пританцовывает на пружинящих ногах, глаза его прищурены. «Десять и пять, — считает он, — это пятнадцать. От аванса останется пятьдесят минус пятнадцать — тридцать пять. На тридцать пять рублей надо будет жить до следующей зарплаты, тридцать пять разделить на пятнадцать, это будет…»
Крутящийся шарик мечется из стороны в сторону от беспощадных ударов судьбы; инженер Смаль пытается решить в уме несложную арифметическую задачу — разделить тридцать пять на пятнадцать. Это будет два, два… остается пять. И три. Три на пятнадцать — сорок пять. Три да три в периоде — два рубля и тридцать три копейки в день. Он представляет себе сегодняшнее возвращение домой и глаза тещи, которой он отдаст эти жалкие тридцать пять рублей. Он слышит ее голос: «Мужчина, который за месяц работы получает сто десять рублей, — это не мужчина. Почему, Дима, вам не пойти на завод токарем?» Действительно — почему?
Все свои эмоции он вкладывает в удар. Удар получается неотразимым — Ковров прыгает, дотягивается — нет, не дотягивается. Выиграл Смаль.
Следующий!
Инженер Ковров бросает ракетку на жесткое зеленое поле; маленький белый шарик покорно отдыхает от беспощадных ударов у сетки. Смаль вытирает пот. «Скорее бы малышку отдать в ясли». Хорошо он подрезал последний удар. Ковров — пижон, а пижонов надо учить. Он завидует Коврову — если бы он был сейчас свободен, он, пожалуй, одевался бы не хуже.
И он подтягивает свои штаны с пузырями на коленях.
Чепуха, говорит себе инженер Ковров. Смалю просто повезло. Плевать мне на его азиатский хват. Если бы не сорвалась вторая подача… А впрочем, плевать…
У инженера Коврова нет тещи, ибо он не женат, спасибо. Он молод, он свободен, у него нет ни жены, ни тещи, деньги для него не проблема. Деньги в наше время вообще не проблема, они всюду, не ленись нагибаться и подбирать. Инженер Ковров не ленится нагибаться и подбирать. Очередь за зарплатой вовсе не настраивает его на пессимистический лад. Впереди, через несколько человек, Ковров видит девушку, которую он приметил совсем недавно, впрочем, он и сам здесь недавно. Девушка эта из группы вертикальной планировки, где всегда сидит их начальник, сорокалетний сыч в потертых нарукавниках, так что не заскочишь в отдел и не поболтаешь. Он уже провел предварительную разведку: то, что он узнал, отнюдь не сулит ему легкой победы. Но эта девушка, Люда Комиссарова, нравится ему — в ней есть «нечто». «Мордашка, — думает Ковров, — могла быть и получше, но фигура… ребята с ума сойдут».
И он облизывает губы, знаток и любитель фигур, не последний, нет, не последний в ряду знатоков и любителей; с такой девчушкой не стыдно появиться нигде. Лучшей не было, пожалуй, даже у Лени, бармена из «Заневского», признанного законодателя вкусов в их кружке.
И все же он колеблется, какая-то неуверенность в нем, так не свойственная ему. Может быть, все же не стоит тратить на это время? И он снова вспоминает своего великого друга, бармена Леню: жуткая история с той девчоночкой из Политеха (как ее еще звали — Оля? Таня? Чем-то они похожи — и не только фигурами — та девчонка и эта Комиссарова)… так стоит затевать историю или нет? Он еще раз смотрит на техника Комиссарову, и все сомнения покидают его. «Черт побери, — думает он, — черт побери. Это просто немыслимо!» Нет, решено — он потратит на эту дурочку время… Он чувствует — если умно себя повести, удовольствия тут хоть отбавляй. Сомнений нет — конечно, она станет корчить из себя недотрогу, это видно сразу, это такой тип. Пожалуй, такую прямо домой не потащишь. Впрочем, это и хорошо: такие, что сами прыгают в постель, ему уже надоели. Преодолеть сопротивление — вот задача по нему. Прикинуться робким влюбленным, бросать взгляды, как бы млея от восторга, потом, заикаясь, пригласить куда-нибудь; шаг за шагом наблюдать, как она оттаивает… да, это задача. Это требует времени и денег. Это требует терпения. Это требует умения ждать. Но он себе это может позволить. Потому что у него есть все, что нужно, — и терпение, и время, чтобы терпеть, и деньги. А может быть, он все это себе вообразил? Может быть, она такая же, как и все? Это, пожалуй, было бы несколько досадно; впрочем, почему не сделать попытку? Если она согласится… «Кавказский», пожалуй, лучше всего. Или «Садко?» Нет, в «Садко» зимой страшные сквозняки. Значит, «Кавказский» — лобио, капуста по-грузински, цыплята-табака и бутылочку коньяку: да, да, бутылку — он себе может это позволить. «Я, Люда, могу себе это позволить. Я вольная птица, и никто мне не указ. А вы, — тут надо наклониться, понизить голос и посмотреть в упор, словно проникая в суть вещей, — вы, Люда, — вольная птица?»
Да, он, инженер Ковров, — вольная птица. Вольная птица с удобной, отделанной по последнему крику моды и инженерной техники однокомнатной кооперативной квартирой. Поэтому после ресторана он может, не опасаясь за репутацию, пригласить к себе девушку. У него прекрасные записи — десятки километров прекрасных записей, способных удовлетворить любой вкус. «Что это за магнитофон, я такого еще не видала». Он снисходительно кивает — это, моя милая, «Грюндиг» последнего выпуска, их в Ленинграде всего три. Музыка должна быть тихой, шторы задернуты, бронзовый торшер отбрасывает на стенку неясный свет, на полу — арабский пушистый ковер (ручная работа), на ковре в продуманном беспорядке разноцветные пачки сигарет — «Филипп Моррис», «Кэмел», «Честерфилд». Вы курите? Берите, берите, не стесняйтесь, у меня этого добра… Спекулянты дерут по пяти рублей за пачку, но он себе и это может позволить. Да, у этой дуры потрясающая фигура, и лучше бы она не ломалась слишком долго.
Может быть, попробовать нахрапом?
Он попробует.
Он подходит к ней сзади, мягко кладет руки ей на плечи и чувствует, как она вздрагивает, и словно ток струится сквозь его ладони. Этот момент всегда надо использовать, и он использует его. Наклонившись к ней, он тихо говорит: «А как насчет того, чтобы сегодня вечерком…»
И тут она снова вздрагивает, и тока уже нет, и она мгновенно оборачивается на его голос, и темно-коричневые глаза ее становятся черными, и она говорит, чуть задохнувшись: «Убери свои лапы… понял?»
По лицу инженера Коврова сползает кривая улыбочка. Он медленно убирает «лапы». «Вот, значит, ты какая, — думает он. — Убери лапы. Ну ладно, я тебе это припомню, моя милая». Краем глаза он замечает ухмылки на лицах — все видели и слышали. «Убери лапы». Деревня несчастная. Он хочет что-то сказать, но слова не идут, и он отходит на свое место в очереди. Такое, надо признать, с ним случается впервые. «Ну ладно, — думает он, — ладно. Посмотрим». Он чувствует, что ему брошен вызов. Несколько мгновений он колеблется, принимать ему вызов или нет: техник, дура несчастная, только и всего в ней, что фигура. Если он только захочет, он… Да, решает он, черт с ней. Но в следующую минуту он решает: нет. Этого он так не оставит. Орешек оказался твердым — тем лучше. Он подождет — терпения у него что у крокодила. Но потом — потом настанет его час, настанет минута его торжества. Видел он на своем веку всяких, видел и справлялся — справится и с этой. И вот тогда…
Да, и тогда он поступит с этой Комиссаровой точно так, как поступил в подобной ситуации его друг Леня: он потратит на это дело месяц, два, три, сколько надо, а на следующий день даст ей отставку по всем правилам. Вот тогда и посмотрим, нужно ему «убирать лапы» или нет.
И инженер Ковров аккуратно поправляет свой галстук. Это не простой галстук, не какое-нибудь барахло, дерьма он не носит. Этот совсем простой на вид галстук — французский, от «Диора», и обошелся он ему на прошлой неделе ровно в двадцать рублей…
Мысли о французском галстуке несколько успокаивают его, и он продолжает стоять, лелея планы грядущего отмщенья.
Как же ее все-таки звали? Вика? Юля? Соня?
Ее звали не Вика, и не Юля, и не Соня, но это не имело никакого значения, ибо инженеру Коврову не суждено было увидеть ее когда-либо впредь. Ту девушку, о которой он вспомнил мимоходом, звали Лена, но могли звать и Оля, и Соня, ее могли звать и Алла, и Люба, имя не имело значения, ничто не имело для нее значения в этот день, потому что она решила умереть. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку, и у нее не было даже слез, чтобы плакать дальше, под подушкой у нее была трубочка с двадцатью таблетками снотворного, и она не могла только решить — принять их прямо сейчас или еще раз увидеть его… Вот о чем думала она с утра, думала в эту минуту, лежа в узкой и унылой комнате, и ничего не могла решить.
— Комиссарова, Комиссарова, — бормочет кассирша; ноготь ее медленно ползет по ведомости, — Комиссарова… — Ноготь ползет выше и выше, огромные золотые серьги подрагивают, длинный перламутровый ноготь светится прихотливым огнем. — А, вот ты где — распишись.
Техник Комиссарова расписывается.
В это время пальцы с длинными переливающимися ногтями ловко отсчитывают из лежащих на столе разноцветных пачек — красных, зеленых и желтых — несколько бумажек, и они беззвучно падают на полку: три красные бумажки, две зеленые, две желтые.
Переливающиеся ногти забирают ведомость.
— Следующий!
Техник Комиссарова идет вдоль очереди, ей что-то говорят, она что-то отвечает, она идет дальше, в руке ее зажаты семь разноцветных бумажек. Она не видит никого, глаза у нее сухие, а на сердце горечь, и так она идет вдоль очереди, глядя сухими глазами прямо перед собой.
— Да, — отвечает она, — членские взносы в конце дня.
И голос ее сух, как глаза, а на сердце — горькая горечь, и нет у нее больше сил, и отчаяние охватывает ее. Сколько, сколько, сколько ей еще удастся выдержать, сколько сможет она еще терпеть, терпеть и молчать, и делать вид, что все хорошо, что ничего не происходит, шутить, улыбаться, отвечать на вопросы, собирать членские взносы, проводить комсомольские собрания, ходить в райком, писать доклады и сидеть, сидеть, сидеть в своем углу, не смея поднять глаза, и, поднимая их, снова опускать, слыша, как, заходясь, бьется сердце, громко — всем слышно это биение; его, наверное, можно услышать в соседней комнате. И каждый удар — это боль, не могу терпеть, не могу, и — ладонь на губы, чтобы не закричать, и каждый взгляд — это мука, и каждое слово, произносимое им, — это пытка: изо дня в день, вот уже три года, и она все длится, эта нескончаемая пытка, и она должна все терпеть, как если бы ничего не было, как если бы она была из камня и не способна была чувствовать ничего. Смотреть, слушать, видеть — и терпеть, терпеть, терпеть… «Боже, — говорит она, — ну за что, за что я должна терпеть. И почему?» Она говорит сама с собой, и сама себе задает она вопросы, на которые не в силах дать ответ, — а кто мог бы дать ей ответ? «Почему, — спрашивает она, — почему, почему?» Их миллионы, этих «почему», и что бы она ни делала, чем бы ни занималась и где бы ни была — в своем углу, склонившись над схемой и не в силах поднять глаз, в райкоме комсомола, на улице, в институте или дома, — всюду она пытается найти ответ, днем и ночью.
И ночью, когда она дома, когда она лежит у окна на жесткой своей постели и видит шкаф, отгородивший угол комнаты, где храпит отчим, и слышит, как в другом углу на диване ворочается и говорит во сне что-то Ларка, Лариса, сестра.
Люда лежит, и сон не идет, и прикладывает ледяные ладони то к пылающему лбу, то к груди, и снова: ну почему же все так случилось, и сколько это можно еще выдержать, и лучше бы ей умереть, не дожив до завтрашнего дня, когда все начнется сначала, и скорее бы он пришел, этот завтрашний день, когда начнется все опять.
Она лежит в темноте. Огромная коммунальная квартира полна неясных звуков, по улице, рыча, проходят грузовики, заставляя дом вздрагивать, и дрожат, позванивая, стекла, и ледяные ладони прижимаются к груди, где так больно, и с каждым ударом все больней, но и сладостно, и все сладостней, и снова больней, и она начинает кружиться в каком-то красочном мире. Может быть, она уже умерла, и музыка играет, и в музыке она слышит все те же «почему-почему-почему», и она спрашивает себя: «Это и есть любовь, да?»
И в темноте, открыты твои глаза или закрыты, ты видишь его, ты видишь узкое лицо с маленькими, глубоко посаженными глазами и слышишь его голос: «Да, Люда, конечно, Люда, да, да, пожалуйста», — и тут уже горечь становится непереносимой, и ты хочешь только одного — умереть. Да, только умереть, потому что вот он, ответ на твои «почему». Вот он, рядом, и ты близко, руку протянуть, и все же ты так далеко, как если бы на другом конце света, и остается только — умереть. Она не верит в бога, она не верит в чудеса, но если бы, если бы это могло быть, если бы существовали на свете чудеса и можно было сказать без слов то, что хочешь, передать то, что чувствуешь, — разве могло бы это продолжаться без конца? Разве имеет право один человек так мучить другого? Ведь ей проще умереть. Вот подойди он к ней и скажи: «Умри!» — и все. Все, все, она согласна на все, только бы однажды было так — прикосновение, и его руки, его ладони легли бы ей на плечи — и умереть, тут же, без единого слова, исчезнуть, и как хорошо…
Пинг-понг, пинг-понг…
Белый целлулоидный шарик взлетает, и падает, и снова взлетает. Так и она — надеется, и теряет надежду, и снова ее обретает, чтобы тут же потерять.
Почему он не придет и не положит ей руки на плечи?
Перерыв, перерыв… звонок прозвенел сразу вслед за словами: «Вас просит к себе главный инженер». И тут же зазвучали в полную силу голоса и загрохотали отодвинутые стулья — перерыв. Спины распрямляются, хрустят суставы, гул и грохот, шарканье ног, скрип открываемых и захлопывающихся дверей. Перерыв. Но Блинов еще сидит на своем месте, в правой руке карандаш 2Н, а на карандашной кальке — чертеж; он только что закончил этот чертеж — «Проект благоустройства площадки второго подъема». И перед тем как отколоть его, вытащить из мягкой древесины красные, зеленые и желтые кнопки, свернуть его трубочкой и передать чертежнице для калькировки, он снова и снова смотрит на матовую поверхность, рассеченную во всех направлениях толстыми и тонкими линиями. Он вглядывается в толстые и тонкие линии, словно пытаясь разглядеть что-то сверх того, что открывается взгляду, но способность к трансформации, к перевоплощению сегодня оставила его. Что, правда, все же не исключило проникновения чисто внешнего, как бы с высоты птичьего полета, откуда земля кажется подобием топографического чертежа. И Блинов, вглядываясь и напрягая взор, видит то, что проступает сквозь условные обозначения. Если воплощение в жизнь хоть иногда совпадает с замыслом создателя, площадка второго подъема в маленьком приволжском городке будет походить на райский сад, с тем только исключением, что никаких яблок там не будет, ибо на тонкой выносной линии, идущей от кружочков, обозначающих фруктовые деревья, ясно и недвусмысленно означено — вишня.
«И сказал бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле: и стало так.
И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидал бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день третий».
Вот как это было в те баснословные времена, и вот что за работу выполнял Блинов — не мудрено, что он все смотрел и смотрел, потому что он ведь был не господь и мог ошибиться с первым приближением. Вот он и подправлял то здесь, то там, пока не посмотрел в последний раз и не увидел, что это хорошо. И здесь он мог перевести дух — что, похоже, сделал на третий день и сам творец. Да, не исключено, что Блинов был похож в эти минуты на господа бога — он тоже был творцом. Бог, правда, ухитрялся создать все сущее из ничего, а Блинов создавал райский сад на площадке насосной станции второго подъема из прямых и кривых линий, нанесенных графитом на карандашную кальку, — но еще вопрос, чья задача была сложнее. Несомненно одно — пока что Блинову не приходилось разочаровываться, наблюдая свои творения воплощенными в жизнь, и это-то и было самым большим чудом на свете, истинным чудом.
Ты сидишь у окна, и карандаш в твоей руке, послушно скользя по линейке, которая бесшумно передвигается вверх и вниз на латунных роликах, проводит вертикальные и горизонтальные, а также выносные линии, на которых четким шрифтом написано: «фруктовые деревья (вишня)». А потом, два или три года спустя (но для тебя эти два или три года, так же как и для Вечности, — одно мгновение), ты приезжаешь куда-нибудь в Струги Красные, или Карпогоры, или еще куда-нибудь и видишь, во что все это превратилось. Видишь деревья, усыпанные девственно-белыми цветами вишни, и нежно-зеленую траву под деревьями и знаешь, что все это родилось из переплетения толстых и тонких линий, которые некогда проводила твоя собственная рука, и, зная это, ты все-таки еще не можешь поверить до конца.
Но потом, однажды, рано или поздно, ты начинаешь верить в это, и чувство, которое возникает в тебе, разом вознаграждает тебя за все: за долгие часы, которые ты проводишь, согнувшись над доской, за потертые нарукавники из черного сатина и за многое другое. Ибо и потом, когда тебя уже не будет и прервется след твой на земле, все же останутся — не здесь, так в другом месте — сотворенные по слову твоему миры, и ты останешься, пусть даже не ведомый никому и безвестный, жить в них.
И увидел он, что это хорошо…
Уф, хорошо. Полегчало. Можно и дух перевести. Но в эту минуту доносится: «Тамара…» — и кто-то, ах, это Дементьева, одна из старой гвардии, машет ей рукой.
— В чем дело, Маша?
— Да вот барахлит моя телега, рвет нитку.
— А где механик? Фрол Петрович где?
— А он на «Интерлоках». И Модест с ним.
— Зови сюда. И Гурвича пусть прихватят.
И тут, в эти несколько минут, пока Маша уходит за механиками и снова приходит, она, переводя дыхание, снова успевает вспомнить о Тимофеевой, и о квартирных делах, и еще о многом, о чем она помнила с самого начала, о чем позже начисто забыла в обычной сутолоке рабочего утра: о Тимофеевой, и о Бернгардовке, и о том, что она должна позвонить своему брату Кольке, и о своей дочке, которая давно уже сидит за партой в школе. Обо всем, чем ей придется заниматься сегодня, завтра и послезавтра — и до конца дней. Она вспоминает об этом и еще о многом. И тут же забывает, потому что один за другим собираются механики — старый согбенный Петрович, и Модест, и взлохмаченный Гурвич, и тут они начинают колдовать вокруг этого остановившегося куска железа, пускать его, прослушивать, снова выключать, обмениваясь короткими репликами, междометиями, возгласами, пока наконец под ее нетерпеливыми взглядами Модест не выносит приговор, — надо разбирать. Она: «Как разбирать, вы что, с ума сошли? Вам дай волю, вы мне весь цех разберете, — мало вам „Интерлоков“. И так из-за монтажа тридцать процентов машин не работает». Тут Гурвич подает голос: «Может, попробуем сменить пружину?» Петрович: «Пружин таких нет».
И тут она бежит снова к телефону и не помнит уже ни о чем, и в голове у нее только проклятая пружина, и она трясет кладовщика до тех пор, пока он сам не приносит ей эту пружину: с этой Ивановой, усвоил он, лучше не доводить дело до скандала. А она, подавая Модесту пружину, не может не сказать: интересно, кто у них механик — она или он, Модест? И тут она думает, что жаль, как жаль, что нет здесь Кольки, нет его рядом и никогда уже не будет так, как было. Зачем, зачем ушел он отсюда, где им было так хорошо, и где он был так на месте, и, уж конечно, будь он механиком, ей не пришлось бы добывать то пружину, то еще что-то. Не пришлось бы терпеть, что Модест то и дело «позволяет» себе, а она не может даже написать на него рапорт, потому что, сделай она это, администрация вынуждена будет его уволить. А что изменится? Хорошие, да и не только хорошие, механики сейчас на вес золота, всюду его возьмут с распростертыми объятиями и так же будут закрывать глаза на то, что он будет себе время от времени «позволять», лишь бы работал, лишь бы знал свое дело. А Модест был не просто мастером, не просто механиком, он был магом, волшебником и чудодеем, если только хотел…
Вот и сейчас он вертел в руках пружину и боролся сам с собой, потому что во рту у него было мерзко, голова гудела, и весь он был как выпотрошенная рыба, и хотелось ему одного: чтобы все оставили его в покое хотя бы на час, потому что вчера вечером они, конечно, опять перебрали и в голове у него что-то пульсировало и взрывалось. А тут еще этот всезнайка Гурвич со своей пружиной, как будто он, Модест, сам уже не понял без всяких там Гурвичей что к чему, и он хотел уже сунуть эту пружину Гурвичу и посмотреть, как он будет три часа копаться. Но тут он скосил глаза и увидел напряженный взгляд и твердо поджатые губы, и в его разбитой, взрывающейся голове что-то вспыхнуло… Хотя он не мог бы поклясться, было это или нет, так давно это было.
Он увидел какой-то солнечный день и себя — тогда он еще не был женат и не «позволял» себе, и все, думал он, будет иначе. И Томка — неужели эта самая? — прыгала в воду в красном купальнике, и что-то кричала из воды, и швыряла в него и Кольку пригоршни брызг… И что-то горькое — горше вчерашней выпитой водки — поднялось ко рту, и он сказал, отводя взгляд: «Ладно, ладно, оставьте меня, разберусь».
Но то ли он сказал это слишком тихо, то ли слишком громко говорил лохматый, легко возбудимый Гурвич с туговатым на ухо Фролом Петровичем, только никто не отреагировал на его слова, а он стоял с пружиной в руке и думал о том, что не потому он боится этих давних воспоминаний, что жалеет о чем-то, а потому, что эти воспоминания были не только бесполезны, но и вредны ему. Все уже прошло, и ничего уже нельзя было изменить в его судьбе, такой, он считал, загубленной и такой неудачной, что, право же, если бы нашелся человек, кому бы он мог высказать все, то такой человек, наверное, понял бы, что ничего другого, кроме как снова и снова «позволять» себе, у него не остается для поддержания гордости и веры в себя. А если не гордость и не вера, то что же ему оставалось? В чем он мог искать опору, чтобы ходить гордо и чувствовать себя человеком, — ведь не в той женщине, которую он уже давно не любил и которая уже давно не любила его. И — увы — не в детях, которых он так любил, но которые были еще слишком малы и глупы и не способны оценить его золотые руки, его мастерство, понять, как нужно ему чье-то искреннее восхищение, или удивление, или восторг, а если не это, то хотя бы просто внимание, как оно нужно любому артисту, — а кто же он был, как не артист, в своем деле, конечно.
Да, он себя не кем иным, как артистом, и не считал — и был прав. И, может быть, горше всего ему были именно такие минуты. Как было бы, наверное, обидно приме, которую затолкали в толпу, за кулисы, в задние ряды кордебалета, где не нужно особое, ни на чье не похожее мастерство, а только ремесло и синхронность.
Вот что он чувствовал и думал, может быть, и не такими словами, но так, в то время как Гурвич бегал вокруг машины, а Фрол Петрович мотал лобастой головой и долдонил: «Тут только Антипов может разобраться». И снова: «Только Антипов». И дальше он сказал: «Зови, Анатольевна, Антипова, он при этих машинах родился, он один и разбирается в них». Похоже, он собирался бубнить так до конца смены, уже не слушая, что говорит ему Гурвич, и где же ему было услышать то, что сказал он, Модест. А он думал, что если бы хоть кто-нибудь сказал ему хоть раз — ну вот хотя бы, как этот старый хрыч толкует сейчас про Антипова, — хоть кто-нибудь, ну хотя бы Томка или любой другой, чье слово значило бы для него больше, чем грамоты, что вручали ему время от времени, если бы кто сказал ему: «Нет, Модест, кроме тебя тут, пожалуй, никто не разберется», — разве он стоял бы тут истуканом, а не показал бы класс? Как тот, один-единственный раз, когда приехали англичане устанавливать свои полуавтоматы фирмы «монк» и он утер нос всем этим наладчикам в их фирменных комбинезонах. Да и то потому лишь, что понял: никто в это не поверит, если он не сделает, не совершит это на глазах у всех. Что он и сделал, наладил огромную махину на двое суток раньше, чем англичане.
И вот здесь он почувствовал прикосновение. Он весь дернулся и оглянулся — и снова натолкнулся на твердый взгляд. Нет, еще за мгновение до того, как он почувствовал прикосновение, он понял и даже спиной ощутил, что она все еще смотрит на него. А когда он обернулся и встретил ее взгляд, то опять показалось ему, что это уже было, но когда и где — он не помнил. Может быть, так она смотрела, подумал он, в безвозвратно прошедшие времена, когда, смеясь, бросала в него пригоршни блестящей воды. Но теперь-то она смотрела, в этом не было сомнений, значит, мог он предположить, что это уже случалось однажды. А она, тронув его за рукав, сказала: «Модест… сделай…» Сказала так тихо, что едва шевельнулись ее плотно сжатые, напряженно сомкнутые губы, которые давно уже утратили и розовый цвет, и припухлость пятнадцати, шестнадцати, семнадцати лет; так тихо, что он не услышал — услышать этого было нельзя, — а скорее увидел, догадался, сам произнес за нее эти два слова. И тут что-то дрогнуло в нем. Где-то там, в самой глубине, где, как он думал, уже и нет ничего, оттого что все живое там было давно уже выжжено, вытравлено спиртом и той мутью, густым и плотным илом, что оседал и оседал в его душе день за днем все эти последние десять, пятнадцать и двадцать лет. Но, значит, он все же был не прав, и не все было вытравлено и занесено, а может быть, в человеке вообще трудно вытравить все хорошее, доброе, в чем он так всегда нуждается, до конца.
Да, что-то в нем дрогнуло, что бы это ни было, и, когда он почувствовал это — с удивлением, близким к испугу, с недоверием и странной, непонятной ему самому радостью, — он вздохнул и даже как-то всхлипнул, набрав в легкие воздух, и зажмурился. Такое происходило с ним только в самом тяжелом запое, в мгновения, когда он трясущейся, непослушной рукой тянул ко рту последнюю, давно уже ненужную ему рюмку, перед тем как отключиться, впасть в немое, темное забытье, исчезнуть и умереть. Да, сейчас, когда он был трезв, все точно так же поплыло, а потом исчезло, словно провалилось, но разница была в том, что мгновенье спустя, когда он открыл глаза, все снова вернулось — цех, люди, вертящиеся, чавкающие, ненасытные машины. И губы, которые еще, казалось, не переставали шевелиться, и слова, которые еще не исчезли в ровном и четком шуме работающих станков, и Гурвич, который замер на бегу, смешно подняв руки, словно бегун, закончивший дистанцию. И тут же был он сам, Модест, он сам тоже проглядывался со стороны в то мгновение, когда вдруг закрыл и открыл глаза. И все это вместе взятое для стороннего взгляда не заняло и минуты — для стороннего, но не для него. А его — его словно в воду окунули, причем дважды, как в сказках, — сначала в мертвую, чтобы все срослось, держалось плотно, а потом в живую, чтобы душа вернулась в тело. И она вернулась, душа. Модест почувствовал ее возвращение: сквозь головную боль, сквозь мерзкий вкус во рту, сквозь шум и грохот его душа вернулась — робко, может быть, даже нехотя, может быть, со стыдом, может, ненадолго… И тут он показал ей — Томке? своей вернувшейся душе?.. самому ли себе или сразу всем, всему свету? — что он еще жив, Модест, что он еще дышит. А пока он дышит, нет такой человеком изобретенной и им же из металла изготовленной вещи, в которой он, Модест, не мог бы разобраться и сделать это в любое время суток, днем или ночью, пьяным или трезвым.
А уж про эти старые крутящиеся куски железа, изготовленные до войны, до революции, до нашего века, и говорить нечего. Стоило ему только захотеть и сбросить с захламленной души лень и мусор, как вновь приобретал он способность на слух определять все, что в такой машине происходило, словно он сам был машиной, — и ничьих советов ему не требовалось. Тем более Гурвича. И даже Фрола Петровича. И даже самого Антипова. Никто ему не был нужен, и если бы дошло дело до того, он разобрал бы сейчас эту машину с закрытыми глазами. Так что не удивительно, что Гурвич получил от него под зад, а сам он через несколько минут уже погрузился весь в металлическое чрево и исчез там, как Иона. А Гурвич и Фрол Петрович в недоумении отправились обратно к «Интерлокам», и не понять им было, что за черт вселился в Модеста и с чего он вдруг заорал на них, словно пчела его ужалила. Но и в самом непонимании их было признание прав Модеста на этот крик: то был Модест, до которого им всем, как это ни горько было признавать, было далеко, как до неба, хотя каждый из них был механиком хоть куда.
А он, Модест, свистел и напевал, и его свист и фальшивое пение, натыкаясь на железные бока машины, глохли, становились неслышными, исчезали. Но ему-то было плевать, он пел, он свистел для себя. И одного только он хотел: в тот момент, когда скажет: «Пускай» и машина снова оживет и зачавкает, сматывая с катушек бесконечные тонкие нити, чтобы, прожевав их, выпустить из железной утробы круглый рукав полотна, — чтобы в этот момент, вытирая с равнодушным видом замасленные руки, он снова встретил этот примерещившийся ему издалека взгляд. И пусть она не скажет ему больше ничего, пусть не разомкнет губ, пусть только посмотрит на него теми, не сегодняшними глазами — вот и все, что надо ему. Это и будет ему наградой — ведь большей награды он и не хочет, да и вообще не надо ему наград. Брызги сверкали на солнце, и вода, завихряясь, плескалась вокруг ее ног, и мокрый красный купальник обтягивал ее так, что он даже сейчас с тайным чувством восторга, как и тогда, мог вспомнить, как он глядел на ее груди, смотрел, отворачивался и снова смотрел, — ведь это все было, это все жило в нем. И уже одно то, что она помогла ему это вспомнить, было такой наградой, что других и не надо — лишь взгляд и воспоминание. И, свистя и напевая что-то без мотива и без слов, он мысленно говорил: «Томка… Томка…» И лицо у него было таким, какое бывает у юноши, впервые почувствовавшего толчок в сердце.
Теперь и у него перерыв.
Блинов медленно стягивает черные сатиновые нарукавники. Из стола он достает свой обед: бутерброды, завернутые в кальку, и термос с чаем. В памятке, которую написал ему некогда тренер по атлетической гимнастике Фима Флейшман, значится: в 12 часов дня — полкилограмма творога со сметаной и вареньем и один стакан фруктового сока. Но понятно, что он не может носить на работу творог со сметаной и вареньем. И сок здесь взять неоткуда. Кроме того, он не любит творог — ни со сметаной, ни в любом другом виде.
Он ест бутерброды и пьет чай. Медленно жует, запивает глотком темно-коричневой душистой жидкости, снова жует. Лицо его неподвижно и маловыразительно, как всегда; маленькие глаза полузакрыты. Никто не взялся бы сказать, о чем он думает в подобные минуты. Никто не взялся бы сказать, думает ли он вообще.
Он думает.
Атлетической гимнастикой он уже не занимается. Когда он еще занимался — в душном подвале на Загородном проспекте, — ему приходилось выполнять все предписания Фимы Флейшмана, в том числе в отношении творога со сметаной и пятиразового питания, ибо тот, кто занимается атлетической гимнастикой, обязан вводить в тело два с половиной грамма белка на один килограмм веса тела, и без творога здесь не обойтись. Не исключено, что занятия атлетической гимнастикой он забросил из-за необходимости есть каждый день творог со сметаной. Ерунда, конечно, не из-за этого. Где-то сейчас оракул атлетической гимнастики Фима Флейшман? Где проповедует он свою веру в широкие плечи и узкие бедра, кому пишет рецепты пятиразового питания?
Как бы то ни было, творог ему есть больше не надо.
И он снова откусывает бутерброд и снова запивает глотком крепкого чая.
Он любит чай. Сколько он себя помнит, он пьет чай. Он, конечно, не помнит, что за чай он пил до войны, но, когда эшелон с беженцами выгрузился в Самарканде, первое, что им довелось попробовать, был чай. Его разносил старик в полосатом ватном халате, и в тот день, сидя среди мешков и чемоданов, ослепленный неистовым южным солнцем и восточной пестротой, он впервые попробовал настоящий чай.
Наверно, вся его любовь к чаю оттуда, ибо на Востоке, понял он, питье чая — это не простое утоление жажды, это ритуал, исполненный глубокого смысла, это обычай, возведенный в степень искусства.
Из привокзального поселка, где они жили, через весь город он добирался до Старого города. Древняя «кукушка», маленький допотопный паровозик, тащила несколько таких же древних вагонов мимо сплошных глиняных заборов, где в глубоких тенистых норах ожидали вечера темно-зеленые скорпионы. А вокруг жил своей непонятной жизнью город, бывший старым уже во времена Александра Македонского. Покрытые зеленоватой тиной, так же круглились маленькие хаузы, и так же, как и сто и тысячу лет назад, выходил из чайханы толстый чайханщик с бритой головой и, разгоняя медным чайником зелень, зачерпывал из хауза воду. И сидели, скрестив под собою ноги, тонколицые старики; важно и задумчиво сидели они на досках, затянутых ковром, и, держа в растопыренных пальцах одной руки плоскую расписную пиалу, другой подбирали насыпанные горкой на блюде янтарные капли изюма, который назывался кишмиш и был подобен солнцу, прошедшему сквозь сахар. И так сидели они, как сидели их деды, и прадеды, и деды прадедов, и века неслышно и незначительно отползали назад, и светлые капли текли осторожно по коричневым тонким лицам…
А теперь и сам он каждое утро, священнодействуя, совершал ритуал заваривания чая. Он вычитал его в старинной книге. Кто сейчас читает старинные книги? Он мог считать, что секретом владеет он один. Ежедневное заваривание чая стало в его жизни таким же необходимым делом, как умывание и ежедневные тридцать минут гимнастики, когда он приседал, отжимался, складывался и разгибался, поднимал гриф от штанги с двумя маленькими блинами, тянул эспандер и махал гантелями; Фима Флейшман был бы им доволен. Он брал маленький чайничек из простенького фаянса, обдавал его кипятком, промывал его, аккуратно вытирал, затем в сухой и теплый чайник сыпал заварку — но только высший сорт или «экстру», — он сыпал туда индийский чай из пачки, где на желтом фоне некрасивый серо-коричневый слон идет куда-то, подняв хобот, или грузинский, где на обертке изображались красноватые поля, уходящие вдаль, иногда он смешивал различные сорта — краснодарский с цейлонским или грузинский с индийским. Он сыпал чай щедрою рукой, а затем заливал горку мелких, тонких листков водой, простой сырой водой из-под крана.
Сырой! В этом и был его секрет. В этом и было существенное, принципиальное отличие его способа от любого другого, с которым он сталкивался. Сначала надо было налить сырую воду. И тут уже надо было выполнять и другую рекомендацию — сырая вода наливалась в таком количестве, чтобы образовалась черная кашица, и вот чайник с черной кашицей и следовало ставить уже на пар. И, когда он через пять минут снимал чайник с пара, он мог видеть, как развернулись маленькие чаинки. Они разворачивались, впитав в себя воду, может быть в последний раз принимая ее за росу, они доверчиво и покорно готовы были отдать весь запах и цвет, собранный ими на террасных склонах под жарким солнцем, — и они отдавали их. И после того, как налитый до половины крутым кипятком чайник стоял еще на пару́ минут пять, а затем, долитый доверху, еще пять минут прел под ватной чайницей в виде краснощекой бабы в роскошном атласном сарафане, — вот тогда это уже был настоящий чай густого янтарного цвета. И солнце, проходя через него и преломляясь, высекало золотые искры; и аромат, нежный и горький, как слово «никогда», будил в душе что-то древнее, чего ты не знаешь и не можешь знать.
Такой вот чай и пил Блинов — темную и вместе с тем прозрачную жидкость, приготовлению которой он отдавал каждый день двадцать минут, как правоверный мусульманин отдает их пятикратной молитве, только Блинов не подстилал под себя коврик и не обращал лица своего к востоку. Чаепитие приносило ему успокоение и душевный покой, но сегодня этого не происходило. Что-то сломалось в сложном механизме, нарушилось взаимодействие безотказно работавших частей, опасность была разлита в воздухе; под крепость, сооруженную им с таким трудом и с такими усилиями, велся подкоп, и он ощущал глухие и далекие удары заступов, роющих твердую землю на неведомой ему глубине. И все это потому, что сам он нарушил свой собственный принцип «врагов не заводи». Он должен был помнить о нем в ту минуту, когда произносил «нет», пусть даже он сказал это почти против воли. И вот теперь события, вырвавшись из-под контроля, понеслись в неведомом направлении, и он был в лучшем случае щепкой, влекомой потоком. Странная скованность владела им. Он сидел и пил чай, но сегодня впервые не чувствовал его вкуса. Кругом была опасность, и мысли в его голове были похожи на облака, которые растворяются в небе, не успев принять определенных очертаний.
Была непонятная осенняя безразличность, сонное спокойствие и даже ожидание событий и горьковатый, как запах миндаля, привкус неизбежности. После перерыва идти к главному инженеру.
«Кузьмин, — думал он и глядел в окно, которое, словно прозрачный экран, отделяло его от остального мира. — Кузьмин, Кузьмин…»
И вдруг что-то вспыхнуло в нем, словно взорвалось, и он увидел свой дом и тетрадь, раскрытую на первой странице, обычную тетрадь в клеточку, где на обложке напечатана таблица умножения или меры веса и объема, увидел эту тетрадь и снова ясно и четко увидел слова, которые были написаны на этой странице, и, когда он увидел их, что-то сжалось в нем, и он напрягся, как взведенный курок, и словно горело у него перед глазами, как некогда на стене горели предупреждающие огненные письмена. И когда, глядя в окно, он повторял дальше: «Кузьмин, ах, Кузьмин…» — он все видел перед собой эти слова, и голос его становился все тверже и тверже.
Кузьмин был тверд и вовсе не собирался туда идти…
Дверь открывалась и закрывалась, серая и ничем не примечательная, каждое движение ее сопровождалось скрипом. Было так: сначала раздавался скрип, вырывался пар, затем просвет, появившийся было, исчезал, и все это сопровождалось ударом, словно паровой молот опускался на сваю. И между этими звуками — медленным ржавым скрипом и ударом парового молота — вырывавшиеся клубы пара то выплевывали, то слизывали подошедшего вплотную к двери человека, словно внутри то появлялся, то исчезал вакуум, и так продолжалось все время, час за часом и день за днем, в чем каждый мог убедиться, имей он достаточно времени, чтобы простоять, наблюдая это, день или два.
Вот слизнуло еще одну неосторожно приблизившуюся фигуру: человек растворился в белом облаке и очутился внутри, где серое оборачивалось черным. Черный плюш, натянутый поверх плотно пригнанных досок, непроглядно черная темнота и легкое золотисто-зеленоватое мерцание подсветки, мерцание, становившееся золотистым после того, как оно пробивалось сквозь бутылки с коньяком, или зеленоватым — через шампанское, а посреди этого мерцания или, точнее, среди него, словно окруженное нимбом, белело полное женское лицо с жесткими светлыми глазами.
Черная темнота. Однако светлые жесткие глаза, чуть подведенные синим в веках, взглянув, узнают едва различимое, скорее угадываемое лицо в длинных продольных морщинах. «Катя!» — говорит он, но это слово не является необходимым, так же как и поднятые главным инженером проекта Кузьминым растопыренные пальцы — указательный и средний; едва завидев это лицо, красное при обычном свете и бесцветное здесь, полная белая рука уже потянулась точным движением к одной из подсвеченных бутылок. И в то время как Кузьмин еще только утверждается возле стойки, обитой черным пластиком, на высоком, тоже черном табурете, перед ним стоит уже высокий, расширяющийся кверху двухсотграммовый стакан, и он успевает только заметить бесшумное исчезновение красивой полной руки.
Его рука, большая, поросшая черным жестким волосом, нетерпеливым, несколько судорожным движением берет стакан, привычно угадывая сквозь прохладную гладкость стекла силу взрыва, скрытую в янтарной переливающейся жидкости…
Он не хотел сюда идти в перерыв. Не хотел, и не собирался, и не думал даже, а если бы и подумал, то отверг бы еще пятнадцать минут назад. Ему даже в голову не могло прийти, что почти тут же ему придется это делать, придется бежать сюда, чтобы унять грызущую боль, бежать, мысленно зажимая рукой то место, где изнутри чьи-то челюсти, очнувшись, начали грызть, и когти, безжалостно и конвульсивно сжимаясь, вонзились в его истерзанные внутренности. Бежать, чтобы трясущейся рукой одним махом влить туда, в недоступную взору темноту, стакан солнечной жидкости и, влив, сидеть, ожидая ответа, удара тепловой волны, которая сняла бы боль и напряжение.
Еще за минуту до звонка, еще за несколько мгновений даже до того, как прозвенел звонок, — перерыв, перерыв, — он не помнил вовсе ни о серой невзрачной двери, ни о боли, которой не было, ни о чем он не думал, кроме дела, он возвращался в свой кабинет из кабинета главного инженера института, он возвращался оттуда довольный своею решительной непреклонностью, своей победой, не без борьбы победой, довольный своею выдержкой и хладнокровием, всем своим поведением, но более всего тем, что было наконец сказано: попросите ко мне Блинова. И срочно! Да, он был доволен, к этому были все основания. И, возвращаясь к себе и подойдя к двери, обитой коричневым дерматином, он был как бы по инерции полон жажды деятельности и не собирался отвлекаться от дел даже в эти сорок пять минут перерыва. И рука его, взявшаяся уже за ручку двери, потянула — вот когда это случилось опять, второй раз за сегодняшний день, едва еще дошедший до половины. Что-то дрогнуло в нем, и он почувствовал боль, которая пронизала его, словно в живот всадили трехгранный штык, вонзили и повернули. Коридор и стены поплыли у него перед глазами, коридор, и стены, и дверь с ее коричневым дерматином. Штык входил все глубже и там, внутри, поворачивался, липкий пот потек по лицу так, словно над ним выжали губку с холодной соленой водой, и единственным спасением казалась ручка двери, в которую он вцепился изо всех сил. Спасение… но его не было и не было, и уже звенел звонок: перерыв, перерыв. Звон этот оглушал его. Все это нахлынуло на него разом, подмяло, завертело. И вот тут-то, в поисках спасения, а может быть, забвения, убежища или, на худой конец, временного перерыва, он и увидал перед собой эту лазейку, щель — серую и неприметную дверь.
Дверь была прямо перед Зыкиным на расстоянии десяти шагов.
С закрытыми глазами он, если хотел, мог не раз и не два представить себе весь путь по недоступному для него пространству, от которого его отделял какой-нибудь десяток шагов. Сначала через первую дверь, внешнюю, по вестибюлю с камином, затем подняться двумя пролетами выше… И тут, даже в мысленно совершаемом им пути, его шаги становились все неувереннее и неувереннее. Потому что с того самого мгновения, как огромная массивная наружная дверь, бесшумно отворяясь, пропускала его внутрь, он ничего не мог с собой поделать: при одной мысли о том, что ждет его впереди, что-то холодело в нем, и так было каждый раз. Да, сколько раз он ни входил бы в этот вестибюль, сколько ни проходил бы мимо камина, уже давно лишенного возможности обогреть кого бы то ни было, ему все равно предстояло подниматься мимо витражей, похожих на сказку. И тут он всегда с острым и неизъяснимым чувством не то стыда, не то вины, а может быть, и ярости вспоминал свой дом. Свою лестницу, узкую и грязную, с неистребимым, едким, все забивающим запахом кошачьей, да и не только кошачьей, мочи; лестницу, на которую выходила их дверь. Дверь их квартиры, всю в язвах звонков и разноцветных жилах проводов, и саму квартиру, в которой они с матерью занимали четырнадцатиметровую узкую комнату сразу же за кухней, дверь в дверь с уборной, комнату, едва вмещавшую кровать, диван, стол и шифоньер. Комнату в огромной квартире, тянувшейся не только через весь дом, как это было на самом деле, но и — как это казалось им — через весь город; в квартире с коридорами, извилистыми и глубокими, как норы, с поворотами, боковыми ходами, ответвлениями, тупиками, двумя туалетами и огромной, как рыночная площадь, кухней. Это была квартира, в разных концах которой жили люди, едва узнававшие друг друга при встрече, где по стенам висели разобранные еще до войны велосипеды и корыта, покрытые темной окисью; квартира с ванной, которая служила кладовой, с графиком уборок, висевшим на зеленой стене кухни, с митингами во время разноски общественных денег на оплату трех лампочек, освещавших — если можно так сказать — коридоры, с личными счетчиками и переплетением проводов, тянущихся к персональным звонкам на двери.
И, вспоминая об этой квартире, он вздрагивал каждый раз, и каждый раз, проскользнув в бесшумно раскрывшуюся и закрывшуюся за ним дверь, он останавливался, оробев, в вестибюле, и снова ему было семь лет, и что-то, холодея, обмирало внутри, и он спрашивал чужим, не своим и неизвестно кому принадлежавшим голосом, тихим-тихим настолько, что его и ему-то самому едва было впору расслышать: «А ты… ты взаправду здесь живешь?» А его подружка Эля, в школе сидевшая на одной с ним парте, смотрела на него своими огромными глазами, взгляд которых не был тогда еще ни насмешливым, ни недоверчивым, и, потягивая за рукав, говорила: «Ну идем же, идем», — а он так бы и остался здесь, если бы только это было можно. А когда они поднимались по лестнице, широкой и чистой, мимо огромных окон, из которых лился волшебный свет сквозь стеклянные цветы, все это казалось ему таким прекрасным, что он остановился, пораженный, он стоял в некотором даже отупении, когда Эля подошла к единственному звонку на двери и позвонила.
Она сделала это совершенно просто — так же просто, как сказала на первых же минутах первого урока, глядя ему в лицо глазами, которые только потом станут излучать невольную двойственность, будучи одновременно насмешливыми и недоверчивыми. Она сказала: «Тебя как зовут? Костя? А меня — Эля»… И так же просто она сказала потом: «А пошли ко мне в гости». Да, так же просто она пересекла вестибюль и поднялась по лестнице, залитой волшебным цветным светом; поднялась и, привстав на цыпочки, дотянулась до белой кнопки звонка. И позвонила.
И тут же дверь открылась, словно женщина, которая стояла на пороге, высокая женщина с тонким лицом и лучистыми глазами, сказавшая низким, мягким голосом: «Вот и наши дети», — словно эта женщина давно стояла за дверью, ожидая, когда раздастся звонок, чтобы сразу, не теряя ни секунды, открыть им. И вот теперь она была рада, что вышло все так, как и должно было: она улыбалась, стоя на пороге, а затем посторонилась, пропуская их, и они вошли…
Так что ему не надо было даже закрывать глаза или открывать их снова, потому что вне зависимости от времени он видел одну и ту же картину, все ту же все последующие годы. И когда бы он ни переступал порог и кто бы ни открывал эту дверь — та ли женщина, что открывала ее в первый раз, или другая, которая открывала ее годы спустя, или высокий бритоголовый мужчина, или сама Эля, — за дверью все оставалось без изменения. Все те же высокие стены, уходящие к потолку книжными полками, все те же переплеты, блестевшие потускневшей позолотой нерусских букв, выдавленных на толстой коричневой коже. Всюду книги, книги и книги, и еще книги, и еще. И мебель — так не похожая на то, что он где-либо мог видеть, — красного и розового дерева и золотистой карельской березы, с перламутровыми инкрустациями и бронзовыми позолоченными накладками, с ножками в виде львиных лап. И огромная, переливающаяся блестками люстра, сама по себе похожая на диковинный цветок, и фарфор, стоящий в узких застекленных шкафах. Тогда он и знать не мог, узнает ли он когда-нибудь такие слова, как «веджвуд», «севр» или «мейсен», так же как и многое другое.
Например, картины.
Их тоже было множество — на стенах и в простенках, и вообще где придется, но что же мог он тогда сказать, например, о том невзрачном на первый взгляд наброске пером, который висел в одной из комнат в простенке между двумя стеклянными шкафами с фарфором (датским, как мог бы сказать он сейчас) и изображал несколькими небрежными штрихами человека, опиравшегося на палку. Просто человека — он стоял посреди дороги и, перед тем как идти дальше, обернулся, чтобы в последний, может, раз увидеть то, что оставляет. Только посмотреть, проститься, запомнить — а потом повернуться и уйти. Но куда? Этого нельзя было понять, этого не знал никто, кроме самого человека, а он молчал.
Да, вот такой это был рисунок, и он видел его много раз, столько, сколько он бывал в этом доме, и долгие годы он ничего не говорил ему или почти ничего, как ничего не говорила и дата — 1808 год — и косая, падающая книзу подпись «Goya». Просто Зыкину нравился сам человек, нравилось смотреть на него и думать, о чем же он думает. Вот он обернулся и смотрит на то, что покидает, быть может, навсегда. И что-то такое было в этом лице, что всегда задевало Зыкина и притягивало.
Но что? Горечь? Печаль? Грусть? Он не знал, только он любил рассматривать это чудо. Он закрывал один глаз, оставляя маленькую щелочку, и наводил взгляд на рисунок так, чтобы видеть один только штрих. И видел его, видел четко — черный чернильный штрих, тоненькая полосочка и больше ничего. Здесь никакого чуда не было, это было проще простого, такую полосочку мог бы провести каждый, и он сам, были бы чернила и перо. И еще один штрих был рядом, такой же четкий и простой, и в нем тоже не было чуда, а рядом еще и еще. И еще, и еще — и так можно было разглядывать до бесконечности, но стоило открыть глаза, как штрихи исчезали и появлялся человек с усталым и горьким выражением лица — вот он стоит и смотрит… И от этого, от неизменности волшебства, захватывало дух, и восторг нисколько не уменьшился оттого, что в конце концов он узнал, что означает подпись под рисунком, и тем самым узнал и цену своему инстинктивному поначалу восхищению.
Что же он мог испытывать, маленький мальчик по имени Костя Зыкин, кроме зависти, пускай не называемой им завистью, кроме робости, не осознанной до конца, и кроме любви? Да, это и было в нем, но ведь это было только началом, самым началом испытания, которому подвергла его жизнь. Это были трудности, связанные не с исполнением еще каких-то требований, а лишь с отысканием дороги, идя по которой можно было добрести до места, где свершаются подвиги, а раз сами поиски дороги так тяжелы, что же представляет сама дорога? Так не махнуть ли на все рукой, тем более что никто не неволит тебя и никто не упрекнет и награда не объявлена?
Уходи, убегай, уноси ноги скорее, пока не поздно.
Но он не уходит. Он и хотел бы, да не может. Околдован он, что ли?
Околдован. Он уже погиб, погиб навсегда, ему уже нет спасения. Он обречен на служение, на службу до конца своих дней, а если он хочет остаться в живых, он должен доказать, что ничто не сломит его, даже то, что другие, пусть даже их и след простыл, уже получили эту награду. Он должен доказать, что в силах вынести и это, и многое другое, иными словами — все. Да, он уже отравлен. Ему бежать бы стремглав, не оборачиваясь, а он сидит и ждет. Заколдованное пространство перед ним в десяти метрах, снег наметает вокруг него чистые белые полоски. Он ведь сделал, совершил все, что мог, все, о чем мечтал, все подвиги, что были ему под силу, теперь ему только и остается терпеть и ждать, к чему это привело и привело ли к чему-то. Ему не холодно, вовсе нет. Вполне возможно, что он вообще не замечает температуры. Что нужно ему, чтобы отдаться судьбе? Внешний повод? Внутренний толчок?
А может быть, ему уже ничего не нужно?
Ничего. Он просто свалился Эле под ноги, когда она проходила по набережной мимо занесенных снегом каменных чудищ. Потому что пришел, пробил его час, которого он дожидался. Он дожидался его терпеливо. Его награда была в том, чтобы увидеть ее, последний раз — так последний. И когда этот час пришел, он не оплошал, нет, единственное, что он мог, что он хотел сделать, это свалиться. И он свалился.
Ничего особенного ему не пришлось для этого делать, и никаких усилий не потребовалось, когда он скользнул с гранитного парапета. Да он и не в состоянии был сделать что-либо иное; ему и надо было только ждать, только дождаться своего часа, сидя так, как он сидел, и там, где он сидел, то есть сидеть на гранитном парапете, привалившись боком к гранитному страшилищу Ши-Цзы, вывезенному, как это явствовало из надписи на постаменте, генералом-от-инфантерии Гродековым из города Гирина в Маньчжурии в 1906 году.
И он дождался.
Точнее, у него хватило терпения ждать и не падать, даже когда он уже и не понимал совсем, где он и что с ним, когда сознание то появлялось, то исчезало — словно лица прохожих в окне, когда ты смотришь на улицу из своей комнаты. Жар волнами приливал откуда-то снизу, прокатывался по телу, и даже когда он не сгребал уже снег и не ел его, сначала сжав в руке, он знал: надо ждать.
Дождался. И тут он упал, с облегчением, с чувством, так сказать, выполненного долга; что-то похожее на часовой механизм сидело у него внутри, удерживая от преждевременного падения, и не подвело, сработало так, как надо, в ту самую секунду, когда послышались почти неслышные по снегу шаги. У него едва-едва достало сил, чтобы разлепить веки, и он соскользнул вперед и вниз, прямо к ее ногам. Только тогда понял он, как заждался и устал, и сил не оставалось больше совсем. Все-таки он успел сказать громко: «Эля!» Но это и было уже все, и сразу же вслед за этим ему стало хорошо, как никогда.
Зыкин никогда не узнал, что было после его падения и после того, как он сказал «Эля!» Подумала ли она сама, вздрогнув и подняв руки к лицу: «Господи, что же это?» — или, наоборот, за секунду до этого сказала себе: «Посмотри, ведь этот человек может замерзнуть…» А может, она только раскрыла рот, чтобы сказать это, или просто подумала: «Да это просто еще один пьяница». Все это навсегда осталось для Зыкина тайной. Он не помнил, как он потом ковылял и спотыкался, пока шел те десять или двадцать шагов, что нужно ему было пройти, и то, как он сел вдруг на ступеньки за несколько шагов до той, последней двери и сказал, а потом и повторил еще несколько раз хриплым голосом: «Позвоните Блинову, позвоните, пожалуйста, Блинову», — и стал копошиться, пытаясь найти записную книжку, но он не помнил уже, как нашел ее, потому что тут — и уже надолго — все пропало.
Так что когда Блинов вернется в свой отдел, его будут ждать шесть цифр телефона, по которому он должен позвонить, не зная, что повлечет за собою этот звонок и каким образом этот звонок будет связан со всей его жизнью, не только последующей, но и прошедшей. Он даже не дошел еще до кабинета главного инженера института, чья фамилия была Зайцовский, до кабинета, расположенного несколькими этажами ниже, так что, если не пользоваться лифтом, было время обдумать предстоявший ему разговор, что он и делал, пока шел по длинному коридору до лестницы и, дойдя, не спеша потрусил себе вниз. И все это время он думал о простых вещах: о том, как начнется сейчас разговор у Зайцовского (и тут он представил даже, что он уже вошел в кабинет, и маленький, со сморщенным личиком Зайцовский, хмуро глядя из-под своих кустиковых бровей, говорит ему скрипучим голосом: «Я вызвал вас, Николай Николаевич, для того, чтобы…»), и что скажет на самом деле Зайцовский, а что ответит он, Блинов, и что тут скажет Кузьмин, и так далее, и это все были сами по себе мысли о вещах простых, и они образовали как бы верхнее течение. Потому что одновременно с этим расположились другие мысли — о том, кто же это все-таки звонил ему в ту минуту, когда он выходил уже в коридор, кто из его названых сестер это был, Тамара или Таня, и чем вызван был такой звонок, потому что он даже вспомнить не мог, когда они — любая из них — звонили ему в последний раз. И если это была старшая сестра, Тамара, то он видел, как она подходит к телефону, который, надо полагать, с тех пор, как он работал там, на фабрике, все еще висит за дверью цеха, чтобы можно было хоть что-нибудь разобрать в шуме, который производят ткацкие станки, и он даже услышал это непрерывное и мерное клацанье, с которым машины пережевывают, втягивают в себя бесконечные километры нитей; он услышал этот звук и втянул запах масла и тепла, идущий от машин, и что-то дрогнуло в нем, что-то такое, о чем он давно забыл. А потом он увидел Тамару, ее лицо с поджатыми губами, затвердевшее лицо, которое тогда, когда он ходил между машин, вдыхая запах масла, не было еще затвердевшим, а было нежным, розовым и округлым и продолжало оставаться таким до тех пор, пока она не вышла замуж за того типа, который уехал потом на курсы повышения квалификации на Урал и там спутался с какой-то местной… Тогда-то и затвердело ее лицо — не только потому, что она не могла простить мужу, что он это сделал, но и потому, что она, как ей казалось, допустила это. Вот с того самого момента ее лицо и затвердело и вся она словно покрылась броней, сквозь которую даже он не мог пробиться, — а уж если она кого-нибудь и любила еще после этой истории, то это его.
Но, может быть, думал он, это была все-таки не Тамара, а Таня, — и тут же ему представлялась огромная комната, где железными сверчками непрерывно трещат арифмометры, выбрасывая в окошечко бесконечные наборы цифр. И он представил, как она сидит среди этого стрекота маленьких верещащих машин, пожирающих и выплевывающих пригоршни цифр. Да, он трусил вниз и видел Таньку с ее розовым, широким и добрым, унаследованным от тети Шуры лицом, расплывшуюся в свои двадцать семь лет, стойкую, несмотря на несчастья, обрушившиеся на нее с детства, не позволяющую своему лицу затвердеть, а сердцу ожесточиться. И снова что-то забытое уже давно, сладкое, как мысль о том, что надежда может все-таки сбыться, охватывало его. И он все трусил и трусил с этими простыми мыслями с этажа на этаж, понимая, что странным сейчас были не эти два течения его мыслей, а нечто совсем другое. То, что сверх этих мыслей о предстоящем разговоре с Зайцовским и мыслей о сестрах существовало нечто не связанное с настоящей минутой и не имевшее отношения ни к чему из того, что ему предстояло. Это было внезапным воспоминанием о словах, которые были написаны на чистом тетрадном листе в тот день, когда он вернулся в свой дом, не зная еще, что та, которая делала его домом, сама покинула его, не оставив ничего, кроме слов: «Теперь я тебе больше не нужна». Да, он давно уже не вспоминал, как это было. Более того, он запретил себе об этом думать, как если бы ничего и не было, но что-то сегодня произошло, что-то нарушено было, словно трещина возникла в непробиваемых стенах его крепости, которой он оградил свой рай.
И еще об одном слове вспомнил он. Вспомнил, как, увидев его, не обратил сначала внимания, не понял, что оно обозначает, и забыл его, потому что в тот день и час ему было уже не до слов. Ни до чего ему не было дела ни в ближайшие дни, ни в более отдаленные, когда тупое горе первых дней не то чтобы уменьшилось, а как бы подернулось серым налетом, вроде того, как покрываются налетом угли, еще сохраняющие жар, или раскаленное железо. Он бросил все, что только мог бросить после того, как оказался брошенным сам. Бросил все, закрыл дверь на ключ и уехал, убежал из этого города, из прежней жизни в лес, в темноту, глушь, работу, валящую с ног, к ночевкам в грязи и холоде, и чем хуже, тем лучше, только бы не вспоминать.
Но потом — не через год, не через два, лежа под брезентовым пологом, под шуршащими, падающими, холодными каплями, то спускаясь в забытье сна, то выныривая из него, увидел это чуждое и, нет, не забытое слово «Артавазд». И понял, что оно имеет к нему отношение, и подумал, что, понимай он это раньше, много раньше, может быть, он не был бы столь горд в тогдашнем своем упоении, в своем счастье, не заносился бы так, и тогда не произошло бы с ним то, что произошло. Тогда в палатке, когда это слово, выписанное на отдельной карточке, встало перед его глазами, он не знал даже, что это такое: имя ли это, название страны или животного, не знал ничего, а главное — причин, по которым оно было написано на картонном прямоугольнике.
И пока он не вернулся обратно, чтобы возводить свои стены и ждать, что совершится чудо и все станет, как было прежде, он так и не узнал, что же это такое. Но следующие годы, которые он просидел в этом здании на одном и том же стуле, проводя вертикальные и горизонтальные линии, приходя раньше, а уходя позже всех, у него оставалось по вечерам и ночью достаточно времени, чтобы узнать, что означает это слово. Последнее, может быть, слово, что написала в его разоренном доме рука единственной женщины, которая существовала для него на этом свете. И хотя все, что он узнал, не имело отношения к окружающей его жизни и он сомневался даже, что вообще существует место на земле, где это слово, это имя — Артавазд — сейчас звучало бы естественно, не нарочито, не странно, он думал сейчас именно о нем, об Артавазде. И, понимая всю странность и неуместность этих мыслей, он все думал и думал о нем, о старом, печальном армянине, который был убит две тысячи лет тому назад (две тысячи и три года, если уж быть точным, подумал он) потому только, что не сказал «да» в момент, когда это диктовалось жесткими условиями жизни, не оставлявшими, по правде говоря, никакого иного выбора. «Выбор, — думал он. — Выбор. Вот именно. В том-то все и дело. Что бы ты ни делал или что бы ты ни думал относительно того, что ты делаешь, ты делаешь всегда одно и то же. Ты выбираешь. И вовсе не обязательно тебе говорить при этом „да“. И вовсе не обязательно тебе говорить даже „нет“, потому что и твое согласие, и твое несогласие, и даже твое молчание, и даже если ты ляжешь на землю и закроешь глаза, закроешь руками лицо и заткнешь уши, — это все равно означает одно — выбор. А раз так, то и ответственность несешь тоже ты. И вот из этого-то и состоит наша жизнь — из поступков, из выбора и ответственности».
Вот зачем ему нужна была эта история, которая очень давно приключилась с одним старым армянином, которому каждый раз приходилось выбирать между своей любовью к Армении и чувством собственного достоинства и который много раз поступался вторым ради первого, пока наконец не настал предел: дальше отступать уже было нельзя.
Это всегда так — наступает предел. И вот тут-то ты и начинаешь понимать, что все предыдущее было как бы игра, как бы подготовка к тому, что предстоит сейчас. Как бы проверка — чего же ты сто́ишь, то есть настает время выбрать последний раз, после чего ты уже переступишь некую границу и возврата не будет. И тут ты, понимая, что ответом своим сводишь к нулю все свои предыдущие выборы и соглашения, говоришь «нет», думая при этом, что иного выбора нет. Но, подумал Блинов, это не так. Выбор у того все-таки был, потому что он мог ведь и согласиться, сказать «да», отдать Антонию свою наследственную корону или тиару, как бы она ни называлась, возложить ее на сына Клеопатры, подумать о том, что если он откажется сделать это, то это будет сделано без него, как то и случилось, а он не только потеряет корону или тиару, но потеряет и жизнь, и возможность когда-нибудь повернуть все вспять. Но он сказал «нет». Тут-то старый армянин и сделал свой выбор. Но тут Блинов и понял наконец, что во всей этой истории было самым главным: не только возможность выбирать, как бы плох для тебя этот выбор ни был, но в основном — да, это и было самым основным, — что тут-то и приходит к человеку настоящая свобода. То есть, пока ты свободен, тебе не надо об этом думать, и ты не думаешь об этом, как человек, знающий, что всегда может поесть, не думает о еде; но как только ты понимаешь, что загнан в угол, прижат, приперт к стенке и деваться тебе вроде бы некуда, — вот тогда ты понимаешь, что ты свободен, и если ты не можешь выбрать жизнь, какую ты считаешь единственно возможной, то ты всегда можешь выбрать смерть; и вот тут-то и выходит, что все-таки ты свободен.
А раз так, то и страха нет, а раз нет в тебе страха, то и сделать с тобой ничего нельзя, и ты можешь быть спокоен.
Как то и было в случае с Артаваздом, вторым царем с таким именем, когда он был убит по приказу египетской царицы Клеопатры, убит предательски, подло.
И, уже спустившись на нужный этаж и подходя к двери кабинета главного инженера института Зайцовского, Блинов все думал об этом, втором в истории Артавазде, и о том, что же тот должен был думать и чувствовать в тот момент, в чужой для него стране, в безвыходной ситуации, когда он был так уже обманут, так загнан в угол, что хуже и придумать было нельзя. Ему только и оставалось, что сказать «да» — и в ту же секунду все волшебным образом переменилось бы, а он, этот старый армянин, взял и сказал «нет». И он все думал об этом даже тогда, когда постучался, и открыл дверь, и увидел Зайцовского и Кузьмина, их лица, повернувшиеся к нему, темные от падающего сзади света, и все еще думал, когда Кузьмин спросил его: «Ну как, вы намерены выполнить мое требование?» — а он ответил: «Конечно. Конечно, нет».
А потом он снова оказался на лестнице, но уже не шел вниз, а возвращался после разговора с Зайцовским. Но вовсе не сразу после того, как он вошел в его кабинет и увидел обращенные к нему лица. Потому что хотя и произнесено было в этом кабинете: «Ну как, вы намерены выполнить мое требование?», а он ответил почти сразу же, без перерыва между вопросом и ответом: «Конечно, нет», — не следует думать, что этим все началось и закончилось, и его отпустили, и он побрел себе наверх, в свой отдел, недоумевая, стоило ли его вызывать из-за того, чтобы задать ему вопрос и услышать тут же ответ; все было не так. Так закончился его визит, но не с этого начался, и только потом он понял, что вопрос этот незримо присутствовал, как бы висел в воздухе. Не заметить этого было нельзя, как нельзя не почувствовать запаха нафталина, даже если и не знаешь, где он положен. И сам он в любое другое время, наверное, тоже почувствовал бы этот запах, но что-то произошло сегодня: он не то растерялся, не то утратил бдительность, как бывает, когда плывешь в море и берега отодвигаются и теряются вдали, а ты все плывешь и плывешь, переваливаясь с волны на волну, и знаешь, что пора повернуть, а сам все плывешь и плывешь; или когда ты под водой и погружаешься все глубже и глубже. Но с ним, поскольку он не плыл ни вдаль, ни вглубь, происходило, наверное, то, что происходит с человеком, вышедшим прогуляться, — он идет и идет, и обернуться, посмотреть, далеко ли он ушел, не заблудился ли он, ему лень. И только потом, когда и оглядываться уже поздно, да и незачем, человек начинает понимать и припоминать, что и с самого начала все было как-то странно, словно подстроено для того, чтобы он поменьше оглядывался и тем вернее заблудился, да так, чтобы и дороги назад не найти. Так и Блинов только на лестнице, возвращаясь назад, понял: все, что произошло, произошло так, как и задумал один из них с самого начала. Жаль только, что не Блинов это был, и это очень напоминало те картинки из детства, где в хитросплетении линий надо было обнаружить охотника, притаившегося с двустволкой в руках, и лису. Но он поздно понял, что лиса — это он сам, понял только на лестнице, а тогда он ничего не понял, у него начисто отшибло все. И если бы в комнате был спрятан шарик нафталина, он и не почувствовал бы запаха, разве увидел бы шарик, да еще и в нос, пожалуй, надо было бы ткнуть — так он расслабился, так потерял бдительность.
Удивительно ли, что он, приняв все всерьез, тут же пустился в разъяснения — сразу после того, как вошел, сразу вслед за вопросом Зайцовского, — не таким, правда, какого он ожидал, когда спускался по лестнице. Потому что Зайцовский не начал с обычной своей фразы: «Я пригласил вас для того, чтобы…», а просто спросил: «Ну, что там у вас стряслось?» Кузьмин стоял сбоку, и лицо у него было такое, какое бывало, наверное, у судьи-инквизитора, когда подозреваемый в ереси входил, еще не зная, что его ждет, еще надеясь на что-то, может быть, даже на свою невиновность, тогда как участь его давно уже была решена и ничто помочь ему не могло. Да, тут бы ему все и сообразить, для чего никаких чудес сообразительности ему проявлять не пришлось бы: одного только взгляда, которым Кузьмин, не отрываясь, смотрел на него, было бы достаточно для любого, чуть менее беспечного, чуть более внимательного. Ему впору было бы изобразить изумление, прикинуться незнающим, выслушать, что пожелают ему сказать, но, видно, Кузьмин раскусил его с первого, так сказать, захода. Он ждал, пока все карты окажутся на столе, а там уже он посмотрит, когда выскочить из кустов с двустволкой, так, чтобы дважды стрелять не пришлось.
Он, Блинов, потом много думал, зачем все это было нужно, и перебирал варианты, и даже подставлял себя на место Кузьмина, и хотя этот метод подстановки очень часто помогает понять другого, но не всегда. Может быть, думал он, Кузьмину, из-за того, что он недавно пришел в институт, хотелось сразу закрутить гайки, и он не стал упускать даже такой малозначительный повод, как то, какой быть подъездной дороге. Или, может быть, дороги просто были тем участком, в котором он хоть как-то разбирался или считал, что разбирается, больше, во всяком случае, чем в канализации или водоснабжении; или ему просто хотелось показать, что он во всем разбирается и никому не даст спуску, а продемонстрировать это удобнее всего ему показалось на подъездной дороге. А может быть, стараясь до конца оставаться честным, думал Блинов, Кузьмин и вправду был убежден в своей правоте, меряя все мерками военных и послевоенных лет, не в силах отказаться от привычек того времени, вошедших в плоть и кровь, и главным для него было сэкономить вот этот, лежащий на поверхности рубль?
Но все эти мысли пришли потом, а сначала он принял все всерьез, поверил, что Кузьмину важно не только доказать свою правоту, но и еще раз выслушать его аргументы, проверить, не ошибся ли он сам, сравнить в присутствии Зайцовского предлагаемые варианты. В то время как Кузьмину важно было дать ему выговориться, и если можно, то своими аргументами свести на нет его аргументы или, по крайней мере, ослабить их значение, а потом перевести весь разговор совсем в другую плоскость, в плоскость дисциплины, выполнения указаний, неподчинения, беспорядка или, точнее, отсутствия порядка в отделе, и тут уже из принципа настоять на своем. Но для этого Блинов сначала должен был проявить неповиновение, высказаться, увлечься, чтобы в пылу он и не заметил, что не переменить свое мнение отказывается, а отказывается выполнять распоряжение. И вот тут-то он, Кузьмин, будет в своей сфере, да и Зайцовскому некуда будет деться. Придется ему из соображений хотя бы административного престижа принять какие-то меры.
Вот это все и понял Блинов на лестнице, на пути назад, слишком, слишком поздно. Лучше было бы ему сосредоточиться, позабыть об Артавазде, который все еще не давал ему покоя, и на вопрос Зайцовского: «Ну что там у вас стряслось?» — ответить: «У меня? Ничего». И это было бы правдой. Но он все еще думал об Артавазде, ничуть не меньше, чем когда он еще подходил к кабинету или когда открывал дверь, и в тот даже миг, когда в ответ на вопрос: «Ну что там у вас стряслось?» — разложил на столе принесенные кальки с продольным профилем и планом и поперечниками подъездной дороги, когда развернул их перед Зайцовским так, чтобы он мог видеть и оценить решение, которое принял Зыкин, и все думал, не говоря ни слова, пока Зайцовский из-под топорщившихся кустиками бровей смотрел на разложенные перед ним кальки, выполненные так грамотно, так ясно, что и говорить ничего не надо было. Надо было не говорить, а следить за выражением лица Кузьмина, но он думал об Артавазде и в то же время отвечал на вопросы Зайцовского, благо их было мало. Как же, думал он, это происходило, ну, сидел он, не в комнате, конечно, уж какой-нибудь зал ему отвели, ведь он был царем, хоть и в плену, да и нужен он был именно как царь, так как же это происходило? («Да, — сказал он, — дорогу проектировал Зыкин, он в отгуле за новогоднее дежурство»). Пришел ли Антоний к нему вечером, когда Артавазд сидел на террасе и с тоскою смотрел на бескрайние желтые пространства песков, так не похожих на нежную, зеленовато-коричневую замшу его родных нагорий, пришел ли он, большой, роскошно одетый, и сказал ему попросту, что, хочет Артавазд того или не хочет, ему придется возложить армянскую корону на голову сына Клеопатры, но и он, Артавазд, не останется внакладе. Наверное, он даже сказал: «Мне лично ваша корона вовсе не нужна, но вы ведь знаете женщин», — или что-нибудь в этом роде. («Песок, — сказал Блинов, — можно брать из Немшильского карьера, в тридцати километрах от трассы. Щебень? Щебень есть в городе».) Прежде всего Антоний был солдат, и как солдат он не мог не презирать все эти азиатские короны, которые он сам раздавал при случае. Но Клеопатру тоже можно понять, понять ее даже не как царицу («Да, — сказал он, — возвышение бровки земляного полотна над уровнем грунтовых вод для этой местности равно по СНИПу девяноста сантиметрам. А здесь еще — пылеватый суглинок»), а как женщину, страна которой была давно уже не свободна. Как женщину, которую жесткая необходимость укладывала в постель то к одному, то к другому мужчине, не спрашивая, не интересуясь ее согласием, а каждый раз предлагая выбор между сохранением достигнутого и потерей всего, с таким трудом сохраненного. Может быть, думал Блинов, ей не так уж хотелось ложиться в постель с собственным братом, да еще в четырнадцать лет. Может быть, ей и Юлий Цезарь нравился не так уж сильно, не потому что ему в это время было пятьдесят три, а то и пятьдесят четыре года, ибо для женщин возраст мужчины не играет роли, а потому только, что и здесь ей надо было выбирать между возможностью все потерять и возможностью сохранить приобретенное. А раз так, думал Блинов (в это время он чисто механически и молча следил, как Зайцовский вглядывается, даже как бы внюхивается в разложенный перед ним чертеж), раз так, то, конечно, Клеопатре и в голову не могло прийти, что кто-то, поставленный судьбой в столь жесткие условия, в которых она всегда уступала, мог им противиться. Как мог противиться жесткому выбору этот армянин, пусть царского рода, пусть древнего, но не выше ее, да к тому же еще оказавшийся столь неудачливым, что попал в западню, дал увести себя в плен, хотя бы и обманным, как о том поговаривали, путем. Да, можно было понять и Клеопатру, старавшуюся обеспечить своим детям хоть видимость застрахованности от бед и напастей, которых она — не без оснований, как оказалось чуть позже, — могла опасаться.
О чем же они говорили в это время — пытался он вспомнить потом. Да, Зайцовский долго рассматривал чертежи, и Блинов, следя за ним взглядом, видел, как останавливается он на каждом повороте, начиная от того места, где подъездная дорога отходила от магистрали и шла, легко изгибаясь, мимо полей, по опушке леса, а затем, обогнув лес, в самом узком, но единственно оправданном и возможном месте пересекала огромный овраг. И Блинов физически ощутил, как остановился взгляд Зайцовского на этом овраге и на надписи — «железобетонная труба 2х2 м». И здесь, кажется, он, Зайцовский, понял, что с технической стороны тут ни к чему не придерешься, и задал те самые вопросы про насыпь: чем, мол, объясняется насыпь на таком, казалось бы, ровном месте, на что Блинов и ответил про пылеватый суглинок.
А потом Зайцовский спросил про щебень, откуда его брать, и про песок для насыпи, но это, конечно, были детские вопросы, так что, ответив на них, Блинов мог вовсе не прерывать своих мыслей о событиях, случившихся очень давно. И даже после того, как Зайцовский перестал задавать вопросы, а Кузьмин начал говорить, он не слушал его слов, обращая внимание только на интонацию, ожидая услышать какой-то прямой, непосредственно относящийся к делу вопрос. То, что Кузьмин говорил об экономии, было, с его, Блинова, точки зрения, сплошной нелепостью, на этом не стоило даже задерживать внимания. Это просто были общие места, уже в институте им внушали, что неразумная, непродуманная экономия есть только другой вид расточительства, который легко может быть доведен до нелепости, как если вдруг водитель «скорой помощи» начнет экономить бензин на срочном вызове, а врач — медикаменты. Но Кузьмин, видно, если и учился в институте, то в иные времена, и он вцепился именно в экономию и постарался выжать из этого все, что только можно. Его, похоже, не смущало, что хорошая дорога всегда стоит дороже плохой, он даже и вопрос так не ставил, он просто взял стоимость той дороги, что была на чертеже, и занялся элементарной арифметикой. И при помощи вычитания тут же доказал, что может сэкономить на одной этой дороге четыреста тысяч. Что он мог построить на оставшиеся сто тысяч, что это была бы за дорога длиною в пятнадцать километров, где каждый километр стоил бы меньше семи тысяч, об этом он не сказал ни слова, об этом можно было только догадываться, как и о том, каким образом семитонные грузовики могли бы двигаться по такой дороге в весеннюю или осеннюю распутицу. Но и об этом Кузьмин не говорил ни слова. Он обыгрывал четыреста сэкономленных тысяч так долго, что Блинов, который вначале все-таки если и не слушал вполне, то хотя бы краем уха прислушивался, потом уже и вовсе перестал слушать, и над ним словно стали смыкаться волны, слой за слоем. Тут-то он и пропустил момент, когда Кузьмин перевел разговор в другое русло — от экономии, которую он считал в чем-то, ну хотя бы в окончательных цифрах, еще спорной, к порядкам в секторе вертикальной планировки, что было для него не только бесспорным, но и бесспорно более важным. А то, что начальник сектора сам подает пример, отказывается выполнять распоряжение главного инженера проекта, придавало всей этой новой теме особую остроту и, так сказать, пикантность.
Но Блинов прослушал, проглядел этот новый поворот, допустил развитие этой новой темы, потому что думал в это время даже уже не об Артавазде, а о самом себе и о том, что заставило его, человека столь далекого — всегда, можно даже сказать, убежденно далекого — от истории, все-таки вернуться к ней, искать и находить в ней, в застывшем, осевшем прошлом человечества, похожем на плотный, слежавшийся ил, ответы на вопросы, встававшие перед ним сегодня. Никогда, никогда не мог он предположить такого: ни тогда, когда представлял себя летящим на торпедном катере среди разноцветных волн Черного, Желтого или Красного морей, ни позднее, когда он, вытирая тряпкой руки, ходил по проходу между чавкающих, грохочущих машин в желтом свете ламп накаливания, еще не замененных лампами дневного света, ни тогда, конечно, когда он, стиснув зубы, вчитывался в строчки учебников, а по вечерам заступал на смену в институтской кочегарке. И так год за годом, буравя, перемалывая институтскую премудрость, а в редких перерывах еще успевая, каким бы удивительным, невозможным, неправдоподобным это ему теперь ни казалось, вырываться на Крестовский остров к маленькому островерхому домику с позеленелой от возраста крышей, а затем в четверке, в гладкой, красного дерева лодке, скользить по синей упругой воде, то ли вниз по течению до стадиона на взморье, выставив на носу зажженный фонарь, то ли поднимаясь вверх по Малой Невке до Гренадерского моста, а то и еще выше.
Нет, не нужна ему была тогда история, и уж совсем не нужна она была ему, когда в его жизнь вошла маленькая черноволосая девушка, когда дни понеслись быстрее, чем их скифовая четверка после команды «марш», и чем лучше было ему в настоящем, тем меньше нуждался он в напоминаниях. А что такое история, как не постоянное, непрерывное напоминание об изменчивости настоящего, которое невозможно удержать, как бы прекрасно оно ни было, и которое вот здесь, у тебя на глазах, становится, уходя навсегда, невозвратимым прошлым, оседая — слой за слоем — на дно твоей памяти. Но пока ты счастлив, ты все-таки думаешь только о настоящем, о том, чтобы задержать его, продлить, продлить еще, если не навсегда, не до бесконечности, то достаточно долго. А прошлое — к чему тебе оно? Прошлое — это напоминание о том настоящем, которое было и прошло, о том, что все, что было, — прошло, и все, что еще только будет, — тоже пройдет. Но в том-то и дело, что, пока ты счастлив, ты не нуждаешься ни в чем, и меньше всего в напоминаниях.
Вот почему тебе не нужно все это, и ты можешь говорить в упоении собственным счастьем, чуть снисходительно и беззлобно посмеиваясь над пристрастием к окаменевшему прошлому, которое заставляет черноволосую девушку часами сидеть у письменного стола: «Ах, оставь ты это все, зачем тебе все это. Иди ко мне. Иди ко мне, я люблю тебя, иди ко мне…»
Вот тут-то все и случилось. Вот тут-то охотник и подстерег зазевавшуюся лису, выждал момент, а затем выскочил из засады и…
— Ну, так вы намерены выполнить мое требование? — спросил Кузьмин.
И он так же быстро, почти без раздумья, захваченный врасплох, ответил:
— Конечно. Конечно, нет.
Что и нужно было Кузьмину. Его удовлетворение было просто написано на его лице, на красном его лице, и в длинных его продольных морщинах. В воздухе пахло тревогой, какой-то ошибкой, которую нельзя было уже поправить, по крайней мере сейчас. И тогда Блинов понял, что это были за слова, которые предшествовали последнему вопросу, и как это он так недооценил Кузьмина, что попал врасплох. Да, стоило тут принюхаться к обстановке, и — пусть с опозданием — он сделал это. В комнате явственно пахло опасностью, а также коньяком и жареными зернами кофе, которым следовало бы уничтожать запах коньяка. Пахло неподчинением нижестоящих чинов и недовольством высокого начальства, а потом настала многозначительная пауза, в конце которой Зайцовский произнес своим обычным, чуть, может быть, более скрипучим, чем обычно, голосом:
— А мне не нравится, как вы это сказали.
Ему и самому не нравилось. Он стоял и молчал.
Потом он спросил:
— Я вам больше не нужен? Я могу идти?
— Да, — сказал Зайцовский. — Вы можете идти. Нет, чертежи оставьте.
После чего он и оказался вновь на лестнице, но, конечно, спешить наверх ему не было никакого смысла, он просто шел, шаг за шагом, и вдруг подумал, что устал неизвестно отчего, и хотя он не верил в предчувствия, что-то не так все происходило сегодня… Навстречу ему, перепрыгивая через три ступеньки, неслись два стоялых жеребца, два инженера из отдела канализации, и трудно предположить, что бы с ним стало, если бы они не тормознули в самый последний момент. Они выкрикивали что-то несуразное, и лица у них были распарены, как после бани, и Блинов вполне мог предположить, что каждый из них выиграл по «Москвичу» или угадал все шесть цифр в «Спортлото». Но он еще хотел только спросить, что же такое случилось, из-за чего человека чуть не сшибают с ног, как один из этих двух, то ли в виде компенсации за испуг, то ли от избытка чувств, подмигнул Блинову и сказал — нет, выпалил:
— Уже слыхали?
— А что, — спросил Блинов с какой-то странной надеждой, — что случилось? Пожар?
Тут оба посмотрели на него. Блинов ясно прочитал в их взгляде, как он стар и как им обоим жаль его. А может быть, это ему показалось, насчет жалости, и им было вовсе его не жаль.
— Веденин выиграл тридцатку, — сказал тот, что пониже, и, пока Блинов соображал, пока говорил: «Что?.. кто выиграл?» — пока вспомнил, что начались ведь Олимпийские игры, тех двоих уже и след простыл, а топот и грохот раздавались где-то далеко внизу.
Он ошибся, конечно, насчет жалости.
— Вы слышали новость? — сказал Блинов кассирше. — Веденин выиграл тридцатку.
Перламутровые ногти осторожно подтолкнули ему ведомость.
— Да, — сказала кассирша. — Конечно. Веденин первый, Тилдум второй, Симашов — шестой, Скобов — двенадцатый… — Перламутр вспыхивал и переливался, большие золотые серьги в ушах плавно качались в такт ее словам. — Да, — сказала она, — только что передали. По радио.
Она смотрела, как Блинов расписывается, смотрела и никак не могла вспомнить, женат он или нет. Потом она посмотрела на его закорючку и пододвинула ему пачку разноцветных бумажек.
— Сто три рубля, — сказала она. — Пересчитайте.
Блинов спросил:
— Так что, вы говорите, шестой — Скобов?
— Нет, — сказала она, и серьги ее вновь качнулись. — Скобов — двенадцатый. А шестой — Симашов.
— Спасибо, — сказал Блинов и сунул деньги в карман.
Кассирша долгим взглядом смотрела ему в спину, пока он шел — высокий, поджарый, чуть сутулый, и серьги ее качались в такт мыслям. Но она так и не вспомнила, женат он или нет.
«Спрошу в отделе кадров у Зины», — решила она.
А он шел и думал: да, все правильно. И, может быть, в конце концов когда-нибудь — не сейчас, конечно, не сразу, не здесь, но в отдаленном будущем — он поймет и объяснит себе все же, почему люди время от времени говорят вместо «да» «нет», как это, к примеру, сделал Артавазд, сын царя царей Тиграна. Может быть, думал он, придет время, и найдется вдруг человек, который объяснит не только это, но заодно уже и многое другое, что происходит на свете. Объяснит, например, почему для любви, одной-единственной на свете, просто для преданности — нет гарантий, как нет границ у тоски, которая приходит по ночам, когда ты беззащитен. Но чего он не мог себе представить и на что не мог надеяться, это на то, что кто-нибудь когда-нибудь объяснит, что́ он сделал не так. Объяснит, наконец, за что он обречен, мучаясь, ловить, хватать маленькую, исчезающую, растворяющуюся в воздухе, подобно облачку, надежду — день за днем и час за часом; делать это с горечью столь уже устоявшейся, что в ней появилась даже какая-то необходимость, как в ритуале. Кто и когда скажет, долго ли еще продлится это, долго ли ему чувствовать себя лодкой, которой для спасения, для сохранения, так сказать, жизненной плавучести надо только за одним смотреть и об одном заботиться — о том, чтобы не допустить пробоин, которые разрушат избранную раз и навсегда форму существования.
И еще ему подумалось: а может быть, случайностей вовсе нет в нашей жизни? Может быть, то, что мы принимаем за случайность, есть не случайность вовсе, а какой-то намек, может быть, косвенный, а может быть, прямой и недвусмысленный, на разгадку тайны, что мучает нас? Может, это даже просто ключ к тайне, что-то вроде трехъязычной надписи, которая помогла в свое время разгадать тайну иероглифов? Но мы проходим мимо этого намека, считая его не относящимся к делу, в то время как на поверку никаких случайностей нет, а просто мы не готовы, не поняли, не сумели воспользоваться этим намеком. И любой ответ на любой вопрос человек может найти лишь тогда, когда он найдет свое место в бесконечных, теряющихся во времени нитях истории, когда поймет, что и сам он — один из узелков, из которых состоит эта нить, проходящая через века, народы, местности, а может быть, поймет и то, что весь смысл нашей жизни и состоит именно в том, чтобы не прерывать, тянуть и тянуть дальше — каждый свою — ниточку с тем, чтобы передать ее потом кому-нибудь дальше, в будущее, не оборвать ни подлым поступком, ни излишней поспешностью, ни слишком явно выраженным недоверием к жизни.
— Да, — сказал он, отвечая на ходу, — да, знаю. Веденин первый.
— А второй, второй кто?
— Тилдум, — сказал он. — Тилдум второй.
— А Скобов?
— А Скобов двенадцатый.
— А шестой, шестой кто? Передавали, что кто-то из наших шестой…
— Симашов, — сказал он. — Шестой Симашов… — и он все шел и шел через отдел, высокий и чуть сутулый, и на лице его нельзя было прочесть то, что он думал в этот момент и во все предыдущие моменты, и уж никак нельзя было предположить, что он не просто идет по своему отделу к телефону и не просто отвечает на вопросы, но и тянет еще за собой — неведомо из какого далека — тонкую, бесконечную ниточку из тех времен, что открылись ему в случае с Артаваздом, но вполне может быть, что и еще из более отдаленных.
— Да, — сказал он в трубку, — я слушаю.
И тут Тамара — конечно, это была Тамара — сказала, — и тут он снова не понял, что за звук доносит до него трубка и что она, Тамара, сама делает там, за дверью, если только телефон-автомат стоит еще там, где хоть как-то можно спастись от шума: смеется она или плачет… Да, она говорила каким-то прерывающимся странным голосом, а он все ждал и не мог понять, что с ней, не мог догадаться. А она все начинала: «Колька, — говорила, не то смеясь, не то плача, — Колька, ты что, забыл… — и опять: — Ты меня слышишь?» И он, испугавшись даже, все прижимал и прижимал трубку к уху и безучастно глядел на какую-то бумажку, которую ему подсунули слева — с шестью цифрами, с телефоном, которого он никогда раньше не видел и не слышал, с надписью под цифрами: «Просили позвонить, когда вернетесь…» Он рассмотрел, успел кивнуть и сунул бумажку в карман. Но тут все разъяснилось; откуда-то издалека он услышал: «Колька, а ты ведь и вправду забыл». И тут он сказал: «Да, да, я слышу. Что случилось?»
«Да ведь тебе сегодня сорок лет», — сказала там, у себя, Тамара, его сестра, и снова раздался этот звук, и тут наконец он понял, что это за звук, понял, что это вовсе не смех, и он испуганно сказал, прикрывая трубку рукой: «Ну что ты, что ты, что ты… Ну, Томка…»
Точно так же, как до него произнес эти слова Модест, с которым они когда-то вместе бегали здесь, среди пахнущих разогретым маслом и пряжей машин. «Томка, — сказал Модест, — Томка…»
А она — нет, она не почувствовала, не поняла и не вспомнила — может быть, только удивилась действию, что оказали вдруг на постаревшего раньше времени, ничего на свете не боящегося Модеста ее сказанные в нетерпении, в отчаянии слова. Она не помнила, забыла — да и зачем, к чему ей было помнить те давние дни, не время ей было об этом вспоминать, не время и не место. День набирал темп. И это была жизнь. Жизнь, со всеми ее радостями и несообразностями, которые потому и несообразны, что живое, стремительное течение жизни не может быть приведено в полный и холодный порядок. И если бы за рабочую смену, за эти восемь часов у нее было хоть несколько минут для свободного философствования, она, как и всякий другой, безусловно додумалась бы до этой простой и на поверхности лежащей мысли. Беда была в том лишь, что этих минут у нее не было — ни вчера, ни позавчера, а уж о сегодняшнем, самом распроклятом из распроклятых дней, нечего и говорить.
В тот самый момент, как новоявленный Иона — Модест исчез в металлических внутренностях машины, она собралась перевести дух, чтобы вспомнить самое необходимое из того, чем придется ей заняться через пять и десять минут, и не забыть того, что она помнила с самого утра. Но куда там. Эта жизнь сейчас не оставляла времени даже на самое необходимое, и она снова кричала в трубку: «Кто? кто?» — а рука ее записывала номер машины, с которой пошел брак, и, прижимая трубку плечом, она уже писала подбежавшей помощнице: «Останови машину — идет брак». А сама все пыталась вспомнить фамилию этой новенькой, и все не могла, и, только положив трубку, вспомнила — Панкова Катя, и еще вспомнила — словно анкета отдела кадров встала у нее перед глазами: 1950 года рождения, не замужем, дочке два года. И глаза — испуганные, беззащитные глаза. И когда она подошла к машине, той самой, которая в этот миг превратилась в неподвижный кусок железа: ни одна нить не шевелилась на катушках, длинный, безжизненный рукав повис, как хобот, над зеленым брезентовым мешком, и сама виновница стояла понурив голову и в глазах ее была та самая покорность и готовность снести все, что ни выпадет ей от судьбы, что́ она могла, как не сказать ей только: «Ах, Панкова, Панкова», да еще махнуть рукой и отвернуться, чтобы не видеть эту покорность, чтобы не закричать на нее, не выругать самыми грубыми словами.
Но больше всего ей хотелось взять ее за шиворот и встряхнуть, и трясти так долго, чтобы то, что в этой покорной и примирившейся душе еще осталось живого и независимого, проснулось бы, взбунтовалось и ожило в двадцать два ее года. Эта беда теперь, поняла она, тоже ляжет на ее плечи; и ей придется будить эту заснувшую душу и тормошить ее изо дня в день до тех пор, пока не разбудит и не спасет. Но, конечно, не теперь, не в эту минуту следовало заниматься спасением, и она только сказала: «Ох, беда ты моя, Панкова»; и еще: «Иди пока вниз, на выпускной, поднимай свои петли». И тут же словно невзначай потрогала нить, безжизненно свисавшую с остановившихся катушек. Узел на узле — из той, подмоченной чебоксарской партии. Не мудрено, что она, Панкова, проглядела брак — здесь и более опытный работник станет в тупик.
Но тут прибежал дежурный электрик и с ходу закричал: «Стой, стой, Иванова, постаивай, а у тебя на складе трубу прорвало, заливает тебя. Ну, стой, стой…» И тут было еще на час столпотворение, землетрясение, всемирный потоп и еще черт знает что.
Тут промелькнул перерыв и подошел конец смены; и тогда только она набрала номер, который хотела набрать с самого утра, с самого первого мгновенья, когда в кромешной тьме, в первые пять минут нового дня открыла глаза и вспомнила, какой же сегодня день.
Гудок в телефонной трубке все ныл и ныл, как больной зуб, а потом оборвался, а потом оказалось, что Блинов куда-то вышел или его вызвали — только что, и кто-то говорил ей, что неизвестно, может быть, будет через пять, а может, через десять минут, позвоните, пожалуйста, позднее, или, может быть, ему передать что?
Передать, думала она с тоскою, что же можно передать — ведь не передать и словами не выразить то, что переполняло ее всегда, когда она думала о своем Кольке, о брате, который один на всем свете был ей до сих пор дорог и нужен, — так что же она могла ему передать? И тут она поняла, что не только чужому человеку, терпеливо ожидавшему у трубки, она не сможет ничего сказать, но и ему самому она тоже не скажет ничего, и что единственное, чего она хочет, это просто услышать его голос и еще раз убедиться, что это все не ее выдумки, а он действительно жив и здоров. А то, что ему исполнилось сегодня сорок лет, — что ж, как предлог годилось и это. И она сказала тому, кто там, далеко от нее, держал трубку, кто жил в одном мире и дышал одним воздухом с ее братом, и видел его каждый день, и кому не надо было, как это надо было ей, ожидать какой-нибудь даты, чтобы обратиться к нему, сказать что-либо. Она сказала: «Передайте ему, что звонила сестра», — и тут же повесила трубку. А когда уже повесила, то в тот же миг сообразила, что она ведь не сказала, какая сестра, и что теперь ей наверняка придется звонить еще раз, и это время — от первого ее звонка до второго — тянулось так медленно, так тоскливо, что она уже рада была бы, если бы что-нибудь случилось, и действительно обрадовалась, когда зазвонил телефон и Митрофанова из фабкома, поговорив для приличия вначале о том и о сем, пожурила и попеняла ей, что-де она по своим делам не идет на прием к Козловой, у которой все уже записано — и насчет общежития, и прочих ее дел, а потом перешла на работу — и про трубу, залившую склад, она уже слыхала, а потом перешла к плану — план трещал, предыдущая смена недодала шесть процентов, машины на реконструкции…
А дальше она стала уже запинаться, замялась и совсем остановилась. Но она, Тамара, поняла, в чем тут дело, и грубо спросила, вернее, не спросила, а просто сказала, зная заранее, что в этих вопросах лучше всего без уверток и напрямик: «Опять сверхурочные?» — и тут Митрофанова не то вздохнула, не то выдохнула: «Да». И добавила: «Ну что же остается, Тома, милая, ну план же, ну поговори ты с людьми, пусть останутся. Это, — заверила она, — последний раз; уж коли фабком идет на это, значит, и вправду — зарез». А к ней-де обращаются, зная, что она не подведет… Но она-то давно уже раскусила эту нехитрую игру, на это ее было не взять, на такую нехитрую лесть, и все, что в ней накипало и накипало с самого утра, она вложила в свое «нет» — такое яростное и непримиримое, что Митрофанова даже замолчала. Но она, Митрофанова-то Люська, была одного с ней засола, одной закваски, и тоже прошла всю лестницу снизу доверху, она знала, на что надо нажимать. И еще она знала, какие есть приемы, как можно заставить человека, десять, двадцать лет проработавшего на фабрике, сделать все, что он может и чего не может, и она до тех пор повторяла про план и про честь фабрики, пока не стало ясно, что деться и в самом деле некуда. И, отвечая Митрофановой: «Нет, нет и нет», — она уже думала и устало прикидывала, и решала, и представляла даже, как и с кем ей надо говорить, и кого уговорить удастся, у кого копейка на счету, у кого лишний рубль не валяется, у кого дети такие, что можно оставить их одних и они не подожгут дом, не сунут пальцы в розетку, не уйдут, захлопнув за собою дверь, а ключи забыв. Она должна была знать все и про людей, которые сейчас стояли у станков, и как подойти, кто сам поймет, кого надо пронять, кому польстить, на кого нажать, а к кому и обращаться бесполезно — ну, например, к Зеленовой, что неделю назад вышла замуж, вон у нее сине под глазами, секунды считает до конца смены. Или к Козловой Нюше, к ней не подходи, ей муж так и сказал: «Еще раз не придешь — брошу тебя к такой-то матери, и живи в обнимку со своей Ивановой да с куском железа, как раз вам на двоих хватит, а мне не портрет твой нужен на Доске почета, а жена, а нет, так и нет». Ну, ошалел мужик, темный да злой, нет, к Козловой не подойти. Идти надо было, как всегда в этих случаях, к старичкам — к Артюховой, да бабе Саше, да Ниночке Кутузовой, к Толмачевой и Андреевой. И тут она расслабилась на секундочку, а Митрофанова, змея, вмиг учуяла и скороговорочкой: «Ах ты золотце, Томочка, ну, значит, решила, вот уж молодец, я так и скажу Митрохину, да он и сам сказал: „Ивановой, говорит, звони, в трикотажный…“ Ну, пока»… И она по инерции сказала: «Пока», — а потом спохватилась, но Люськи и след простыл. И она поднялась и еще с полчаса работала, как дипломат на конференции, и так говорила, так убеждала, что в конце концов и сама забыла, с чего все началось, — будто так и надо было работать — и ей, конечно, как и всем, потому что какая же это смена без сменного мастера, а Артюхова Таня так прямо и сказала: «Только с тобой».
«Да, — говорила она, — да-да, конечно, со мной, конечно, девочки, конечно, баба Саша, да-да, я останусь, я… и ты останешься? Ну, Аля, спасибо, ты ведь понимаешь, что такое план, да?» А сама думала о Наташке, дочери, и еще — надо позвонить Таньке, пусть подъедет… «Ну хорошо, Гудкова, не хочешь — не оставайся, но совесть у тебя должна быть? Должна? Вот когда ты отпрашиваешься, я тебя понимаю… а ты меня? Нет? Смотри, смотри… да нет, я тебе не грожу, это дело добровольное, это на совесть… Да, это уж кто как про совесть понимает, нет, не заставляю, нет, нет…» И тут она увидела с немым выражением глядящие на нее глаза и, удивившись, сказала: «Но ты-то, Панкова Катя, ты-то ведь не можешь…» А та прошелестела: «Н-нет, сегодня… сегодня я могу…»
И вот тут-то она поняла, что с нее хватит. Что-то поднялось в груди, она задохнулась, и все исчезло на мгновенье, исчезло, растворилось, пропало, и, может быть, это и было наградой за все ее дни и часы — то, что подступало к горлу, переворачивало все внутри, чего не выразить ничем, никакими словами, никогда…
И она повернулась и пошла.
Она еще вернется, ей еще ходить и ходить вторую смену среди этих неустанных станков… И тогда-то она и прильнула к телефонной трубке.
Не там был телефон, где много лет назад, и гул работающих станков не долетал уже до того, кто на другом конце провода захотел бы прислушаться, узнать и вспомнить. И эти последние секунды тишины долго тянулись перед тем, как она услышала дыхание и Колька, брат, сказал: «Да, я слушаю». Она все молчала, и из глубины, где все спало, где, казалось, ничего не было такого, что могло подниматься, расти, заполнять ее, выросло, поднялось и заполнило, перехватило горло — и слезы поднялись из глубины, подступили, полились, и все катились, текли по ее впалым щекам, западая в уголки рта, и, словно блестящий водопад бусин, падали вниз. «Коля, Колька, тебе ведь сегодня сорок…» — сказала она и замерла, не в силах продолжать, а он там, в той дали, где он скрывался от нее, от всех них долгие годы, ничего не мог понять. Она слышала его растерянный, встревоженный голос: «Алло, кто это, кто…», а потом: «Тома…», а потом: «Что ты сказала, что ты…» И она собрала все силы, чтобы голос ее звучал внятно, вытерла слезы, которые все бежали и бежали, и сказала (вот в эту минуту он и понял, что она вовсе не смеялась): «Колька, милый, дурень ты этакий. Неужели ты забыл? Ведь тебе сегодня сорок лет».
И тут уже слезы полились так, что ей и вытирать их было бесполезно, и она только держала трубку и слушала, что он говорит ей, и улыбалась сквозь слезы, словно она была твердо уверена, что он, Колька, ее видит.
Потом повесила трубку и пошла в цех.
Нет, говорил он себе, нет. Он продолжал говорить это и тогда, когда говорил еще по телефону, и когда, положив уже трубку, шел обратно к своему столу, к своим чертежам, возвращался к своим черным сатиновым нарукавникам и продавленному стулу — такой бесстрастный и стремительный, чуть наклонясь вперед и словно бы разрывая воздух своей высокой, чуть ссутуленной фигурой. И только тот, кто сумел бы заглянуть в эту минуту ему в глаза, заметил бы в них пленку, как у птицы, когда она смотрит на слишком яркий свет. Эта пленка, это беззвучное сопротивление и было внешним воплощением его исступленного «нет», которое он твердил не уставая. Ни дни, ни годы не занимали его, поскольку считать он привык не от нуля; он считал с самого первого дня своей потери, помня о ней и в то же время не желая признавать ее; не забывая ни на секунду и в то же время отрицая случившееся, в ожидании того времени, когда рассеется туман и срастутся края раны. Срастутся настолько, что все, что было, — забудется, как если бы этого не было никогда или как если бы это был сон — такой правдоподобный, что по ошибке мог быть принят за реальную жизнь; в ожидании времени, когда не только срастутся края раны, но и сам шов рассосется. Словом, в ожидании той минуты, когда минует время снов, которые должны быть опровергнуты жизнью, — а до того времени он и глаза отказывался открывать. Потому-то он и говорил «нет» — не только самому времени, но и любому упоминанию о нем.
Годы, думал он, множество бесконечных дней и ночей, с той поры как он остался один, полетел стремглав вниз, врезался в поверхность — всплеск, круги, все шире и шире, затихая, расходясь еще и еще, сливаясь с окружающей стихией… А он продолжал идти ко дну, метр за метром, день за днем. Может быть, только душа его продолжала парить, поддерживаемая восходящими токами самообмана, но что это была за душа? Опустошенная и ограбленная, как бывают ограблены древние захоронения, обесчещенная и оскверненная. Все ценное было вынуто и унесено, исчезло вместе с похитителями, оставив только тлен, крик металлического петуха по утрам и пустую холодную постель. И еще — круговорот дней, отличимых друг от друга только усиливающейся болью, пустотой по вечерам и страхом перед возвращением в пустую, наполненную призраком счастья квартиру. Прошло множество дней, а он все жил и жил, и даже надежду не терял, и медленно тащил ее вместе с ожиданием из одного дня в другой. Вот что было ужаснее всего: ежедневная повторяемость его надежды, из-за чего с каждым днем она дробилась и мельчала, грозя со временем рассыпаться, превратившись в прах. Это было самым ужасным, это было нелепо, невозможно, в этом было что-то извращенное, с этим надо было что-то делать, ибо нельзя надежду и горе носить, как значок на лацкане, привыкая к ним в ежедневной повторяемости. И к этой вот невозможности и относилось его отрицающее «нет».
Нет, нельзя было продолжать эту жизнь, тело не могло существовать без души, но жило, он жил без души, похищенной когда-то. Похититель и пропажа были неотделимы друг от друга. Что же он мог сделать еще? Попытаться забыть? А он что делал? Он и пытался.
Время, время, время — он был охотником в заповедном лесу, он браконьерствовал в собственной жизни, он преследовал время, а время преследовало его, и целых восемь, а то и девять часов он был неуязвим. Но день кончается и наступает ночь. Бесчисленное множество дней, думаешь ты. Сколько же еще продлится эта жизнь? Чем еще забить пустоту — работа и чтение, чтение и работа, посетителей библиотеки просят сдать книги, вот еще один день прошел, какое сегодня число? Неужели ему и вправду сорок лет?
За окном все темнее и темнее, день продолжается, рабочий день продолжается, шуршит карандашная калька, чуть поскрипывая, движется по ватману острое грифельное жало: «Вы не считаете, что здесь надо поставить еще один ливнеприемник?» Если бы можно было прийти на работу, не уходить отсюда никогда, разве что в библиотеку, да, в библиотеку, там время течет, струится, исчезает еще быстрее, чем на работе, но не бесследно, увы, оставляя в тебе по песчинке медленно нарастающие пороги и перекаты мертвого, никому не нужного знания:
Цезарь сказал: а не вернуть ли тебе и республику, Понтий Аквила, народный трибун? Гегель сказал: субстанциальное начало не представляет собой неизменной, застывшей индивидуальности…
Будет некогда день, и погибнет священная Троя…
Итак, будет некогда день… Сегодня предвидится удачный день — ведь ему еще надо будет поехать по адресу, написанному на бумажке. Зыкин, думает он, надеюсь, с ним ничего особенного не случилось; женский голос по телефону не был взволнован. Скорее, он был растерян или озадачен. А может быть, смущен?
Нет, к телефону он больше не подойдет…
Неужели ему уже сорок лет?
За окном совсем темно. Еще полчаса — и звонок. Будет некогда день … Нет, нет, в этом нет никакой уверенности. Будь настороже, не оказаться бы тебе в дураках — все дело в том, чтобы снова не почувствовать себя победителем, стоит тебе забыться хоть на миг, и что-нибудь — телефонный звонок, например, голосом твоей сестры напомнит тебе о том, как далек ты от истины, как заблуждаешься на свой счет.
Так будет ли день, настанет ли он — не гибели, а воскрешенья, исполнения надежд, придет ли награда, которая по справедливости должна достаться самому терпеливому? Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Уж он ли не ждал? И силы его на исходе, несмотря на решимость. Они иссякли, его силы, несмотря на всю его непреклонность, как иссякает вода в цистернах осажденного города, и настает миг, когда твоя непреклонность приводит тебя наверх, и ты распрямляешься в последнем усилии, выходишь, беззащитный, из-за зубчатых стен и стоишь так, надеясь лишь на одно из двух возможных чудес — увидеть на горизонте столб пыли и понять, что идет долгожданная подмога, или быть пробитым стрелой за мгновение до того, как ты убедишься, что помощи нет и не будет.
Звонок, звонок, звонок, рабочий день окончен.
Сегодня он может себе это позволить. И он уходит в этот день вместе со всеми, оставив неоконченным чертеж: «План благоустройства территории Волковской насосной станции».
Зыкин парил в воздухе, он летел, испытывая упоительное чувство невесомости, воздушные течения подхватывали его невесомое тело, и он взмывал все выше и выше, прямо к солнцу, и жар становился все сильнее и сильнее, пока легкость не оборачивалась тяжестью. Тогда он начинал падать, и падал все стремительнее вниз, туда, где с неотвратимостью смертельного приговора лежало ласковое синее море, вода, о которую ему предстояло разбиться, — но разве так могло быть? Он, который с малых лет был с водою заодно, который и так на семьдесят процентов состоял из воды, который… Нет, вода не могла причинить ему никакого вреда, это было наваждением, ошибкой — все что угодно, только не вода, дружественная стихия, он и вода — это одно и то же; другое дело солнце, огонь, обжигающая жара, жажда, распухший язык, воды, дайте воды, нет, он не может разбиться, ему не нужно небо — дайте же кто-нибудь воды. Он плывет по волнам, волны бросают его вверх и вниз, так что временами начинает кружиться голова, но он не в претензии к родной стихии, он плывет брассом, сто метров он преодолевает за минуту и четыре секунды, и на всех континентах эта весть находит отклик. Маленький Токеда в своей Японии, что скажешь ты теперь? Все дело в работе ног — да, да в этом его секрет, в этом его маленькая тайна, за последние годы все увлеклись работой рук, все плавают на руках, а про ноги забыли, захлестывающее движение ног, подхваченный порыв, еще и еще. Главное, чтобы движение ног поспевало за гребком, не тормозило его, надо иметь очень сильные ноги, недаром он столько времени уделял бегу — кросс, гладкий бег, бег по песку. И вот теперь он парит, обтекаемый не воздушными, нет, водяными струями, и волны мягко подбрасывают его вверх и вниз — непонятно лишь, почему тогда ему так жарко, отчего кружится голова. Но ведь все так просто, это он перегрелся на солнце, потому что солнце — враждебная ему стихия.
Это случилось позапрошлым летом. Он лежал на горячей палубе спасательного катера, он заснул после ночного дежурства, не от усталости, нет, — от напряжения, волнения: ночью море было неспокойным, да и утром тоже. Только идиот мог в такую погоду полезть в море, не умея плавать, только форменный идиот или ничего не понимающий в морских делах иностранец. Зыкин спал, но сон его был неспокоен. Он вовремя услышал шум, затем крик. Кто-то звал на помощь, с кем-то стряслась беда, он должен был помочь — и он не подкачал. Мотор завелся мгновенно. Перевернутая лодка подпрыгивала на волнах, люди терпели бедствие. Откуда она, эта лодка, взялась в такую погоду? Две девушки пытались забраться на днище, и это им удалось, испуганными голосами они звали на помощь; его, Зыкина, звали они. Мгновенье — и он уже в воде, акваланг у него был всегда наготове, впрочем, на этот раз он обошелся бы и без него. Идиот, который с самого начала показался ему иностранцем, все еще пускал пузыри метрах в тридцати от лодки. Зыкин уверенно и даже как-то небрежно подхватил коричневое тело, и через минуту незадачливый пловец был уже распростерт на палубе, да и девушки уже были там. Тогда только, когда стало ясно, что утопленник не утонул, что он будет жить, Зыкин обернулся к девушкам, этим дрожащим сиренам, чертовым подстрекательницам, виновницам половины бед, происходящих на воде, да и на суше тоже, он обернулся, чтобы сказать им, что он, черт бы их побрал, думает о них… Он поднял глаза — и у него сразу пересохло во рту, он открыл рот и закрыл его, словно это его, его, а не того парня только что вытащили на палубу.
— Эля, — пробормотал он, не веря, не понимая, — Эля…
А она, еще не придя в себя, подняв серые свои глаза, посмотрела на него, видимо совсем не представляя, как это он из замухрышки, каким она знала его, вымахал в такого громилу, сказала сперва неуверенно:
— Костя! Это ты? — А потом сама ответила себе без всякого уже сомнения: — Конечно, это Костя!
Он стоял дурак дураком, а она, положив ему руки на плечи, для чего ей пришлось даже приподняться на цыпочки, — поцеловала его.
Вот тут он и был приговорен…
Ну, а этот болван? С похвальным упорством он пытался сесть. Время от времени это ему удавалось, и тогда из него бурно вырывалась еще одна порция Черного моря, запасы которого были просто удивительны для существа таких небольших размеров. Эля смотрела на иностранца, и в глазах ее было что-то… Что? Сострадание? Она шагнула к нему. Она наклонилась. Зыкин напрягся.
— Как ты себя чувствуешь? — спросила Эля.
Иностранец молчал. По его коричневому телу пробегала судорога. Он отвернулся от Эли и снова лег.
— Джоти, — сказала Эля, и голос у нее был виноватый. — Джоти, тебе плохо?
Джоти?
Джоти Прачанд. Это еще что такое? Зыкин хмуро смотрел на иностранца — интуиция его не обманула, впрочем, иностранец был жалок и опасности не представлял. Так решил Зыкин, глядя на распростертое коричневое тело; нет, Джоти Прачанд, представитель дружественной Индии, не показался ему опасным. Великодушно отнесся Зыкин к молодому математику, прибывшему на международный симпозиум из далекого штата Ассам («Расположен по среднему течению реки Брамапутра», — прочитал он, вернувшись, в энциклопедическом справочнике). Там же прочитал он и о девяти миллионах ста двадцати девяти тысячах населения, ассамцах и бенгальцах, одним из которых и был мистер Прачанд, непонятно только, был ли он ассамцем или бенгальцем. («Важнейшая экспортная культура, — просвещался далее Зыкин, — чай, продовольственная — рис. На плантациях господствуют наиболее кабальные формы эксплуатации рабочих, в частности — женщин и детей. Добыча нефти… В 1950 году А. сильно пострадал от землетрясения»).
Далее в справочнике шли сведения об ассамблеях… Но и того, что Зыкин узнал, было ему вполне достаточно, чтобы не волноваться. Но он еще многого не знал. Да, многого не знал он и победу праздновал рано, незадача с морской стихией была единственной осечкой столь невзрачного на вид мистера Прачанда. Именно эта невзрачность так сильно успокоила Зыкина, но успокоила зря. Зря он подумал о представителе далекой и дружественной страны в этаком снисходительном тоне, зря подумал он, что этот Джоти, или как там его, с неба звезд не хватает, зря, хотя насчет звезд все было правильно. Так оно и было. Он действительно не хватал звезд, этот м-р Дж. Б. Прачанд, в том не было нужды, ибо, как оказалось позднее (слишком поздно, следовало бы сказать), он сам был звездой первой величины. И если уж говорить о звездах, то хватали его, восходящую звезду математики, ученого с мировым именем, который в свои двадцать семь лет сумел не только стать доктором математики, но и ошеломить мировую математическую общественность решением какой-то задачи, не находившей решения десятки лет. Хотя это и не помогло ему, когда в свой час он увидел Элю, — тут уже она ошеломила его, да так, что разом позабыл он и о конгрессе, и о старике Ферма, записывавшем доказательства своих теорем на полях книг и где попало, из-за чего человечеству на протяжении почти четырех столетий пришлось ожидать, пока кто-нибудь снова сумеет доказать их… Да, обо всем пришлось ему забыть. Мистера Прачанда ждали лекции в Лондоне, Каире и Нью-Йорке, но он взял отпуск, сказался больным, и он действительно был болен: разве любовь — не болезнь?
Да, рано было Зыкину праздновать победу, но понял он это лишь тогда, когда превратился в побежденного, то есть слишком поздно для того даже, чтобы убежать с поля битвы, спасая если не честь, то хотя бы просто жизнь. Но этого он не знал, ничего не знал он из того, что ему еще предстояло узнать. Он не знал даже о том, находится ли штат Ассам на реке Брамапутре, не говоря уже о том, что новобрачные в этой стране могут видеть друг друга только после свершения над ними обряда «джахау-джахау» и что в первую ночь из восьми, в течение которых длится свадьба, муж имеет право поцеловать жене ногу, а она ему — руку… Нет, он не знал ничего, — не потому ли он испытывал к лежавшему на палубе мистеру Прачанду, этому коричневому неуклюжему парню, так и не научившемуся в свои четверть века держаться на воде, теплые, почти что нежные чувства. Нет, Зыкин не чувствовал ничего, кроме жалости пополам с благодарностью: если бы не он, не появилась бы вновь в его жизни Эля, с которой судьба развела его в те дни, когда она и высокий мужчина с бритой головой, ее отец, вдруг внезапно исчезли, словно испарились, не оставив ни следа, будто их и не было никогда…
Прошло совсем немного времени, и он понял, что если кто и достоин жалости, если кто и бедняга — то это он, Зыкин, жалкий слепец, болван напыщенный, жалеть можно было только его. Очень скоро он пожалел, что был спасателем, а не спасенным, это поцелуй сбил его с толку, он был как дорожный знак, поставленный не на месте, он вел к аварии, и Зыкин полетел под откос. Да, он пожалел о том, что умеет плавать, лучше бы он не умел, тогда бы он тоже мог тонуть, и, может быть, его бы спасли, и тогда над ним склонилось бы это лицо, эти глаза, это он был бы предметом беспокойства, а может быть, любви? Будь проклят день, когда он разучился тонуть.
— Эля, — говорит, хрипит он, — Эля, Эля, — и слышит ее голос:
— Да, я здесь.
Но это бред, он бредит. Он должен доказать… Он должен выйти на старт. По команде «На старт!» надо чуть согнуть колени, он им покажет, что такое мировой рекорд, он покажет, что такое Зыкин, он снова проплывет стометровку за минуту и четыре. Где судьи? «На ста-арт!» Выстрел. Он прыгает, но не попадает в воду, волна подхватывает его и несет, беспомощного, вверх и вниз, голова у него кружится, и подкашиваются ноги. Это оттого, что высоко. Это было тем же летом, благословенным и проклятым летом.
Он шел по узкой пыльной дороге, серпантины вились внизу у его ног, как змеи, он был специалист по серпантинам, он мог построить такую дорогу в горах, он мог все. Он шел к Эле. В руках у него была пунцовая роза, он срезал ее только что, шип вонзился ему в палец, и из него еще текла кровь, цветом чуть светлее лепестков. Он шел и пел, и все вокруг пело, и внутри вибрировала какая-то струна, вибрировала без перерыва. Это, наверное, и было счастьем, несмотря на палящий зной. Под ним куском серебра лежало море, пыльная змея серпантина, ластясь, прижималась и обнимала гору, и враг его — палящее солнце — было бессильно, оно палило изо всех сил, но здесь, наверху, ничего поделать не могло, здесь господствовал ветер. Мощенный рваным камнем дворик, дверь, ведущая в прохладу, не заперта, внутри тихо — ни звука. Только сердце бьется — что это с ним, с сердцем? В комнате прохладно и сумрачно, может, потому он не сразу разглядел постель, над которой витал сон. Может быть, потому он не сразу увидел руки, лежавшие рядом, — белая рука в коричневой…
Из пальца у него все еще капала кровь цвета лепестков, он шел обратно, вниз. Нет, говорил он себе, этого не было, этого не могло быть, ему это показалось, примерещилось. Роза выпала у него из рук, он раздавил ее каблуком и пошел дальше, не заметив. Белая рука была зажата в коричневой. Что бы он себе ни говорил, но он убедил себя, что этого не было.
— Эля, — снова позвал он, и она снова отозвалась, но откуда?
— Да, я здесь.
— Эля, — сказал он, — что же… это… было?
Что он имел в виду? Эля не понимала его. Понять это было невозможно. Зыкин снова бредил. Солнце завладело им, ему было нестерпимо жарко, он опускался вниз с высоты, с божественных вершин, он спускался к людям. Но он не мог понять, почему так случилось, солнце все смешало у него в голове — теоремы Ферма, международные математические конгрессы, воду, солнце, пыль и пот. Он ощущал на губах вкус соленой влаги — что же это могло быть, как не пот, не слезы же, нет, мужчины не плачут никогда. Он шел и спрашивал одно и то же — почему, почему, почему? Но он не говорил: а почему бы и нет — до этого он должен был дорасти, подняться. Он спрашивал, почему, почему он идет вниз, в преисподнюю, а кто-то другой, не умеющий даже держаться на воде, лежит там, наверху, с девушкой. Сколько бы он ни спрашивал — ответа не было.
Останавливаться не имело смысла — смена была закончена, план выполнен; но шофер остановил машину. Это была «Волга» за номером 35–53, это был счастливый номер, он приносил счастье, а счастье иногда толкает людей на великодушные поступки. Так было и на этот раз. И великодушный шофер «Волги» № 35–53 Владимир Карасев остановился возле Блинова, пассажира, стоявшего на обочине с вытянутой рукой. Тот, кто стоит на обочине с вытянутой рукой, всегда поневоле похож на нищего и вызывает сочувствие; Блинов не был исключением. Он тоже вызывал сочувствие, однако ему пришлось стоять так очень долго — каждый водитель точно знал, что ему нужно, каждый знал свои права: перерыв, еду заправляться, шина спустила, смена окончена, нет, это слишком близко, нет, машина идет по вызову, а то и просто без объяснений дальше, вперед, а на лица, одежду, ветровое стекло падает снег — крупный и мокрый. Снег падает, залепляя стекло, «дворники», скрипя, расчищают сектор видимости.
Шофер Владимир Карасев, великодушно остановившийся возле человека на обочине, спрашивает: «Куда?» Он видит запорошенное снегом лицо — узкое лицо с большим носом и маленькими, слишком близко посаженными глазами, в которых даже сквозь падающий снег видно что-то, возможно — печаль. Лицо печальной птицы напоминает что-то Владимиру Карасеву, в нем что-то знакомое, а может быть, просто хорошо забытое, в памяти Карасева возникает какая-то тень, и она ложится на прошлое. Итак, куда мы летим? Птица открывает рот, говорит, закрывает рот, это явно не стервятник, птица хочет добраться до Петровской набережной. Ей повезло, бедной птице, что она положилась на человека, чей портрет украшал Доску почета Третьего автопарка; ей действительно повезло.
Машина мчится сквозь снег, все темнее вокруг, «дворники» бесшумно сметают налипающий снег, открывая вид на будущее, — и разве не правильно? В будущем, очищенном от ненужных напластований вчерашнего и сегодняшнего, — смысл нашей жизни.
А ведь я узнал его, — думает Блинов, хоть и прошло двадцать лет. — Это же Лека-Шнырь, он же Карась, гроза барахолки, нет, это было не двадцать, а двадцать пять лет назад, но он ничуть не изменился. Однажды он заступился за меня, я лежал на земле, меня били ногами, кто-то навел милицию на след, но это был не я. Сволочи, они били ногами, хорошо, еще не пустили плавать в Обводный. Он совсем не изменился, Карась. Кто б мог подумать? Неужели он меня не узнал?
Но он не узнал; память на лица, феноменальная память шофера, феноменальная память бывшего специалиста по открыванию сейфов, промолчала. У памяти тоже были «дворники», и они работали исправно. То прошлое, о котором вспоминал на заднем сиденье Блинов, не существовало. Оно исчезло в черной глубине, на дне болота, круги давно уже разошлись, и на поверхности не осталось даже следа. Прошлое было болотом, оно было мертво и не имело над ним никакой власти: его собственное прошлое, тина, засасывающий ил, мутная и вонючая жижа — все осталось позади. Он теперь мчался вперед, а хорошо отлаженный механизм очищал ему горизонт, разгребая налипающий на ветровое стекло снег.
Белый снег падал на землю снежинка за снежинкой, в Москве и Ленинграде, на Урале метель, в Казахстане сильные снегопады, на острове Хоккайдо была снежная буря; соревнования биатлонистов под угрозой срыва, Риннат Сафаров стоял на огневом рубеже после первого круга, видимость была равна нулю. Он стоял и ждал, не покажется ли в густом месиве просвет, не дождавшись, выпустил пули и побежал дальше, винтовка за плечами, он не знал, что соревнования отменены из-за снегопада, он бежал под номером первым, и никто не мог его вернуть.
Снег падал всюду, самолеты стояли на аэродромах, печально опустив покрытые снегом крылья, летчики обнимали стюардесс, в Челябинске и Казани, Владивостоке и Риге вылеты были отменены, группа немецких туристов пила чай в Омске, африканские парламентарии лепили снежную бабу в Братске, все смешалось, но план перевозок Третьего автопарка выполнялся все равно.
Кариатиды у входа казались закутанными в саван. Блинов выбрался наружу. Неужели он меня не узнал? Не может этого быть. Счетчик показывал девяносто семь копеек. Спасибо. Загорелые руки небрежно положили рубль в кошелек, и «Волга» № 35–53 исчезла, скрылась, растаяла — да и была ли она? Дверь была присыпана снегом, дверь открылась и закрылась. На витраже Георгий Победоносец деловито колол копьем огнедышащего дракона. Дракон извивался и высовывал красный язык — а может быть, это было пламя? Высоко вверх уходили своды, потемневшие от времени; ступенька, еще одна и еще, на площадке видны цветы, синие цветы на белом поле, васильки или колокольчики. Широкий, как скамья, подоконник, такие подоконники бывают только в старых домах, приют влюбленных, такие подоконники были в том доме во Львове, где они провели две недели. Медовые полмесяца, убежали от всего мира, две недели в городе, где их никто не знал, старинный дом на Золотой улице, семнадцатый век, необъятная комната, высокие стрельчатые окна, выходящие во двор, птицы начинали звенеть с пяти утра, на подоконниках можно было спать, но они этого не делали, им было где спать. Сначала они спали на кровати — такой широкой, что можно было заблудиться впотьмах; но они находили друг друга, черные волосы закрывали ему лицо, синих глаз не было видно, они умирали и возвращались к жизни, с тем чтобы вновь умереть как можно скорей. Темно-синие глаза становились почти черными, и бездонная синева их была невыносимой.
Синие цветы на белом поле, васильки или незабудки, а может быть, колокольчики, синие глаза, в минуты страсти становившиеся темными, почти черными, гладкая белая кожа, всегда прохладная, всегда свежая, маленькие острые твердые груди, прикосновения, обжигавшие, вызывавшие желание умереть, задохнуться, исчезнуть… Что делает он здесь, на этой лестнице? Чужой человек на широком, как ложе, подоконнике чужого дома, никому не нужный хранитель верности, последний защитник опустевшей крепости, где все стихло, меж камней — трава, горизонт пуст, только свищет ветер да падает снег. Тишина и покой, равнозначные смерти, невозможные в большом пульсирующем мире, полном жизни, надежд, событий, свершений. И борьбы. Риннат Сафаров все еще пробивается по лыжне сквозь снежный буран. В марокканском небе кружат патрульные самолеты, где-то идут ожесточенные бои, умирают дети, умирают взрослые, умирают герои и трусы, умирают женщины, решительный протест в ООН. В Третьем таксомоторном парке подводят итоги смены: план перевыполнен; профессор Дж. Брэди открыл десятую планету за Плутоном, по первой программе телевидения будет показана первая серия боевика «Туманы Британии», в Рейкьявике Фишер уже двадцать три минуты думает над двенадцатым ходом — принимать ли жертву пешки на c4?
«Одиночество — рай…» — сказал Эмерсон, но он ошибался, он, наверное, хотел сказать «ад». Министр иностранных дел принял Генерального Секретаря ООН. О чем говорят министры, когда они встречаются в тиши ведомственных кабинетов? О чем вспоминают люди, расставшиеся навсегда? Вспоминается ли им сад, где некогда все цвело, сад, что заброшен сейчас и зарос чертополохом, плоды, произрастающие на деревьях, — горькие и несъедобные, забвенье — горький плод. Широкий подоконник, синие цветы, незваный спасатель — а может быть, спаситель?
Он ощутил робость. Голубые цветы на белом поле пугали Блинова, он ощутил желание убежать куда глаза глядят, его убежище находилось далеко, в стеклянном кубе, он неосмотрительно покинул свое место, свое рабочее место, чертеж «План благоустройства территории Волковской насосной станции» остался неоконченным, что делает он здесь?
Бежать. Но звонок нажат, жребий брошен, он даже не понял, как это случилось, когда он поднялся с подоконника. Может быть, он еще слышал щебет птиц в том дворе, а может быть, его вела сила, более могущественная, чем его испуг и желание скрыться, но он позвонил. Дверь распахнулась сразу, словно девушка стояла в ожидании его звонка, русые волосы и белое лицо, другое лицо и другие волосы, золотые драконы извивались по малиновому шелку халата.
— Входите.
Один взгляд спросил — вы знаете, зачем я пришел, другой ответил — да, знаю, но вслух было произнесено только — входите, и он вошел.
Свет дробился в хрустальных подвесках, драконы извивались, красное дерево излучало благородство, девушка казалась не то смущенной, не то растерянной. «Давайте ваше пальто». Минута тянулась необыкновенно долго, полки с книгами начинались прямо в передней, уходили под потолок, тянулись вдаль, пропадали в глубине квартиры, в простенках висели гравюры и рисунки. У одного из них Блинов замедлил шаг, остановился, посмотрел, посмотрел еще раз, пригляделся к подписи, косо падавшей вправо и вниз, и снова посмотрел. Сколько все это длилось — секунда? Три? Семь? Блинов шел по коридору вслед за девушкой, вслед за драконами, извивающимися на малиновом шелке халата, смущение застыло в воздухе. На стенах комнат висели картины, красное дерево с позолотой, начало девятнадцатого века, изящные застекленные шкафчики для хранения фарфора, выгнутые ножки, ушедший, исчезнувший век. Коллекция жуков за стеклом, потускневшие кожаные переплеты, золотое тиснение, латынь и греческий, английский и французский, немецкий и итальянский языки — на то, чтобы разглядеть и понять остальное, у него не хватило ни времени, ни знаний. Ай да Зыкин, подумал он вдруг, вот так Зыкин. Но на лице его не отразилось ничего, оно оставалось замкнутым, напряженным, по-прежнему он охотнее всего убежал бы. Он подосадовал на дело, которое привело его в этот дом. Зачем он понадобился Зыкину? Зыкин ему нравился, но ему не нравилась та роль, в которой он сейчас выступал, — роль спасателя. Он чувствовал себя непригодным для этой роли. Приятная девушка, подумал он, приятная девушка и приятный дом, но попасть сюда он хотел бы совсем иначе. Как она назвала себя — Эля?
— Садитесь, — сказала Эля. И еще раз: — Садитесь.
Он сел. Он сел на что-то неудобное, элегантное, сел не без опаски, хотя и знал уже, что хрупкость этих изогнутых вещей сочетается с достаточной прочностью, и все-таки он сел с опаской на это сооружение, софу, а может быть, это была козетка или канапе, разницы он не знал. Ему все еще хотелось бежать, но было уже поздно. Он сел в ожидании, все же он прибыл сюда как спасатель, — где же предмет его забот? Девушка прошла вдоль стены, вдоль окна, извивающиеся драконы послушно следовали за ней; она опустилась в кресло, она молчала.
Пока что опасность не проступала, не была видна; Блинов, будь ему предоставлен выбор, закрыл бы глаза и молчал так сколь угодно долго, сидел бы и молчал здесь, в этой комнате, среди картин и фарфора, в девятнадцатом веке. В окружении десятков прошедших и исчезнувших лет ему молчалось хорошо, без напряжения, — это было похоже на сон, и он вовсе не торопился проснуться, ибо явь вряд ли была столь же хороша. Зыкин? Здесь ему не место, увы, нет, инженер сектора вертикальной планировки был здесь явно не на месте, мастеру спорта международного класса в плаванье стилем брасс здесь явно было нечего делать. Что связывало его с малиновыми драконами — любовь? Ну конечно, догадался Блинов, это и есть, надо полагать, та самая девушка, о которой Зыкин не говорил даже, а как-то глухо намекал некогда, во время одного разговора, так и оставшегося неоконченным.
Вот, значит, какая она, как сказали бы во времена Блинова, «девушка его мечты», если это она. Бедный Зыкин. Так думал он, так или даже более бессвязно, в то время как девушка молчала, не зная, как сказать то, что ей следовало бы сказать еще в передней, — что Зыкин исчез, больной сбежал, испарился и следов не оставил. Для двухметрового детины, для больного, лепечущего что-то невнятное, это было настоящим подвигом, которого от него, впрочем, никто не требовал. Непонятно было, как он сумел все проделать, когда успел одеться, как прокрался мимо нее. Она отлучилась на пять минут, не больше, телефон требовал ее к себе: аэропорт не принимает, не принимает и не будет уже сегодня принимать, все разошлись, если она хочет, пусть приезжает играть в бридж. Кое-кто будет. Из нужных. Что? Не приедет? Очень жаль. И весь разговор.
Но не в разговоре было дело, телефон позвонил во время. Он позвонил в тот момент, когда Эля поняла, что Зыкин что-то знает или ему кажется, что он знает, и теперь хотел бы знать еще, он хотел знать больше, чем она могла ему позволить, он хотел знать всю правду. Как будто можно знать ее про кого-нибудь на свете, разве что про самого себя, и то не всегда. Зачем ему понадобилась правда? Кто знает, что правда, а что нет? «Эля, — говорил Зыкин, твердил без конца одно и то же, — Эля, скажи, ты и этот… Джоти, вы… ты и он… я хочу знать». Он хотел знать, но не тут-то было, этого она не собиралась терпеть ни от кого, и уж от Зыкина — точно, никому она не давала отчета в своих делах и не собирается давать, уж не подглядывает ли он за ней? Что он знает, что может знать, какое право он имел что-нибудь знать? Какое право он имел показывать, что знает! Никто не имел на это права. Что бы там ни было, это не его забота и не его печаль, его это не касается и не коснется никогда. Он мог бы понять это, Костя Зыкин.
О, черт, да ведь она знает его тысячу лет, зачем он преследует ее своей смешной, совсем не нужной ей любовью, глупый малыш с большим старым портфелем, зачем он звонит ей по десять раз на день? Неужели он не понимает, что в ее глазах он никогда ничем иным не будет, только непрошеным и случайным свидетелем ее недолгого счастья, случайным прохожим на дороге ее несостоявшейся судьбы, невольным соглядатаем? Что бы между ними ни произошло однажды, в минуту отчаянья, — ему бы забыть все, забыть как можно скорее, понять, что то была минутная слабость, что ни на что он не может рассчитывать, ибо он был свидетелем этой слабости, свидетелем ее унижения, он был свидетелем несчастья. На что же он мог рассчитывать? Он и так получил больше, чем ему причиталось, но, похоже, этого не понимал. Она разговаривала с ним едва ли не как с братом, но он и этого не понимал. Не хотел поверить, не мог поверить, что он никогда не станет для нее мужчиной, тем, кто ей нужен, тем, кто так ей нужен. Никогда. Но, может быть, сказала она себе, чтобы покончить с этим, поставить точку, подвести черту, может быть, и он — прояви он больше такта, больше выдержки, больше терпения, сумей он быть более деликатен, сумей он забыть то, что имел неосторожность узнать, тогда — может быть… Но он не сумел, и он не был деликатен, он сам все погубил, сначала высокомерием, потом растерянностью, потом униженностью, потом настойчивостью. Всю правду! Ей не нужна его правда, да и своя тоже, ей не нужны его подвиги и его мировые рекорды, его поцелуи, его любовь, и сам он был не нужен ей тоже. Все кончено, всему конец, она дала себе слово. На душе у нее пепелище. Он любит ее? Что ж, тем хуже, ему не повезло, как в свое время не повезло ей, это школа жизни, каждый должен через это пройти, переболеть. Но она не врач, и она не врачует страждущие души, она просто женщина, но теперь все. Не будем возвращаться к этому. Не будем. Конец. Пусть он запомнит это навсегда.
Так она ему и сказала. А если ему это непонятно, сказала она, или если он с чем-то несогласен, то она его не держит. Пусть убирается отсюда, забудет все, так будет лучше для него, ей никто не нужен. «Ты слышишь?» — кричала она. А телефон уже звенел, звал ее, а она, не в силах уже сдерживаться, вырывала свою руку и кричала ему, что никто, никто ей не нужен, — «ты понял?» — и тут она вырвала наконец руку. Надеюсь, он понял, он словно оцепенел, замер, он отпустил ее руку, он почти не дышал. У него был жалкий вид, и в душе ей стало жалко его, все-таки это был Костя. Господи, да что же это с ним. Все-таки это был он, Костя Зыкин, это была она сама, ее прошлое, пусть даже ушедшее навсегда. Вернусь и успокою его. А телефон все звенел, все требовал ее, чтобы сообщить: аэродром не принимает… А вернувшись, она обнаружила, что Зыкина нет.
Вот о чем она думала, сидя в кресле; прошла минута, не больше, как она опустилась в него. Почему она не сказала всего в передней, зачем ей нужно вообще что-то говорить этому человеку, совершенно ей не нужному и чужому? Все это потому лишь, что Зыкин, сидя на ступенях лестницы, пытался найти записную книжку. «Позвоните Блинову, позвоните Блинову». Вот она и позвонила, и теперь он сидит перед ней, этот Блинов, он похож на птицу, усталую птицу. Что же она должна сказать ему? То, что Зыкин исчез, — это?
Да. Именно это она говорит:
— Он исчез, ваш Зыкин. Его нет.
Его нет? Быть не может. Конечно, он есть. Только где?
На улице. Он — на улице, беглец, улизнувший из-под крова, казавшегося таким дружелюбным, таким желанным, родным. Пот катится по лицу, по шее, по животу и по спине, заливает глазные впадины, сначала он вытирает его, но скоро понимает — это бесполезно — и машет рукой — пусть льется, это — экзотермическая реакция, холод всегда неотделим от жары, ледники и гейзеры Гренландии — это они проходили по географии. Эля, Эля — разве думала она о справедливости? Он держал ее руку, он прикасался к ней горячими губами, они обожгли ее, она отдернула руку. «Это никого не касается!» — закричала она, и голос ее потерял вдруг мелодичность, стал резок, как крик павлина, в нем были испуг и ненависть, и она велела ему убираться прочь, а ведь он ничего у нее не просил. Он был робок, не в меру застенчив, он любил ее, он желал ее, он хотел отдать ей все, чем владел, чем когда-либо будет владеть, себя ли, свою ли будущую мировую славу, ведь она была так близка, рядом, рукой подать. В Японии и Венгрии, Австралии и Соединенных Штатах начнут вносить коррективы, изменять методику, пересматривать былые представления. Радость охватит тренеров олимпийской сборной. Зыкин — кандидат в олимпийскую сборную, по второй дорожке стартует Зыкин, главное — не засидеться на старте, выстрел, через минуту и четыре секунды — победа. Зыкин — гордость страны, пионерки подносят ему цветы. Взвивается флаг, звучит гимн, — всего этого уже не будет. Страна должна была узнать своего героя, но теперь она его не узнает.
И все, все из-за нее, из-за Эли. Хотя нет, не из-за нее. Конечно же нет. Это все из-за представителя дружественной нам далекой страны. Математика торжествует, прекрасные женщины по заслугам принадлежат докторам наук. Конечно, она спала с ним — да, она обнимала его, она целовала его — и уже не только из-за какой-то там решенной им задачи. Недаром она закричала, голос у нее изменился, он стал таким резким. Что же она так на него крикнула? Он готов был отдать ей все, в обмен он хотел только услышать от нее, что у нее ничего не было с Дж. Б. Прачандом. Конечно, он не поверил бы ей, но это значило бы, что она его забыла. Но она не забыла.
Жар душил его, обида омывала его ледяными волнами, то были волны другого мира, который назывался — забвение. Да, между ним и Элей все было кончено, хотя прояви он выдержку, такт, доверчивость, склонность к длительному самопожертвованию, отрешись он от надежд, и кто знает… Но ждать он не мог. И тут же — таково непременное правило отрекшихся — ему захотелось унизить предмет своего недавнего поклонения, разбить его, как язычник, принявший крещение, разбивает, отрекаясь от старых богов, глиняные изваяния. Но Зыкин делает это не сразу, прежнее уважение еще некоторое время удерживает его руку, ненадолго, правда, но удерживает. Ну и пусть, говорит себе Зыкин, ведь я не нужен ей, говорит он, и она… да, и она мне не нужна. Что она мне? Да, что она такое? Я любил ее. И что же?
Эля такая же, как и все, все они подлые бабы, сидят в баре «Садко», попивают кофе, сидят в баре «Националь», сидят в баре «Интурист».
Белый снег, холодно, хотя нет — жарко, нестерпимо жарко. Эля, люби меня! Не хочешь? Ах, не хочешь… Почему так темно? Ночь уже или еще вечер? Жив он или уже умер? Минуты прошли, часы, а может быть, вся жизнь? Где он?
Темнота и белый снег. Мост, черные разводья похожи на глаза фантастического чудовища, Зыкин стоит у перил. Может быть, спрыгнуть? Нет, он не прыгнет, это было бы слишком роскошно, она так и не узнала бы, что он о ней думает. А впрочем, она и так этого не узнает, подлая шлюха, он должен вырвать ее из сердца. Только что же тогда в нем останется? Он хотел бы умереть. Вот он умер, она приходит проститься с ним, а ему уже все равно. Она целует его, она говорит: «Зачем, ах, зачем ты это сделал, зачем поспешил? Ведь все еще могло быть, останься ты в живых, а теперь это невозможно…» Так скажет она, а он будет мертв, ему будет все равно, у мертвых ничего нет, все есть только у живых — надежда, радость, боль, несчастья, разбитые сердца, болезни, улыбки, объятия, все это есть только у живых, и выходит — это и есть счастье: жить, быть живым, чувствовать, мучиться, надеяться, ошибаться, снова надеяться, дышать, жить. Все меняется, вот река, она замерзла, покрыта снегом, черные разводья, холод и стынь. Еще день, еще, но солнце все равно взойдет, и только мертвые не увидят этого.
Надежда — есть ли у него надежда? Над мостом свищет ветер — есть, есть. Он стоит на мосту, над рекой, медленно и тяжело идут по мосту трамваи, так тяжело, словно дано им везти заботы и горести человечества, скопленные за много сотен лет, — медлительные железные ящеры, а вокруг — снег и ветер. Зыкин плачет. Он оплакивает свою любовь, которую только что разбил и растоптал, от которой отрекся. Он не может любить шлюху, это же ясно, но Элю — только ее он может любить, он плачет от невозможности совместить несовместимое. Он не знает, что идет в нем процесс повзросления, что это детство выходит вместе со слезами. Да, думал он, для него, для инженера Зыкина, для великого спортсмена, имени которого так и не узнает мир, все кончено. Его удел — безвестность, и это самое лучшее, что ожидает его: ведь он может и умереть. Любовь была попрана, жизнь не имела смысла. «Я должен сказать ей все это». Да, так он решил, так будет правильно, последнее прости, голос из прошлого, пусть мучается потом, будь мужественным и скажи ей все.
Он идет по мосту, он не смотрит на разводья, ему бы только дойти до телефонной будки. Шаг, еще шаг, он услышит ее голос в последний раз, да, конечно, но если она его попросит… Он стоит в телефонной будке, его колотит дрожь, пот течет с него ручьями, стены будки сплошь изрезаны безмолвными иероглифами давно исчезнувших племен: Вася и Люба были здесь, 19-25-74 — Семен Иванович, Люся — 88-12-34, Дима, Коля, безмолвные тени. Он все стоит и стоит, непослушными руками снимает трубку, непослушными пальцами пытается набрать номер, ему страшно. И вдруг радость пронизывает его, он все-таки набирает номер и понимает, что больше всего сейчас ему хочется, чтобы телефон ответил, ничего ему больше не надо, только услышать ее голос.
Он скажет, чтобы она не волновалась, не надо волноваться, все в порядке, ему стало лучше, ему хорошо. Извини, мне просто стало хорошо. Не сердись, я ушел, мы встретимся, мы еще встретимся… Как долго гудят эти гудки. А что, если она выбежала вслед за ним, она ищет его, она простудилась, а если она заболеет? Какая он скотина, дурак несчастный… Но здесь гудки прекратились, и голос — о, господи, ее голос — сказал: «Да, я слушаю. Кто это?..»
А он сказал: «Эля, это я».
Вот как оно было, вот во что вылилось, к чему привело Блинова стремление вмешаться в естественный ход событий, его попытка сыграть роль спасателя. Хорошо еще, что он не вообразил себя им всерьез: телефонный звонок, недолгий разговор, беглец нашелся, извивающиеся драконы, шурша, вернулись, краска на щеках. Инцидент улажен, его пребывание здесь, похоже, становится совсем необъяснимым и уж ненужным во всяком случае — достаточно было посмотреть на Элю. Он встает и раскланивается, хотя ему нравится здесь, нравится сидеть на этом канапе, нравятся высокие книжные шкафы, золотые переплеты. Ему кажется, что он дома, только здесь чище, здесь пахнет жильем, нет того налета заброшенности, возникающего всегда в жилище мужчины. Здесь женщина, и это придает всему смысл. Блинов встает. Он стоит, высокий и поджарый, он похож на цаплю, и Эля, плотнее закутываясь в драконов, так и думает — цапля, но, право же, симпатичная. Хорошо, что этот сумасшедший нашелся — пять минут назад разговор шел уже о том, чтобы обзвонить все больницы. Теперь он доберется домой, этот Зыкин. Кто знает, может быть, она его навестит. Не буду об этом думать сейчас. А цаплю мы напоим чаем, впрочем, это, конечно же, аист, раз он мужского пола, только выглядит очень хмуро. Эле сейчас хорошо, на душе стало легче, тем более что бедные туристы еще долго просидят, надо полагать, в Красноярске, а они будут пить чай.
— Я, — сказал Блинов, — мне…
Но она улыбается самой очаровательной из улыбок — нет, нет, она сейчас приготовит чай. И вот уже на маленьком чайном столике появляется фарфор — нежный коричневый фон, птицы, поющие на ветках. Чай был густым и душистым, и Блинов великодушно решил, что поделится с Элей своим секретом заварки. Эля слушала, как и подобает хозяйке дома, она смотрела на худое лицо с близко посаженными глазами, но взгляда его уловить не могла, и тут она поняла, что он ее немного боится и что он одинок. И пожалела его. Бедняга, подумала она, но что она вкладывала в это слово? Блинов видел, что она рассматривает его, он и вправду боялся ее. Не ее, конечно, а того, что от нее исходило, жизни, необъяснимого очарования, что всегда исходит от красивой женщины. Этого словами не передать, это подобно пению сирен, подумал он. Только меня не надо привязывать к мачте, я уже давно оглох, ничего не слышу. Если бы я ощущал тоску по женской любви, если бы я мог полюбить еще раз, — но огня уже нет. И не только огня — даже пепел, холодный и серый пепел давно развеян, я не гожусь даже в жертву сиренам, и это жаль — может быть, я спас бы кого-нибудь, хотя бы Зыкина.
Чай был выпит, разговор угас. Надо было идти, надо было бежать, не так он, оказывается, и оглох, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Мачта, к которой он привязал себя, была очень кстати — заказанные книги ждали его в Публичной библиотеке, одной из пещер, в которой он скрывался время от времени. А книг здесь было более чем достаточно — он заметил это еще тогда, когда шел по коридору. Теперь он подошел поближе и увидел редчайшее собрание книг по истории Востока: Египет и Ассирия, Армения и Парфия, Вавилон и Греция, труды Тураева и Марра, Крачковского и Струве, а также Отто, Дрекслер, Лафайет, Буссе и Зингер, но особенно много здесь было книг знаменитого историка Алачачана. Его-то Блинов и читал, это был выдающийся специалист по истории армяно-парфянских отношений, корифей востоковедения, автор капитального труда «История Парфии», ученый с мировым именем. Книг его было не достать и не купить — как они оказались здесь, в этом доме?
— Это работы моего отца, — сказала Эля, увидев, с каким вниманием эта смешная птица всматривалась в скучные книги, в которые сама она заглядывала из любопытства едва ли три раза в жизни. Посетитель был очень странным. Какую роль он играл в жизни Зыкина, она не понимала. Отцовские чувства? Странно. Странно выглядел он сам, странным был его интерес к бессмысленным делам отдаленных дней. Она поймала себя на том, что этот интерес ее чем-то трогает. Одинок, подумала она снова, совсем одинок. В глазах его она уловила нечто близкое к благоговению и ощутила что-то похожее на ревность, — далась ему эта Парфия. Но книга была написана человеком, которого она всю жизнь называла отцом, и не только потому, что он был мужем ее матери, он был ее отцом, хотя в ней и не текла его кровь.
— Да, — сказала она, уловив некий вопрос в устремленных на нее маленьких глазах, взгляд которых тем не менее не был ей неприятен, — да, отец, и это его дом. — Но она так и не могла поверить, что он и вправду интересуется его работами, и смотрела подозрительно.
— Ваш отец — великий человек, — горячо сказал Блинов.
Ей было приятно это слышать, хотя величие она представляла себе все же несколько иначе, но тут уже Блинова было не сбить с пути, по которому в тихих залах библиотек вели его книги академика Алачачана. Он прочитал их все, начиная с автореферата кандидатской диссертации, выпущенной задолго до войны, кончая капитальными трудами. Да, великий ученый — хотя он и не так уж стар. Эля подтвердила — конечно, не стар, ему нет еще шестидесяти, он мастер спорта по альпинизму.
— Он, кажется, возглавляет Институт востоковедения?
— Что? Нет, — сказала Эля, — он теперь переехал работать в Новосибирск, после того, как…
Она проговорилась; только теперь она заметила это и сухо пояснила:
— После гибели его жены…
Блинов подумал: она не сказала: моей матери. И он промолчал, а она подумала: я не обязана ему что-либо объяснять, даже если оговорилась. Но тут она увидела лицо, которое часто являлось к ней во сне; это не было лицо ее матери, мать ей не снилась никогда. Но это белое лицо, эти черные волосы, этот взгляд, глубокий и немой, снились ей часто, только под утро она не могла вспомнить, о чем у них шел разговор. Может быть, о том, что чувствует человек в момент, когда понимает, что спасения нет, что жить осталось несколько минут или мгновений?
— Авиационная катастрофа, — пробормотала она, но он ведь ничего и не спрашивал.
Блинов стоял молча, и в глазах его было сострадание, он знал, что такое потери, уж он-то это знал, и он сочувствовал ей от всей души. Вот тут она, не отдавая себе отчета, охваченная каким-то смутным чувством, и сказала вдруг о катастрофе — может быть, в чужих глазах она хотела увидеть ответ на мучивший ее вопрос?
— Идемте, — сказала она неожиданно для самой себя; странный человек на рисунке, отвернувшись, смотрел назад.
Коридор снова блеснул золотыми корешками книг, щелкнул выключатель, маслянисто заблестело красное дерево. Это была совсем маленькая комната, и он еще подумал, что если бы люди не утратили привычки молиться, то здесь могла бы быть молельня.
— Вот, — сказала Эля, она раздвинула портьеру, прикрывавшую стену, и показала портрет, и в ту же секунду он остановился, сделав только полшага, нет, не он остановился, остановилась земля. Он хотел вздохнуть — и не смог. Он только имя хотел произнести: «Мария», — но вместо этого раздался сдавленный хрип.
Господи, подумала Эля, что сегодня за день, что с ним, надеюсь, у него не припадок. Только бы он не упал в обморок, он весь побелел, он хрипит. Что-то происходило на ее глазах, чего она не могла понять, пока не увидела, как он подошел к портрету. Он подошел к нему неуверенными шагами, словно слепец, словно человек, не ходивший год или два, он подошел к портрету и долго глядел на лицо женщины, которой уже не было, на белое лицо, на руку с длинными пальцами, на эту тонкую руку, державшую цветок, ландыш, он потрогал холст, белое лицо на портрете не глядело на него, оно было отрешенным, оно было обращено к вечности. И тут только, прикасаясь пальцами к холсту, трогая его бережно, словно боясь причинить боль этой мертвой материи, он понял вдруг, что все это значит.
— Что с вами? — спросила Эля, она еще не понимала всего до конца, все еще не понимала.
— Где это произошло? — спросил он.
Она сказала:
— Над Францией… пять лет назад.
— У вас есть водка? — зябко спросил он и сам услышал этот чужой голос, который после паузы добавил: — Мне как-то холодно.
И тут она поняла.
— Значит, — сказала она и приложила к губам ладони, — значит это… вы…
— Да, — сказал чужой голос. — Это я.
Я вышел на улицу. Все было занесено снегом, но снег уже не падал. Была полночь, и небо было холодным, черным и чистым. Оно всегда было слишком удалено от земных да и любых других забот, его дело было сохранять и демонстрировать свою чистоту, это была извращенная обманчивая чистота. И я проклял и чистоту, и равнодушие этого неба. Все, что свершалось в мире плохого и хорошего, происходило под этими звездами, — что же должно было случиться, что согрело бы их? Они видели, как безобразный птеродактиль парит над папоротниковыми лесами; Парис похищал Елену, рушились стены Трои, Брут убивал Цезаря, а Октавиан — Брута, Икар падал вниз, а Дедал летел дальше, гунны захватывали Рим, где уже не было гусей, пылали костры и люди на кострах, земля вертелась «все-таки», вопреки кострам и равнодушию небес, потом появились самолеты, они тоже летали под звездами, сначала это были «блерио» и «фарманы», затем «хейнкели» и «мессершмитты», «летающая крепость» принесла и извергнула из своего чрева атомную бомбу, закорчились внизу десятки тысяч детей и женщин, а небеса все молчали. А потом с аэродрома Орли взлетел самолет, он летел в Барселону, на Всемирный конгресс историков, маленькая женщина просматривала программу конгресса, читала доклад своего мужа, листала журнал мод. А может быть, просто спала или смотрела на темное небо, на котором, как слезы, стояли звезды. А может быть, она вспоминала обо мне, о том, как мы сидели на маленьком пирсе у гребного клуба «Авангард», опустив ноги в воду, и ели пряники с колбасой? Теперь об этом уже никто не узнает, никто и никогда.
Нет, я не плакал, даже когда увидел ее портрет в том доме, когда понял, что ее нет, давно уже нет, что мое ожидание напрасно. Ей было едва лишь тридцать, и такой она и останется навсегда. Жизнь моя окончилась, ожидание пришло к концу, нечего было ждать, нечего и незачем было бороться со временем. Надо было менять точку отсчета, находить другие костыли, перестраиваться, придумывать новые измерители. Может быть, подумал я, надо будет мерить жизнь количеством выпущенных чертежей или еще чем-нибудь похожим. Если бы я мог, я бы напился, чтобы хоть на время забыть обо всем, прийти в себя, перевести дух.
В том доме, откуда я ушел, я выпил все, что там было, девушка в халате с драконами смотрела на меня в ужасе, она увидела меня с новой стороны. С новой? Чушь, она просто меня увидела, узнала, что я — это я, что я существую, что я жив и ничего не забыл. Внутри у меня ничего не было, все выгорело, спеклось, я был холоден, как небо, я не плакал — я не мог, хотя бы и хотел. Нет, я не плакал. Внутри у меня не было ничего, я был вычищен и выпотрошен, я был абсолютно стерилен, у меня ничего не болело, и я не плакал. Мне не было больно, да и при чем тут был я.
Я стоял у Марсова поля. Строго и прямо лежали гранитные глыбы, горел вечный огонь, чистое оранжевое пламя поднималось к небу. Я протянул руки, но теплее не становилось, огонь не грел меня, и это было правильно, потому что это был огонь, зажженный живыми в память о мертвых. Они могли бы жить и радоваться жизни, но погибли, чтобы могли жить мы, мы все — вы и я.
Это было пламя героев, а я был трус, я бежал от жизни, спрятался от нее, отгородился; я не боялся смерти, но я был трус, и мне здесь было не место. А было ли оно вообще?
И я вернулся к домам. За стенами домов спали люди, они лежали в объятьях друг друга, объятья становились все сильнее, дыханье прерывалось. Они сеяли новую жизнь, и они были счастливы. А я завидовал им, да, я был полон зависти, как тот, кто не согрет другим человеком, как все одинокие, которые несчастливы, ибо им нечего сеять. Они бесплодны, и будущего у них нет.
И тут он увидел девушку. Он даже не понял, откуда она взялась, она появилась внезапно, вышла из-за какого-то угла, пальто у нее было распахнуто, волосы спутаны, в руках у нее было что-то, что она бережно прижимала к себе; он подумал, что это ребенок, и шагнул ей навстречу. Но это был не ребенок, конечно, это был не ребенок, девушка сама была похожа на ребенка. Это была Лена — но ее могли звать любым другим именем, не в имени было дело, имя ей было не нужно. Ей было восемнадцать лет, и это был худший день ее жизни. Жизнь ее была окончена, это она поняла с утра. Она не пошла в институт, весь день она лежала в холодной, нетопленной комнате, которую снимала в Третьем Парголове; к чему было топить, к чему было жить, после того что с ней случилось. Жить ей было незачем. Весь день она пролежала в слезах. Она подумала было, что надо написать родителям, но не было сил. Вечером она пошла в бар того самого ресторана, где, подобно античному герою, совершал свои подвиги покинувший ее возлюбленный. Он был красив, как бог, и так же жесток. Так пусть, решила она, посмотрит на нее в последний раз. Но он не смотрел на нее, ему было чем заняться, ему было на кого смотреть, с этой малышкой было покончено; он искренне удивился бы, узнай он о ее мыслях. Это же смешно, сказал бы он, от этого не умирают.
Он не смотрел на нее, зато смотрели другие, кое-кто ее знал, ее заметили сразу, она была свободна. Можно ли было упустить такой случай? Она недолго пробыла одна, ей ведь было все равно, с кем сидеть за столиком в последний раз, ей было все равно, кто подливал ей в бокал и что там ей подливали. Шампанское? Она выпила шампанского. Это была роковая ошибка, она не должна была этого делать. Шампанское ударило ей в голову, все закружилось, как в детстве на карусели. Что это вы мне наливаете?.. А впрочем, лейте, все равно. Что там было дальше, она не помнила. Кто-то появлялся, кто-то исчезал. Она только помнила, что это последний день ее рабства, и махнула рукой. Леня, бармен, наконец посмотрел на нее. Он смотрел на нее с удивлением: малышка, кажется, утешилась, ему было наплевать, но он не думал, что это произойдет так быстро, и компания была слишком уж темной.
Компания и вправду была темной, но его это не касалось — так она заявила, когда он предложил ей вызвать такси, отправить ее домой; он знал, чем заканчиваются подобные загулы, и ему было жаль ее, из этого ей не выбраться. Он пожал плечами.
— Это не твоя компания, — сказал он, но ей-то было все равно.
И она снова пила шампанское и коньяк в баре, где Леня смешивал им коктейли, потом какие-то типы звали ее на квартиру, потом появились какие-то непотребные девки, которых она едва знала в лицо, потом появились финны. Или шведы? Черт их разберет, ей-то что, финны, шведы, ей на всех наплевать. Она приехала учиться, предыдущие семнадцать лет она прожила в Воронеже, откуда ей было знать, шведы это или финны. Они пили джин в баре «Садко», они пили «мартини» в баре «Интурист», они пили водку и бальзам на чью-то валюту и чьи-то рубли, какой-то тип с лицом водяной крысы хватал под столом ее колено, и она дала ему по его крысиной физиономии. Час решения приближался. Она сказала, что ей надо выйти, она спустилась в туалет, достала таблетки со снотворным — нет, только не смотреть, не колебаться… Она не колебалась. Она не сосчитала их, ибо это не имело значения. Она не успела даже подумать ни о чем. Ей нельзя было пить коньяк с шампанским, ей всегда было плохо от вина, но так плохо ей не было еще никогда. Стеклянная трубочка выскользнула из рук, таблетки покатились по мокрому полу… Значит, она не умрет? Ей стало страшно. Куда ей было деваться, куда идти?
Она вернулась в зал. Там к ней подсел тромбонист, он уже давно ее приметил, это был лысый, щеголеватый человек лет пятидесяти, и все звали его Боба. Он тоже что-то предлагал, типы все появлялись и исчезали, глаза их излучали фосфорический блеск. Рестораны были закрыты, последний бар тоже закрывался, приближался час расплаты. Лена почувствовала это, почувствовала, как заяц чует лисицу, но шампанское едва не сгубило ее, тромбонист преследовал ее по пятам. Она выскочила на улицу в последний момент, в последнюю минуту, воспользовавшись общей заминкой, спорами, кому в какую машину садиться и к кому ехать. Тут-то она и сбежала. Кто-то крикнул ей вслед что-то, но она бежала, как никогда в жизни.
Она бежала темным проулком, завернула во двор, у стены были сложены дрова, две огромные поленницы, и она забилась между ними.
Дальше она не помнила ничего, словно она исчезла. А когда пришла в себя, в руках у нее были дрова, несколько поленьев. Она не помнила, откуда они у нее, но обрадовалась: дровами топила печку мама, в дровах было что-то верное, надежное, правильное, и она поняла, что ей хочется сейчас одного: сидеть у печки, чтобы горел огонь и потрескивали поленья, чтобы было тихо и тепло, чтобы было хорошо и чисто, чтобы не было никого или кто-то один, кого она выберет сама, кто нужен ей или кому она нужна, а нет, так и не надо. Прижав дрова к груди, в распахнутом пальто, она брела по заснеженным улицам, она не могла понять, где она. Вокруг спал уставший за долгий день город, где-то должны были еще быть люди, она не сомневалась, что встретит их, и тут же, завернув за угол, — что это был за угол? — она увидела человека; это и был Блинов, и он шагнул ей навстречу.
И тут я увидел, что ошибся. В руках у девушки был вовсе не ребенок. Я подошел к ней и увидел, что она держит в руках, увидел, что ей плохо, но она улыбалась, и ее улыбка мне понравилась — это была улыбка доброго человека. Одинокий добрый человек нес дрова, он был занят делом, а я нет, лучше бы это был ребенок, но и дрова — это тоже дело, это было лучше, чем ничего. Я только спросил, зачем ей дрова, она пошатнулась, она улыбнулась снова, улыбка была доброй и виноватой. Дрова нужны были, чтобы топить печку, и мне стало стыдно за глупый вопрос — для чего же еще могут понадобиться дрова зимой. Что-то смущало меня — не то, что она в полночь появилась неведомо откуда с охапкой дров. Но что вызывало смущение, я понял только в такси, которое везло нас в Третье Парголово, на край света, где находилась та комната, которую надо было протопить дровами, их она продолжала прижимать к себе, как ребенка. Это был странный запах, исходивший от ее волос. Они пахли вереском, хотя я никогда не знал, что вереск пахнет именно так, они пахли солнцем, ее волосы были цвета меда, и медом и вереском пахло в маленькой комнате, в которой было тепло от дров, которые она принесла с собой.
Угли догорали. Ее руки, как блуждающие огоньки, прикасались ко мне, и что-то оттаивало внутри, холод отходил, анестезия отходила, но вместе с теплом возвращалась и боль, потому что боль может чувствовать только живой. Да, только живому дано чувствовать боль и радость.
Блуждающие огоньки становились все горячей, все жарче, уже много лет прошло с тех пор, как я ощущал прикосновение женских рук, все эти годы, которые я провел в пещере на краю опустевшего рая, и я об этом забыл. Огонь, пылавший где-то, не трогал меня, но этот — этот был рядом, он грел, он жег, он причинял боль, он возвращал к жизни. Комната была заполнена запахом меда и вереска, нежными были пальцы, касавшиеся моей руки, от этих пальцев исходил ток. Это был зов жизни. Жизнь звала меня. Это была другая жизнь, она возникала из прикосновения женщины, и так было всегда — у начала всякой жизни была женщина.
И я поверил. Я поверил женщине и жизни, что звала меня, я поверил отогревающему огню и боли, и тут наконец я понял, что произошло со мною и с моей жизнью.
Мне было сорок лет, сорок лет и один день, и тут наконец я все понял, и слезы сами полились, но что я оплакивал, я так и не знал.
На улице было холодно и тихо. Под застывшим и жестким небом в редких оспинах звезд Блинов дошел до Поклонной горы. И остановился. Справа и внизу лежали оцепеневшие от стужи озера. У его ног была дорога, уходившая вниз, в самую середину огромного спящего города, где он жил.
Он стоял и смотрел.
И тут он вспомнил рисунок — человек стоял, опершись на палку; перед ним расстилалась дорога, а он стоял и смотрел назад. Кто это был? Это был он сам — понял Блинов. Это он стоял, опершись на палку, перед тем как сделать первый шаг по дороге, ведущей в будущее. За спиной у него был оставленный им Эдем; он был пуст, стены крепости рухнули, пыль клубилась и оседала. Перед ним лежала дорога, она ждала его, она вела туда, где были люди. Он был им нужен, и они ждали его.
И, может быть, у него есть еще время, и, может быть, еще не поздно.
Примечания
1
Здесь и далее — перевод А. Гитовича.
(обратно)2
Добро пожаловать, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Ленинграде. Я — ваша переводчица из ленинградского «Интуриста», меня зовут Элеонора… (нем.)
(обратно)
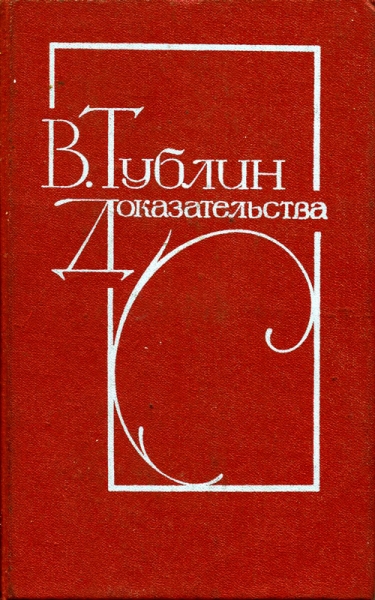


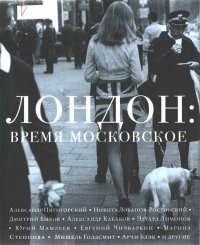

Комментарии к книге «Доказательства (Повести)», Валентин Соломонович Тублин
Всего 0 комментариев