Юзеф Крашевский
© Бобров A.C. 2016
* * *
Шпион Современная картинка, нарисованная с натуры роман
All is true
Направляясь вниз по Беднарской улице к Висле, миновав отель Смоленский, по правую руку в доме, занятом разными ремесленниками, а от улицы дающим схоронение загадочным жителям обоего пола, есть внизу род таверны, называемый бильярдом. Над её окнами висит таблица с нарисованными двумя киями, тремя шарами, пирамидально уложенными, и надписью:
Бильярд пиво и разные алкогольные напитки
Налево от ворот, в первой комнате, посыпанной песком, действительно стоит бильярд-старичок, который железной дорогой из Краковского предместья, переходя через разные улицы, очутился даже на Беднарской. Отсюда, ежели его какая катастрофа не встретит, выставят уже, пожалуй, в маленькое местечко в провинцию. К главной зале, достаточно тесной, примыкает ещё другая комнатка с четырьмя белыми столиками, для любителей пива, и тёмная каморка, где хозяйка, прислуга и все запасы того предприятия были собраны. Обычно днём там бывает вполне пусто, служащий маркёром мальчик отдыхает, вытянувшись на двух стульчиках, а продавщица пива дремлет в другой комнате. Но в некоторые моменты дня и в некоторые дни недели это заведение оживляется большим приливом ремесленной челяди и рабочих из соседних мастерских. Несмотря на это, торговля идёт очень плохо, вдова, что её держит, хотела бы себе переспросить другой кусок хлеба. Большие трактиры столицы поглощают всех выпивох, музыка влечёт к застолью, а малые трактиры должны обходиться теми, у которых мало времени и мало денег.
Имеет она, однако, своих верных сторонников, потому что привычка, даже настолько незаметная, может делать место сносным и милым. Пани Шимонова, женщина, которая прошла много бед в жизни и вышла из них грустной и вздыхающей, толстой и постаревшей, при помощи служащей достаточно быстро и вежливо обслуживала своих гостей, тот только один недостаток имела, что постоянно вздыхала, а глаза доказывали, что всплакивала по углам. Прибывающие всегда предпочитают весёлые лица, а слёзы чувствительности репутации бельярда вовсе не помогали, не один усомнился в качестве пива, видя грустный и задумчивый облик пани Шимоновой.
Как-то это, однако, держалось и вечерами бывало полно, но много приходилось кредитовать, а на таких задолженностях больше потратить, чем вернуть можно.
Одним майским днём 1861 года, когда уже порядком смеркалось, человек средних лет, бледного лица, с чёрными и пылкими глазами, вложив руки в карманы, шёл бессознательный, удручённый и задумчивый вверх по Беднарской улице. Как если бы ему недоставало сил, он иногда останавливался, рукой отирал хмурое чело, что-то шептал сам себе, усмехался и медленно тащился снова.
Это было олицетворённое оцепенение, которое следует после отчаяния. Полностью надеялся быть в себе и в своей боли, но уже с нею не боролся, не искал от неё спасения. Дойдя до дома, в котором был шинчек пани Шимоновой, он заметил свет в окнах и уставился в них. Ставни не были ещё закрыты и через стёкла, не первой чистоты, видны были двое мужчин, занятых благородной игрой в бильярд. После минутного раздумья прохожий махнул рукой и направился к двери. В первой комнате двое каких-то панов боролись за лучшее на зелёном сукне с хладнокровием великих и уверенных в себе артистов. В другой был слышен звон пивных стаканов и какой-то тихий разговор. На границе, на пороге стояла грустная Шимонова, вытирая фартуком глаза. Бильярд был освещён сверху кенкетом, таким же старым, как он сам, простуженным и дымящим; два, подобных ему, меньше выполняли своё предназначение, коптя стены и толстыми слезами обливая пол по бокам.
В наиболее тёмном углу этого помещения за маленьким столиком, над аристократической чашкой кофе, к которой должен был доливаться ром, потому что бутылка его была рядом под рукой, сидел мужчина зрелых лет, в потёртой шляпе на голове, с толстой тростью в руках. Его лицо, цветущее пивными цветами, свидетельствовало, что спиртом он не брезговал, было это, впрочем, одно из тех наиболее распространённых лиц, которые вовсе не обращают на себя внимание: лишь бы какой нос и рот, обычные глаза и всё это незначительное, не обращало на него взгляда, можно было пройти мимо него, не акцентируясь. Бакенбарды полумесяцем, какие раньше носили гренадёры, и усики, подкрученные вверх, выдавали в нём бывшего военного. У него даже был в отверстии от пуговицы кусок какой-то пёстрой ленты. Важно чмокая кофием и покуривая напряженно сигару, к которой его не тянуло, хотя он настойчиво хотел вынудить её к послушанию, поглядел и туда и сюда, как если бы искал компанию. Никто, однако, к нему не подошёл, а служба бильярда, служа ему с неизмеримым уважением, косо и с опаской на него смотрела. Очевидно, эта была фигура прикинутая, чужая месту и по другим причинам, чем обычные гости, сюда прибывшая.
Когда тот человек с улицы входил в комнату, в первых скрипучих дверях глаза молчащего мужчины уже его с ног до головы смерили и исследовали. В конце концов, в нём легко было узнать кого-то, кто так страдал, что почти не ведал, что делает и что с ним произошло. Его одежда показывала некогда возможно состоятельного ремесленника, но была изношенной и рваной; благородные черты лица покрывала болезненная желтизна, волосы были в беспорядке и местами локонами поседели. Войдя, незнакомец не знал, что с собой делать, помотрел, закрутился и упал на табурет при дверях. Едва он сел, выбежала задымлённая девушка из другой комнаты и стала перед ним: это был немой вопрос, которого он сразу не понял, а потом, решившись, сказал хриплым и слабым голосом:
– Рюмку водки!
Когда ему принесли, он проглотил её одним глотком, оттолкнул лоток с хлебом, бросил десятку и глубоко задумался. С той минуты, как он вошёл, глаза бывшего военного не покидали его, он следил за его физиономией и движениями, и живо казался им занят. Игроки в бильярд, закончившие партию, скоро вышли, маркёр удалился в другую комнату, а эти двое остались один на один. В это время мужчина в шляпе встал от кофе, начал прохаживаться, поправил у зеркала бакенбарды, кашлянул и, приблизившись к человеку при дверях, тихо вымолвил:
– Ну что же, пане Мацей, как я вижу, всегда несчастье?
Тот, как пробуждённый, вдруг поднял голову, но, казалось, не понимает вопроса.
– Гм! Несчастье, пане Мацей?
– Что? – невыразительно сказал спрошенный.
– Я говорю, плохо что-то на свете?
– Разве когда-нибудь было лучше?
– Ах! Оно бы тогда могло быть лучше, когда бы люди разум имели.
– Разум? А на что он сдаётся, когда доли нет.
– При разуме и счастье найдётся!
– К чёрту!
– А я вам говорю, – добавил, крутя ус, первый, – что никогда отчаиваться не нужно, а опытных людей слушать…
– Я тебе не юнец!
– У вас от беды в голове помутилось. Знаете, пане Мацей, что, когда доктор заболеет, если был наилучшим, никогда сам себя не лечит, нужно людей слушать, я тебе это повторяю ещё раз.
– Я проверял этих людей, но мне не один не посоветовал. Слово не стоит, слов тебе каждый насыплет, а что потом? Языком мелет – рукой не двигает!
Бывший военный осмотрел внимательно помещение, взял Мацея под руку, проводил его к с своему столику, налил ему рюмку рома и, вынудив его выпить, посадил его при себе.
– Слушай-ка, – сказал он, – ремесло не идёт, правда? Или нет другого куска хлеба? Я бы готов тебе и посоветовать; но это деликатная материя…
Мацей посмотрел искоса, но промолчал.
– Первая вещь, – шепнул очень осторожно мужчина с усами, – необходимо мне дать слово, что то, о чём мы поговорим, останется между нами как на исповеди.
– Уже то, мой пане поручик, – сказал Мацей, – когда какая вещь должна быть тайной, это плохая охрана. Я привык ходить широкой дорогой и белым днём, а бездорожьями и по ночам не умею.
– Ну, тогда умирай себе с голоду, когда такой гордый пан. Всё-таки можешь делать выводы, что я тебя ни на кражу, ни на разбой, ни на контрабанду убеждать не думаю…
– Тогда к чему же такие секреты?
– Мой дорогой, тебе это трудно понять, но для важных, очень важных дел порою малые вещи потребны и маленькая услуга, а хорошо оплачивается…
– Эх! Слушай, поручик! Что ты там баламутишь, говори же мне откровенно; когда хочешь дать мне добрый совет, то не тяни с ним.
Поручик, казалось, ещё обдумывал, потом начал шептать ему на ухо:
– Ты можешь иметь и протекции, и деньги, и что захочешь: правительству необходимо знать, что тут за заговоры люди среди челяди и рабочими чинят относительно какой-то там глупой революции. У меня хорошие отношения с Павлуцим и другими, я порекомендовал бы тебя. Пять злотых в день как нашёл, награда, как что-то принесёте, и на будущее может быть ещё какое продвижение.
Мацей побледнел и вздрогнул, холодный пот выступил на его висках.
– Будь, пан, уверен, – сказал он прерывистым голосом, – то, что между нами говорится, о том мир знать не будет. Ты всегда это, может, делал от доброго сердца, но, мой пане поручик, хоть я много перенёс, хоть ломаюсь под бременем, ещё мне, благодарение Богу, на ум не пришло жить чужой кровью и несчастьем.
Ухватился он обеими руками за голову и прибавил с возмущением:
– Всё-таки лучше на Пражский мост и броситься в Вислу. Всё кончится; но человек пойдёт на суд Божий с чистой совестью.
Поручик, вовсе не смутившийся, начал смеяться.
– Какой из тебя ребёнок! – сказал он. – Видел ты когда-нибудь, чтобы человек без ущерба для другого имел кусок хлеба? Ты думаешь, что на тех каретах, что на улице светятся, нет и крови, и пота чужого? Трава ест землю, вол ест траву, человек ест вола, такой это уж порядок; впрочем, пусть себе правительство берёт на свою совесть, что там хочет, я доношу, что вижу, и что мне до того! Виновный тот, кто на зло использует, а не я!
– Оставьте меня в покое, поручик! На такой хлеб я не пойду, не ел бы его, не переварил бы его, потому что меня стоны несчастных бы задавили.
– Подождите-ка ещё пане Мацей, – сказал поручик. – Вы честный человек, вам могу это искренне поведать. Не с сегодняшнего дня это моё ремесло, я уговаривал себе много товарищей, но всегда изначально так бывало как с вашей милостью, лишь голод надоест – разум приходит. Уклоняется человек, уклоняется, потом меняет мнение и принимает. Мне жаль тебя, даю тебе неделю на раздумье… а потом увидишь меня.
Он отпил немного кофе, покурил сигару и добавил:
– Мне не нужно вас предостерегать, что если проболтаетесь, то сгниёте в тюрьме. Это уже не моя забота, а дело правительства.
Мацей глубоко вздохнул и слёзы покатились из его глаз.
– Милый Боже! – воскликнул он потихоньку. – На что человек пошёл! И Бог видит не собственную вину! Но нет, нет, я до этого никогда не дойду! Однажды придётся умирать.
– Говорю тебе – не зарекайся, – с усмешкой шепнул поручик, – не нужно плевать в воду… чтобы её потом не пришлось пить.
Он хотел ещё налить рюмку рому Мацею, но тот поблагодарил и встал, капли пота вытирая с лица.
– Как надумаете, то меня тут почти каждый вечер можете найти, – сказал усатый.
На этом разговор окончился. Мацей вышел из помещения и побрёл по улице.
Едва он прошёл несколько шагов, когда кто-то толкнул его в плечо и сказал тихим, незнакомым ему голосом:
– Идите за мной!
– Куда? Зачем?
– А ну! Это сейчас узнаете, но идите, потому что дело важное и о вашей шкуре речь.
– Оставили бы меня в покое! Я вас не знаю.
– Но я знаю тебя, – сказал незнакомец, хватая его за руку. – Ты Мацей Кузьма, столярный мастер, недавно освободился, рука у тебя слабая. У тебя больная жена, трое маленьких детей, несколько сот злотых долга, на дерево ни гроша, челяди нечем платить; ты ходишь как отравленный, плохо у тебя мысли по голове бегают, а плохие люди искушают, готовые этим пользоваться.
Мацей, слыша это всё, был почти ошеломлён, но ему на ум пришло, что это, может, продолжение разговора с поручиком, что это только попытка. Уже также ему одна эта мысль шпионажа жгла грудь.
– Слушай, – сказал он, толкая держащего человека, – отойди от меня, дьявол этакий, а нет, я тебе голову проломлю.
Незнакомец начал смеяться.
– Что же это, ты меня принимаешь за какого-то товарища поручика? Или что? Я догадался, что он тебе рекомендовал, но тебе я клянусь на этом потрескавшемся кресте, что русские его унизили, что это полностью другое дело! Ты можешь за мной безопасно идти, твою совесть не замутим. Собственно, что я видел и догадался, что ты ответил поручику, для того тебя с собой хочу проводить.
– Поклянись ещё раз!
– На что хочешь?
– Поклянись спасением, что меня не обманываешь!
Незнакомец, высокий мужчина в очень приличной одежде, лицо которого темнота заметить не позволяла, расстегнулся, достал подвешанный на шею медальон и торжественно повторил клятву.
– Ну, тогда идём, – сказал Мацей.
В молчании они прошли кусок Краковского предместья, а незнакомец, ведя первым, вошёл в одну из камениц напротив Благотворительности… По тёмной лестнице поднялись они на третий этаж. Тут проводник три раза по три постучал в маленькие дверочки, которые постепенно отворились. Передняя была совсем тёмной, пришедший пошептался о чём-то с отворившем, стояли минуту во мраке и, наконец, они вошли с Мацейем в освещённую комнату.
Это была маленькая комнатка с одним окном и довольно пустая. В середине был простой столик, несколько плетёных стульев, в углу кровать с матрацем, но без постельного белья; одна свеча не очень освещала этот тёмный и грустный приют. Теперь лишь Мацей мог рассмотреть и того, кто его сюда привёл и другого, которого застали в квартире. Оба были люди молодые; проводник, высокий, плечистый, благородных черт мужчина, другой – блондин, нежный, хрупкий, бледный, но с чертами, полными энергии. Душе его казалось тесно в этой оболочке, она била ключом из глаз, вырывалась из уст, светилась ореолом на голове.
– Пане Мацей, – сказал первый, – ты среди честных людей, среди своих, говори, что тебе тот дьявол клал в ухо, соблазняя тебя?
Мацей остановился на мгновение, подумал.
– Господу Богу ли, дьяволу ли, – сказал он, – если даёшь слово, что будешь молчать, необходимо сдержать его. Не правда ли?
– Нечего сказать, – сказал блондин, – вы правы; но когда так, то мы вам расскажем, о чём была речь. Я готов отгадать не только, что говорилось, но как там говорилось.
Мацей остолбенел.
– Ежели вы такой разумный пан, – сказал он кисло, – то принадлежите, конечно, к одному братству с поручиком. Так вот, вам скажу, как ему, что вы от меня ничего не получите. Это напрасно, я бедный человек и беднейший, может, от возраста, но чужими слезами и кровью жить не хочу! Прощайте, будьте здоровы. – Он повернулся к дверям, когда почувствовал, что тот блондин схватил его за плечи, начал обнимать и целовать.
– Садись, пане Мацей, – сказал он, – это шельма шпион, которого рано или поздно петля не минует, а мы добрые поляки и работаем не для московского правительства, но для нашей любимой отчизны. Мы не будем тебе лгать ни то, ни это, мы знаем тебя через твою челядь и других товарищей, потому что и мы имеем свою полицию, мы должны следить, видели, что тебя несколько раз тот поручик зацеплял, легко было догадаться, чего он хотел. Так вот, страна от тебя великой услуги требуе т.
– Вы католики? – спросил Мацей. – Вы можете мне ещё раз поклясться, что то, чего вы от меня хотите, для нашей милой отчизны необходимо?
– Мы можем и поклянёмся, – сказал блондин, – посмотрите же на нас, выглядим ли мы на шпионов и предателей?
– О, ну это нет, – сказал Мацей, – но та московчизна, это она прибегает к разным выходкам, а шпионы так прикидываются добрыми поляками, что чёрт их там узнает!
У блондина были слёзы в глазах, он достал крест, спрятанный в выдвижной ящик, и показал его Мацею.
– Смотри! – воскликнул он. – Этот крест, обрамлённый терниями, был сделан из тюремного хлеба, омыт слезами мученика, он вышел из цитадели, святой собой и освящённый болью; на этом кресте мы тебе клянёмся, что нет в нас лжи…
Мацей уже почти устыдился своего недоверия.
– Говорите, приказывайте, а что человек преодолеет, то случится, но Бог видит, если вы можете, то мне через добрых людей помогите, чтобы я сначала голову восстановил, потому что меня беда ошеломила, что сам с собой справиться не умею и ни на что вам не пригожусь, пока меня это моё несчастье есть будет, я стал глупым от боли.
– Со всем справимся, пане Мацей, но нужно и с тем осторожно, потому что, когда тебя шпики в лучшей шкуре увидят, всё пропадёт. А мы от тебя также трудные вещи будем требовать.
– Будь спокоен, – добавил другой, – завтра ты пойдёшь в Благотворительность за ссудой.
– Я ходил напрасно несколько раз, кто же за меня захочет поручиться?
– Там завтра найдутся двое обывателей, которые внесут за тебя залог, но, хотя тебе легче будет, стони, как всегда, потому что нам так нужно.
– Через три дня, – прибавил блондин, – ты пойдёшь на Беднарскую улицу, найдёшь там поручика, нужно ещё отказываться, но, в конце концов, ты должен принять то, что он тебе предлагает.
Мацей вскочил со стула.
– Этого не может быть!
– Всё-таки ты им ничего не будешь доносить, но нам через тебя нужно знать, что у них делается.
– А! Мои дорогие паны, за сокровища мира, – ответил Мацей, складывая руки, – я этого не приму, я этого не сумею…
– Как это! Для твоей милой отчизны! Для нашей святой веры!
– Мои господа, – отпарировал ремесленник, – я столяр, если бы вы приказали мне ботинки делать – это не моя вещь; так и это, я простой человек, а это очень крутое дело, моя голова с этим не справится.
Несмотря на то, что, как очень справедливо выразился пан Мацей, это было крутое дело, молодые люди заверили его, что при их совете и подсказках он честно с ним справится; хоть с большой такой нерешительностью, принял Кузьма неприятное для него обязательство.
Добрую часть времени они потратили на тех переговорах.
– Уж это вы там лучше знаете и на что это потребно и как быть, – сказал в конце Мацей, – но мне оно сдаётся, что с таким бывалым человеком как поручик, я, пожалуй, не справлюсь… это напрасно.
– Мы вам поможем! – сказал блондин.
– А где же я вас буду искать?
– Около шести вечера, если бы вы хотели зайти помолиться у фигуры Божьей Матери напротив Благотворительности, всегда там кто-нибудь из нас может быть.
На том и кончился разговор, и пан Мацей с немного более свободной мыслью поплёлся к дому, но на сердце у него было ещё тяжело.
* * *
Глубокой ночью, когда уже у пани Шимоновой никого на бильярде не было, поручик, который в течение последего часа своего пребывания в том месте спал или также прикидывался спящим, вытянувшись и забыв заплатить хозяйке (что было его привычкой), вышел последним из баварии. Не далеко ему было до дома, потому что он жил на Дзиканке в тыльной части обширного дома, занятого по большей части очень бедными семьями. Достучавшись в ворота, перейдя через двор, прошёл ещё два этажа по лестнице до перехода наощупь. В двери, в которую он шумно ударил, было сверху маленькое непрозрачное окошко, сквозь которое слабо пробивался свет. Ему вскоре отворили и поручик, посвистывая, как бы для прибавления себе отваги, в шляпе наперекосяк, с сигарой во рту, вошёл внутрь. Дверь ему отворила грязная заспанная горничная; в квартире было глухо, в центре большого помещения горела только сальная свеча, давно не освещающая. При её тусклом свете было видно это бедное жилище, которое, вместе с тем, содержало в себе и всё хозяйство семьи. У двери были кухонная посуда, печь, в которой готовили, даже немного кладовых запасов в достаточно большом беспорядке и заброшенности. Далее в различных направлениях несколько столов, заваленных бельём и одеждой. Возле окна стояла пара кроватей, плохо заслоненных бумажными параванами, достаточно обшарпанными. Какой-то неприятный запах бедности и безвластия веял от этого приюта. Ничего для глаза и украшения, ничего для чувства и сердца, тяжёлая бедность, которая ни о чём не думает в будний день, начатая стирка, поразвешанное трепьё, остатки скудной еды, ничего больше видно не было. На большом столе, на котором горела свеча, дремала, опираясь на руки, женщина средних лет, исхудавшая, в запущенной одежде, с растрёпанными седеющими волосами. Черты её лица доказывали, что некогда была она очень красивой, даже нужда, возраст и запущенность не сумели стереть этого Божьего дара, однако чёрные, прекрасные некогда глаза, глубоко впали и от слёз погасли, уста скрылись в складках, которые вырезала боль, а привычка к постоянной борьбе и состязанию с несчастьем заклеймили этот облик диким выражением затвердевшего гнева. Она взаправду была страшной, как рукой великого мастера высеченная голова Медузы. Посмотрев на неё, уже можно было сообразить, почему поручик, входя, придал себе смелую мину. Всё это знаменовало ту домашнюю войну, следы которой были видны в беспорядке всей квартиры.
Услышав шаги, женщина пробудилась и поднялась, посмотрела на старые часы, висящие на стене и рукой указала их мужу. Было половина двенадцатого.
– То-то ты сегодня исправился, – сказала она, – значит правда, что пораньше вернулся?
Трезвый поручик был мягким, но, напившись рому, становился весьма храбрым, ответил грубостью:
– Молчи, старая надоеда, я делаю, что мне подобает, а ты в это нос не суй!
Женщина кивнула головой, вовсе не испугавшись грозной фигуры.
– Уже эта скотина напилась, – сказала она, – и гудит, и будет мне, пришедши сюда, шуметь ещё! Молчи же сейчас и иди спать, пьяница, а не то тебя научу!
Поручик свистел, но уже тише; снял шляпу и положил на столе, погасшую сигару пробовал зажечь от свечи, но как-то на пламя не мог попасть, что ещё сильнее доказывало, что жена в своих предположениях не ошиблась. Он действительно был сильно пьяным, несмотря на это, хотел перевести разговор с деликатной материи и спросил хриплым голосом:
– Юлек есть?
– Что тебе до Юлка? Трутень ты этакий, – ответила жена. – Какое ты имеешь право спрашивать о ребёнке, о котором не заботишься?
– Эх! Баба, ко мне относись как хочешь, но от Юлка прочь, я отец и должен за ним следить, – крикнул прибывший.
– И хорошо за ним следишь! – ответила женщина. – Пожалуй, думаешь, что он где в шинке сидит, что, ища его, целый день трактиры вытираешь?
Поручик мгновение помолчал и повторил вопрос:
– Есть Юлек?
Жена вместо ответа ему плюнула и начала некогда длинные свои волосы завязывать, будто собиралась лечь спать.
– Кахна, – отозвалась она через некоторое время, – посвети ему до его комнаты!
Поручик спросил в третий раз:
– Есть Юлек?
Вдруг женщина, которая, казалось, была безразлична, обернулась к нему с разгорячённым лицом.
– Нет его, – воскликнула она, – ты показал ему хороший пример шляния по ночам, безделья и разврата, может, ты хочешь его сделать таким же, как ты, пьяницей и висельником! Смотря на отца, он уверенно пойдёт по его следу. Недостаточно тебе было погубить себя, меня, тебе было нужно испортить этого ребёнка! Для совести твоей тяжело, ой, тяжело будет в дни суда! Ты понесёшь на дно ада и свою душу, и нашу! – говоря это, она зарыдала.
А поручик, посмотрев на неё, словно протрезвел, стал покорным и замолчал.
– Тихо! Тихо! – сказал он. – Что, я в том виноват, или я каждый день его не учу?
– Ой! Твои науки! Было бы во сто крат лучше ребёнку их не слышать и тебя в гроб положить! Что значат твои слова при твоих поступках? Достаточно, чтобы посмотрел тебе в лицо, и с него жизнь прочитает! А потом ты хочешь иметь утешение от него! Божья милость ещё над нами, что хоть бы другого уж испортил, его, может, не сумеешь.
Поручик глубоко задумался, как-то странно вздохнул, стукнул кулаком по столу и крикнул хриплым голосом, поднимая трость:
– Молчать, баба, а нет, я тебе голову разобью!
– Не буду молчать, – ответила, топая ногой, женщина, – разбей мне голову, я смерти давно у Господа Бога выпрашиваю; ты закончишь, по крайней мере, как того достоин, на виселице!
В лицо поручика бросилась кровь, глаза загорелись и, может, окончилась бы эта сцена кровью, если бы не постучали в дверь.
Оба родителя по несмелому стуку догадались о возвращении ребёнка. И в эту минуту произошло чудо, какого бы никто предвидеть не мог. Эти два грозных лица, словно чародейской милости прикосновением, изменились в мягкие физиономии, исчез из них гнев, а сила родительской любви преобразила их полностью. Они не хотели перед любимым стоять во всём безобразии той отвратительной борьбы. Лицо женщины стало спокойным, грустным, но дивным выражением улыбчивой любви; нельзя было даже подумать, что мгновение назад она пылала возмущением и гневом. Отец принял серьёзный вид и почти стал похож на порядочного человека, остаток какого-то стыда туманно затенял ему очи. Дали себе взаимно знак согласия и, когда Юлек потихоньку вошёл, следа ссоры уже не застал. Глаза обоих родителей тоскливо были обращены к нему, отец дрожал от самой мысли, что в нём может заметить первые ростки своей привычки.
Прибывший был парнем лет двадцати и живым молодым изображением своей матери, были это всё те же черты, благородные, мягкие, но ещё покрытые нестёртым весенним пушком. Среди этой фламандской картины, грязной бедности, Юлек отличался, словно к ней не принадлежал, словно из неё не вырос; одежда молодого человека была скромной, но чистой и приличной; на личике играла весёлая улыбка молодости, которой, казалось, хотел умилостивить родителей, в уверенности, что за его опоздание будут гневаться.
– Что же ты так поздно возвращаешься? – спросила мать мягко. – Смотри, ведь уже скоро двенадцать.
– Мы повторяли лекции с товарищами, – сказал немного смущённый Юлек. – И так как-то припозднились.
Отец ничего не сказал, но его глаза так изучали сына, словно до глубины его души хотел достать.
– Но это теперь такое время, – сказал он через мгновение, – что долго засиживаться вне дома не нужно, и притом учитывать, с кем занимаешься, потому что ещё где-нибудь за чужие грехи беды выпросишь.
Юлек минуту помолчал и добавил с выражением искренности:
– Отец, какое есть время – такое есть, а учиться необходимо; наша наука и трудна, и велика, предметов множество, много вещей на память учить приходиться.
Мать положила ему руки на плечо и спросила:
– Ты, конечно, ничего не ел?
– Эх! Дорогая мама, я уже тому из медицины научился, что человеку для жизни много питания не требуется, лишь бы ломтик хлеба и немного воды, я не голоден.
– Я тебе там велела отложить кусок мяса и немного картофеля – тогда бы тебе подогрели.
На упоминание о еде поручик, который много пил, но не имел возможности есть, сделал многозначительную мину, но встретив грозный взгляд жены, языком только повёл по устам и смолчал; не смел упомянуть.
Присутствие Юлка, как бы посланца мира, утишило бурю и дало вечеру закончиться тихо. Поручик очень даже вежливо пожелал спокойной ночи жене, которая с ним попрощалась также мягко. С ним вместе ушёл и Юлек к двум комнаткам ещё выше, расположенным на чердаке. Когда за ними Кахна закрыла дверь, женщина быстро побежала к кровате, отслонила параван и изогнулась над постелью, на которой было видно спящее личико пятнадцатилетней девочки. Она успокоилась, убедившись, что ребёнок спит, несмотря на шум и ходьбу. Действительно, дочка, которую не хотела иметь свидетелем неприятного инцидента с мужем, почивала тем глубоким сном молодости, которого иногда и выстрелы пушек не прерывают.
Красивая златовласая головка лежала на распущенных локонах, зарумяненная сном, с полуоткрытыми устами и прикрытыми очами, улыбаясь каким-то снам.
Мать тихонько поцеловала её в лоб, отошла к столику, села, и из её глаз потоком пустились слёзы. Молчащая, она плакала так долго, долго, пока, когда свеча начала догорать, служанка не схватила её за руку, прося, чтобы шла спать.
Не сбрасывая одежды, поручикова упала со своими слезами на ложе.
* * *
Нужно отдать ту справедливость московскому правительству, что при самых усердных намерениях шпионажа, нигде та ветка администрации хуже, чем в России и Польше, организована не была. Правительство, вынужденное использовать изгоев общества, которых ни выбрать, ни организовать не умело, узнавало всегда последним о том, что уже всем уличникам было известно. Полиция его бывала докучливой, но самой безрезультатной на свете; доносила о вещах незначительных, никогда, иначе как случайно, самых важных получить не могла. Там, где агент полиции, как в Англии, чувствует себя колесом, честно работающим в социальной машине, где своего ремесла стыдиться не нужно, чувствуя, что и в нём заключается общественная безопасность, там найдутся люди честные и пригодные для надзора над общественной мутью и накипью. В России, где полиция есть наиподлейшим инструментом притеснения, ни один человек, имеющий малейшее сознание собственного достоинства, принадлежать к ней не может. Следовательно, они должны были выметать из водостоков мусор и им пользоваться. Полиция, главным образом направленная против политических преступников, не имея возможности их выслеживать, создаёт виновных, и вообще, неспособность её равняется слепоте. Нет также больше унижающего названия, которое бы такое окончательное несло с собой осуждение, как именование шпиона. Ни вор, ни фальшивомонетчик, ни разбойник так не презираемы, как он. Для шпиков нет жалости и прощения. Стоя очень много, секретная московская полиция дала тысячи доказательств в бесполезности. Напрасно желая иметь лучшую в Варшаве Великопольши, через друга своего секретаря английского консульства пана В…. привезли агентов из Англии, собираясь тамошней организации подражать. Ни к чему не пригодились примеры, потому что инструменты к ним у нас найти не могли. Презираемое правительство на вес золота не сумеет достать людей, которые бы его поддерживали в бесправиях. Английский полицейский знает, что, выслеживая преступника либо беспокойного чартиста, приводит его к суду, который вину его оценит, взвесит и кару назначит соответствующую. Московский шпион приводит жертву под нож, отдаёт человека в руки мучителя, сам является не слугой суду, но прислужником палача. Следовательно, можно делать вывод из того, какие люди входят в состав полиции. Наименьшего доноса, не основанного ни на чём, часто будучи следствием злости либо мести, хватает для осуждения человека. Ни одна ссора с тайным агентом стоила невинному жизни, ни одна прихоть пьяного отобрала семье отца. Там, где нет ни открытости суду, ни стабильности формы права, где в руках самых неценных людей есть судьбы всех, легко понять, какая должна быть безопасность людей и собственности. В последнее время большой прогресс, который учинил народный характер, в целом произошёл в этом даже классе.
Шпионаж, в рядах которого при великом князе Константине (первом) было достаточно значимых агентов, снизился до крайних границ. Старались, когда события делали их необходимой потребностью, укрепить новыми элементами; но когда пришлось их искать, оказалась полная нехватка.
Когда через три дня после упомянутого вечера пришёл Мацей в кабак на Беднарской улице, хотя уже был очень спокойным насчёт своей судьбы, так выглядел со страху, впечатления и принуждения к лжи, что поручик принять его мог за отчаявшегося человека. Ноги под ним тряслись, а голос ему изменял. Когда заметил бывшего военного, он должен был сесть при дверях, ибо дальше шага сделать не мог. Этого дня в баварии было достаточно людей; через мгновение поручик подошёл к Кузьме и сказал потихоньку:
– Ну что? Идёт? Поговорим?
– Чего же делать, уже вынужден!
На том сразу закончилось. Поручик допил кофе и, подмигнув Мацею, вышел из кабака.
– А видишь, – сказал он на улице, – я говорил тебе: «Не плюй в воду, чтобы самому её не выпить».
– Да что вы, не упрекайте, – ответил Кузьма, вздыхая. – Говорите, что хотите от меня?
– Что мне тебе сказать? – шепнул поручик. – Иди за мной, тогда узнаешь.
В молчании они пошли, поручик впереди, Кузьма за ним, из Краковского через Медовую на Долгую и тут, не доходя Беляньской, вышли к воротам одного дома, перед которым прохаживался какой-то незаметный господин.
Поручик перемолвился с ним парой слов и вошёл со своим товарищем в ворота, на двор, потом на тёмную лестницу, наконец, в какую-то квартиру сзади. В очень душном и вонючем коридоре на лавках и по углам пряталось несколько особ, словно стыдясь собственных лиц. Каждый сюда входил, закрываясь как можно лучше и пытаясь остаться в тени. Товарищество было подобрано очень странное: какая-то женщина, наряженная в атласную салопу, у которой из-за вуали только очень розоватое лицо было видно, какой-то мужчина в потёртом фраке, худой и сморщенный, какой-то обтёртый верзила, но с дерзким и бесстыдным лицом, какой-то кашляющий старичок, но улыбчивый и приятный, наконец, фальшивый франт, лакированные ботинки которого не защищали от догадки, что у него, может быть, нехватало чулков.
Кузьма, входя за поручиком, почувствовал озноб на коже и поменял бы временное своё положение на самую большую бедность. Осмотр этих людей пробуждал в нём отвращение. Какой-то слуга входил и выходил из гостиной в коридор, из коридора в гостиную. Он смотрел свысока на ожидающих и по одному толкал в пасть чудовищу. Делалось это достаточно быстро и вскоре наступила очередь поручика. Кузьма остался ещё, пока его не вызвали. Наконец дверь отворилась и поручик ему кивнул; споткнулся бедняга на пороге, а когда поднял покрытое стыдом лицо, увидел перед собой совсем красивую комнату, меблированную софами и стульями по кругу, с несколькими зеркалами на стенах. На столе между окнами среди книг и бумаг стояла лампа и две свечи, на маленькой кушетке сидел мужчина лет сорока с небольшим, красиво лысый, весьма приятный и мягкий лицом.
Он выглядел скорее гурманом и хорошим дружком, чем каким-то там начальником тайной полиции. Его голубые глаза имели мягкое выражение, уста были румяные и большие, он добродушно и сердечно улыбался, несмотря на поддельную искренность, разлитую по всей физиономии; Лаватер открыл бы в ней хорошо замаскированную хитрость византийца того типа, каким отличалось лицо Александра I, этого московского ангела… с коготками, спрятанными в лакированные перчатки.
С первого взгляда вы приняли бы его за невинного эпикурейца, лишь в разговоре, когда те черты оживлялись нервной игрой, поразительно била ключом из них хитрость, а иногда холодная жестокость. В движениях этой фигуры было что-то кошачье. Кузьма, простой человек, который ожидал увидеть монстра, сильно удивился, видя такую улыбчивую и милую сущность.
Когда сидящий на кушетке мужчина мерил прибывшего довольно интересующимися глазами, поручик, между тем, ему его представил.
– Вот, пан начальник, мастер Мацей Кузьма, очень достойный и честный человек, о котором пану советнику я имел честь напоминать…
Поручик давал ему попеременно этот титул Начальника и Советника, которым украшали обычно всех высших должностных лиц в Варшаве.
Приятный начальник не ответил так скоро, потому что был занят добычей остатков обеда из довольно ещё белых зубок.
– А знаешь, мой дорогой, о своих обязанностях? – вопросил он наконец после минутного молчания.
– Нет, прошу вас, я ничего ещё не знаю, кроме того, что должен быть шпионом!
Начальник аж вскочил с канапе.
– Душа моя, сердце моё, дорогой человече, ты глуп, как башмак. Что за шпион? Это слово враг порядка придумал из-за презрения! И вы, и я, и все честные люди, мы обязаны служить нашему царю и стране, стеречь и охранять, чтобы в ней был порядок и безопасность; плохие люди подстрекают через иностранных смутьянов, хотели бы замутить мир, дабы в мутной воде рыбу ловить. Что же плохого, спрашивается, стоять на страже и давать знать о пожаре?
Поручик, который чувствовал себя обязанным что-то добавить от себя, серьёзно сказал:
– А видите, что я говорил.
Через мгновение начальник успокоился:
– Подробную инструкцию, моя душечка, будет тебе давать этот вот поручик. Тебе подобает иметь глаз особенно на ремесленную челядь и хорошо её узнать. Жаль, что ты, дорогой пане Мацей, не имеешь там отношений с мясниками на Праге, ибо на них наибольшее внимание необходимо обращать, это сброд опасный и дерзкий. Нет необходимости тебя предостерегать, моя душа, что желая что-то узнать, ты должен естественно часто сам что-то горячего немного рассказать, без этого ничего. Разные есть обстоятельства, плохие люди иногда прикидываются мирными, чтобы правительство обмануть. Может случиться, что нужно будет сделать какую авантюру, лишь бы лучше узнать их. Ежели бы там в путанице и тебя, мой дорогой, схватили, тебе необходимо иметь какое-то свидетельство, чтобы тебя охраняло. Дадут тебе здесь из канцелярии карточку с печатью, которую в случае необходимости можешь показать полицейским. Это уж там поручик об этих вещах будет помнить, а когда найдёшь, что донести, он проинформирует, где и каким порядком.
Дело казалось оконченным, поручик указал Мацею вторую дверь, ведущую в канцелярию, толкнул его туда, а сам остался с начальником.
Оба недолго помолчали, пока советник не сказал:
– Что-то он по глазам не выглядит живым, по-видимому, не много от него будет выгоды.
– Извините, пане советник, но это в каждом положении, – сказал поручик, – разные есть люди, они необходимы, только нужно знать, как их использовать. Это человек степенный, бедностью принуждённый, и поэтому хорошо, что его никто бояться не будет, а уж я им так поуправляю, что из него мы сделаем агента что называется.
– А, ну посмотрим, будет возможность увидеть, – сказал начальник.
Поручик, несмотря на законченный с виду разговор, стоял по-прежнему, а советник молчанием своим давал ему понять, что мог бы себе пойти прочь.
Тот как-то его не понял, наконец поручик отважился пробормотать:
– Прошу пана начальника, что касается премии?
– Что касается премии, – медленно ответил начальник, – даётся это по-разному, в соответствии от того, какую рыбу поймаете, а кто же это знает уже: щука или плотва?
– Уж прошу пана начальника положиться на меня, что человек будет полезным.
– Ну, ну, выплатят тебе там двести злотых (тут начальник понизил голос), так, как обычно, выбивши на расходы канцелярии…
Поручик грустно опустил голову и спросил тихо:
– Как же я спрошу, пане начальник?
– Ты это уже знаешь.
– Но если можно занести скромной просьбой слово чести, пане советник, что куска хлеба в доме не имею…
На слово чести начальник издевательски улыбнулся и ответил:
– Ты сам себе виной, не ведёшь правильный образ жизни… но довольно, ваша милость, ты знаешь, что не может быть иначе. Сто злотых возьмёшь на руки, а распишешься за двести, и молчок!
Говоря это, он позвонил, живо вошёл хромой мужчина с пером за ухом в мундире заместителя. Начальник ему что-то прошептал и вместе с ним отправил поручика, прощаясь с ним:
– Иди, иди, моя душечка, веди правильный образ жизни и будь честным…
После небольшого истечения времени поручик и Мацей Кузьма оба вышли из дома при Долгой улице, а столяр, удручённый и униженный, не в состоянии сразу пойти исповедаться под фигуру Божьей Матери, полетел домой, чувствуя, как бы его кто гнал, думая, что весь свет знает о его позоре.
Поручик держал в руке те тридцать серебреников, на которые продал человеческую душу, а в совести его затверделой не отозвались даже на мгновение угрызения, клял потихоньку этого пана начальника, который его так вежливо и сладко на сто злотых ограбил, клял клерка, который из оставшихся ста ещё у него десять при выплате вырвал.
Девяносто оставшихся жгли ему руку зависимого пьянчуги. Правда, имел он в кабаках, где догадывались о его обязанностях, и кредит, и бесплатную рюмку водки, но этого не хватало падшему распутнику, который жаждал лакомств, чувствуя хоть грош в кармане.
В душе его происходила ужасная борьба. Родительская любовь, единственное чувство, которое, как искра, сохранялось в этом пепле, говорила ему, приказывала, чтобы эти деньги, которые зарабатывались двойной работой для его содержания и учёбы, отнести Юлку. Зависимость гнала его в шинку. Знал себя хорошо поручик и знал, что раз туда зайдя, не выйдет, пока последний шелонг не пропьёт, боялся сам себя. Хотел бы встретить как можно скорей сына, чтобы ему отдать эти деньги, потому что пустившись в дорогу к дому, чувствовал, что перед первым винным баром поддастся искушению. В этом падшем существе было ещё что-то, что связывало его с миром: он любил сына и для него одного он был способным от себя на жертвы. Он начал думать, где бы его мог найти и вернулся через Белянскую, желая его искать при Академии, около которой его в то время находил. Он даже думал взять извозчика, с тем чтобы уверенней доехать до места, но дрог на бирже не нашёл. Поэтому пошёл пешком.
В нескольких шагах перед ним шли две женщины, несущие тяжёлую корзину белья. Идя за ними, поручик услышал голос, который его очень поразил; ему показалось, что это был голос его жены, но что бы ей тут делать ночью и с этой тяжестью? Он сократил расстояние. Привыкший к подслушиванию, он из нескольких слов убедился, что женщины возвращались из прачечной, что одной из них была, действительно, его жена, а другой – горничная. Его это удивительно тронуло, так как корзина эта содержала намного больше белья, нежели его было в целом доме. Эта вечерняя экспедиция начала его беспокоить, разные мысли приходили ему в голову, в конце концов, когда доходили до поворота, поручик, не в состоянии выдержать, выбежал вперёд и громыхнул:
– Стой! – остановил он жену.
Женщина так испугалась, что корзина выпала из её рук и часть белья высыпалась на землю.
– Я ловлю тебя на деле! – воскликнул он. – Что это? Куда идёте? Какое это бельё? Говори мне сразу или…
Женщина, вчера такая отважная, сегодня казалась испуганной, хотя совесть её ничто смутить не могло. От поручика мало можно было извлечь на нужды дома и детей, бедная жена работала украдкой, чтобы иметь грош на воспитание сына и дочки. Таилась она оттого, что знала, что муж либо ничего бы ей уже не давал, либо и то, что ещё имела, вырвать или выкрасть сумел бы. Открытие её скудного дохода испугало её, она долго стояла молчащая, потом начала объяснять, запинаясь, несуразно, плача в ответах и утверждая, что больной соседке относила работу, за что та ей что-то там сшить или отработать собиралась.
Трудно понять, почему поручик в этот раз не был настойчивым, не слишком догадливым, выслушал всё, покивал головой и сказал, приближаясь к жене:
– Юлек устанет учиться и ещё зарабатывать, а он молодой, ой, – добавил он, – я немного там достал денег, но чтобы ты полностью мне отдала Юлка! Слышишь? Потому что он больше мне нужен, поклянись же мне…
Женщина, которой это всё как бы казалось счастливым сном, тронутая, мурчала всевозможные горячие просьбы, какие знала, вытягивая руку к поручику.
Но когда пришлось вырвать у него эти деньги, заново началась борьба с его душой. Хотел сначала отдать всё, потом сохранил для себя один бумажный рубль и полрубля мелкими, потом потребовал три рубля, потом сохранил тридцать злотых, пока жена, заметивши это колебание, почти силой не выхватила у него четыре трёхрублёвые бумажки, пряча их как можно быстрее. Муж сперва хотел бороться, но опомнился и крикнул:
– Отдай же в руки Юлка, слышишь!
Женщина, уже ничего не отвечая, схватилась за корзину и, не смотря, что с ним делается, дав знак Кахне, поспешила к дому.
Поручик стоял долго как вкопанный на тротуаре, был кислый и злой, что ему не осталось больше десяти злотых. Что делать с десятью злотыми, когда были такие планы на прекрасный ужин в приличном ресторане? Он облизывался от мысли съесть каплуна и полить его доброй мадерой, на это теперь уже хватить не могло; проклиная жену, потому что привык её во всём обвинять, медленно пошёл с решением воздержаться от еды, но обильно принять хорошее вино.
Сделав решение выбора трактира, поручик ещё высчитывал, как бы посильнее напиться на эти десять золотых. Ибо он чувствовал, что в этот раз жена упрёков строгих ему делать не будет. Первоначальная мысль напиться вина уступила гораздо более практичной дегустации водок и ликёров у Липкава. Потому что издавна поручик убедился, что вино – это романтика, а водка – реальность.
Быстрым шагом он вернулся назад, пробежал часть Долгой улицы и вбежал на Медовую. Заведение у Липкава, напротив Апелляционного суда, известно всем, кто когда-либо у ворот святыни справедливости должен был выжидать назначенного часа. Выбор этого места доказывает точный инстинкт предпринимателя, но даже в часах, в которых суды и канцелярии бывают закрыты, Липкав имеет своих верных последователей и установленную репутацию. Поручик нашёл тут ещё более десятка ужинающих особ, а так как по большей части это были порядочные люди, он как-то устыдился в ту пору пить так одну водку. Он велел себе что-то подать, а тем временем под разными видами ловко подходил к буфету и всё из другой бутылки требовал рюмку. В один из таких переходов от столика к бутылкам ему бросилась в глаза физиономия старого человека в скромной одежде, который что-то ел в стороне и внимательно к нему присматривался. Как это часто после долгих лет невидения случается, поручик чувствовал, что где-то видел этого человека, а вспомнить его не мог. Видимо, также этот господин не был уверен, имел ли перед собой знакомого, но пристально за ним наблюдал.
– Какого черта, Преслер или нет? – отозвался, наконец, голос со столика.
– Это в самом деле я! – сказал, отворачиваясь, поручик. – Пан полковник?
– А ты что тут делаешь? Я был уверен, что ты где-то уже лет двадцать гниёшь в земле.
– А! Ещё нет, – сказал с великим смирением и как бы пристыженно поручик Преслер. – Давно уже черти должны были бы взять меня, но предпочитают мучить живого.
– Ну, что же с тобой делается? С того времени, как тебя выгнали из армии, что делал?
– А что? Пане полковник, бедность я ел и бедность меня ела. Как спешно несправедливо прогнали меня из полка, а потом уже нигде человек места нагреть не мог. Забавлялся разной промышленностью, торговлей, и так, так жизнь скромно прошла. Ещё, вдобавок, нужно было человеку жениться, и сварливая баба и двое детей на шее.
Старый человек, которого Преслер называл полковником, поглядел на него с сожалением, молчал, долго думал, исподлобья к нему приглядывался, и сказал тихо:
– Гм, то-то, наверно, муштру и учения ты, должно быть, полностью забыть?
Эти несколько слов произвели на Преслера странное впечатление, ещё минуту назад он был в душе старым солдатом, двусмысленные эти слова припомнили ему, что он был шпионом. Он почувствовал в них какой-то запах подозрения и шибко ответил:
– Ну нет, пане полковник, человек, который однажды в армии научился этому, не забудет.
– Однако это уж давно! – сказал полковник.
– Всё-таки, если бы сегодня понадобилось, – добавил таинственно Преслер, – ещё бы с винтовкой и штыком справился.
Полковник ничего на это не ответил, но задумался, потом вдруг спросил Преслера, не захочет ли он чего-нибудь выпить, угостил его и, вставая со столика, как бы случайно заговорил о жилье. Бывший поручик (который в действительности был только сержантом) немножечко смутился.
– Эх! Я стою там где-то в дыре, где бы там меня кто искал. Пусть только соблаговолит полковник поведать, где он стоит, и буду в его распоряжении.
– Спросишь меня в Саксонском отеле, – сказал он и поспешно вышел.
Брошенный вопрос, припоминание характера полковника и его известной славы патриота пробудили в Преслере профессиональный инстинкт; он думал, что может подвернуться случай выслеживания в этот раз чего-то более важного, чем среди ремесленной челяди. С жадностью дикого зверя, забыв даже о пьяных своих проектах, он выпустил полковника вперёд и выскользнул скоро за ним, выслеживая его шаги.
* * *
Комнатка, которую Юлиан Преслер занимал под чердаком рядом с отцовской, была подобна всем жилищам этого типа – имела одно окно, из которого небо, крыши и летающие ласточки только были видны. Довольно узкая и длинная, она вмещала в себе кроватку анахорета, столик студента и бедный инвентарь человека, который ещё ни в каком хозяйстве не нуждался. А вот что сказал Беранже о комнатах на чердаке: когда тебе двадцать лет, естественно быть в этом тесном уголке. Было в ней чисто, радостно и мило; какая-то поэзия молодости наполняла её и освещала. Как сам был Юлиан вокруг себя аккуратный, так и жилище его отмечалось непритязательным порядком, чувствовалось в нём спокойствие души молодого человека. Как в том гнезде беспорядка и шума могла эта молодая птаха, с улыбкой на устах и внутренним спокойствием в голове, воспитаться? Понять это было трудно, но родительская любовь творит чудеса, любила его мать, для него работая и стараясь дать ему такое, чтобы мог её уважать, ломался перед ним отец, скрываясь с зависимостями, с образом жизни и заработка. Появление Юлиана каждый раз вызывало тот же эффект, смягчало умы, сеяло согласие. Юлиан, обучаясь по большей части вне дома, очень плохо знал отца и мог его уважать даже издалека. В любом случае, Преслер был используем для таких второстепенных услуг, что его мало кто знал и догадывался о его несчастном призвании. В доме почти никогда о случаях, о делах страны речи не было, а мать в отсутствие мужа не жалела оскорблений для русских, которых на простом народном языке звала, как все – капустниками. Имела она к ним обиду за то осквернение мужа, которое душило её с каждым кусочком хлеба.
Известно, какой дух был в обществе всех научных учреждений в королевстве. Несмотря на тщательный подбор учителей боязливых либо безразличных, несмотря на невероятную бдительность и надзор, несмотря на присылаемые научные книги, фальшивящие историю и правду, молодёжь чудесно сохранила национальный дух. Нельзя это назвать иначе, как чудом. В школах Литвы, Волыни и Подола, в глубине Белой Руси студенты выходили, не зная польского, но наилучшими поляками. Объявлялся этот дух часто так очевидно, что должны были его жестоко карать, но это его только раздражало. До сегодняшнего дня на школьных скамьях стоят повырезанные детскими руками имена тех студентов, которые подверглись преследованию. Память их хранилась как реликвия мученичества. Эти памятные посещения школ при царе Николае, в которых этот Ирод издевался над детьми, в смелых взглядах невинности уже ища преступления, прошли как традиция сквозь много поколений студентов, вдохновляя их только на любовь к родине. Даже сыновья немцев и русских, дети полицейских должностных лиц, мальчики, родители которых жили милостями российского правительства, в связи с этим молодым, не испорченным миром проникались чувством чести и росли верными детьми Польши.
Таким образом и молодой Юлиан Преслер мог, не заражённый проступком отца, идти той дорогой, которою шла вся, без исключения, наша молодёжь. В её развити, в убеждениях были великие различия, возраст, темперамент, зрелость. Самые воодушевлённые были, без сомнения, те, что ещё от земли не выросли, самые горячие были низшие классы, за ними шла Школа агрономов в Маримонте, Школа изобразительных искусств, студенты которой такую важную роль сыграли в последних выступлениях, наконец, Академия медицины. Студенты этой последней, которые были зерном будущей Главной школы, оживлённые горячими чувствами привязанности к стране, показали наибольшую сдержанность и умеренность. Не отстранились они от народа, но становились часто как консервативный элемент в выступлениях, которые слишком быстро толкали вперёд. Ту более зрелую роль они сохранили до конца.
Маримонт и Школа изобразительных искусств шли горячим фронтом, медики, не отступаясь, регулировали этот марш здравым смыслом и рассудительностью. Влияние их на население города, до тех пор, пока управлять им было можно, было очень большим. Не раз челядь и простой люд приходили с ними советоваться и, что удивительно, слепо шли за их советом. Не было отступлений, были доказательства преданности, следовательно, очень осторожное действие приписывали убеждениям, не считая его вовсе за зло.
Того вечера, когда поручик был у Липкава, Юлиан с тремя товарищами находился на совещании в своём жилище на чердаке. Легко догадаться, что там ни о чём больше не говорили, как о текущих событиях. Юлиан принадлежал к наиболее горячим, а его благородный характер, быстрая мысль и очень примерная жизнь добавили ему, несмотря на молодость, облик одного из лидеров академического круга. Трое других – сознательные, старшие и более медлительные, как раз обсуждали с Юлианом способ поведения в будущем. Преслер был того мнения, что следовало идти дружным и равным шагом с Маримонтом и Школой изобразительных искусств, предусматривал он уже, а скорее знал, о неизбежном взрыве, который рано или поздно должен был наступить. Старшие обманывались ещё той надеждой, что, в медленной борьбе вырабатывая дух и приготавливая средства, можно будет отложить восстание. Главным и очень важным аргументом тех, что его сразу видели неподходящим, была необходимость в умиротворении и склонении на свою сторону сельского люда, частью нейтрального, частью враждебного всему, что сюртук носило. Насколько городской люд был готовым и требовал скорее сдерживания, чем добавления энтузиазма, настолько деревни показывали себя холодными и недоверчивыми. Но, с другой стороны, те, которых звали красными, утверждали, что само восстание будет наилучшей школой практического патриотизма для крестьян, что иного способа повлиять на людей никогда бы не допустила московская бдительность, а когда это действие было возможным, потребовалось бы такое долгое время, что в итоге взрыв необходимо было бы отложить на неопределённые годы. Горячих горожан сдерживали обещаниями разного вида, откладывая со дня на день, но в итоге роптали они, подозревали в измене, выходили из терпения. Этот энтузиазм жителей городов и среднего класса не был, как мы видим, вовсе придуманным, дали они доказательства такой преданности, такой настойчивости и мужества, что, может быть, пальма мученичества перед всеми будет принадлежать им.
Дебаты шли очень быстро, а положение умеренных, хотя были трое на одного, становилось всё более неприятным. Запал имеет в себе то, что побеждает самые логичные аргументы, потому что запал есть уже зародышом действия, когда рассуждения есть всегда ещё словом. Охваченные постепенно чувством Юлиана, его товарищи смягчались, почти устыдясь своего рассудка.
Ожидали ещё прибытия нескольких коллег, когда мать, вернувшись из города с деньгами, вырванными у отца, не в силах выдержать, побежала прямо к сыну, чтобы немедленно их отдать. Подойдя к двери, слыша внутри громкий разговор, она остановилась перед порогом и поневоле начала прислушиваться. Сквозь тонкую дверь проходил звонкий голос Юлиана, такой знакомый матери, такой милый её уху, что она наслаждалась им, как музыкой, Юлиан говорил:
– Братья! И разум, и осторожность есть прекрасные качества в здоровом ходе жизни, но напрасно ими хочу управлять в критические минуты, когда горячка ясновидящая и проще приводящая к цели. Вы будете иметь сто раз верность без эмоций, но вас самих победит и захватит моё безумие. Даже без той веры, какую имею я, я уверен, вы пойдёте за мной! Московское правительство называет это революционным терроризмом, а будет это только терроризм святого чувства, которому ничто противостоять не может. Приходят такие минуты, в которых и человек, и народ могут превознести геройскую смерть над униженной жизнью, тогда, как инстинкты самосохранения содрогаются могиле, дух с радостью к ней раскрывает крылья.
Слушая эту речь, которой ухватила только главную мысль, мать вздрогнула, залилась слезами, взор её с отвращением упал на деньги, которые несла, и она убежала с ними в свою комнату, вся заплаканная, заламывая руки. В этой женщине, которую раздавили жизнь с ничтожным человеком, бедность и работа, отозвалось какое-то чувство, зажжённое любовью к ребёнку. Она припомнила себе борьбу за эти гроши с мужем на улице, происхождение этого заработка, и бумажки, которые несла с такой радостью, бросила на стол с презрением. Но сию минуту пришла на ум тяжёлая работа бедного Юлиана, необходимость облегчить ему, уверенность, что он не знает, не догадывается, откуда пришли эти проклятые деньги и оплатой чего они были. Она вбежала повторно и с поспешностью постучала в дверь Юлка.
Юноша её вовсе не ожидал; потому что она не имела привычки приходить в этот час, а так как ожидали прибытия товарищей, голос изнутри дал только знак войти.
Мать приотворила дверь, но ещё раз устыдилась чего-то, колебалась, и вернулась снова вниз. Подумала, что сделает гораздо лучше, меньше будет нуждаться в объяснениях, когда деньги непосредственно через сестру отошлёт брату.
Девочка, которую вчера мы видели спящей так спокойно, сидела теперь над работой у окна. Была она не менее красивой, чем брат, хотя что-то в её чертах напоминало немного отца, но великая привлекательность молодости придавала её личику, свежему, белому и румяному, очарование весеннего цветка. Мать, поцеловав её в лоб, шепнула несколько слов и отправила наверх. У Юлка был большой переполох, этот стук и наполовину открытая дверь велели бояться подслушивания, но Розия, которая в ту минуту вбежала с улыбкой, успокоила страхи. Они поняли, почему так трудно было несмелой девочке очутиться с тем посольством среди разгорячённой молодёжи. Когда она вошла, Юлиан сильно задумался над происхождением этого материнского подарка, но на столе были более срочные дела.
– Мы говорили о взносе, – сказал Юлиан, – на первые необходимые дела, вот в пору, словно с неба, падают мне деньги, которые мне вовсе не нужны и я делаю из них очень охотную жертву…. пусть это будет жертва вдовы в народную казну. Crescite et multiplicamini![1] – добавил он, бросая на стол бумажки с улыбкой.
А через мгновение, подняв руку вверх, торжественно сказал:
– Братья! Пусть живёт Польша! Пусть погибнут её враги!
* * *
На следующий день в сером сумраке Мацей Кузьма, которому этот день казался веком, стоял заранее под фигурой Матери Божьей напротив Благотворительности. Он постоянно осматривался, беспокойно молясь в действительности, чтобы ему Господь Бог скорее послал избавителя, который бы успокоил его тревогу.
Через мгновение, услышав неподалёку покашливание, он обернулся и увидел блондина, который кивал ему с тротуара. Они вместе пошли улицей, хорошо оглядываясь, чтобы никого не было за ними.
Мацей рассказал слово в слово всю свою историю, добавляя к ней, что ему обязательство, на него возложенное, казалось невыносимо тяжёлым.
– Мой брат, – сказал блондин, – ничто не приходит легко, вы уже принесли большую услугу, занимая это место, которое другой, действительно опасный человек, мог получить.
– Но смилуйтесь, – прервал Мацей, – как я дальше из этого выйду? Пошлют меня, прикажут что-то доносить, что я им скажу?
– Слушай, – сказал блондин, – и мы также имеем неплохую полицию, мы знаем, что делает правительство, знаем агентов, которых оно использует для подстрекательства населения и вылавливания этим способом горячих. Мы укажем тебе этих правительственных фальшивых братьев, ты будешь на них доносить и сделаешь им ещё услугу, потому что ты засвидетельствуешь о их рвении. Мы же через тебя будем удерживать, где необходимо, остерегать потихоньку честных людей, чтобы тем крикунам не верили.
– Сегодня, дорогой пане Мацей, в кабаке при Граничной улице соберётся очень много подговорённых московскими агентами, а полиция, когда все соберутся и лучше шуметь будут, собирается окружить дом и выбрать тех, на которых укажут предатели. Идите же сейчас к тому кабаку, ничто вас не остановит, потому что уже карточку свою имеете, во время, как челядь будет собираться, предостерегайте, чем это пахнет. Если бы немного шпионов перетрясти хотели, ничем бы это не повредило. Вы узнаете их по тому, что на спине они будут иметь понаделанные белым мелом кружки.
Получив такую инструкцию, Кузьма усердно поспешил на Граничную улицу. Кабак находился, как обычно, в низине и был избой очень обширной, но вовсе не изысканной.
Хозяин, немец, был очень подозрителен на шпионаж, что ему вовсе не мешало в многочисленных собраниях кричать: «Фифат! Фифат, паны поляки!» и говорить о лупимой ойшисне.
Когда Мацей пришёл, он застал только четырёх или пятерых совещающихся в уголке и убедился, оглядев их, что все имели кружок на спинах. Они ожидали уже плод своих работ.
Мацей, велев дать ему пива, выбежал как можно быстрей в сени, желая встать на страже и предупреждать прибывающих, но едва выскользнул, когда нос в нос встретился с поручиком, который тоже сюда направлялся. Он направил взор на его спину, кружка ещё на ней не было.
Поручик очень изумился.
– Кто тебя сюда прислал?
– Кто? Никто. Я сам пришёл.
– Сам? Ну, дьявольский у тебя нос, но не будьте так уж уж усердны, потому что из этого ничего не выйдет. Поскольку, однако, ты пришёл, иди со мной, я тебе расскажу, что ты должен делать.
Мацей почувствовал себя парализованным, трудно ему уже теперь было отыграть свою роль. Они прошли тёмной сенью, в которой никого не было, а когда поручик первым переступил порог, Кузьма с удивлением увидел на его спине большой круг, немного только с поспешностью и неправильно наложенный, когда и как, он не мог отгадать.
Кузьма не много слушал, что ему говорил поручик, огляделся только, посмотрел всем на спины и не знал, что начать, видя всё большие толпы наплывающих работников. Между ними с большим удивлением он заметил того самого блондина, который недавно давал ему инструкцию, побежал он, таким образом, как можно живей, к нему, чтобы объяснить своё положение. Блондин уже обо всём знал и отослал его к дверям. Было большим счастьем для Кузьмы, что ему его физиономия хорошо врезалась в память, потому что парень сменил одежду, даже немного испачкал лицо и выглядел на простого челядника.
Когда внутренность кабака очень быстро заполнилась приходящими ремесленниками, в его дверях, не замеченная почти никем, произошла сцена, которая не продолжалась и пяти минут.
Кузьма, стоящий на пороге, увидел молодого, очень красивого юношу, кототорый показался ему переодетым, входящего несмело в кабак; в момент, когда уже собирался переступить его порог, как раз подходил в ту сторону поручик. Молодой человек только тихо вскрикнул: «Отец!» и очень живо отступил. Был это Юлиан, который испугался, как бы отец его, Преслер, не узнал.
Посмотрев на спину, Кузьма остановил его и, указывая Преслера, быстро сказал ему на ухо:
– Видишь? Тот в шляпе, с усами, кружок на спине, называют его поручиком, это шпион, это московский шпион!
На эти слова Юлиан, которого Кузьма задержал за руку, крикнул каким-то отчаянным голосом, закрыл себе глаза и, как поражённый молнией, выбежал, бессознательный, на улицу. Что происходило в сердце молодого человека, описать невозможно, ужас, боль, безумие были так велики, что, как сумасшедший, летел он, убегая от того места, в котором этот удар его застал. Прохожие могли его принять за беглеца из сумасшедшего дома, либо преследуемого вора. Он не знал, куда и как шёл, спотыкался, падал, поднимался и, болезненно стоная, запыхавшийся, розгорячённый, пробежавший огромное пространство без передышки, оказался он во дворе на Дзеканке. Пролетел через лестницу, не отворил, а почти выбил собой дверь и упал, утомлённый, у ног испуганной матери.
Женщина так ужаснулась, когда увидела его, чувствуя, что любимому ребёнку что-то угрожает, что, прежде чем спросила его, она отозвалась страшным стоном. Юлиан лежал полуживой, а носом и ртом у него текла кровь.
Он был в таком состоянии, что из него слова выпытать было невозможно. Заплаканная мать опустилась перед ним на колени, сама не ведая, что начать, попеременно догадываясь то о каком-то случае, инвалидности, то о чём-то чрезвычайном, что её ум угадать не смел. Она далёкой была от правды, догадывалась, что он был преследуем вместе с другими академиками, кровь, текущая из уст, казалось, говорит о каком-то ударе и насилии. Вместе с Розией обливали его водой, а мать будила самыми лучшими словами, Юлиан, однако, не говорил ещё, только стонал, и, открыв глаза, с каждым разом, словно усстрашённый тем, что видел, спешно закрывал их. Через минуту ожидания и наилучших напрасных усилий Розия, по собственного умыслу, побежала к соседнему дому за доктором. Был это молодой, лишь около года проживающий в Варшаве израильтянин, известный как один из ревностных работников по приобщению до этого изолированного от общества племени, которое имело право и обязательство заботиться о гражданах Польши. Доктор Майер, по счастью, был дома, знал близко Юлиана, потому что тот в одной из специальных клиник заменял переводчика. Розия рассказала ему, как было, что Юлиан вернулся задыхающийся, бессознательный, очень уставший, упал, ртом и носом бросилась кровь и слова от него нельзя было добиться. Майер сразу догадался, что в этом должно быть что-то таинственное, и поспешил на помощь. Он нашёл молодого человека ещё растянутым на полу и мать над ним, кричащую в отчаянии. Он уже знал обо всём, не спрашивая, поэтому, хотел изучить состояние Юлиана, с тем чтобы сделать из него какой-то вывод. Но учащённый пульс, раздражённое лицо, кровь, которая бежала у него по груди, означали только сильное утомление и свидетельствовали о потрясении. Услышав голос доктора, Юлиан, словно заново испуганный им, содрогнулся, вскочил, сел, и, отвернувшись, пытался прийти в чувство. Тревога, лишь бы кто-то чужой не догадался о страшной тайне, придавала ему сил. На вопрос Майера он решил солгать и поведал ему, что гнались за ним казаки, что чуть в их руки не попался, и этот спешный бег, смешанный со страхом, был причиной болезни.
Но эта быстро выдуманная ложь не имела ни малейшего характера вероятности; ни лекарь, ни мать не поверили ему, только оба поняли, что Юлиан, видно, причины происшествия рассказать не мог. Лучший знаток людского седца и страданий человека, Майер понял и то ещё, что причина тревоги и беспокойства не была устранена. Уважая всё же тайну Юлиана, убедившись, что кровопускание не было обязательно нужным, прописал отдых, какой-то охлаждающий напиток, и ушёл. Когда остались с матерью с глазу на глаз, ибо Розия побежала в аптеку, попрбовала она урвать хоть слово из закрытых уст сына, но вперёд только слёзы извлекла, говорить он ещё не мог, боясь так убить мать, как сам был убит; он не знал, что она много лет жила этим ядом. Напрасно она старалсь самыми нежными ласками получить признание; забывшись немного, вырвалось у него только из груди, повторенное несколько раз: «Отец! Отец!»
Это слово облило кровью лицо женщины, она уже почти обо всём догадалась. Объяснилась ей отчаяние сына.
– Говори, ничего не тая передо мной, – сказала она ему. – Тебе будет легче, когда пожалуешься, всё дело в отце, может тебе что про него поведали? Он имеет столько врагов! Я прошу тебя, скажи мне.
Но Юлиан собраться не мог с силой признаться даже перед матерью.
Несколько тяжёлых часов пробежали так в стонах, слезах и ожидании; в конце концов Юлиан, немного успокоенный, ни в чём не желая признаваться матери, пошёл наверх с мыслью ожидания возвращения отца. Комната поручика была отделена от его комнатки тонкой стенкой так, что он мог вычислить его возвращение.
Когда это происходило на Дзеканке, в кабаке при Граничной улице также живо приготавливалась сцена. Нужно было знать горячий нрав варшавской ремесленной челяди, чтобы понять, как трудно её сдерживать в проявлениях патриотизма.
Хотя и Кузьма, и несколько переодетых академиков остерегали большую часть приходящих о шпионах, которые уже были узнаны, и о собирающемся вторжении полиции, шумные и громкие разговоры и выкрики показывали нетерпеливость этого люда, который рвался к действию. Люди более сдержанные, больше размышляющие, расточающие запал на слова, легче выдерживают ожидание, люд, весь одержимый чувством, должен прямо переходить от чувства к действию. Ремесленники, не занимаясь политикой, не считая, не беспокоясь о завтрашнем дне, хотели борьбы ради самой борьбы, хотя бы даже без победы. Речь шла о той минуте, в которою бы отомстили за постоянные унижения, а потом? Хотя бы смерть!
Такой великой преданности без какой-либо надежды на результат не годилось принимать, но также невозможно было её остановить, потому что запал рос с каждым днём; а когда те честные сыны страны требовали себе смерти, упрекая в трусости тех, кто её боялся, было ли средство показать им опасность и бесполезность жертвы?
Среди самых горячих требований организации, оружия, командующих, к тем шумящим кучкам пришла новость о находящихся шпионах, и началось совещание о способе быстрее с ними расправиться, пока бы не пришла полиция.
В одно мгновение организовали это экстренное правосудие. Нескольких младших расставили на карауле, чтобы вовремя дали знать о приходящей вооружённой силе, более сильных же вызвали на то, чтобы отмеченных кружками разделить, окружить и в ссору ввести.
Когда поручик попивал спокойно пиво, к нему подошёл страшный здоровяк, который сел у того же столика и начал с ним беседовать. Поначалу была она ничего не значащей, но незнакомец начал себе позволять такие шутки, что Преслер, который уважал в себе опору трона, начал уже гневаться.
– Дорогой мой, – сказал этот высокий мужчина поручику, – я чувствую, что ты должен был где-то служить в войске.
– Может, вы правы, но я попросил бы меня не касаться.
– Почему, дорогой мой?
– Потому что так близко мы не знакомы.
– То, что ты меня не знаешь, это с твоей стороны очень большой грех, ты должен знать всех таких, как я.
– Для чего?
– А пощупай-ка карманы, у тебя, наверно, там карточка?
– Что за карточка?
– Я уж тебе этого не говорю, потому что знаю, что догадаешься. Но слушай-ка, сегодня это тебе плашмя не пройдёт, чтобы ты сюда влезал. Следовательно, выбирай: предпочитаешь двадцать палок, или чтобы я тебе на лбу смолой написал, кто ты?
Поручик сорвался со стула и хотел к дверям, но почувствовал, что его держат сзади, взялся за трость, но не мог действовать руками, собрал сколько хватило силы, зовя на помощь, но в ту же минуту та же операция проводилась с несколькими его товарищами и подчинёнными. Каждый думал о себе. Преслер оказался в руках нескольких сильных челядников, которые страшно начали его лупить. Почти с отчаянием, думая, что для него уже пробил последний час, заслонялся руками, падал, катался по полу, пытаясь, на сколько ему позволяла память, приблизиться к дверям. Однако не скоро, сильно побитый, он спрятался в сенях и, не смея выбежать на улицу, скатился по ступенькам в подвал, где его уже кто-то опередил. Он просидел там в молчании, не смея испустить вздох, пока всё не утихло.
После избиения шпионов вся ремесленная челядь рассыпалась так быстро, что, когда прибежала вооружённая сила, которую заранее вызвал хозяин-немец, никого уже не было, кроме двоих наиболее побитых в комнате, и Преслер с незнакомым товарищем в тоннеле подвала.
Самым забавным из всего было то, что агенты полиции никого из виновных по фамилии назвать не могли, потому что их не знали. Даже хозяин-немец который охотно бы указал нарушителей спокойствия, клялся, что ни один из сегодняшних гостей не принадлежал к тем, кто обычно тут присутствовал. Были это, по-видимому, рабочие из других районов города, умысленно в ту экспедицию отправленные.
Когда Преслер, хорошо осмотревшись, вылез наконец, из своего приюта и вошёл в опустевшую баварию, чтобы там поискать потерянную шляпу и чем-нибудь подкрепиться, застал уже на поле боя одну полицию, пострадавших и хозяина в шапочке, жаловавшегося на тех беспокойны поляки.
Преслер был больше похож на привидение, чем на живого человека, бледный, в синяках, испуганный и гневный. И он также не мог назвать ни одной фамилии. Таким образом, это было бесспорное поражение полиции. Избитые и целые утешались водкой, которую обильно доставил немец, испуганный судьбой своего заведения, совещаясь над рапортом, какой собирались составить, чтобы утаить своё поражение. Поручик, позаимствовав шапку, ибо его разодранная наполовину шляпа была похожа на дохлую летучую мышь, медленно двинулся к дому, тяжко вздыхая над перебитыми костями. В этот раз даже обильно поглощённая водка на его голову никакого влияния не имела.
Хотя в несчастном своём положении его встречали различные обстоятельства, в первый раз, однако Преслер был, по-видимому, так конкретно и больно наказан. Итак, глубоко размышлял он над всё более чёрно выглядящей будущностью, но полученные удары также пробудили в нём гнев и заядлость. Он хотел отомстить виновным этого покушения, которые посмели такого высокого чиновника поколотить.
– Я им дам, я их научу! – бормотал он всю дорогу. – Я им этого не прощу, раскрою, найду, и будут они болтаться, как я Преслер, как я Преслер, будут болтаться панычи.
Он отметил себе несколько выразительных физиономий, а особенно того высокого верзилу, которого он считал за первую причину всего скандала.
– Уж, пожалуй, жив не буду, или он под землёй скроется, если бв я его в Варшаве не нашёл, а потом, когда эту шельму повесят, рассчитаюсь уже с ремеслом. Лишь бы бы только Юлек вышел на доктора, пусть их черти возьмут, служить не буду, стану честным человеком; потому что тут такие опасные вещи, что человек и в жизни не уверен никогда.
В этих мыслях, немного раньше, чем обычно, и более покорный, чем привычно, вошёл потихоньку в комнату. Жена узнала его по походке и живо побежала к нему.
– Говори, – закричала она, – что сделал Юлку, говори, преступник! Ты же готов собственному ребёнку камень привязать на шею.
Она двинулась на него, с такой импульсивностью хватая его за горло, что поручик, и так уже ослабленный, пошатнулся и отступил.
– Говори, что сделал Юлку!
– Но я Юлка в глаза не видел, сумасшедшая женщина! Что же с ним случилось?
Но из-за слёз и отчаяния несчастной матери трудно было что узнать. Поручик повторил, напуганный:
– Где же Юлек? Что с Юлком?
Розия, которая прибежала, с многословием ребёнка, из которого ещё полностью не выросла, начала быстро говорить:
– Папочка! Юлек вернулся домой как безумный, кровь у него текла ртом и носом, мне пришлось идти за паном Майером, который ему прописал какое-то лекарство. Лишь недавно он чуточку успокоился и пошёл в свою комнату.
Поручик, который так любил сына, что для него всем бы пожертвовал, побледнел и испугался.
Собственное страдание уже почти полностью вышло из его памяти, тревога за сына преодолела её и победила.
– Юлек! – воскликнул он. – Юлек болен! Но чем же я в том виновен?
– Ты во всём виновен! – крикнула мать. – Страдаем из-за тебя и с тобой. Юлек ничего мне рассказать не хотел, но несколько раз у него случайно вырвалась как бы жалоба на тебя. В том есть твоя работа, недостойный человече, говори, говори, что ты ему учинил?
Поручик, тронутый болью, не мог понять, что произошло, не понял этого нападения, но страх за сына не позволил ему дольше тянуть эту неопределённость; не слушая жены, которая за ним бегала, сетуя, полетел наверх прямо в комнатку сына; отворил дверь и вдруг подбежал к постели, на которой лежал бледный Юлек. Мать направлялась за ним.
Сын, как только увидел отца, со всей силой вскочил, видно было, что его немного лихорадило, подступил к входящей матери и сказал ей мягко:
– Прошу тебя, оставь нас одних.
Минуту поколебавшись и выразительно посмотрев на мужа, послушная мать уступила, но беспокойно, потому что не ушёл от её взора пистолет, лежащий на постеле Юлиана.
В голове поручика кипело и переворачивалось, какая-то странная тревога схватила его за сердце в присутствии собсобственного сына.
Юлиан, не будучи спокойным, был, однако, немного успокоенным и господином себе. Когда мать вышла, он закрыл за нею дверь на ключ.
– Вы слишком хорошо воспитали меня, отец мой, – сказал он медленно, – чтобы я не знал, что от меня причитается родителям. Я знаю и то, что ни ребёнок за родителей, ни родители за ребёнка перед справедливым судом Бога и людей ответить не могут, но само Божье право так связало семью, что любой, кто затрагивает одного из её членов гордостью либо позором, отражается на всех. Отец, скажи мне, неужели мне отнять у себя жизнь от отчаяния? Правда ли то, что меня сегодня чуть не убило?..
Юлиану не хватило мужества, поручик обо всём догадался, а любовь к ребёнку вдохновила его какой-то неограниченной наглостью.
– Что? Что правда? Говори!
Юлиан ещё колебался.
– Говори мне сейчас.
– Ты служишь правительству?
– Я? Правительству? Я? Кто же тебе это сказал? Я? Старый военный! Который за отчизну кровь проливал! – он ударил себя в грудь.
– Откуда же эта клевета? Кто смел её бросить, говори, чтобы я ему язык выдрал изо рта. Кто тебе это рассказал?? Кто! Кто? Кто?
Поручик говорил это с такой горячностью, так хотел сына обмануть и так отчаявшемуся ребёнку выдал себя возмущённым, что Юлиан, страшно побледневший, со сложенными руками, пал перед ним на колени, а потом лицом на землю, обнимая его ноги.
– Отец! – воскликнул он, тронутый. – Прости! Прости! Забудь! Дело о тебе, о всех нас. В тот миг, когда поднимется отчизна, услышать такие обвинения есть смертным приговором. Признаюсь тебе, я не мог бы выдержать осквернение нашего имени. Смотри! Вот заряженное оружие, я хотел лишить себя жизни.
Поручик едва держался на ногах, но боязнь за сына прибавляла ему сил на героическую ложь.
– О! Люди, – воскликнул он, – кого ж этот злобный язык не коснётся! И меня? И меня? Что сражался за страну, что, преследуемый, переношу нужду, меня смели заподозрить.
Тут он остановился и внезапно спросил:
– Где же? Кто тебе это поведал?
– А! Не знаю! Не знаю его! Этот преступник указал мне на тебя рукой и дважды повторил: «Это шпион»…
Поручик ужасно возмутился, ходил по комнате, сетуя, проклиная, клянясь перед сыном, что это была наиотвратительнейшая клевета.
Добродушный Юлиан думал только, как бы отца убаюкать и успокоить. Он ходил за ним, целовал ему руки, извинялся. Преслер первый раз в жизни играл так хорошо комедию, что его в ней заподозрить было нельзя, сын клялся, что если бы второй раз встретил человека (лица которого по счастью не видел) жизни бы его лишил.
Так окончилась эта сцена между отцом и ребёнком, но, взволнованный ею Преслер, хоть боялся жены, пошёл ещё к ней. Лгать перед ней было нельзя, она всё знала.
– Слушай, – сказал он, бросая на неё огненный взгляд, – знаешь ты что или нет?
– Я говорила тебе, что ничего не знаю.
– Юлиану какой-то дьявол рассказал, что я шпик, Юлиан хотел себе в голову выстрелить! Я его успокоил, поклялся, смотри же, женщина, чтобы он ничего не проведал! Я у тебя жизнь вырву!
Жена оттолкнула его с презрением.
– Молчи! – сказала. – Ты не имеешь права никому из нас угрожать, никому делать упрёков; ты же такой падший, что ни отцом в доме, ни мужем не годен называться; ты же продажный московский слуга! А если когда на нас падёт месть Божья, то это за тебя. Не угрожай, молчи, иди и пей свой позор.
Говоря это, она отсупила от него и медленно пошла в комнатку сына. На небе взошла луна, Юлиан отворил окно и, успокоенный, почти счастливый, смотрел на прояснившиеся своды, наполняясь весенним воздухом. Это смотрение на Божий свет было для него молитвой. Только мгновениями воспоминание событий, думы, что кто-то был на свете, кто смел это страшное обвинение его отцу учинить, омрачало его лицо; он почувствовал мать близко от себя и улыбнулся ей, дабы успокоить.
– Идите спать, – сказал он, – мне уже хорошо, мне уже ничего, будьте спокойны! Я счастлив!
* * *
В первые дни после описанных событий поручик ходил вдвойне – морально и физически – удручённый, его пыл значительно убавился, он не брался так горячо, как прежде за своё ремесло, исполнял его с неохотой, можно было думать, что хочет отказаться. Но кого однажды своими когтями эта сатанинская сила схватит, того из них так легко не выпустит. Позванный, он должен быть послушным, припоминались также полученые удары и месть питала, а память испытанного страха с Юлианом медленно расплывалась. Пил только снова, больше, чем раньше, и возвращался домой молчащий, хмурый, бессознательный, жена толкала его на кровать с презрением и чаще спал даже не снимая одежды. Лишь к утру пробудившись, украдкой её с себя стягивал.
Но по истечению некоторого времени, всё вернулось на старую колею.
Поручик был старым Преслером, а какая-то полученная премия пробудила в нём понемногу притёртое рвение.
Он забыл было полностью о полковнике, с которым встретился у Липкава, и о шпионаже за ним, когда через пару недель столкнулся с ним на улице.
– Что же ты так исчез? – сказал ему полковник.
Обычная отговорка пришла на уста Преслеру, он сказал, что был болен несколько дней.
– Что-то ты так же и бедно выглядишь, – добавил старый вояка, – если бы когда пришёл ко мне, как бы мы ширше поговорили, может, я тебе на что пригодился бы, а ты – мне…
Преслер поклонился и решил воспользоваться приглашением.
Словечко о полковнике.
Был это солдат с 31 года, один из тех редких людей, которых тридцать лет страданий и размышлений не остудили в деле страны. Нет необходимости настаивать на огромной разнице двух революций, разделённых между собой более чем четвертью века; если бы первая из них имела дух второй, либо вторая – те материальные ресурсы, какие служили первой, Польша была бы уже свободной. Когда из сегодняшнего нашего положения мы смотрим на революцию 31 года и сравниваем её с сегодняшней, бросается нам в глаза неслыханный прогресс, усиление духа, единство, каких в то время не было, самоотверженность гораздо более общая и дальше идущая. Но также само начало первой революции 31 года и её характер были полностью другими. Там во главе стояли личности, единицы, здесь – безымянное общество, там народ шёл проложенной дорогой, повторяя чужие деяния, здесь – утверждается инстинктивно форма характерная действию, наша собственная, подходящая к обстаятельствам; там во главе стояло войско и шляхта, тут – средний класс, мещане, ремесленники, молодёжь, евреи.
В 31 году женщины из окон только бросали букеты, сегодня – полны ими Сибирь и цитадели. Разница чрезвычайно большая: Хлопицкий, Скжинецкий, Радзивилл, Круковецкий и т. д., сегодня – Цвек, Вавр, Крюк, Босак, Фриче, неизвестные имена, а отменного героизма. Там делали люди, тут – сотрудничало всё население, там были партии, здесь – единый народ, без разницы положения, религии, пола и возраста. Если бы мы писали историю, а не простой рассказ о повседневных событиях того времени, надлежало бы, указывая эту разницу, показать в то же время, что без кровавой и несчастливой пробы 1831 года, год 63 был бы невозможен. Теми ошибками первой революции мы очень воспользовались, годы страданий дали зрелость, воспользовались также и чужими опытами и прежде всего, скажем откровенную правда, мы не устыдимся признаться, что в руках людей разумных, опытных, серьёзных, все эти чудеса, которые сегодня происходят, были бы невозможны.
Нужно было слепой веры, сумасбродства неопытности и молодости, чтобы так броситься на сто крат более мощного врага и нанести ему такое тяжёлое поражение. Материально притеснённые, морально получаем огромную победу, срываем маску, показываем миру беспомощность той силы, перед которой недавно дрожала Европа. Всем этим мы обязаны единству, внутреннему согласию и повиновению, которое лишь бы до конца выдержать могло!!
Полковник Загребский, которого обычно молодёжь, любящая уменьшать и изменять имена, звала старым Загребой, был это храбрый солдат с 31 года, который ничего не забыл и многому научился. Хоть поседел, с переломом на теле, духом остался молод; постоянное общение с молодёжью, которую любил, удерживало его в той черствости, которая является даром избранных. Лет тридцать провёл он то в своей деревне, которую имел под Плоцком, то в Варшаве, то где было можно, за границей.
Падение первой революции надломило его, но не отняло у него надежду, он повторял песенку с 31 года:
То, что сегодня не удалось Может завтра получиться…Самое маленькое движение в Европе, каждая искорка надежды, тут же его воспламеняла, он прилетал в Варшаву, беспокойный, выясняя, что там делается и заставал чаше всего людей зевающих и удивлённых, что ему в деревне что-то смешное приснилось!!
Лишь в 1861 приехав в Варшаву, он безмерно обрадовался, обратив внимание, что намечается что-то более серьёзное. Затем приступил всем сердцем и душой к начинающемуся движению. Бездетный вдовец, он принял себе как сыновей всех ревностных работников освобождения, был их наставником, советником, часто кассиром и самым сердечным товарищем. Любили Загребу также как отца.
При чрезмерном энтузиазме полковник не грешил избыточной осторожностью, был немного фаталистом, часто повторял: кто должен висеть, не утонет, а кто должен жить, того червяки не съедят. В деле страны он вёл себя почти вызывающе, но ему очень счастливо везло. Когда другие окружались наизабавнейшими осторожностями, он лишь вёл себя по необходимости. Хотя во время, о котором речь, взрыв казался ещё далеко, молодёжь, однако же, горела, желая готовиться к нему, вырывала себе и переписывала книжечки о муштре пехоты, езде, повстанцах, о партизанской войне, мы ещё ни одного карабина не имели, когда деревянными ружьями молодёжь по пустынным углам училась пользоваться оружием. Естественно, для этих секретных муштр, для этих потаённых лекций Загреба был использован как учитель и помощник, но старик всё растущей численности своих учеников и их настойчивости охватить не мог. Он искал себе помощников и при первой встрече с Преслером думал его изучить и использовать для своей замены. На самом деле он не очень с ним обговаривал то, за что был выгнан из армии, но полковник плохо себе припоминал причину того наказания, ему казалось, что это был какой-то маленький проступок, который слишком сурово наказали. С людьми было тяжело, следовательно, он брал первого, какого нашёл под рукой.
Преслер ещё не догадался, для чего он мог быть использован, но каким-то предчувствием играл перед полковником роль великого патриота. Добродушный старик не обвинял никогда и никого во лжи того чувства, ему казалось невозможным, чтобы кто-то мог совершить подобное святотатство. Таким образом, не открываясь ещё полностью Преслеру, дал ему только понять, что его для чего-то можно использовать в общем деле. В первые минуты, когда об этом узнал поручик, он встревожился и вместе с тем обрадовался. До сих пор он имел только миссию выслеживания мелких вещей совсем незначительного веса, тут ему выпадал счастливый случай, который действительно много мог принести, но в то же время подвергал его огласки и опасности. Хотя распущенный Преслер сильно колебался, его отталкивала уродливость поступка, тревога за сына, который о нём мог проведать, но с другой стороны, если бы сохранялась тайна, мог много приобрести. Полковник в этот раз более осторожный, чем когда-либо, не имея от кого узнать о человеке, решил сам в это вникать, велел ему каждый день приходить к себе и понемногу с ним знакомился. Преслер не был ему симпатичен, он открыл в нём сразу пьяницу, но имел какую-то слабость к любителям и всегда утверждал, что склонность к алкогольным напиткам доказывает честность, потому что, кто имеет что скрывать, тот всегда боиться напиться.
В это время совещаний и проектов организаций, когда, несмотря на уже достаточно острые меры, принятые Москвой, всё сосредотачивалось и приводилось в порядок, однажды поздно ночью полковник, расставшись с Преслером, вышел в город. Хотя он вовсе ему не говорил о цели своей экспедиции, шпион легко догадался, что он шёл на какую-то сходку, и, не будучи ещё уверенным в пользе этого, из свойственного ремеслу интереса, потащился за стариком на расстоянии.
Скоро приобрёл он полную уверенность, что не ошибся, потому что полковник крутыми улочками пошёл к одной из больших фабрик, переделанной из старого костёла и монастыря. Это здание, расположенное достаточно отдалённо, оживлённое только днём, имело вид полностью заброшенный. Все ворота были закрыты, ни в одном окне не светилось, вокруг не было признаков жизни. Вдалеке стоящий Преслер услышал только стук и посчитал сколько раз и как ударили в дверь.
– Ого! – сказал он в духе. – Тут что-то есть!!
Но войти далее за полковником было невозможно. Преслер, притулившись к забору напротив и защитившись от людских глаз, остался на страже. Он видел, как ещё несколько особ стучали в те же ворота, тем же самым способом, потом, после нескольких часов ожидания, убедился, как все в молчании разошлись, и не зная ещё, какую из той новости вытянуть пользу, пошёл с ней домой.
Мы пойдём за полковником.
Перейдя пустой двор монастыря, который уже сегодня потерял характер, какой имел раньше, Загреба через сводчатые дверочки очутился в нижней зале, которая раньше была трапезной монастыря.
Архитектура, стрельчатые своды, узкие окна, рамы дверей напоминали ещё о бывшем её предназначение. Сегодня это был склад различных железных материалов, необходимых на фабрике. Они странно контрастировали в этом месте, некогда для тихих монашеских трапез предназначенном. Большая часть трапезной не была занята, в более свободные дни и вечера тут размещалась ремесленная школа, следовательно, были скамьи, стол и пара скромных ламп возле стен. Когда вошёл полковник, здесь уже находилось несколько особ. Были это, по-видимому, все люди среднего положения, но разных занятий и назначения. По чертам лица можно было узнать нескольких израильтян, в первый раз разделяющих работу и опасности своих братьев. Приносили они с собой в общую казну характерную для них хитрость и настойчивость, опыт в таинственно тихие дела, которыми среди преследований сохранялись на протяжении веков, пример великой сплочённости; и, наконец, материальные ресурсы, которыми не брезговали. Шляхта, которую трудно вылечить от давних суеверий, видя преимущества этого примера, принимая их, не могла, однако, до конца освоиться с той мыслью, что придётся, может, в преданности и рвении уступить не одному еврею. Нельзя отрицать, что поздно заключённое соглашение было с обеих сторон откровенным и сердечным, но чтобы стало реальностью, необходимы были ещё время и работа. Казалось, что будущее доделает этот труд, так торжественно начатый в дни второго марта.
Отец Серафим, которого мы немного знаем из первого романа[2], крутился тут, вытираясь с одной стороны о старого израильтянина в атласовом жупане, с другой – о протестанского пастора в чёрном облегающем сюртуке. Литовский татарин, прибывший специально из-под Трок, по-братски приветствовал другого ксендза, а крестьянин из-под Ловича жевал табак, который ему гостеприимно давал какой-то галисийский граф. Это был настоящий Ноев ковчег, в котором находилось по паре каждого создания; ковчег, из которого после потопа крови, может, когда-нибудь выйдет новый польский мир, а наше прошлое останется почётным допотопным мемориалом…
Ни этот энтузиазм, немного слишком вызывающий и кричащий, когда после конституции 3 мая Малаховский и Потоцкий шестиоконными каретами, с гайдуками и ливреей, ехали записываться в книги варшавского мещанства, ни братские обещания 31 года не сравнятся никогда значением и авторитетом со скромным, тихим фактом 63 года. За исклучением нескольких минут более громкого запала, всё тут отбывалось в тишине и тайне, которые были порукой искренности. Не могло ничего делаться на показ, потому что ничего не показывалось.
Одной, может, из наибольших жертв, на какие способен человек, были неустанные самопожертвования самолюбию: старшие шли под приказы молодёжи, заслуженные люди в народе с покорностью уступали перед незнакомцами, которые их превосходили запалом.
Не для того, что является нашим, но для святой правды во стократ следует признать, что никогда истории не представили подобной картины. Собираясь нарисовать хоть частицу её, мы чувствуем весьма сильно, как то, что нам кажется бессильным и недостаточным, может нашим внукам (ежели жить будут наши внуки) покажется преувеличенной апологией.
Найдутся даже сверх того люди, которые когда-нибудь, позже, обрисуют тёмные части этой картины, нам она кажется такой ясной и золотистой, пурпурной кровью и синевой надежды окрашенной, как те чудесные изображения, которые вдохновлённая рука благословенного Ангела из Фьезоле рисовала в моменты вдохновления. Как в одних, так в других почти нет теней, те же светлости. С трудом мы могли бы описать ту сцену под сводами старой трапезной, закиданной промышленным железом, где с одной стороны смотрело на собравшихся прошлое этих стен, с другой – настоящее, олицетворённое в рабочих принадлежностях, сцене братского согласия людей, которых единая цель собрала в этом месте. Разные были совещания, но легко остановились на нуждах организации, главные зарисовки которой они приняли. Эти разговоры не входят в рамки нашего романа, мы скажем только, что полковник, который в первый раз осмотривал это здание, а давно уже искал какую-нибудь залу, в которой бы мог безопасно муштровать нетерпеливую молодёжь, воспользовался этим вечером и выпросил себе разрешение и ключ от трапезной. Поскольку не было оружия и ждать его не хотел, палки и деревянные ружья временно заменяли винтовки и штыки. Место было уединённое, со всех мер безопасное, никто не мог догадываться о ночных сходках в пустой фабрике. Загреба ушёл вне себя от радости.
* * *
Если бы можно было просмотреть всю борьбу, какую в душе человека ведёт его склонность к плохому с остатками добродетели, а часто какой-то непонятный фатализм, гонящий к злу, который средние века называли дьяволом – эта драма души была бы в действительности горячо занимательней, чем все греческие трагедии.
Нет, наверное, человека, которому бы в жизни не приходили плохие мысли, но это – зёрна, которые рассеивает ветер, лишь плохое дело укоренит сорняк навеки. Как те тернии и чертополохи наших полей, которые, скашиваемые каждый год, с каждой весной возвращаются, так поступки какой-то тайной силой связывают человека со злом… Кто раз напился – будет пить, говорит французская поговорка.
Преслер вернулся домой, борясь с собой, то охваченный искушением воспользоваться этим открытием, то чувствуя к нему отвращение, то откладывая на потом и т. п. Он чувствовал, что этот решительный шаг может его либо высоко поднять, либо ему дорого стоить; игра была небезопасная и крупная.
Минутами ему было немного жаль этого честного полковника, который ему доверял и, несмотря на воспоминания, достаточно невыгодные, не совсем его осуждал, о других речь шла гораздо меньше.
Этим вечером против своего обыкновения, он вернулся трезвым, что сильно удивило жену, и, взяв ключ, пошёл к себе на верх. Его слышали долго ходящего, тяжко вздыхающего, а около полуночи спустился к Кахне, требуя, чтобы принесла ему водки. Горничная, которая никогда подобных посольств без ведения пани не предпринимала, пошла спросить её разрешение.
Отсюда возникла натуральная бурная сцена, супружеская склока, взаимные угрозы и пререкания, и поручик, хлопнувши дверью, сам пошёл в шинку. Жена ему только объявила, что по возращению его в дом не пустит…
– Возьми тебя дьявол с твоим домом, – крикнул взбешённый поручик, и потащился к пани Шимоновой на Беднарскую.
Здесь ещё светилась одна маленькая лампочка, несколько каких-то людей общалось в другой комнате, а в первой с удивлением он застал, якобы дремлющего знакомого коллегу, некоего Мушинца, который, все положения и ремёсла в жизни испробовав, наконец обосновался аж в полиции. Мушинец, щуплый малый с одним глазом, потому что другой где-то в дороге жизни потерял, больше видел одним, чем многие люди двумя. Был это чертёнок – не человек, на вид тщедушный, а стойкий, как железо. Он на самом деле имел тот же изъян, что Преслер, так как был зависимым пьяницей, но он владел зависимостью, не зависимость им. Временами по четыре недели водки в рот не брал, никакого алкоголя не пробовал, потом вдруг закрывался на несколько дней, пил даже до болезни, и выходил бледный, уставший – но уже трезвый. Мушинец был самым опасным из шпионов, потому что имел чрезвычайно много ловкости, ему не нужно было всего слышать, много догадывался, а с каждым человеком его языком умел говорить. Бывалый старик, он не терпел поручика, поручик его тоже не переносил, но оба делали вид сердечных приятелей. Преслер нахмурился, увидев противника на своём месте, поздоровался с ним, однако, достаточно вежливо и primo imp etu[3] пошёл выпить водки, чувствуя себя каким-то ослабевшим.
– А ты, сударь, не пьёшь? – спросил он Мушинца.
– Я не пью, теперь такое время, – ответил он, – что в водку вдоваться нельзя, она сладкая, но бестия предательская.
– Маленькая рюмка, – сказал Преслер, – охлаждает и подкрепляет.
– Подкрепляйся и охлаждайся, я сегодня не пью.
Поручику как-то грустно было соло со своей зависимостью выступать.
– Эх! – изрёк он. – Для компании!
– Видишь, сердце, – воскликнул Мушинец, – я как пью, то уже не рюмком, а бутылкой.
– Тогда мы будем пить бутылкой.
– Видишь, я как начну бутылку, то дотяну до полдюжины, а как полдюжину выпью, начинаю полгарковку[4] и потом из меня труп.
– Что болтать, – молвил Преслер, – это заблуждение; мы дадим себе слово чести, что сверх бутылки ни капли.
– Что с того, когда я такой человек, – отпарировал Мушинец, – что если я себе самое милое слово дал, то ему тотчас изменю, а как пью, то меня ни одна людская сила не остановит…
– Ну, тогда так, – прибавил Преслер, – под контролем, по одной рюмке…
– Мне кажется, мой дорогой, что оба на это прозвище заслужим, лишь бы только приложились к стакану…
После долгих любезностей Мушинец, однако же, согласился на рюмку патриотичной контушофки. Они были одни, а оттого, что род этого напитка раскрывает уста, насначалось с жалоб на несчастную долю, на полицейских. Преслер не колебался назвать это собачьим хлебом.
– Что это, мой дорогой, собачий хлеб, собаки лучше едят! Человек между людьми ходит, как паршивый, каждый его обходит, жена, если её в строгости не держать, глаза заплюёт, дети стыдятся, ад на земле, но с другой стороны, когда ничего не умеешь и ничего честного делать не хочется, приходиться жить и тем отравленным питанием. Ты скажи мне, на что бы я или на что бы ты пригадился? Мы оба даже свиней пасти не умеем…
Преслер бормотал, но пил, Мушинец, усмехнувшись, сказал ему тихо:
– Выпадет мне удача, ежели то, что думаю, получится, возьму толстый грош и уберусь к дьяволу куда-нибудь за границу, потому что меня это ремесло доело. Там буду себе либо отдыхать, либо по-дилетантски только иногда чем-нибудь более важным заниматься…
– Вы уже что-то высмотрели? – спросил Преслер.
– Несколько дней я тихо слежу, – шепнул второй, – крупные рыбы тут собираются в одном месте на стороне, так что их всех в одну сеть поймать будет можно.
Что-то кольнуло Преслера: не были ли, часом, это те же самые, на которых охотился он.
– А где это? Где? – спросил он.
– Думаешь, что я так глуп и дам тебе жареного голубка в рот? Достаточно тебе знать, что они себе выбрали фабрику, которая скрывается во мраке, пустое здание, тёмное, нужен был случай, чтобы я их там настиг…
С этих слов легко догадался Преслер, что оба на одно напали. Замолчал, допили контушовку, мало что говоря друг другу, и разошлись каждый в свою сторону.
Ночь была весенняя, ясная, воздух мягкий, торжественная тишина, сказал бы, что своим плащём покрывала счастье, обнимала спящих благими снами, но в этой зловещей тишине, в этом временном перемирии, душа чувствовала приготовление к великой борьбе. Ни русские, стоящие на страже этого искусственного мира, ни поляки не имели уверенности в завтрашнем дне. Всё знаменовало кровавую борьбу, страшную бурю, которой этот вынужденный мир был приготовлением. Преслер, не имея возможности или не желая вернуться домой, потащился улицей глубоко задумчивый, борясь с самим собой, немедленно ли воспользоваться своим открытием, или ждать ещё, чтобы ему это разъяснилось. Приходили к нему угрызения совести, сомнения, отвращения, страхи, но скоро после них наступало какое-то чувство тревоги, ревности, желание опередить Мушинца и отобрать у него добычу. В натурах звероподобных мы часто встречаем на месте других причин для действия такую страстную зависть, которая толкает на захват раньше другого того, о чём иначе, может, не подумал бы. Преслер особено чувствовал себя страдающим тем, что Мушинец мог его опередить. Он долго колебался, боролся с собой из страха, чтобы сын не узнал, но в итоге сатанинское искушение победило. Он прошлялся почти всю ночь по пустынным улицам над Вислой; уже рассветало, когда, разгорячённый, он решил поспешить с доносом, чтобы, откладывая его, не смягчиться.
– Юлек не может знать, не узнает; что Мушинец собирается схватить у меня из-под носа, я предпочитаю взять, а потом бывайте здоровы!…
Эта мысль так застряла в его голове, что он тотчас решил пойти в это секретное бюро на Долгой улице и там ждать пана начальника, чтобы с ним о цене крови, о плате преступления условиться. Ему казалось, неопытному ещё в делах большего значения (потому что до этих пор был использован только в малых), что сможет поторговаться о том несчастном товаре, который приносил.
Достучавшись в бюро, он нашёл там только заспанного сторожа и пьяного клерка над остатком водки, принесённой из шинки; бутылка стояла беззащитная и Преслер вычерпнул из неё немного силы для ожидания. Пан начальник, который любил вечерние застолья, долго после них привык спать. Таким образом, не дождался его Преслер даже до девяти и часть утра проспал на скамье в канцелярии. Когда он пробудился, клерк с распухшими глазами осматривал бутылку, считаясь с совестью, мог ли так много из неё выпить. Уже для избежания чувствительных вопросов с его стороны, уже от нетерпения, прибывший немедленно доложился к начальнику. Он попал в наихудшую минуту. Человек, пробудившийся от сна после вчерашнего приёма, чем он был более весёлым и обильным, тем его более черным искупает настроением. Пан начальник с руками в карманах, кислый, как бы уксуса напился, ходил по комнате большими шагами, зевал и был приготоволен к беспощадному лаянию на подчинённых.
Едва Преслер показался в дверях, он насел на него сверху:
– Хорошо, что я тоже тебя вижу! Что вы делаете? За что деньги берёте? В городе заговоры и бунты, правительство ни о чём не знает, на вас полагается, а вы задаром хлеб едите! Что это? Что это? Что вы себе думаете? Вы, пожалуй, в сговоре с этой чернью!
Когда пан советник немного отдышался, Преслер прошептал, что пришёл с рапортом.
– Наверное, снова какая-нибудь глупость, фунта клоков не стоит, – сказал презрительно начальник.
– Извините, пан начальник, – ответил Преслер, – но это крупное дело и я жду, что пан будет соответствующе великодушен меня обеспечить вознаграждением.
На эти слова, которые были, как бы вступлением к торгу, советник вспылил таким гневом, так начал угрожать и пыхтеть, что Преслер на самом деле испугался. Прижатый, тотчас пропел он всё, а по мере того как говорил, пан советник, значительно умиротворившись, смягчился, растрогался и остановил Преслера, желая сразу посоветоваться над средствами использования полученных новостей.
О той большой ожидаемой награде речи не было. В этом разделе тёмных и запутанных дел всегда высший берёт плату, отделываясь от второстепенных обещаниями. Пан начальник сам надеялся на денежную премию, может, на крест, может, на более высокую должность, а Преслера мог отлично сбыть какими-нибудь двумя сотнями злотых, из которых ещё половина оставалась в его кармане.
Экс-поручик имел только то утешение, что у Мушинцы вырвал ожидаемую удачу. Целый день утекал в тайных приготовлениях к вечерней осаде указанной фабрики и захвату всех, которые бы в ней находились. У Преслера и начальника была надежда поймать там главарей заговора.
Между тем готовилось, что-то совсем другое. Полковник в этот день собирался собрать молодёжь и урегулировать науку работы оружием, к которой она рвалась. Он хотел сначала использовать Преслера за инструктора, но не был ещё в нём уверен и даже не мог найти. Другой старый солдат пошёл на его место. Когда прилично смеркалось, часть той молодёжи, которая выглядела такой нетерпеливой в день начала тайной муштры, начала медленно сходиться к фабрике, в которой их уже ожидал полковник. Дверки постоянно открывались, но за ними и за стеной расставленные стражи и полиция тайно ждали уже только, когда собаерются все, дабы захватить их вместе.
Молодые люди спешно сходились, а полковник, поглядывая на те красиво сияющие запалом лица, улыбался и в то же время плакал от радости. Обнимал и целовал каждого, знакомился с ними и, словно скоро хотел отвести их на бой, учил, как нужно было вести себя в присутствии неприятеля.
Картина, какую представляла эта слабо освещённая зала, в которой седой уже вояка разгорячённую эту молодёжь, то сдерживал, то распалял воспоминаниями прошлого, была велика своей простотой и тем спокойствием среди опасности, которое составляло характер всех действий нашей эпохи. Каждый из них знал, чему подвергался этой ночью сходки, в которой палки взаправду заменяли оружие, но в цели и мысли которой ошибаться было невозможно.
Смех и шутки сопровождали эту импровизированную муштру, шумную, весёлую, оживлённую. Вместо карабинов по форме их и подобию понаделанное из дерева оружие служило большей части, тогда как остальные имели только простые палки, а один старый солдат, который их учил, ржавый карабин, извлечённый, видно, из долгого хранения. В миг, когда выстроенные в два ряда ребята маршировали, как бы уже шли на московские шеренги, какой-то стук послышался у двери, привыкшее ухо старого солдата узнало звон оружия, ударяющегося о плитку коридора. Со всех лиц пропало выражение радости и изобразилась ужасная неуверенность.
Один из молодёжи побежал за машины к тёмному окну и увидел среди достаточно светлой ночи всё здание окружённое правительством солдат. На его крик все разбежались по зале, ища способ прорваться или укрыться, один полковник остался на своём месте как вкопанный, испуганный, изумлённый, почувствовав, что был никак ответственным за гибель этой молодёжи. Он искал в голове способ спасения, но уже начали стучать в дверь и выбивать её прикладами. Сознательный, ибо привыкший к опасности, полковник сдел знак солдату, к которому присоединилось несколько смелых, чтобы забаррикадаровал двери, стоящие близко машины послужили для этого материалом. Притащили пару мельниц и соломорезок, подпирая ими ломающиеся уже двери.
После первой минуты ужаса наступили советы и размышления, как можно ещё спастись. Зала имела с обеих сторон окна достаточно высокие, но ими вскоре так же русские могли проникнуть внутрь; под одними были видны передвигающиеся штыки. Полковник, изучая позицию, взобрался с другой стороны на низкую стену, дабы увидеть, нельзя ли будет выбраться таким образом. К несчастью, и тут стояло войско и полиция. На двери напирали всё сильней и каждую минуту из окон можно было ожидать этих гостей. Пока, однако, надумали как захватить залу, с той стороны кто-то из молодёжи заметил в глубине трапезной замурованные в один кирпич дверочки, но никто не мог сказать, куда они выходили. Очень могло быть, что и за ними стояли солдаты, но равно также приходилось ждать, что с той стороны мог быть неосаждённый проход.
Когда русские штурмуют двери, полковник скомандовал, чтобы железным колом, который нашёлся под рукой, пробовать пробить отверстие в двери. На эту последнюю надежду спасения сосредоточились силы всех; начали бить, пара кирпичей выпала и с поля повеял холодный ветер. В отверстие не видно было московских солдат. Эти двери в давние времена вели в коридоры, позже заваленные; русские, видя голую стену без дверей и окон, не видели необходимости обеспечить её стражей. В сердца всех вступила надежда. Кирпичи сыпались с обеих сторон отверстия, которое всё больше увеличивалось, но тут же и солдаты, не в состоянии выломать двери, начали трясти окна. Кому-то пришло на ум погасить свет и всеми силами стараться расширить отверстие в стене. С трудом можно уже было в него протиснуться. Но в минуту, когда узнали возможность побега, все остановились, желая сначала спасти полковника.
Скрытый в темноте, он не хотел о том слышать и только громко крикнул:
– На сто тысяч фур батальонов чертей! Плаксы этакие, пользуйтесь же Божьей милостью, слово солдата, что иначе не выйду, как последним. Вы молодые, ещё более потребны родине, чем старый трутень, вроде меня, я вас сюда привёл и, как капитан с тонущего корабля, выйду последним либо погибну…
Один или два с великим трудом протолкнулись через отверстие, когда русские ворвались в залу и вместе с ними полицейские с фонарями; заметив это отверстие, они сразу овладели им, как дверями и окнами.
Не было там ни жалоб, ни стонов, ни унизительных просьб, которые этих палачей смягчить бы не могли. Только глухое молчание, прерываемое их шутками, проклятиями и глухими ударами. Иногда вырывался крик из груди, как бы вырванный проникающей силой боли, но тут же замолкал, укрощённый мужской выдержкой.
Русские, колотя и издеваясь, извлекали молодёжь из всех закутков залы. Полковник стоял, взятый между четырьмя штыками, с опущенной головой и, словно безразличный. Трудно описать радость мучителей, когда они увидели столько жертв в своих руках, но руководящий этой экспедицией офицер полиции, который ожидал иного улова, ругался по-московски, видя, что это не были вовсе начальники заговора, но молодые парни, которых полиция имела тысячи способов взять их в свои когти. Полковника отделили как наиболее важного из заключённых, отвели в дроги и повезли вперёд, когда остальных боковыми улочками отвели в цитадель.
* * *
Жена Преслера была одной из тех несчастливых женщин, которых только материнская любовь держит ещё при жизни; некогда очень красивая, следы чего ещё оставались на её лице, некогда счастливейшая, медленно дошла до той степени недоли, в которой человек наполовину цепенеет, пробуждалась из того сна только, чтобы страдать будущим сына, судьбой дочери, страхом от этого мужа, к которому имела только презрение и отвращение. Целые дни проводила она при работе задумчивая, крутя этот клубок серых мыслей, который прядёт несчастье; её руки машинально занимались работой, а в голове грезились постоянно, постоянно одни картины будущих несчастий, которые ей казались неизбежными. Она видела мужа то с петлёй на шее, то с пробитой грудью, свою дочку, подметающую уличную грязь, сына с окровавленной головой, где-то на бездорожье присыпанного жёлтым песком. Не умела она молиться, но когда боль очень сжимала её сердце, плакала. Это был тихий плач, почти спокойный, спадающий большими каплями, после которого было легче на сердце, и снова возвращалось это оцепенение, которое было её обычным состоянием. В нём выполняла она машинально все повседневные обязанности жизни, будучи мыслью в другом месте, похожая на ходящую статую без речи и чувства. Только шаги возвращающегося домой Юлиана и его свежий весёлый голос встряхивали её и будили – на уста возвращалось слово, иногда даже улыбка. На время становилась она для него чувствительным и мягким существом, так как вид мужа пробуждал в ней почти бешенство и ярость. Немного более равнодушной она была для дочери, хотя её также любила, но в душе считала этого ребёнка потерянным, когда Юлиана надеялась сохранить и поэтому привязывалась к нему сильней. Была эта одна из тех необъяснимых причуд сердца, которые часто встречаются на свете; иногда к более слабому, иногда к более сильному существу мы чувствуем влечение, не умея объяснить, что нас с ним таинственно связывает. Этим вечером, как всегда, Преслерова сидела при свече за работой, а Розия рядом с ней, также с иглой в руке, когда вбежал Юлиан, относя ключ от своей комнаты и вошёл в квартиру попрощаться с матерью.
– Почему ключ относишь? – спросила она его. – Или не думаешь сегодня вернуться?
– Очень может быть, – ответил он, улыбаясь, – что если задержусь, то у кого-нибудь из друзей переночую.
– Я бы предпочла, чтобы ты вернулся домой, – отозвалась мать. – Сейчас такое неспокойное время, можешь где в подозрительном месте ночевать, заберут тебя с другими…
– Мамочка, – сказал молодой человек тихо, – когда другие терпят, лучше ли я их, чтобы так себя уважал и укрывал… Что тем – то и мне…
– О! Не говори же мне этого.
Парень замолк, опустил голову, поцеловал матери руку, сестре – лоб и пошёл с весёлой песенкой. Его было долго слышно на лестнице, напевающего мелодию: «Боже что-то Польшу…», песня, которую в это время все неустанно повторяли, поневоле приходящую на уста каждому.
За ним потихоньку начала петь её Розия, а мать, слушая, через минуту залилась обильными слезами. Дочка, заметив их, замолчала.
В этом молчании, прерываемом невыносимо долгими вздохами, протекал вечер, наконец Рози мать велела ложиться, а сама спать не могла и, не желая терять времени, села за другую работу, поджидая мужа. Сама мысль его возвращения и образ этого человека, который всегда притаскивался пьяным, чтобы своим дыханием отравлять воздух этого тихого угла, наполняла её страхом, отвращением и дрожью.
Городские часы уже пробили полночь, когда медлительная, тяжёлая походка послышалась на лестнице. Преслерова, которая столько раз, бодрствуя, ожидала мужа и сына и умела распозновать их шаги, знала, что это был не Юлиан, который обычно бежал живо, тихо, с той молодёжной грациозностью, которая, кажется, не касаясь земли, была скорее полётом, нежели бегом. Старый Преслер спьяну ударялся на этой тёмной лестнице, хорошо ему знакомой, рассыпая проклятия по дороге. В этот раз эта походка была вялая, вольная, тяжёлая, сознательного человека, который, идя неохотно, словно боялся дойти до цели.
Удивилась жещина, когда эти шаги, такие непохожие на обычную походку её мужа, приблизились к двери, и вошёл медленно Преслер, в шапке, надвинутой на глаза, бледный и молчащий.
Он имел физиономию человека, который с хладнокровием совершил большое преступление и ломался под его тяжестью, деля вид спокойствия. Жена, посмотрев на него, испугалась хуже, чем если бы был пьяным, как обычно, его глаза, уставленные в одну точку, искривлённые уста, странная плаксивая улыбка, которая на них играла, притом глубокие морщинки на челе и конвульсивная дрожь щёк не могли скрыться от глаз бедной Преслеровой. Поручик, сделав несколько шагов, упал на стул, светилась голову и, доставши свиток бумажных денег, дрожащей рукой бросил его на стол, восклицая охрипшим голосом:
– Женщина, возьми это для Юлиана!
Но жена, которая в каждом другом случае с нетерпением схватила бы это желанное пособие, приглядевшись к лицу мужа, не находила мужества к нему прикоснуться. Облик этого человека ясно говорил о совершённом поступке, деньги, заработанные так очевидно, о нём свидетельствовали, что обмануться было невозможно. Несчастная медленно подошла к нему, уставила на него свои чёрные выплаканные глаза и тихонько спросила:
– Что же ты сделал?
– Ничего, – ответил Преслер.
– Как это ничего! Весь трясёшься.
– Я голоден, – сказал Преслер с дикой усмешкой. – Дайте мне что-нибудь, дайте мне что-нибудь.
Эти слова, выговоренные глухо, почти с безумием, морозом пробежали по женщине, она бросилась на деньги, чтобы из их суммы сдалать какой-то вывод о случившемся. Было там несчастных двести злотых в пошарпанных бумажках, сумма достаточно значительная для Преслера, всё же не объявившая о никаком необычайном преступлении.
Преслер, который минутой ранее просил, чтобы ему что-то дали выпить, уже было о том забыл. Он сидел с глазами, уставленными в пол, а на губах его играла зловещая усмешка, предшествующая обычно безумию. Был он такой непохожий на себя, такой удручённый, что над ним даже жена сжалилась.
– Ну, что же с тобой? Что с тобой такое, или же болен?
– Но ничего! Ничего! Ничего! – крикнул Преслер резко, стуча кулаком по столу. – Когда говорю, что ничего, значит, ничего!
Потом встал и, бормоча, начал прохаживаться. Женщина испуганно отошла, села на своё место и, погружённая в молчание, принялась за дальнейшую работу. Преслер ходил и ходил, тёр рукой лоб, дёргал на себе одежду, а иногда с принуждением будто что-то напевать пробовал. Время ко сну давно миновало, но ни Преслерова, ни он не думали об отдыхе; она ещё немного поджидала сына, он сам не ведал, что с ним произошло, но заснуть бы не мог.
Около часа кто-то начал стучать в ворота. Каменица содержала в себе много жильцов; часто выпадало, что кто-то из них поздно возвращался, шум у ворот не имел в себе ничего необычного, всё же, услыша его, встрепенулись каким-то предчувствием оба. Через минуту послышались осторожные и несмелые шаги на лестнице, а когда приблизились к двери, Преслерова, торопясь, выбежала навстречу. Почти в то же время дверь медленно отворилась и на пороге показался молодой человек, которого мать часто видела с Юлианом, бледный, в немного порванной одежде, уставший. При виде матери он смутился ещё больше и начал будто спрашивать о Юлиане, но взором искал вдалека прохаживающегося отца. По его испуганному лицу можно было узнать, что он пришёл не напрасно. Узнав, однако, от матери, что Юлиана не было, хотел повернуть назад, когда поручик машинально подошёл к нему. Ловя мгновение, когда мать, казалось, отошла в другое место, молодой человек дал знак Преслеру, что хотел бы ему что-то поведать лично. Но в минуту, когда он сделал это движение, глаза женщины поймали его, её сердце вздрогнуло, она уже догадалась о каком-то несчастье, которое от неё хотели скрыть, и схватила молодого человека за руку, таща его за собой на середину комнаты.
– Ради Бога! Человече, – крикнула она, – говори, заклинаю тебя, ты что-то знаешь! Ты что-то хочешь о Юлиане от меня утаить, ты делал ему знаки! Я – мать, я первая обо всём должна знать, я тебя не отпущу пока мне не расскажешь.
Молодой человек колебался при виде той боли, из его глаз потекли слёзы. Преслер стоял ошеломлённый, только губы и лицо дрожали судорожными движениями.
Это была минута страшного молчания.
– Несчастье! Несчастье! – наконец проговорил молодой человек слабым, дрожащим голосом.
– Что же случилось, что же случилось? Не убит? – крикнула мать.
– Нет. Но схвачен, – ответил прибывший, – вместе с многими другими. Я сам не знаю, каким чудом оттуда спасся. Мы были собраны в одной фабрике для муштры, было нас там несколько десятков, место казалось надёжное, какой-то подлый шпион должен был донести. Двое или трое убежали через сделанное отверстие в стене, остальные достались в руки русским… Юлиан с ними…
Он ещё не докончил рассказа, когда Преслер заревел каким-то странным голосом, заметался, потом сорвался, бегал как сумасшедший и, тотчас схватив шляпу, даже не взглянув ни на кого, мигом вылетел из дома.
Несчастной матери больше, чем предчувствие, почти уверенность указала убийцу сына – был им его собственный отец.
* * *
Пан начальник отдыхал на лоне семьи и в парадном турецком халате, с гаванской сигарой во рту пил ароматный чай, которым русский купец, его друг, одарил, когда слуга дал ему знать, что с рассвета какой-то очень незаметный человек вспыльчиво просился на аудиенцию.
От того, что это было время, посвящённое удовольствиям семейной жизни, в которое пан советник любил быть свободным и никого обычно не принимал, его сильно возмутила эта смелость какого-то оборванца, и он приказал его вытолкнуть за дверь.
Пан начальник, который на протяжении какого-то времени вдыхал петербургскую грязь, привёз из него все обычаи и пороки московских чиновников. Вечером в гостиной это был очень милый, сладкий и немного сентиментальный человек. Его можно было принять за идиллическое цивилизованное существо, немного эпикурейских привычек, но совсем доброе и не страшное, за сибарита, любящего развлекаться, хорошо поесть, вкусно выпить и старающегося избегать хлопот. Но под той личиной человека слабого, женоподобного и мягкого от себялюбия, скрывался холодно-хищный зверь, которому самые большие подлости и жестокости ничего не стоили. Вся его жизнь рассчитана была на доходы и материальные выгоды; где нельзя было взять деньги, там ловко выманивался подарок. Этот удобно и изысканно обставленный кабинет, в котором пан начальник изволил отдыхать, весь состоял из даров друзей и клиентов, собранных по причине разных интересов. Мебель, по правде говоря, была куплена, но частично оплачена, и столяр об остальном упоминать не смел; сигара, которую курил, была подарком какого-то контрабандиста, чай, который пил – пожертвованием купца, халат – платой за маленькое плутовство, письменный стол – презентом несчастного ремесленника, а мелкие побрякушки, покрывающие его, – сувенирами разных услуг, оказанных якобы бесплатно. Его жена ходила в подаренной салопе и выцыганенной шали. В этом доме чрезвычайно удивлялись, когда какой нахал приходил напомнить о деньгах, всё общество должно было собирать на удобство достойного служащего, который так заботливо следил за его спокойствием.
После выданного приказа изгнания нарушителя, у двери послышался шум, потом какие-то рывки и в выпертых силой двустворчатых дверях показался впереди бледный Преслер, потом слуга, который его немилосердно тянул назад за воротник. Поручик так сильно держался, что, оставив порванный кусок в руках лакея, ворвался в комнату и прямо бросился к ногам начальника, который сильно испугался. Но, узнав Преслера и видя его таким взволнованным, дал знак слуге, чтобы ушёл.
– Трутни этакие! Чего ты ко мне сюда лезешь? Ты знаешь, что наистрожайше запрещено приходить ко мне домой, как ты смеешь здесь показываться. Что тебя сюда, к чёрту, принесло?
Поручик имел совсем безумную мину, трясся, хватал его за ноги, плакал, говорить не мог.
– Помешался негодяй, что ли! – крикнул начальник.
– Сын! Сын! Мой! Пане, спаси мне сына! Взяли у меня единственного сына, делайте со мной, что хотите, сошлите меня в Сибирь, в шахты, отсеките мне голову, но сына освободите.
– Что ты плетёшь! Где? Какой сын?
– Сын! сын… вчера… там… там, куда я направил, между теми, кого вчера взяли, мой собственный сын! Он должен быть со мной, вы должны мне его освободить. Пане! Сдерите с меня шкуру, я достоин ада и самых страшных мук. Я погубил собственного сына!!
Он говорил дрожащим голосом, наболевшим, который сдвинул бы скалу, но пан начальник, видать, был привыкшим к людским стонам. Не раз, может, в цитадели он хладнокровен был к допросам, совершаемым с помощью розг и палок. Стоны отчаяния отбивались об его грудь, не доходя до её глубины. Вечером в гостиной сожалел, когда ему выпадало пёсью лапку придавить, но в отправлении должности ассистировал не раз, когда по сто розг давали слабым старикам или маленьким детям; не делало ему это ни малейшей разницы, ел потом с наслаждением бифштекс у Бегерела и восхищался пением госпожи Риволи в театре. Мы забыли добавить, что он был очень музыкальным, славился за любителя театра, а особенно был увлечён балетом и… балеринами.
На крик отца из отдыхающего мягкого человека он вдруг стал служащим.
– Иди же прочь! – воскликнул он. – Как ты смеешь с таким делом приходить ко мне? Твой сын был между теми бунтовщиками, он виновен и пойдёт с другими в Сибирь.
– Пане! – крикнул Преслер. – Это не может быть, у меня есть всё же в правительстве заслуги, я для вас скрыл позор, я вам выдам сто за него одного! Выгреблю, из под земли выкопаю, но вы должны мне отдать этого одного!
Преслер ещё раз растянулся у его ног и начал, плача, их обнимать.
– Пане, – воскликнул он, – и ты имеешь детей, подумай, если бы одного из них схватили?.. У меня только один сын!!
– А чем же он лучше других, которые за то же в Сибирь пойдут? – крикнул начальник. – Одного имел, нужно было тебе его иначе воспитывать, отдать на службу, а не отпускать его бесконтрольно и бросить его в ту молодёжь, заражённую мятежным духом.
– Правда, я виноват, пане! – промолвил, стоня, Преслер. – Да! Я виноват, я – не он, плохим его воспитал, я должен быть наказан. Покарайте меня, вешайте, потому что я и так жить не буду, выдав собственного сына в руки палачей.
– Что это за палачей? – воскликнул возмущённый начальник. – Ты теряешь голову, палачей? Ты правительство называешь палачами?
На эти слова Преслер, который вместе с надеждой начал терять терпение, вскочил с пола, встал перед ним грозный и сказал диким голосом:
– Да! Вы палачи, палачи, все, что вам служат, я стал палачом, но отдайте мне сына либо… беда вам! Беда вам!
Говоря это, он поднял вверх кулак, пан начальник побледнел и снова из служащего стал тем мягким вечерним человеком.
– Тихо же, тихо, сердце моё, – сказал, – что же ты так руки выворачиваешь? Ну что ты, опомнись, обуздай себя!
– Отдадите мне сына? – вскричал дрожащим голосом Преслер.
– Но всё может сделаться, только ты свои руки оставь в покое, не кричи, остынь, а уж как-нибудь позже увидим…
Преслер вдруг от гнева снова перешёл к умоляющему виду, начал обнимать его за ноги и целовать.
– Благодетель мой, – сказал он, – жизнь за тебя положу, буду тебе служить, стану твои рабом, сделаешь со мной, что хочешь, но, ради Бога, освободи мне только сына.
– Уж только тихо, иди, иди, – сказал испуганный начальник, – сделается, что будет возможно, но иди себе… прошу тебя… дорогой!
Но Преслер, как прикованный, отойти не мог, плакал, повторял одни просьбы, и только лишь с большим трудом его можно было отправить за дверь.
Начальник, вспотевший, как бы вышел из ванной, трясясь от страха, вылетел другими дверями из комнаты и не мог прийти в себя даже после завтрака у Сточкевича, где должен был выпить больше одной бутылки вина. Заплатил за неё, правда, гражданин прибывший из провинции, с которым недавно он познакомился.
* * *
Выпихнутый от начальника, Преслер блуждал по городу, как сумасшедший, в его голове вились самые дикие мысли, строились самые смелые проекты, будь, что будет, хотя бы жертвой хотел спасти жизнь сына, хотя бы пойти к самому царю, дабы вырвать у него эту жертву. Иногда навевала ему какая-то надежда, что сам начальник спасёт его сына, что его заслуги получат награду, то снова предавался отчаянию, припоминая, что живым от палачей не возвращалась ни одна жертва. Тех, которых однажды выпустили, взяли во второй раз и в третий, ни один из подозреваемых по нескольку раз осматривал Сибирь. До молодёжи они особенно были лакомы, никого не прощали. Видели сынов должностных лиц, занимающих высокое положение, закованных в кандалы и гонимых в изгнание. Преслеру приходили на память все случаи, о которых слышал. Блуждая от канцелярии до дома начальника, везде спрашивая о нём напрасно, сам не зная как, дотащился до дома, но тут и минуты выдержать не мог, пустота была ужасная, воспоминания увеличивали горе.
Матери не было дома, Розия сидела у окна с заплаканными глазами, Кахна плакала в другом углу, дверь была отворена, на кухне не было огня, везде грусть, как по умершему, которого только что вынесли на кладбище. Преслер не смел пойти наверх, ибо должен был проходить возле двери комнатки сына. Тихим голосом он спросил у дочери, где мать, ребёнок ответил ему, что ничего не знает, и поручик с безумным взором, с высохшими губами, пошёл снова в бюро на Долгой улице. В этот день, долгий как век, он потерял ход времени, потерял память, забыл обо всём, помнил только, что был палачём собственного ребёнка. Проходя где-то около часовщика он встретился с часом, в который по обычной привычке начальник должен был быть в бюро. Таким образом, он поспешил, но сразу при дверях застал поставленных полицейских, которые не дали ему вступить на порог, напрасно он просил и настаивал, ему ответили, что, если он отважится шуметь, у них есть приказ отвести его в ратушу. На великие просьбы, после нескольких посольств, в сопровождении двух стражей он, введённый, оказался перед обликом пана начальника.
Был он ужасно грозный, мрачный, сердитый. Поручику приказали говорить с порога, а пан советник для безопасности держался в другом конце залы, поглядывая боязливым глазом на своего подчинённого. Видимо, утренняя сцена и тот кулак, который мелькнул так близко от глаз, ещё вспоминались. Преслер, видя все эти приготовления, стоял очень покорным.
– Пане начальник, – сказал он, – вы мне обещали! Смилуйтесь надо мной!!
– Выбей ты это себе из головы, чтобы для твоих красивых глаз, – сказал сурово начальник, – правительство, схваченного с оружием в руках бунтовщика, освободило. Поблагодаришь Господа Бога, если его с другими не повесят, а о прощении не думать.
– Но вы мне обещали! – прервал Преслер.
– Ничего я не обещал тебе, а теперь тебе только то обещать могу, что если ещё раз отважишься прийти ко мне с этим пищанием и занимать время, то прикажу засадить туда, откуда не легко вылезешь…
Эта угроза, видно, подействовала на Преслера, всей его надеждой были собственные усилия, он боялся, чтобы его не арестовали. Начальник, который в те минуты смотрел на него, заметил на бледном лице два ручья слёз, которые тихо текли и по двум глубоким морщинкам сходили к стиснутым устам. Если бы он имел немного сердца, был бы тронут видом этого человека; окаменелый эгоист порадовался только тому, что уже второй раз кулак около своего лица не видит.
Преслер искал в своей голове иной помощи, ничего уже не говорил и, когда пан советник ожидал ещё других жалоб и писка, вдруг отвернулся к двери и вышел.
Этот его выход вдруг после резкой утренней сцены казался начальнику подозрительным, он чувствовал, что этот человек так странно быстро успокоиться не мог, его охватила какая-то тревога, он даже подумал, не следовало ли его арестовать, но потом успокоился. В глубине, однако, он было очень неспокойный.
Преслер, минуя косвенные ступени, решил направиться непосредственно к генералу, который в данный момент был во главе комиссии, и от которого полностью зависела судьба его сына.
Я рад бы здесь при той ловкости набросать характеристику панов генералов московских войск, которые такими отличными делами отмечаются в борьбе с возраждающейся Польшей.
Газеты полны зверств солдат, варварствами пьяной толпы, насилия над слабыми, преступлений, издавна неизвестными ни в одной войне. Жалость сегодня является чувством запрещённым, христианское милосердие – слабостью, достойной наказания. Напрасно бы в этом обвинять глупое солдатство, которое спьяну само не знает, что делает, система и её выполнение есть делом старшины, собственно тех генералов, о которых мы вспомнили, ровно храбрых на поле боя, когда речь идёт о добивании раненых и расстреливании безоружных, как отличных в допросах военных судов, в приговорах, и в администрации доверенного им края. Ни турок, ни татарин не мог бы быть более жестоким, никакое так же монгольское племя более глупее, чем они, быть не может. С большим рвением на услуги своего царя московский генерал готов попрать все божественные права, лишь бы за это мог получить в благодарность ленту, а в итоге дарственную на землю. Хотя в поведении генералов мы не видим великой разницы и могло бы казаться, что все отлиты в одной форме, они имеют, однако, различные виды.
Мы не очень вежливы в сравнении, но годится за эти убийства и поджоги хоть словом презрения отплатить.
Российских генералов можно поделить на несколько классов, всё-таки все принадлежат к хищным животным. Хоть одни поверхостно выглядят как мягкие, другие намеренно желают показать себя дико. Вообще особенность, определяющая вид и составляющая характер, – это язык, каким говорят.
Есть генерал, говорящий только по-русски, второй, который знает по-французски, третий, что предпочитает немецкий язык, потому что с этим во рту родился, наконец, генерал, говорящий всеми языками, даже по-польски.
Первый, который обычно дослужился с низкого чина – есть человек простой, ходящий регулярно в церковь, обычно достаточно старый, обожествляет царя, целует руки попам, живёт на пенсию, послушно выполняет все приказы, но чувствует сердце в груди и является понемногу человеком, насколько царь ему им быть позволяет.
Из всех видов этого ещё можно превознести над другими. То полумерцание этой цивилизации без веры, принципов и убеждений ещё на его голову не упало, не отказался он ни от старых суеверий, ни от правил старой жизни; слепое, как все, орудие, он прикажет вырезать в пень[5], когда указ придёт вырезать, но потихоньку заплачет.
Уже этот второй, который научился французскому, делает вид либерального, который ни во что не верит, и готов родного брата продать за звезду на погонах, есть гораздо хуже первого.
Особеннейшим феноменом жизни этих людей-самоучек, которые приличного образования не проходили, которым тирания служила нянкой – это как раз то, что из просвещения и цивилизации вместо того чтобы брать мёд, берут грязь. Цивилизованный русский не научится ничему здоровому, ничему, что сильным и мощным делает человека, слизывает только гниль цивилизации, берёт из неё тщеславие, напыщенность, стремление к роскоши, разврату, всё, что представляет порок, а не то, что даёт силу. Не является это виной цивилизации, что из неё яд вытянуть можно; из одних материалов пчёлы вырабатывают мёд, а змеи – яды.
Генерал, который знает французский, часто бывает либеральным на словах, но спроси его слуг, как он с ними обходится, жену – как с нею живёт, и подчинённых – как их обкрадывает! В салоне, которого язык и незначительные фразы легко схватывают, это люди приличные, некоторые из них даже много читали, но образование ничуть на жизнь не повлияло. Этот вид дал бы себя разделить на много подвидов, мы должны это великое разнообразие оставить будущему монографу этой дикой сущности, мы добавим только, что, как московский служащий в салоне и в кабинете – это существо полностью разное, так генерал тот на родине и за границей совсем на себя непохож. Особенностью этих служебных существ есть то, что везде с собой носят своё рабство, перед царём они слуги, а часто сводники, у вод где-то в Ницце либо в Лондоне прикидываются людьми. Их нужно видеть, когда возвращаются из той рекреации ad limina Carorum, когда меняют круглую шляпу либо жокейскую шапочку, на последний станции надевая фуражку со звездой и николаевское пальто. Кто их втречал на улицах Парижа и видел потом в Вежболове либо Сосновцах, может их смело не узнать. Из благ цивилизации привозят домой чаще всего щётку для ногтей, немного помады, а иногда вставные зубы и окрашенные волосы.
Генерал, который знает немецкий – естественно, немец, а то, что половина, если не больше, России – немецкая, он здесь себе, как дома. Кажется, что наши германские соседи, делая у себя порядок, старательные хозяева, вымели весь мусор за московскую границу.
Есть много дворянского и достойного в этих немцах, которых не любим, но прошу показать мне одного человека немца на российской службе? Издавна признанные учителями Москвы, немцы считаются здесь существами благороднейшего рода и превосходят везде русских. Было мгновение, когда ненависть к ним местных жителей доходила уже почти до отчаяния, но в теперешней борьбе с нами немцы не уступили русским и заработали себе снова на право гражданства. Генерал немецко-русский не такой показной, не такой фанфарон, как предыдущие; работает, берёт деньги осторожно, старается о какой-то специальности, от своей национальности легко отрекается, вытесняет веру, с охотой женится на богатой москвичке, детей даёт в добычу православию и, верно служа царю, добивается высоких позиций, большого влияния и значительной собственности. С немецкой систематичностью, хладнокровием готов резать, убивать и жечь, поддерживая себя по необходимости философией истории, историей философии, политической экономикой, Маккиавелли, Гансом, Гегелем и, в конце концов, кем хотите, – это муж учёный и опытный, чрезвычайно опытный. Большой поклонник силы, немецкий генерал склоняет перед ней голову, служит ей, а в случае, когда бы ему нужно изменить мундир или мнению, готов на всё.
Имеет, однако, слабость, хоть якобы отрицал свою национальность, помогает потихоньку всему, что немчизну может распространить в России. На самом деле он убеждён, что Российская империя только ошибочно относит себя к славянским государствам, а в действительности это немцами завоёванная Монголия. Может, он и прав.
Последний вид генерала, воспитанного так счастливо, что знает по-английски и по-итальянски, может, из всех является самым наиопаснейшим. Человек этот, который много и поверхостно учился, наиболее также набрался высокомерия, верит только в себя, царя уже не считает божеством, но инструментом, который ловко умеет использовать; серьёзный, замкнутый, сильно уважающий себя, он знает, что из подобных ему делается в Москве всё, начиная от куратора университета, министра просвещения, даже до начальника военных предприятий, хозяина казначейской сословий, директора банка либо руководителя всеми императорскими театрами. Он знает, что может поехать в Китай послом, в Париж за красивой актрисой либо в Сибирь управляющим доходами с городов. Помнящий о великих своих предназначениях, он уважает в себе то древо, из которого может выстругать какую-либо маленькую державу или какую-нибудь большую виселицу.
Генералы этого вида с равной лёгкостью сменяют военную одежду на гражданскую, как фрак на мундиры. Это люди, из которых в России делается всё, а то, что военное дело является основой всего, те, что хотят высоко дойти, должы служить в армии, ибо те, которые только были в гражданской службе, всегда как-то похрамывая идут в гору.
Мы вовсе не исчерпали этого предмета и всё же заманчивое его разнообразие, может, слишком далеко нас унесло. Много ещё можно было бы рассказать (что где-нибудь ещё поведать можно), между тем вернёмся к роману.
Генерал, к которому решил пойти Преслер, относился к второму типу, знал он французский, но, научившись поздно от какого-то француза родом из Псковской губернии, произносил: «Fiermie la port» и т. п. Был это один из тех заказных убийц, которых правительство обычно использовало для кровавых услуг, убеждённый, что как только самый большой ужас предписан властью, уже тем самым становится справедливым, бил, рубил, морил голодом, запугивал, резал бы и жёг, лишь бы на это имел указ с императорской печатью.
Веря, что всякая власть исходит от Бога, служил власти, как Господу Богу, продал ей свой рассудок, которого имел не много, и совесть, с которой никогда не считался. Привычка к суровости создала в нём такое равнодушие, какое редко встречается в людях, приобретают его иногда на физические страдания, хирурги привыкли ежедневно руки и ноги пилить и московские генералы в этих тайных цитаделях, которых плащ мученичества покрывает ужас. Был это человек лет под пятьдесят, с глупым лицом, бледный, раздутый, привыкший к распространению страха и своей всесильности, не большого ума, не слишком даже ловкий, но идеял непонимающего служаки.
Весь его день проходил на наблюдениях в цитадели, который, когда обвиняемый был сильней подозреваем, а правительству срочно было дознаться правды, кончался обычно розгами и пытками.
Генерал бывал к этим экзекуциям хладнокровен, а крики несчастных вовсе уже не производили на него впечатления. Когда, после дня, так честно проведенного, он возвращался в лоно семьи на вечерний чай, никогда не приходила ему мысль сетовать на варварское правительство, но проклянал этих негодных поляков, что в благах московского правительства разобраться не умеют. Нелегко было дотянуться до такого матадора (без каламбура), но у Преслера были различные связи и, выходя из дома, как бы предчувствуя, забрал со стола деньги, о которых забыла жена. Он хорошо знал, что во всех московских больших и меньших юрисдикциях, начиная от сторожа даже до генерала, всем, наибеднейший должен оплатить. Исполняя отвратительные обязанности мучителей людей, которых им пожертвовали, вытягивают выгоды и из еды заключённого, и из неудобств его, и из последней рубашки, и из всех, что хотят к нему подойти. Где-нибудь на свете найдётся искорка заплутавшего милосердия, здесь милосердие нужно купить за готовые деньги. Продажность равняется варварству.
Под вечер того дня, когда генерал, говоря их языком, oddychal, что значит отдыхал, подкупленный слуга впустил к нему Преслера. Кабинет этого пана жизни и смерти стольких людей вовсе не был похож на изысканный будуар начальника. Не видно тут было самого наименьшего старания о каком-нибудь удобстве, гадкий старый диван с высиженной кожаной подушкой служил за трон пану генералу, простой стол, заваленный бумагами, стоял перед ним, один более удобный стульчик, полированный шкаф, обычные часы – вот и всё. Только дверь отделяла эту комнату от занимаемых генералом с семьёй.
Николай Сергеевич в мундирном сюртуке без погон курил сигару и читал Инвалида. Когда Преслер вошёл, он долго на него смотрел. Привычка наблюдения не оставляла его и теперь, он хотел разгадать человека, прежде чем с ним говорить. Но физиономия поручика ничему его научить не могла.
– Ну, чего ты там хочешь? – спросил он наконец.
Прежде чем начал говорить, Преслер пришёл покорно, а, скорее, приполз прямо к его коленям и целовал их, плача.
– Ну, рассказывай!
– Пане генерал, я – полицейский агент, я верно служил правительству более десятка лет, могу поведать, что я и много за это снёс и не раз достаточно хорошего сделал, но меня вчера коснулось сильное несчастье. Я сам донёс, что там, на одной фабрике, молодёжь собиралась на муштру, между той молодёжью схватили моего собственного сына, единственного сына. Пане генерал, возьмите мою жизнь, но простите этому ребёнку!
Когда Преслер это говорил, генерал постоянно на него смотрел, жуя сигару. Хотя несколько лет имел дело с польскими узниками, хорошо польскому языку не научился; с трудом понимал язык, а ещё хуже им говорил.
– А! – сказал он. – Это, это из той шайки мятежников, которых вчера сюда с тем старым пригнали. Все пойдут в Сибирь, без исключения!!
– Пане, генерал, единственный мой ребёнок…
– Что там, пане генерал! Пане генерал! (укололо его, что не говорил ему: превосходительство). Я для вас ничего не сделаю, не нужно было сына пускать на такие проделки, учить нужно было его лучше, вот что, poszol won!
Преслер ещё обнимал его за ноги, но нетерпеливый генерал уже начал его ими пинать. Кровь забурлила в старике, но ввиду того, что судьба сына в руке этого человека, делал его терпеливым, давал пинать себя, не уходя.
– Пане генерал! – воскликнул. – Я вам открою все их заговоры.
– Что ты можешь открыть?
На минуту он задумался.
– Ты ничего не знаешь, но слушай, сын твой может быть свободен, пусть только всё расскажет, пусть выдаст этот свой Центральный комитет, я его освобожу, слово офицера.
Преслеру засветился огонёк какой-то тусклой надежды.
– Я прикажу привести твоего сына, его уже сегодня допрашивали, но он молчит как камень; иди за мной.
Ничего не отвечая, Преслер двинулся с паном генералом, который позвал солдата, что-то ему прошептал и, кивнув поручику, повёл его за собой. Прошедши двор, несколько, укреплённых стражей, ворот, дверь и коридоры, наконец очутились в том помещении, известном всем навещающим узников, в которое обычно приводили их, дабы при палачах свидетельствовали, что их не пытали. Генерал сел, а Преслер стоял с бьющимся сердцем, ожидая прихода сына. Много, однако, утекло времени, прежде чем звон карабинов ознаменовал, что его вели.
Отец двинулся к нему навстречу, однако решётка, разделяющая залу, препятствовала проходу. Юлиан шёл бледный, с лицом, полным торжественной отваги мученика, по нему было видно, что в этот один день он пережил больше, чем за всю жизнь.
Генерал указал на него рукой Преслеру и сказал:
– Ну, вот вам сын, расскажите этому мерзавцу, что, если хочет увидеть свет, пускай правду разглашает и раскаивается в своей проделке!
– Юлка! – крикнул Преслер, приближаясь к нему и заламывая руки. – Если у тебя есть сколько-нибудь любви к родителям, смилуйся над нами, говори что знаешь, а пан генерал обещает, что будешь свободен.
Юлиан странно посмотрел на отца.
– Отец, – сказал он, – я ничего не знаю, я знаю то, что я один, может, виновен, но больше никто.
– Слышишь, слышишь, вот что болтает бунтовщик! – крикнул взбешённый генерал. – Такие они все! Пойдёшь к тачкам в шахту… или на виселицу…
– Юлка! Смилуйся над нами, если не надо мной, то над матерью!
– Ни ты, отец, ни мать не имеете права требовать от меня, чтобы я ради вашей любви загрязнил себя подлостью, – сказал подросток. – Смотри, – добавил он вдруг, приоткрывая сюртук и показывая окровавленную рубашку, – смотри, меня били сегодня, я даже упал в обморок, однако не ослаб, но окреп, но я дам себя убить, а не расскажу этим палачам ни слова!! Не выкуплю свободы своей мерзким предательством, пойду на смерть и оставлю по себе на месте вашего ребёнка чистую и честную могилу. Отец, – говорил он, распаляясь всё больше, – можешь ли ты от меня этого требовать, ты, старый польский солдат, который сражался за эту страну, за которую я, может, умру….
Преслер начал сильно плакать, а генерал, топая ногами, звал, дабы немедленно узника выпровадили. На Юлиана этот бешеный гнев не произвёл никакого впечатления, солдаты его толкали, он стоял как вкопанный в землю.
– Отец, дай мне руку, я поцелую, – воскликнул он. – А потом на волю Бога.
Но Преслера, желающего приблизиться к сыну, солдат оттащил с другой стороны, и жесткому генералу пришло на ум отомстить на благородном парне, задавая ему жестокий удар. Он заметил из слов, произнесённых Юлианом, что об отцовском ремесле он не знал, и крикнул с пылкостью:
– А знаешь ты, кто твой отец? Гм?
Юлиан повернулся с гордостью к генералу.
– Старый польский солдат…
– Ха! Ха! – закричал убийца, заранее радуясь впечатлению, какое собирался произвести. – Ты знаешь…
Его уста уже собирались произнести слова, которые пронзили бы грудь молодого человека наижесточайшим для него ударом, когда Преслер, вырвавшись из рук солдата, подскочил к Николаю Сергеевичу и закрыл ему рот обеими ладонями.
Тот вельможный палач ужасно испугался, отступил, а в той суматохе и шуме увели Юлиана… остался взбешённый убийца и поручик, которого солдаты схватили и держали вдалеке.
– Ха! – кричал, с кулаками подскакавая к безоружному, генерал, и нанося ими удары ему по лицу. – Ха! Как ты смел прикоснуться ко мне! Как ты смел… ты… ты…
Преслер снова стал покорным как баран, сносил удары, молчал, припал даже на колени, пытаясь умилостивить грозного врага, который не жалел кулака и ударов, и, наконец, приказал солдатам дать ему ещё палками и выпустить.
Откуда это великодушие взялось у него, почему не приказал Преслера запереть в цитадели, этого трудно понять.
– Слышишь, – сказал он ему в конце, уходя, – как ты мне пикнешь слово о том, что тут было, я прикажу тебя расстрелять… понимаешь… слово офицера…
В конце он добавил ещё пару раз своё излюбленное poshol won, и несчастный агент полиции, вытянутый за шею солдатом, за дверями остатком должен был откупиться от ударов, которые заменили набитые пригоршни.
Ошалелый, ободранный, потащился так к воротам цитадели, сам не зная, куда идёт и что предпримет с собой, когда услышанное вдруг знакомым голосом сказанное проклятие ошеломлённого задержало.
Вблизи того моста, над которым должна бы стоять надпись, какую Данте поместил у ворот ада, под стеной, он узрел сидящую жену… по прошествии этих нескольких десятков часов настолько изменившуюся от жестокой боли, что ему трудно было сразу её узнать.
Это была фигура не отчаявшейся древней Ниобы, но фурии, которой не хватало сил для ярости. Появление виновника всех её страданий обессиленную привело к этому состоянию ярости. С распущенными волосами, в порванной одежде, с лицом, залитым слезами, с огненными глазами, с пенящямися губами, казалось, хотела броситься на него, чтобы расцарапать, но сил у неё не осталось, и она упала со стиснутыми руками, метаясь в конвульсивных дёрганиях…
Она сидела тут с утра напрасно, умоляя, чтобы её допустили к сыну, гонимая и битая, снося насмешки пьяной толпы. Из её сердца безумие переходило в голову, голод и боль постепенно отбирали её сознание. Появление мужа его восстановило.
Поручик с испугом отступил, но убежать не мог; сам несчастный, он понял её отчаяние, сжалился… хотел её поднять с земли и отвести.
– Не трогай меня! – вскрикнула она пронзительно, видя, что он приближается.
– Не трогай меня, убийца… между тобой и мной нет уже ничего общего… ты сорвал последний узел! У меня нет ребёнка… я не твоя жена… не знаю тебя, сатана – прочь! Прочь! Прочь!
Что было ответить? Преслер заплакал, остановился, но, видя, что её безумие увеличивается, медленно ушёл.
В минуту, когда он исчез с глаз женщины, которая начала горько плакать, подошла к ней фигура, одетая в чёрное.
Была это женщина преклонного возраста, одна из тех тысяч наших святых мучениц, которые посвятили себя службе братьям… мучениц, потому что каждый, кто вынужден тереться о московское солдатство, становится достоин этого названия. Сколько ж должна выстрадать каждая спокойная, скромная, достойная уважения женщина, которой приходится выпрашивать у них милосердия!
Не имеют они ни уважения к возрасту, ни преклонения перед болью, ни принимают во внимание слабость – а самый милосердный из них устыдится даже показать, что на сердце… если не жестокий, то делает вид жестокого.
И она возвращалась из цитадели, и её сын был там же, и она шла с заплаканными глазами, молясь на протяжении того крестного пути, который приводит к железным решёткам тюрьмы – но несмотря на собственное страдание, она заметила бедную женщину и нагнулась к ней, осеняя её крестом, ибо знала, что для этого ужасного отчаяния слово было бы уже бесполезным.
– Бедная женщина, – сказала она, – что с тобой? Говори! Встань, не сдадавайся… опомнись. Бог милостив!!
– Бог, и Бог не имеет милости! – с диким смехом ответила Преслерова. – Забрал у меня дитя, моё единственное…
– Не ты же одна такая сирота, – ответила женщина, – я также испробована, сын мой тоже здесь за этими стенами, а я даже лица его видеть, голос услышать не могу. И прихожу сюда каждый день напрасно и умоляю их напрасно… и ухожу без надежды.
– А! Пожалуй, ты не любила сына…
– Я! Женщина, не богохульствуй… он у меня был один на свете… у меня нет, кроме него, никого – но я верю в милосердие Божье…
В этот раз женщина подняла на неё глаза, ничего не говоря, а через немного времени прошептала:
– Молись и за меня, я разучилась молиться…
– Иди за мной… я тебя научу, молиться будем вместе…
Это было первое слово утешения, какое услышала несчастная и, послушная ему, медленно встала, слабая как ребёнок, давая себя вести… Пришла она уже было к этому состоянию апатии, в котором раньше проводила долгие дни, но теперь во стократ оно было более ужасным, так как даже мысль, эта чёрная подруга одиноких дней, убежала из её головы и непроницаемая темнота окутала её – от безумия она перешла в полную немощь…
Нужна было милостивой женщине, которая хотела её вырвать из этого места, помощь двух нанятых людей, чтобы усадить её на повозку и увезти в город.
* * *
Преслер, идя так, обезумевший и бессознательный, только постоянно прямо перед собой, оказался напротив доминиканского костёла и машинально собирался повернуть на Долгую улицу, когда за собой услышал какой-то голос, зовущий его по фамилии. Обернулся и узрел Мушинца, сильно пьяного, который кивал ему, вместе с тем грозя ему на носу. Этот уважаемый коллега был в таком хорошем настроении, что не мог удержаться на ногах, лицо его, обычно бледное, покрывал румянец того цвета, какой имеет обычно мясо свеже забитого животного. Губы улыбались той водочной весёлостью, которая над всем на свете готова смеяться, глазки блестели злобной хитростью, которую усилило количество поглощённого напитка. Преслер стоял и ждал спешащего к нему человека.
– А! Какой же ты подлец! – закричал ему Мушинец. – Вот шуткой мне отплатил, ха! Взял у меня из-под носа, на что я так долго охотился, – и хлопнул его по плечу. – Ну, пусть тебя черти возьмут, я не сержусь. Я себе реванш возьму. Но расскажи мне так добросовестно, как подобает между честными людьми, что они тебе заплатили?
На одно воспоминание о случае, который потянул за собой такие горькие последствия, Преслер даже вздрогнул. Лицезрение выражения его лица испугало даже пьяного товарища, который быстро добавил:
– Что же с тобой? Болен? Или побили? Всё лицо в синяках! Или тебя уж та уличная чернь выследила и напала?
– А! Несчастье, – отпарировал глухим голосом поручик. – Проклятый тот день и час, когда я рот открыл; все несчастья упали на меня! Случилась самая отвратительная вещь, самое ужасное преступление, какое когда-либо человек совершил – я им выдал собственного сына, а эти палачи, эти притеснители не хотят мне его освободить! Я убит! Убит!
Мушинец опустил голову, сделал кислую мину и махнул рукой в воздухе.
– То-то ты имел сына, – сказал он, – и такого, что уже учавствовал в заговоре! А это история! Ещё подобной, как живу, не слышал. Что же думаешь предпринять?
– Падал им в ноги, ползал по земле, плакал, ничего не помогло! Жена лежит как мёртвая под цитаделью, сам не знаю, что предпринять; как ничего не решу, то в лоб себе выстрелю.
– Эх! Это снова глупость, – сказал со смирением пьяницы, Мушинец. – Скажи мне, на что это кому сдалось, мозг себе в воздух высадить. Операция неудобная, а результата никакого! Подожди-ка, поболтаем об этом, но на улице рассуждать – это не дело; знаешь что, идём куда-нибудь в шинку?
Преслер только кивнул головой и они повернули молчащие на улицу Фрета, где у Мушинца был хозяином маленького бильярда хороший знакомый, не далеко от доминиканского костёла. Принимая во внимание грустное положение Преслера, он взял оплату на свой счёт, велел подать хлеба, соли, водки, и, видя, как изголодавшийся товарищ с животной бессознательностью бросился на еду, подмигнул, дабы принесли сарделек и, когда уселись за столом, начал спрашивать.
Преслер был в том положении, требующем откровения, которое открывает уста и сердце.
Он говорил, жаловался, плакал, не в состоянии успокоиться.
– Паскудная работа, – сказал, выслушав его долго, Мушинец, – но когда ты себе в лоб выстрелишь, чего вовсе не одобряю, когда твоя жена помешается, кто сыну поможет? Видишь, мой дорогой, когда на человека такой камень упадёт, нужно холодной воды напиться и пойти к голове за разумом и к сердцу за хитростью. Говоря между нами, с этими дурнями москалями, лишь бы кто умел, всегда можно справиться, бывают они ловкими, но пару раз всегда их можно обмануть, только бы более иначе; во всяком случае, мало кого не подкупишь то тем, то этим. Тут необходимо что-то придумать.
С нашим начальником не о чем и говорить, потому что это так, будто ты меня просил, чтобы я тебе сына освободил. С генералом уже вы кулаками по лицу целовались, не за чем туда второй раз заглядывать, но у меня есть ещё протекции, способы, дороги, а на остаток, хоть бы также твой сын отправился в Москву? Ежели красивый хлопец, готовься там ещё с какой княжной поженить и нечего шеей крутить!!
– Не говори мне этого, – проговорил Преслер, – я должен его освободить, хоть бы мне пришлось собственной жизнью заплатить, без него мне она не мила.
Мушинец покрутил головой и осмотрелся вокруг.
– У тебя есть какие деньги? – спросил он.
Преслер пожал только плечами, показывая пустые руки.
– Рубашка на спине и дырявые ботинки на ногах – вот всё моё имущество.
– Это плохо, – пролепетал Мушинец. – У них даром ничего!
Адская мысль как молния прошла по голове Преслера. Там, где ни он, ни его бедная жена ничего вымолить не могли, кто же знает, не сумела бы молодая, красивая Розия выпросить что для брата? Судьба этого ребёнка мало интересовала Преслера, он поглядывал на неё давно со смирением человека, который знает, что такому красивому личику за несколько минут улыбки годами слёз и унижения платить нужно. Ни воспитание, ни положение не могли защитить этого ребёнка от почти верной гибели. Увы! К такому выводу пришёл её собственный отец.
Дьявольский умысел использования дочки для спасения сына выплеснул из этих слов Мушинца: «У них ничего даром».
После глубокого размышления Преслера догадливый его товарищ сразу узнал, что ему должно было что-то пролететь через голову.
– О чём ты там беспокоишься? – спросил он. – Говори-ка, говори мне, ты один теперь ничего хорошего не придумаешь. Стоит обсудить.
Но Преслеру стыдно было признаться в этом отчаянном проекте. Мушинец по молчанию догадался, в чём дело.
– У вас есть ещё дети? – спросил он с усмешкой. – Может, красивая доченька? Гм? Если бы было так, я тебе хорошую дорогу показал бы через адъютанта наместника, князя Шкурина. Эти болваны русские, у которых, за исключением больших панов, обыкновенный народ имеет лицо обезьяны, а ноги верблюжьи, очень лакомые на красивые личики. Наша простая девушка могла бы у них сидеть в наипервейшем салоне. Я знаю, что это такому отцовскому сердцу трудно о подобной вещи помыслить, но что с ней плохого станет? Как сына освободят, дочку удержишь и фигу покажешь. Что же они тебе сделают?
Немного спустя Преслер спросил:
– А где этот адъютант живёт?
Мушинец с сожалением посмотрел на него, и так ему как-то горько сделалось, подумав о собственных детях, что, допивши рюмку водки и поведавши с неохотой адрес адъютанта, внезапно прервал заседание, которое с таким бесстыдством сам начал. Преслер, которого еда и водка воспламенили ещё больше, потянулся прямо к дому.
Красивая фигура молодой девочки проскользнула у нас так, что мы о ней ничего не могли поведать и присмотреться к ней ближе. Теперь мы скажем о ней словечко, пока бедная не выступит на сцену.
Дом Преслеров, каким мы его видели, не был тем спокойным гнездом, на мягком пуху которого вырастают счастливые существа, избалованные с детства в лёгкой жизни. Отец был в нём фигурой менее всего деятельной, редко видимой, распространяющей страх либо отвращение. Мать резкого характера, но сломленного неприятностями, беспокоилась о повседневном хлебе и о хлебе духа для ребёнка. Её сердце особенно привязалось к сыну, не пренебрегала, однако, вполне и дочерью.
Она не могла дать Рози прекрасного образования, но дала ей добродушие, остальное Бог добросил в это сердце, которое достойно было биться рядом с братской грудью Юлиана.
Юлиан её очень любил и что на скромную монастырскую пенсию начали набожные женщины, то он докончил, давая ей книжки, уча её словом и примером. Немного оставленная родителями, Розия в тишине, тайно, училась, работала, развивалась. При очень простой внешности, при физиономии ребёнка была это уже головой и сердцем женщина, храбрая, думающая и зрелая под зноем бедности и недоли. Помимо Юлиана, мало кто её знал и мог в доме оценить. Никто не догадался, что послушная девочка по ночам читала «Свободу Орлеанской деве» и поэзию Мицкевича.
Розия с равной заботливостью скрывала то, что умела, как другие хвалятся тем, чего не умеют. Как Юлиан, так и она, в компании ровесников и молодёжи зачерпнула ту горячую любовь к стране, готовая на всякие самоотречения, которая счастлива, когда делом показать себя может.
Семья Преслеров, такая, какой мы её изображаем, вовсе не является вымыслом нашей фантазии; все, которые в этот период времени жили в Варшаве, которые близко и внимательно присматривались к нашему обществу, признают, что таких семей, отцы которых усердно служили правительству, а дети посвящали себя стране, было и есть тысячи. Даже в тех домах, в которых отцы и матери показывали наихудшие примеры, росли дети, вытягивая руки к мученичеству, как бы желали искупить их грехи. Мы видели сыновей полицейских, идущих в Сибирь в канадалах, жён полицейских должностных лиц, заключённых в тюрьму за заговоры. Как в тёплой атмосфере всё, даже камень, разогревается, так в этом жару патриотизма нагревались сердца и размягчались самые твёрдые души.
Пришедши домой, Преслер, как в первый раз, застал Розию, плачущую у окна, она хотела бежать искать мать, но не знала, куда она пошла. Ей велели сидеть и ждать, таким образом, она одна должна была оставаться в опустевшем доме с чёрными мыслями. Когда отец пришёл первый раз, она не отважилась его ни о чём спросить. По той причине, что Преслер очень редко с ней говорил и к ней приближался, можно сказать, что, очень его боясь, она мало его знала.
Управляемый этой дьявольской мыслью использования Розы как инструмент освобождения сына, Преслер, посмотрев на неё, на это личико ангелочка с заплаканными глазами, почувствовал, как сжалось его сердце и закрылись уста.
Сначала он не смел с ней говорить, долго ему понадобилось ходить, раздумывать, набирать отваги, прежде чем сумел ей проговорить:
– Слушай-ка, – сказал он наконец, вставая вдруг перед девочкой, которая, встревоженно уставила на него глаза, – ты знаешь, что твоего брата взяли… напрасно я, напрасно мать ходили просить за него, ничего не помогает, слушай, может, ты была бы более удачлива?..
Голос ему изменил, он опустил голову.
Розия вся залилась румянцем, закрыла свои глаза, не была уже ребёнком и страшных тех нескольких слов поняла грозное значение. Негодование тронуло ей грудь, но одновременно сердечная любовь к брату зкзальтировала её к героизму.
Мысль, быстрая как молния, в её молодой голове охватила весь план страшной драмы.
Преслер ждал ответа, но она не скоро его дала, а голос, которым она ему ответила, был такой смелый, такой огненный, что старик его почти испугался.
– Добрый отец, – сказала она, – я пойду, и, если Бог позволит, мы спасём Юлиана.
Отец, который ожидал колебания, сопротивление, плач, не понял собственного ребёнка.
– Пошла бы ты сейчас? – он спросил.
– Нет, – ответствовала Розия, – завтра, завтра пойдём.
И правда, пора была уже слишком поздняя, солнце заходило, а Розия, которая в одну минуту воплотилась в героиню, имела ещё много дел перед этим решающим шагом.
Только молодость умеет так шибко без долгих размышлений находить инстинктом дорогу, которую ей скорее чувства, нежели рассуждения указывают. Всё складывалось на то, чтобы проект Рози сделать возможным. Она понимала, что должна понравиться, соблазнить, вскружить голову. Она хотела быть Юдифью для того неизвестного Олоферна, которому собиралась себя пожертвовать; её молодое сердечко билось уже давно для честного парня, одного из тех сынов Варшавы, которого знала с детства.
Молодой парень, не имея возмоможности быть лекарем, приспособился на фармацевта и занимал место второго субъекта в одной из аптек в Краковском предместье. Розия, не размышляя, решила выпросить у него яда. Он предполагался для службы ей самой либо для того, который хотел бы воспользоваться её несчастным положением…
Когда Преслер, получив от неё обещание сопровождать его завтра, потащился снова из дома, не в состоянии в нём усидеть, Розия тут же схватила скромную шляпу и чёрную мантильку, велела Кахне оставаться дома, а сама как стрела побежала в аптеку.
Лишь по дороге ей пришла мысль, что яд не так легко даётся тому, кто захочет его иметь, что перед Казем нужно будет всё объяснять, что он может или не сможет, либо испугается, либо не сумеет выполнить её желания. Но однажды решив вооружиться этим оружием, Розия положилась на волю Провидения, что оно должно было её поддержать.
Она отворила несмело дверь аптеки, посмотрела вглубь – счастьем Казьмеж был один, но как тут начать разговор!
Увидев её, парень живо подбежал, ибо знал о судьбе Юлиана, а по заплаканным глазам легко было догадаться о великом несчастье…
– Боже мой, – воскликнул он, – не заболел ли кто дома? Расскажи мне, дорогая моя! Может, я могу быть вам полезным! Говори, рассказывай!
– Знаешь о Юлиане?
– А! Знаю…
– Следовательно, ты всё знаешь; но у меня большая, большая просьба к тебе, – и девушка подала ему ручку, уставляя на него свои голубые умоляющие глаза.
– Казы, мой дорогой, если ты меня любишь, сделай то, о чём я буду тебя просить, поклянись же!!
– Можешь ли просить меня или нуждаешься в клятве? Сделаю, что только смогу, хоть бы жизнь отдать пришлось!
– А если бы пришлось отдать? – спросила Розия, пристально глядя на него и медленно бросая по одному слову.
– Чтобы тебя спасти?
– Да…
После минутного молчания Розия подошла и шепнула ему на ухо:
– Дай мне сильного, сильного, ужасного яда, обязательно мне понадобится… Казы! Не откажи!
Казы остолбенел.
– Яда? – вопросил он через мгновение, всматриваясь в неё. – Тебе? На что?
– На что? Я тебе поведать не могу, но клянусь тебе, заверяю, заклинаю нашей любовью, что он нужен для моего спасения!
– Для твоего спасения? Что же тебе угрожает?
– Но я тебе ничего сказать не могу! Ты знаешь меня? Веришь ли мне?
– Я знаю тебя и верю тебе, мой дорогой ангел, но и ты должна меня знать, должна бы мне верить! На что эти секреты между нами?
Девушка сильно забеспокоилась, но смущённый Казьмеж так настаивал, что, в конце концов она должна была всё рассказать.
– Отец проводит меня с собой к какому-то генералу, ты знаешь этих мучитетелей, что у них может просьба такой бедной, как я, девочки? Отец прав, что для спасения Юлка хочет мной пожертвовать, освобожу его, но этого негодяя, которого подкупит моя улыбка, отравить должна, чтобы рука его моей ладони коснуться не смела.
Казьмеж, видя запал, с каким она это говорила, побледнел, но упал перед ней на колени, так она охватила его своим героизмом. Пользуясь этим волнением, Розия резко потребовала яда. Как же его было доверить в руки пятнадцатилетнего ребёнка, обезумевшего от боли почти до отчаяния! Она могла его использовать в минуту какого-то беспричинного опасения против себя самой, во всяком случае она могла выдать себя неловкостью и сгубить. Казьмеж сам не ведал, что делать, но смягчался во время, когда она настаивала, её чувствам дал себя охватить.
– Поклянись же, – сказал он, – что ни в коем случае не используешь яда для себя! Я буду на страже. Ежели дойдёт до крайности и Юлиан будет уже свободен, я бросаю аптеку, забираю тебя, у меня есть ксендз, который нас повенчает, и мы убежим в Августовское… к моей семье.
Долго ещё шептались друг с другом и никто их как-то разговора не прервал.
Наконец, хоть с великим страхом, Казьмеж добыл стрихнины, закрыл малое её количество в бутылочку, которая с лёгкостью под перчаткой на ладони могла скрыться; и Розия с великой радостью побежала к дому с тем страшным оружием.
* * *
В то время, к которому относится наш роман, поведение русских не было ещё так отчаянно бесстыдно, как сегодня. Они кое-как заботились о мнении Европы, которая ещё безоговорочно их не осудила, делали вид людей цивилизованных, хотя неловко. Та искусственная агитация, которая под видом патриотизма сделала в России запрет всех добрых и благородных чувств, сделала преследование системой, жестокость – правом, неуважение всего – правилом этой беспрецедентной войны, эта агитация, которую сделали журналистика и усердие бюрократов, ещё в это время не существовала. Россия, льстя себе, что разрешит этот спор, важности которого не понимала, обходилась с нами потихоньку со своей обычной жестокостью, внешне с сохранением некоторых правовых норм. Делали вид, например, хоть неловко, что собирались отдать под суд того генерала, который первый выстрелил в безоружного человека, отрицали разбитие креста и уничтожение духовных, но потихоньку на советах в замке жалели, что мало людей пало, и что в первую минуту не использовали более сильных средств. Это общее поведение выдавалось и в выборе людей, брали таких, которые умели прятать когти, надевая на них глянцевые перчатки. Князь Шкурин, адьютант губернатора, прекрасно образованный человек, известный своими либеральными принципами, говорил почти громко в гостиных о николаевском деспотизме, даже признавал за Польшей некоторые права, но хотел только, чтобы она сдалась на великодушие царя.
Был это человек лет около сорока, хорошо изношенный петербургским развратом и климатом, элегантный, всегда надушенный так, что его подозревали, что он тайно смердил, поклонник многих женщин и любитель шампанского, которое был готов начать пить перед супом. Был это один из тех людей, как большая часть тогдашней мебели, обложенной фанерой и выглаженной по верху, в середине гниющей и из любого какого дерева. Образование, которое он получил, развило в нём только внешнего человека, центр остался нетронутым.
В шкуре француза был это дикий татарин, сдерживаемый от полного разврата товарищескими отношениями, но тайно не знающий никакого морального права и обузданности страсти. С пустой головой, был это, однако, в гостиных человек очень приятный, особенно остроумный и всегда полный самого хорошего юмора. Он шутил над всем, над всеми, иногда над собой а для каламбура и показухи за идею готов был пожертвовать родным отцом и матерью. Славился он также как очень приятный банкетчик, и женщины его себе вырывали (разумеется, не польки, которые его качеств признать не умели), но москвички и те мещанки, полунемки, полуроссиянки, наполовину будто польки, бездушность которых покрывал космополитизм. Утверждали, что князь имел достаточно влияния на губернатора, разделяя его с неким высоким служащим, внезапное возвышение которого всех немало удивило. Князь Шкурин не был состоятельным, вспоминал, правда, о своих душах в Пензенской губернии, но этим душам, по-видимому, не хватало тела.
Он любил жить, с лёгкостью делал долги, с трудом их оплачивал, и говорили потихоньку, что в некоторых случаях брал гладко подсунутые деньги (взятку). Конечно, то что, хотя его положение должностного лица никакой непосредственной власти ему не давало, его передняя, кроме кредиторов, была всегда полна самыми разнообразными посетителями (варшавское слово). Служба князя, состоящая из одного черкеса, одного солдата и вида лакея весь день была занята выпихиванием тех, которым принадлежали деньги, и секретными переговорами с теми, которые их давали. Часто несчастные прибывшие проводили тут целый день в смрадной комнатке, выставленные на посмешище той толпы, ибо к князю не так легко было приступить. Почти как все полудикие люди, в добавление к другим животным страстям, имел он страсть к игре, часто до белого утра сидел за зелёным столом, ложился спать, когда иные встают, спал потом, если не был на службе, до обеденного часа. В доме также очень редко застать его было можно.
К этому человеку пошёл на следующее утро отчаявшийся Преслер, ведя за собой Розию; девушка была приукрашена в самое свежее из своих убогих платьев; видимо, она хотела быть красивой, но её лицо имело такое странное выражение, что человек с чувством был бы им напуган.
Это выражение, которое редко встречается на девичьем облике, тем сильнее от него отличалось, словно одежда, которая была сделана не для него. Печаль и радость, эти два крайних слова в ряду человеческих чувств, в молодости рисуются резко и отчётливо на лицах, которые часто в одном часе достигают обеих границ. Эти оттенки чувств, которыми более поздние лета разнообразят человеческий облик, молодость почти не знает. На личике Рози не было ни выдающейся грусти, ни одного ясно выписанного выражения, чтобы одним словом давало себя определить; в почти детских чертах светилась серьёзность, задумчивость и, как бы гордость человека, который готовится к исполнению великого дела. На её глаза иногда навёртывалась слезинка, но какой-то внутренний огонь её осушал, была она, может, более красивой, чем когда-либо, но той красотой, какая покрывает иногда лица умирающих, либо идущих на расставание. Ты видел, смотря на неё, что легкомыслие из её головки улетело, что сердце не билось мимолётным чувством, что она шла к какой-то великой цели, которая поднимала её и увеличивала. Эта красивая фигура, перед которой восхитился бы художник, встал на колени поэт, отличалась ужасным противоречием от истощённого, со знаком подлости на лице, волочащегося за ней Преслера. При ней он выделялся, как дьявол, ожидащий чистую душу, с глазами, опущенными в землю, шёл, стыдясь сам себя, шёл и, натянув шляпу на глаза, казалось, боиться, чтобы его не видели люди.
Вход этой странной пары в приёмную князя, согласно обычаю, переполненную самой пёстрой толпой, пробудил огромный интерес. Черкес, солдат и лакей, присматриваясь к той невинной жертве, молодое лицо которой стыд обливал кровью, шёпот, смешки, издевательства, полуслова были первыми ударами мученичества, которые бедная девушка должна было вынести.
Преслер, привыкший к унижению, принятие которого было подобно повседневному хлебу, не мог ни защитить её, ни даже осознать то, что она чувствовала. По очереди каждый из службы подходил к Преслеру, уставлял на Розию бестыдные глаза и этим отвратительным взором, который бывает обидным, пронзал невинную девушку. Нужно было, однако, не имея денег, смирением разоружить этих стражей нием господских дверей, милость которых могла их отворить, а гнев закрыть. Другие посетители, самая разнообразная толпа также насешливо присматривалась к Преслеру и Рози.
В приёмной этого вида, в которых часто человек, достойный ада, проводит время, не имеет, может, на свете неприятнейшей проверки терпения. В них эти бедняги часто терпят ту ненависть к могущественным и вышестоящим, которая позже становится всей их жизни превозмогающим чувством. Кто не ожидал в приёмной чиновника или великого господина милосердия его службы, тот ещё не испытал вида унижения, может, самого чувствительного. Что ж когда лишь два или три раза нужно пройти через эти огни, чтобы подступить к грозному облику, который от тебя отделывается ничего не значащей банальностью. Слуга, который в десятом часу понёс господину чай, видно ему что-то поведал о красивой девушке, потому что вскоре за каким-то очень серьёзным паном, который первым получил аудиенцию, впустили Преслера и Розию.
Князь был ещё в утреннем халате и неофициальном костюме; его лысоватая голова недавно вычищена; усы, наваксованные минутой назад, не могли освежить лица увядшего, бледного, которое уже морщинки, план будущего разрушения, деликатно разрисовывали.
Преслер начал с того, что упал ему в ноги, а Розия уставила на него свои голубые, полные выражения, глаза, взору которых сопротивляться было невозможно.
Князь, который вроде говорил по-польски и весьма свою польскую речь любил хвалить, велел рассказать себе всю историю; но не столько её слушал, сколько приглядывался к молчащей Рози.
Этот беспощадный взор испорченного человека пробуждал в ней неописуемое отвращение; если бы она могла, сбежала бы от него на конец света, но чувство долга удерживало её на месте. Князь, не много обращая внимания на Преслера, к Розии особенно показывал любезность, что её ещё больше гневило. Он сам пододвинул ей стульчик, а оттого, что как раз пил чай, хотел ей даже услужить стаканом этого напитка.
Естественно, Розия от стула и чая отказалась, но с женской хитростью чувствуя свою силу, глазами доводила москаля почти до забвения.
Никогда ещё князь ни в салонах Петрова града, ни между московскими цыганками, ни за кулисами европейских театров, такого свежего весеннего цветка не встречал; сама мысль, что эту беззащитную бедную девушку он мог заманить, кружила ем у г олову.
Вот бы только была зависть между товарищами, для которых старейшие матроны варшавского балета ещё были непреодолимым искушением и идеалом!
Когда Преслер закончил говорить, князь не знал так хорошо в чём было дело, догадался только, что его просили о чьём-то освобождении и, по московскому обычаю, приказал Преслеру подать ему записку.
Идя на эту аудиенцию, старик, который хорошо знал формы, уже заранее её приготовил; ошибся, таким образом, князь, думая, что ему её принесут отец с дочкой в другой раз. Но сам приход Рози был великого значения. Москаль понял его и велел прийти Рози завтра за ответом.
Покраснела бедная, услышав этот обидчивый приказ, но решила до дна испить стакан горечи, и в руке стиснула ту бутылочку, в которой покоилась её месть. Преслер ещё раз поклонился ему аж до ног, но князь вместо того чтобы его поднять, подал руку Рози. По счастью, отвечая на это прощание, девушка имела самообладание высунуть ладонь, в которой этой таинственной бутылочки не было, иначе кто же знает. Князь может её почувствовал бы, нашёл бы яд, и Бог знает, какая судьба могла ожидать бедную Розию.
Когда после получасового разговора они, наконец, оттуда вышли, Преслер шепнул только дочке, чтобы возвращалась домой, а сам, не в состоянии усидеть на месте, хотел пойти к цитадели, дабы узнать о жене. Розия удержала его за руку.
– Отец, – сказала она, – приходите же за мной, потому что одна я завтра туда не пойду.
Он странно на неё посмотрел, кивнул только головой и так расстались.
Он потащился под цитадель, а ей срочно было нужно всю историю этой экскурсии рассказать Казьмежу. Поэтому она поспешила в аптеку, ибо чувствовала, что там её с тревогой ожидали. Уже издалека она увидела Казьмежа, стоящего на пороге, с глазами, уставленными в сторону замка.
Не повторим этого разговора, так как мы, может, не сумели бы во всей его правде, со всей его особенностью изложить.
Любовь смешивалась в нём с ужасом, яд с мечтами о счастье, идиллия с трагедией. Были там слёзы и улыбки, негодование и надежда, смерть, преступление, героизм, и притом много, много неопытности и детства.
Когда это происходило, Преслер тем временем плёлся под крепость, напрасно спрашивая о жене, солдаты растолкали его, высмеяли и ничего ему не поведали о ней. Целый день провёл он так на улицах, в шинках, два раза заглядывал домой, из которого горе его выгнало.
В этом состоянии духа человек либо лежит неподвижным камнем, либо лихорадочно летает, нигде не в состоянии удержаться на месте.
На следующий день утром, наряженая Розия, с лицом, воспалённым от слёз, грёз и ночной бессонницы, была готова гораздо раньше, чем пришёл отец. Вместе с ним в молчании пошли они снова через эту отвратительную приёмную к этому человеку, на испорченности которого покоились последние надежды отца.
Впустили их без промедлений, князь был неслыханно вежлив, но, по-видимому, обеспокоен. Не отбирая полностью надежды, ничего, однако ж, не обещал. Из баламутных его объяснений было видно, что его старания не удались, но Розия так ему понравилась, что он обещал ещё делать, что только будет возможно, чтобы судьбу Юлиана по крайней мере немного подсластить.
Для Преслера, который знал москалей, уже не подлежало сомнению, что из этого всего на той дороге ничего уже быть не может. Значит, он напрасно только выставил своё дитя на посмешище, а себя на презрение.
Князь, вроде ещё что-то обещая, потребовал адрес Преслера и старательно его себе записал.
Розия вышла в этот раз какой-то грустной и счастливой, не зная сама, что делалось в её душе; она чувствовала себя спасённой, и весь её героизм остался только как бы сонной мечтой. Она пошла снова исповедаться Казьмежу, не думая, чтобы взятый князем адрес, мог её подвергать какой опасности.
* * *
Был уже поздний послеобеденный час, когда князь, который обычно ел в Английском отеле, хорошо выпив, вышел, улыбаясь сам себе, и хотел, впервые проезжая Вербовой улицей, остановить для себя дрожку, но возница-патриот показал ему язык и фигу, а сам вскачь полетел дальше. Счастьем, кони его шибко унесли, в противном случае его, наверное, отдали бы под военный суд. А то, что каждый московский офицер, в соответствии с катахизисом о монаршей чести, представляет какую-то частицу законной власти, извозчик мог быть осуждён в шахты, если не на виселицу, для примера. Князь, поражённый оскорблением, которое его встретило, пошёл пешком. Заняло у него немного времени постараться о другой дрожке, возница которой получил от него по шее за преступление своего товарища; потом поехали с ним к Хозеру, где князь купил довольно красивый букет, вступили в Контего за коробочкой конфет, наконец направился к Диканке.
Розия сидела у окна, согласно привычке, но хотя держала в руке работу, работать не могла, мысль о брате, которого она так любила, о матери, которая исчезла из дома без вести, наконец о собственной судьбе, хмурила её лицо. Два дня была в доме пустота, вчера вычерпали последние запасы и ни гроша, всем торговцам что-то принадлежало, никто не хотел дать в кредит. С утра совсем не было что поесть, и даже на что хлеба купить.
Казьмеж пришёл бы ей на выручку, но какой-то стыд её охватил от самой мысли признания ему своего положения. С утра до вечера, кроме небольшого количества воды, у Розии во рту ничего не было. Ненадолго показался отец, хмурый и задумчивый, она не хотела ему даже о том напоминать. Посоветовавшись с Касией, которая отчаялась ещё больше неё, Розия послала одно из лучших платьев, чтобы его где-нибудь у еврея заложить, но Кахна, выйдя в полдень, до сих пор ещё не вернулась. Голод докучал всё сильнее, иногда делалось ей плохо, потом горячо и ужасно сжигала её жажда. Вода, которую она пила, казалось, разжигает её – не тушит. В минуту, когда она ожидала служанку, медленно отворилась дверь, в ней показалась какая-то голова.
Розия только заметила мундир и ужаснулась, думая, что в комнате Юлиана будут делать ревизию, но в минуту, когда та мысль пробегала по её голове, признала в подходящем князя с букетом в руке и коробкой конфет. Москаль с интересом разглядывал квартиру, видимо, его радовало то, что Розия осталась одна. Не делая церемоний, положил ей букет и конфеты на колени, а сам, придвинув к себе стул, собрался приступить к разговору, когда испуганная девушка, уронив подарки на пол, выскочила на середину комнаты. Подвыпивший его светлость сорвался, чтобы погнаться за ней, ласковыми словами стараясь успокоить её страх, когда вновь отворилась дверь и старый Преслер вбежал, как буря. Видно было на его лице какое-то неистовство и отчаянное безумие, его руки тряслись, губы дрожали, глаза были кровавые, брови нахмуренные. Князь мог его не узнать, настолько отличался сегодня этот человек от того, который вчера лежал у его ног.
С порога увидев москаля, который гонялся за его дочкой, он бросился на него с безумием хищного зверя, подскочил, схватил за грудь и поверг на пол.
Князь, схваченный врасплох, совсем не сопротивлялся. Преслер сел ему на грудь, прижал её коленом и страшным издевательским смехом рассмеялся над его головой.
– Ха! – воскликнул он. – Я тебе! У меня есть хоть один из вас, чтобы я насытил свою месть. Драл бы тебя зубами, собака этакая, так мне хочется твоей крови. За себя, за сына, за жену, за дочь ты мне заплатишь! Это вы нас унизили, каждое ваше прикосновение пятном осталось на нас, где кто-нибудь из вас шагнул, появляется грязь. Не достаточно вам было унизить нас, старых, вы должны были ещё выпить молодую кровь, опозорить наших женщин, отравить воздух, которым мы дышим! Пусть меня убьют, но пусть я хоть одного из вас прикончу!..
Эта закуска после шампанского вина, во время, когда он собирался к романам, так неожиданно поразила князя, что в первую минуту он чуть не пал жервой разъярённого отца. Но сильно придушенный, доведённый до отчаяния, начал, наконец, обороняться, он был младше и сильнее, опасность прибавляла ему энергии; таким образом, он сбросил с себя Преслера, а победив его, начал награждать его ударами.
Нельзя предсказать, чем бы закончилась эта борьба, если бы случайно пришедший Казьмеж не прибежал на защиту отца Рози. Офицер, снова видя опасность, награждённый ударами и преследуемый как злодей, убежал, не зная как пролетел лестницу, добежал до ожидающей дрожки и умчался.
Преслер без шляпы, как бы наполовину ошалелый, погнался за ним улицей. Что с ним происходило до позднего вечера, никто не знал.
Уже под ночь побледневший, скрежеча зубами и дрожа от лихорадки, вошёл он в бильярд пани Шимоновой и, уставший, упал на канапе. Те, кто часто видели его пьяным, заподозрили сразу об опьянении, но когда он начал стонать и плакать, Кузьма, который случайно там находился, милосердно подошёл к нему.
– Что с тобой, поручик? – спросил он.
– Что со мной? Ты не знаешь? Хочется мне крови московской, или они пусть мою выпьют, или я её попробовать должен.
– Что с вашей милостью такое? Ради Бога! Не кричи же так!
– Боюсь ли я чего ещё? Не имею уже ничего, кроме потерянной жизни, а это я охотно отдал бы, чтобы отомстить им. Сына моего забрали эти палачи! Мою дочь хотели обесчестить. Думали, что я уже настолько падший и бессильный, что меня можно безнаказанно раздавить. Но когда уже только жизнь остаётся, человек её продаёт дорого! У меня в руке был уже один из них, и тот улизнул…
Когда он так очень несдержанно говорил, ему нехватило дыхания и он снова упал, плача, на канапе. У Кузьмы при виде этого отчаяния встали на голове волосы, однако он не мог понять хорошо всей истории Преслера. Невозможно его было обвинить в подлом притворстве, ибо такая боль подражать себе не даёт.
Пришло ему, в конце концов, на ум, что этот обезумевший человек мог бы на что пригодиться молодёжи. Старый шпион в этом расположении мог больше вещей разболтать, на больше дорог направить. Сел он, таким образом, рядом с ним, начал его утешать, успокаивать и расспрашивать.
Или его дружественный и милосердный голос, или долгая усталость остудили немного Преслера, он сел и, по-прежнему плача, начал исповедоваться перед столяром:
– Нужда, уговоры этих злодеев, безделье, – сказал, стуча себя по груди, – втянули меня в этот ад, жертвой которого я сегодня падаю; я, правда, виновен, признаю, стал подлым, губил людей, но также сам погибаю, как они. Одного имел ссына, которого больше жизни любил, и привёл палачей, дабы его схватили вместе с другими; ползал у них в ногах, чтобы его освободить, оттолкнули меня с презрением. Вчера посоветовал мне какой-то злодей, чтобы шёл с дочерью выпрашивать ещё их милосердие, а сегодня несколькими часами ранее, когда я возвращался от губернатора, который просто отказал моей просьбе, я застал у себя в доме москаля, который напал на мою дочку. Он уже был в моих руках, вырвался, но не он, так другой должен искупить…
Долго так говорил он ещё с Кузьмой, пока тот хорошо не убедился в расположении Преслера, и наконец шепнул ему:
– Жаль мне тебя, мой брат, но, быть может, есть ещё одно спасение. Ты направился бы к москалям, если бы попробовал перебежать к товарищам своего сына? К нашим? Всё-таки их всех вместе не взяли!
– Да! – протянул грустно Преслер. – Как же я там глаза перед ними покажу? Они подумают, что я пришёл им показать, что выдам их, дабы спасти сына. Знают они меня и знают, кто я, петлю, не помощь, готовят для меня!
– Ты не знаешь их, – сказал Кузьма, который дружелюбно по-польски и неосторожно по-польски с полнотой сердца разбалтывал. – Милосердные это люди, хоть не раз должны на смерть осудить себя и покуситься на жизнь. Я простой человек и хорошо этих вещей не понимаю, но когда вольно москалям без суда, без права, без защиты убивать, вешать и расстреливать, не годилось бы нам обороняться? Кричат, что наши убивают на улицах, пусть же рассчитают сколько мы, а сколько они убили. Не бойся, – добавил Кузьма, – а в конечном итоге, что тебе терять?
Преслер, у которого эта мысль застряла в голове, позже шепнул на ухо:
– Смилуйся! Ежели можешь, спаси ты меня!
– Сиди здесь и не двигайся с места, – сказал солдат, – я скоро вернусь.
Он тут же выбежал, а Преслеру это время ожидания показалось чрезвычайно долгим.
Наконец Кузьма вернулся, но какой-то грустный и с лицом, не дающим много надежды.
– И что же? – спросил Преслер.
– Пойдём со мной, ваша милость… увидим…
Ничего не говоря, оба пошли, Кузьма вёл его малыми улочками вглубь Старого Города, потом толстым платком завязал ему глаза и снова повёл, как бы намеренно кружа вправо и влево, чтобы поручик не догадался куда идёт. Ночь была тёмная, Преслер думал о чём-то ином и эти чрезвычайные предосторожности вовсе его не удивили. После долгих разворотов на улицах Преслер почувствовал, что вошли в какое-то здание, что открыли несколько дверей, потом необходимо было спуститься вниз по ступенькам, а когда открыли ему глаза, увидел себя в каком-то подземелье без окон, с голыми стенами, имеющим в глубине большие железные двери. Посередине был простой столик, забросанный бумагами, при нём сидело трое молодых людей.
Глаза всех были уставлены на Преслера, который стоял дрожащий, как преступник перед судом. Один из собравшихся бросил перо и подошёл к нему.
– Не нужно ничего нам говорить, – сказал он, покручивая усы, – мы знаем всё, твоя жизнь была подлой, лучше было умереть с голоду, чем кормиться предательством.
Не закончил он этих слов, когда железные двери в глубине подземелья медренно отворились и вошёл ксендз в сутане одного из ордена св. Франциска.
Это была мягкая фигура, хотя энергичная, лицо, оживлённое чёрными глазами, уста, полные милосердной улыбки; посмотрел он на Преслера, о чём-то пошептался с молодыми людьми и подошёл к нему с видимым состраданием.
– Видишь, видишь, дитя моё, – сказал он, кладя руку ему на плечо, – к чему тебя забвение о Боге и праведных святых Его привело! К гибели собственного ребёнка, и кто зает, не двоих ли твоих детей!
– Отец мой, – ответил Преслер, плача, – помилуйте, спасите, но не добивайте меня, напоминая вину мою.
– Ты сожалеешь о грехе, ты наказан, Бог несомненно простил и люди прикоснуться к тебе не должны. Справедливый судья взял сам на себя приговор и его исполнение, мир с тобой, человече.
– Видит Бог, – воскликнул Преслер, – хотел бы я зло исправить, спрашивайте меня, я расскажу вам, что только знаю, буду вам служить до смерти! Хоть бы и меня повесить хотели.
– Дитя моё, – сказал ксендз, – ты очень красиво это говоришь, но рассчитайся с совестью, не делаешь ли ты этого из-за одной мести? Месть – не христианское чувство, мы не мстить себе на москалях, но защищаться от них должны. жны. Преследуя святую нашу веру, хотели бы нас унизить и испортить, чтобы тем легче поработить; защищая эту несчастную страну, в то же время мы защищаем Божественные права, которые они топчут ногами…
Он говорил, а Преслер плакал, наконец после той моральной науки, начали его выспрашивать о разных деталях, о которых более точная информация могла быть полезной.
Преслер, ежели не доставил особенно важной информации, то много имён людей, которые принадлежали к тайной полиции, назвал; много сказов, которые можно было использовать.
Разговор растянулся далеко за ночь, но для бедного Юлиана никакой надежды не было. Вырвать его из их когтей никто не мог; побег из цитадели был почти полностью невозможен, чрезвычайно труден в путешествии. Уверили только Преслера, что сыну его насколько возможно будут стараться подслостить его судьбу, что потребности его будут удовлетворены, что будет иметь уход, а позже, кто знает? может быть, каким-нибудь способом придумают побег.
Этого было недостаточно для Преслера, который хотел видеть сына обязательно свободным, но ксендз в конце прибавил:
– Запомни, что этого твоего ребёнка Бог назначил, может быть, чтобы грехи отцовские искупил, он молод, многие постарше него, послабее, более заслуженные. Бог наносит тебе тяжёлую рану, но от его руки её нужно принять, так как и вины тоже великие были.
Он утешал его как только умел, но чем же являются слова рядом с такой болью, которую только дело может разрушить, а время ослабить.
Преслер вышел с иной только грустью, с изменённым страданием, отягчённый бременем, на которое ему недоставало сил.
Снова, после долгих переходов в разных направлениях, он оказался, когда ему развязали глаза, перед дверью своего жилища.
Вошёл он, грустный, на лестницу и в квартиру, в которой осталась только Кахна, сидящая на полу и заливающаяся слезами. Она бросилась к нему с рассказом, что пару часов назад полиция влетела в дом, что всё перетрясли, что в кровате Рози нашли какие-то бумаги и её забрали в тюрьму.
Мы добавляем сюда, что через неделю после этого неожиданно умер адъютант губернатора, князь Шкурин. Причина его смерти была таинственной, неисследованной, говорили об апоплексиии. О судьбе Рози ни отец, ни Казьмеж никогда узнать не смогли. В тюрьмах нигде её имени в списках не было. Пропала без вести.
* * *
Для самой сильной боли людское сострадание есть бальзамом Самаритянина, если оно ран не лечит, то по крайней мере успокаивает страдание, а время, этот мастер лекарей, постепенно затягивает шрамы.
Бедная мать Юлиана, поднятая милосердной рукой женщины, сын которой так же дышал тюремным воздухом, нашла у неё крышу, милосердие и заботливую опеку над собой. Ухудшилось, правда, её здоровье, но болезнь тела не дала превозмочь боли души. Когда, спустя несколько дней после переселения, она поднялась с кровати и, немного придя в сознание, начала спрашивать о своих, должны были ей, выделяя понемногу, в конце концов, выложить всю правду.
Проведала бедная, что Юлиан был осуждён к арестанским ротам в Сибири, что о судьбе мужа никто не знал, а дочка бесследно пропала, похищена полицейскими прислужниками. Тяжёлые это были удары, Преслерова, оплакав своё сиротство, несчастную долю дочери и даже мужа, хоть на него падала вина всех этих происшествий, привязалась тем сильней к сыну, и решила сопровождать его в ссылке.
Та мысль, что она будет с ним, что облегчит ему словом печальную долю, что поднимет его кандалы, немного восстановило её здоровье. Она знала, что через несколько дней Юлиана выведут с другими узниками, следовательно, нужно подняться, нужно было вернуть силы, чтобы предпринять этот жалобный поход, управляемый кнутами казаков и издевательствами распоясанной толпы.
Во всём поведении Москвы с виновными и невинными нет самого малейшего следа, что девятью веками ранее этот народ был омыт крещением. Его знаком всегда есть языческая дикость, какой уже нигде не найдёшь на свете. Даже те народы, которые ещё не положили креста на грудь, смягчились одним столкновением с христианством. Одна Москва, хоть будто бы христианская, и хоть на вид благочестивая, сохранила в целости старый татарский обычай и звериное милосердие.
Начав с суда, даже до наказания, всё в ней принятое – есть варварством, можно сказать, что иначе насытить не в состоянии свою жажду крови и убийства, она жадно бросается на всякую поданную добычу. Пусть никакого милосердия не ожидает, кто в когти этих судей и палачей попадёт; тюрьма, допросы, осуществление приговора – всё есть издевательством и жестокостью, рассчитанными на то, чтобы жертва страдала как можно больше, чтобы палач насытился её мучением.
Ни пол, ни возраст, ни слабость, ни страдание защитить не могут; только сила возбуждает в них уважение, слабость – немилосердное издевательство. Если бы Христа собирались распять повторно, нашли бы средство к его страсти добавить какое-нибудь новое мучение…
Цивилизованный генерал трибунала и простой солдат обходятся с заключёным одинаково; диким сердцем это родные братья. Всё, что в описаниях этих кровавых и грустных деяний кажется преувеличенным и неправдоподобным тем, что Россию только поверхостно знают – является ещё тривиальным и недостаточным по сравнению с реальностью, на которую нет слов в людском языке, по той причине, что нет понятия о людском разуме… Рычание зверей могло бы, пожалуй, выразить эту животную жестокость…
Утром перед рассветом, потому что Москва привыкла искать темноту и скрываться со своим правосудием, выволоченных вдруг из цитадели виновников привезли на сборный пункт на Прагу[6].
День выдался хмурый, слякотный, серый и, несмотря на лето, холодный и ветренный. На промокшем от долгого ливня песке стояло несколько десятков человек, преимущественно молодёжи, в грубых солдатских шинелях, с постриженными головами, прикованных к железному штырю, и окружённых по кругу сильной стражей.
Эта экспедиция состояла из людей всякого положения и возраста, а Москва постаралась и о том, чтобы между политическими заключёнными находились простые жулики, намеренно желая преступную любовь к родине с самым подлым преступлением сравнять. Отличалась та фигура зловещего разбойника и жулика, с впалыми в череп глазами дикой кошки, от благородных мученических обликов…
Рядом с разбойником шёл прикованный старичок ксендз, который принимал присягу ремесленной челяди, спокойный, мягкий, на свои будущие страдания смотрящий ясным оком священника, который давно жизнь свою отдал Богу в Его руки и сам ею уже не распоряжался. Посаженный в тюрьму, прежде чем его начали допрашивать, старец потребовал распятие, и, получив его, поклялся в присутствии испуганного служащего, что никакая пытка слова из его уст не добудет. Осудили его за ту наглость, что смел укрыться под Божье крыло, защищаясь от правосудия царя… Священник улыбнулся, он чувствовал, что был на своём месте, так как нёс с собой слово смирения, утешения и надежды.
За ним шёл молодой парень, бледный и уставший от долгой неволи, болезненно улыбающийся – он смотрел на Варшаву и слеза навернулась под почерневшими от плача веками… Там! Там он оставил старую мать, калеку отца и её… ту, которую любил, и, которой было не разрешено даже прийти издалека помахать ему белым платком. Вчера он обнял в последний раз родителей и её… боясь обменяться именами, даже тихого будь здорова послать не смел. И смотрел, смотрел к ней, в ту сторону, где она, может быть, спрятавшись, плакала, и спрашивал, что ему предназначает судьба… когда же или никогда? – Навсегда! Как железным кинжалом раздирало ему грудь… навсегда! навсегда, страшное слово, которое вмещает в себе суть всей человеческой жизни.
За ним пожилой уже мужчина, отец семьи, тащился с кашлем в груди, обявляющим, что далеко не дойдёт, но с молчащим отречением; за шеренгой солдат стояла его заплаканная жена, двое детей, вытягивая к нему крохотные ручки, жена младенца поднимала вверх, чтобы и он попрощался с отцом. Он смотрел на них и думал, сколько могил откроется, чтобы поглотить столько отчаяния… он не имел уже никакой надежды, кроме смерти… недостаток, сиротство, бедность, унижение, а потом могила и тишина… Он не имел сил прощаться с ними, но смотрел, смотрел, чтобы эта картина выбилась и оставила знак в сердце и повторилась с последним его ударом.
За ним маленький мальчик, который ещё не окончил школы, не начал жизни, уже приступил к новой школе несчастья и первой боли жизни… Студент гордо поднимал лицо, с утешением, что рядом со старыми, такой молодой уже мог за отчизну страдать, его уста улыбались, глаза горели, он насвистывал какую-то песенку, и непризнанная слеза как дождевая капля высыхала на его горячей щеке… Родители были далеко! О судьбе его, может быть, не знали… но он был счастлив, что они услышат, как достойно он носил их имя…
За ним стоял старый мужчина, таинственного облика, жёлтый, исхудавший, с белыми холёными руками, с нежной кожей на лице, стиснутыми устами; видимо, он уже второй раз, возможно, в третий, пускается в эту далёкую дорогу… На его сморщенном лице висела жалобная забота, но глаза забыли о слезах, этих гостей молодости… не мог уже и не умел плакать. Он был отвердевшим и бесчувственным, солдат его бил, пытаясь поставить по порядку, он не чувствовал… В толпе никого не было, кто бы пришёл с ним попрощаться… он был взят под чужой фамилией и никто не знал о его настоящей…
За шеренгой солдат были видны лица толпы, семьи, друзей, жён и матерей, которые пришли сюда искать сыновей и братьев, украсть запрещённое прощание, ибо московское правосудие и с роднёй расстаться не допускает… нужно подстерегать, выгадывать, ловить взор последних приговорённых, нужно святой, последний поцелуй купить у безжалостных солдат, которые разгоняли собравшихся, смеясь над тем, что есть в мире самое достойное уважения – над болью.
Каждый из этих прибывших, кроме слёз, приносил что-то для осуждённых на долгое и неудобное путешествие, что-то, что могло бы им его подсластить, не зная, что поставляет добычу для стражников… Часто уже через несколько сот шагов за городом эти подарки и приношения распределяют между собой солдаты, либо ведущий партию офицер забирает якобы для сохранения, но о них вспоминать потом не годится.
На бледных лицах узников было видно всё, что они выдержали: голод, плохую пищу, используемую, как средство для ослабления в них духа, бессонницу, тревогу, розги и выдуманные пытки, наконец, одиночество, прерываемое руганью и угрозами… потухшие глаза, увядшая кожа, спёкшиеся уста говорили больше, чем поведали бы слова.
Хотя их ожидала тяжёлая судьба, хотя их руки были закованы, над собой имели казацкий кнут, а рядом приклад винтовки – одно дыхание свежего ветра, вид неба и более широкого пространства, немного более свободные движения, сближение с людьми одной судьбы и убеждений – уже это скорбное путешествие делали почти отрадным.
Но кто же оставляет свою страну и принимает то сиротство на плечи без чувства ужасной пустоты, в которую входит?
Даже старый брат монах, что уже отказался было от мира, поглядел, не увидит ли тех монастырских стен, в которых когда-то так блаженно и тихо протекали его годы – что же другие, которые за собой оставили семьи, тысячи узлов и столько сердечных нитей, разорванных так жестоко?
От этого железного отряда глаза бедных приговорённых отвернулись, ища в толпе знакомых, а когда их нашли, поили себя горечью предположений, предчувствий, опасений… Не один подумал, что о нём уже забыли, у другого смерть и болезнь сновали в голове. Те, что увидели знакомые лица, дёргали свою цепь, чтобы ещё раз к ним приблизиться, хоть услышать любимый голос, чтобы его звук остался в ушах и сердце, и звучал в той долгой гробовой тишине напоминанием более ярких дней.
Из-за рядов громкий плачь и брошенные торопливо слова летели к ушам жаждущих узников… узнавали от них о многих случаях, отголоска которых тишина цитадели к ним не допустила…
– А брат?
– В тюрьме.
– А муж твой?
– Сослан…
– А отец ваш?
– Убит…
– А она?
– Сидит в заключении…
– А друг наш…
– Умер и похоронить его было невозможно днём, мы проводили его ночью на Повужки…
Рядом с ксендзом и стариком стоял Юлиан, бледный, измученный, изменившийся до неузнаваемости, но с выражением мужества на лице, которым всё вытерпел. Видно было, что среди страданий не согнулся и не сдался, что отважно шёл навстречу своей судьбе, чувствуя себя апостолом святой правды, зная, что если бы его уста высказать за неё не могли, самим собой будет свидетельствовать о той правде, за признание которой был арестован.
Он никого не ожидал здесь найти и с кем попрощаться, но его мать стояла тут на протяжении трёх дней на часах, подкарауливая сына, ожидая его.
Заметил её Юлиан и улыбнулся, чтобы и ей придать мужества, он думал, что она пришла только со словом благословения в дорогу, и удививился, увидев узелок на её спине и палку в руках. На увядшем лице, несмотря на болезненное состояние, рисовалось холодное решение, которое черпает в себе силы к выполнению даже самых тяжёлых заданий. Та мысль, что мать хочет его сопровождать, больше доставила беспокойства, чем утешения, он предпочёл бы страдать один, чем быть причиной тяжкой боли для матери… Но она, также заметив его, обрадованная, кивнула ему только и стояла спокойно, не пытаясь даже приблизиться, когда другие рыдали, пробираясь сквозь солдат, чтобы ещё раз обнять любимого – она ждала в стороне, терпеливая, расчитывая на долгое путешествие, которое её собиралось связать её с сыном.
В торопливых прощаниях, раздирающих сердца, промелькнула молнией последняя минута, и вскоре послышался приказ к маршу, брошенный тем сухим солдатским голосом, который одинаково произносит приговор осуждения и освобождения. Солдаты двинулись, послышался звон оружия, плач и крики, загремели цепи, и вереница закованных ссыльных двинулась в далёкий чужой мир, не один – до открытой могилы в степи, посыпанной холодным снегом.
Офицер закурил сигару, солдаты разгоняли нажимавшую толпу своим: пошли вон! – отталкивая прикладами. Ксендз затянул:
– Под Твою защиту…
Но подбежавший казак, думая, что это пение какое-то запрещённое, ударил его кнутом по седой голове и песня окончилась тихой молитвой, только синяя полоса на лице священника свидетельствовала, что в минуту разлуки с родиной он думал о Боге.
Призывать Бога и жаловаться на царя – это непростительные преступления… Бог, согласно русским, есть только послушным исполнителем монаршей воли, иначе пошёл бы давно в солдаты.
За шеренгой солдат, опираясь на палку, потащилась одна женщина.
Была это мать Юлиана.
* * *
Не на том, однако, кончается это чёрная драма, над которой светит лучик материнской любви.
В то время, когда это происходило, на Праге, вдалеке, не смея приблизиться, опираясь о стену, стоял старый человек в обшарпанной одежде, с жёлтым и сморщенным лицом, на котором несчастье выпекло свой ужасный знак. Прохожие проходили мимо него с сожалением, читая на лице видимое безумие…
Пока заключённые стояли, его взгляд, казалось, осторожно кокого-то ищет, но как только он падал на Юлиана, прятался, устрашённый…
Даже знакомым, даже жене и сыну трудно было бы узнать в нём Преслера, в такого страшного нищего бродягу превратили его те дни искупления. Лицо было больное, вспаханное слёзами и искривлённое каким-то судорожным дёрганьем, принимающее то выражение плача, то дикого смеха. Он был вынужден опереться о стену по той причине, что не мог устоять на ногах, а его руки беспорядочно упали. Из стиснутых уст была видна сочащаяся пена, словно в последних конвульсиях.
Он стоял неподвижно, пока ссыльные не ушли, даже, когда послышался звон кандалов и узники начали это путешествие, из которого ни один не должен был вернуться, старый бросил безумный взор на кучку проклятых и, как бы наперекор плачу и стону, которые слышались в это время, начал дико смеяться. Этот смех был таким ужасающим, что кучка любопытных детей, которые из-за угла дома наблюдали эту сцену, убежала испуганная… Безумный оглянулся, рассмеялся ещё и, задрав голову вверх, подбоченился, пошёл важным, но шатким шагом в ближайшую таверну напротив.
По той причине, что день был рыночный и люди из околицы прибывали на Прагу и каждый из них в дождливое утро хотел чем-нибудь подкрепиться, когда Преслер вошёл в шинкарку, то нашёл её занятой. Его сильно возмутило то, что его сразу не обслужили.
– Эй! Слушай, – воскликнул он, – не видишь, кто пришёл? Давай мне сюда водку, и живо.
И он расселся за столом.
Еврейка не спешила его слушать, так как, видя порванную одежду, не уверена была в оплате.
– А! ты, иудейская дочь, иродово племя, – воскликнул повторно Преслер с всё возрастающим гневом, – водки, говорю, как можно быстрее, графин водки, а не то тебе голову расквашу…
Возмутились на эти сознательные крики и ругань, хотели вызвать полицию, чтобы убрали сумасшедшего, когда Преслер поискал в карманах и достал трёхрублёвую бумажку, вид которой успокоил шинкарку, а других остановил от вставания на защиту.
С невыразимой жадностью схватился старый за бутылку и начал из неё пить, словно глотал, жаждущий, воду. Страшно было смотреть на это самоубийство, глаза всех обратились на несчастного человека, который, допив до дна бутылку, грохнул рюмку о пол, а сам, бормоча какие-то проклятия, повалился на скамью.
Однако только мгновение продолжалось беспамятство, он тут же встал и с усмешкой направился к дверям; все расступились перед ним, он шёл с опущенной головой, с глазами, уставленными в землю, шепча сам себе:
– Ну, теперь хорошо! В любой день сделают меня полковником, а когда им выдам покойного отца, стану генералом. Чем мне это навредит? Кто скажет, что я предатель? Гм? Прикажу сразу его расстрелять! Никто иначе не заработает себе деньги и ранги. Я продал сына, пропил дочку, жену черти забрали, и…
Я себе пан и ни о чём не забочусь!Последние слова он пропел охрипшим голосом, подбоченился, повернулся на одной ноге, начал, будто бы танцевать, но качался и падал.
– Что мне там! – восклицал он. – Всё глупость, а водка грунт! А что люди посочиняли ту якобы добродетель, эти разные деликатные баламутства, чтобы глупцов держать на верёвке… не стоят стакана воды! Тьфу! Фигня!
Через мгновение же он добавил:
– Где экипаж пана генерала Преслера? Где его люди? Прикажу вознице дать сто прутьев, когда его отыщу, или вышлю его в Сибирь! Знайте, трутни этакие, Преслера… Сибирь…
Повторив это слово, он осмотрелся и встряхнулся.
– Кто тут смеет болтать о Сибири? Кто мне тут упомянул Сибирь? В Сибире золото копят и в соболях ходят, там теплей, чем в этой глупой Италии… Неправда! Ложь, что болтали о Сибири от ненависти к Н. Пану и дружественным москалям…
Говоря это всё тише, голосом, прерываемым иканием, он остановился у берега Вислы и начал всматриваться в бегущую воду, его лицо нахмурилось, и, хотя губы кривились в улыбке, глаза плакали. Он сел, чувствуя себя уставшим, на деревянную мостовую.
– Что теперь делать? – пробормотал он себе. – Я мог бы жить, и порядочно жить. Ха! Но, быть может, не стоит, мне как-то даже не хочется! Жены нет, я мог бы ещё жеиться на какой-нибудь жирной и богатой москвичке, но что, если другая будет таким же дьяволом, как первая? Нет, это глупое дело… жилось, жилось, порвалась… и вся жизнь… Тьфу! Собаке на обувь!
Он снова посмотрел на воду.
– Горит во мне жажда, выпил бы Вислу, – сказал, – но эти злодеи сразу мне процесс выдвинут, патриоты, что им их реку сконфисковал в животе… нельзя… готовы повесить за это…
Он снова усмехнулся.
– Гм, дорогой Адам, – сказал он, припоминая себе своё имя, – если бы мы утопились?
В эти минуты много обезумевший от собственного феномена, Преслер почувствовал, что как бы раздвоился, Адам отделился от него и упрекал его. Преслер гневался и бранился. Оба противника, замкнутые в одной оболочке, начали жестокий бой. Поручик говорил за одного и другого, спорил с собой и ругался.
В конце концов в его голове помутилось, Адам осмелился ему бросить, что он предал Юлиана и, как Бог в Библии, спросил его:
– Что сделал ты с сыном твоим? Где сын твой?
Преслер пожал плечами, отвечая, что не знает, но повторяющийся вопрос разволновал его вконец, и схватил он сам себя, разрывая одежду, царапая и нанося раны на груди…
Так он метался в сильнейшей злости, решил бросить в Вислу навязчивого Адама, и упал в неё с ним вместе…
Вода в том месте была глубокая, его подхватил водоворот, поглотили волны; только дикий издевательский смех, последний пульс жизни, прозвучал далеко под берегом.
Warsawa 1863
Король в Несвиже
Картинка из прошлого роман
Вечером жаркого июльского дня в Несвижском замке, в кабинете, к спальне его княжеской светлости прилегающем, окна которого были заслонены толстыми и тяжёлыми шторами, на удобном стуле, ногами опираясь на столик, сидел, вздыхая и отирая с лица пот, князь воевода виленский Радзивилл – Пане Коханку. Его усталое лицо выражало великую утомлённость и озабоченность; летний наряд, удобный, домашний, означал, что уже в этот день он не ожидал гостей. Рядом на маленьком столике, покрытом легкой скатертью, большой стакан калтешала, из которого он попивал, вздыхая, до половины уже был опустевшим. У ног князя, удобно растянувшись под столом, сопя и сквозь сон отгоняя мух судорожными движениями, почивал любимый сеттер Непта, на которого князь воевода иногда заботливо смотрел.
Перед князем, в некотором отдалении, стоял, в мундире польского вида, довольно приятный, рыцарской фигуры, не очень уже молодой, но здорово и румяно выглядящий мужчина. Красивым его назвать было нельзя, так как черты лица, довольно обычные, не сильно выраженные, ничем особенно не выделялись, но энергия, уверенность в себе, солдатское высокомерие на нём были чётко написаны. Это был шурин князя, генерал Моравский. Он поглядывал иногда на воеводу, прохаживался по кабинету, словно компания молчащего пана его утомляла, откашливался, напоминая ему о себе, останавливался и поворачивал напрасно к нему взывающий взгляд.
Князь с великой невозмутимостью попивал калтешал, отирал пот, покрывающий его лоб, а на товарища не смотрел. Гораздо чаще его уставшие глаза обращались на лежащего под столом сеттера, откормленное и тучное создание, которому жаркие каникулы, равно как и его пану, должны были надоесть. Вдруг князь воевода тихо, как бы сам с собой, начал бормотать; поднял тяжёлые глаза, поглядывая на военного, и сказал приглушённым голосом, наполовину хриплым:
– Говори что хочешь, бабский это вымысел, пане коханку. Не пристегнул, не залатал. Мы ссорились и кусались; потом заключили мир, хорошо его переплатив; а вы мне приказываете в конце концов любить его и слюнявиться, целуясь! Какого чёрта?
Прохаживающийся по кабинету генерал остановился.
– Но, потому что, светлейший князь, – отпарировал он кисло, – князь-подкоморий Иероним, пан каштелян троцкий, крайчий – всё-таки все они в том согласны, что приближающегося к Несвижу короля следовало бы пригласить и принять почётно. Это велят политика и интерес дома Радзивиллов; когда однажды наст упило примирение, прощение взаимных травм, согласие, мир между христианскими панами, нужно бы это припечатать в глазах света приёмом, достойным имени князей. Причём найдётся и припомнится мощь и сила дома, вырастут Радзивиллы.
– Пхи! Пхи! Асинджей, пане коханку, ты считаешь, я вижу, что люди о нас уже настолько забыли, что нам нужно напомнить о себе? Но, прошу тебя, у меня для этого есть способ иной и более дешёвый. Я велю наказать шляхтича… и заплачу…
Генерал рассмеялся.
– Шляхтича только нужно выбрать лучшего сорта, кармазина! – добавил воевода.
– Шутишь что ли, князь! – сказал Моравский.
– Как живо, пане коханку, – весьма быстроподхватил князь. – Шкура шляхтича может мне стоить, предположим, самое большее тысячу червонных. А приём короля? Хе! Хе! Лишь бы чем не обойдусь. Если я приму его гостем, то по-радзивилловски! Треснет не один золотой бочонок! А сколько вина!..
– Какое же значение это имеет для князя воеводы? Разве Радзивилл этого себе не позволит? – вставил Моравский.
Воевода смочил уста в калтешале, вытер их рукавом и тяжело вздохнул.
– Позволит, не позволит, – сказал он, – гм, но зачем нам снова так сильно любить друг друга? Я этому экономщику солью в глаза, а он мне тоже не вареньем… Держаться вдалеке от политики – и достаточно.
Он замолчал на минуту, а из-под стола, как бы желая принять участие в разговоре вздохом и ворчанием, отозвалась также Непта. Князь заботливо к ней наклонился.
– Ты знаешь, – сказал князь, – какое я имею беспокойство? Непта снова в благословенном положении, а тут такая жара!
Генерал пожал плечами, зная, что князь, когда о чём не хотел говорить, обращался к сеттеру.
– А что ещё хуже, – продолжал далее воевода, – не знаю даже, какого себе ожидать потомства. Готова мне дворняжек развести, которых я буду должен топить, чтобы ей позора не делали. Псарщики, хоть имели самое суровое наставление глаз с неё не спускать, чтобы ни в какие романы не вдавалась, допустили скандал. Я беспокоюсь о её здоровье, а из фельдшеров даже ни один заняться ей не хочет. Мирецкий, Вечорковский докторам подражают, а оттого, что за людьми ходят, на неё смотреть не соизволят. Привезти, разве что, специально собачьего лекаря из-за границы… потому что там есть и для свиней доктора… слово тебе даю, пане коханку!
– Но какого чёрта! Непте ничего не будет, – прервал нетерпеливо генерал.
– Из бабок ни одна о ней тоже не побеспокоится, – докончил князь печально. – Не забывай, что она последняя из своего рода и таких сеттеров на свете уже нет. Ты знаешь, асинджей, что я её привёз с Мадагаскара, а королевская псарня гонялась за мной аж до Португалии… потому что я её выкрал.
Улыбнулся генерал и начал прохаживаться.
– А что мне это произведение искусства стоило! – окончил воевода, выкручивая руку над головой. – У неё ужасно тяжелое дыхание, – сказал он, послушав.
Наступило молчание. Воевода глубоко задумался и без какого-либо перехода начал заново:
– Значит, мы решили, что короля-экономщика в Несвиже нужно принять. И вы думаете, что это лёгкая вещь. Раз, два – яичницу поджарить, графинчик вина принести и все дела! Но… Но!.. Мир и корона Польская всё-таки на трубы радзивилловские обращённые глаза имеют… газеты раструбят, посчитают, сколько кур мы пожарим, сколько пива мы выкатим. Я провалить дела не могу; должно быть, пане коханку, grandioso! Хо! Хо! хо! хо!
И воевода докончил бормотанием, на которое Непта глухим ворчанием ответила сквозь сон.
– И знаешь, асинджей, что самое худшее? – понижая голос, добавил воевода. – Не могу ручаться за то, чтобы я ему какой финфы под нос не пустил. Будет меня искушать и свербить подшутить над ним. За моих придворных тоже не ручаюсь, потому что они так его любят, как я… не сдерживаются… изобразить что-то должны… отличную оказийку, хе! хе!
– Ваша светлость, а закон гостеприимства? – прервал генерал.
Князь усмехнулся.
– Ах ба… закон гостеприимства! – пробормотал он. – А было бы тебе приятно, если бы ты должен был Можейке, который тебе ботинки чистил, целовать руку?
Оба пожали плечами. Вдруг Непта под столом шумно задвигалась и князь спешно наклонился к ней.
– Смотрите же, как она неспокойна! – воскликнул он. – Надо бы на это чем-то помочь. Как ты думаешь, если бы ей дать Cornucervi?
– Чёрт побери! – прервал генерал с нетерпением. – Пустить её на двор, пусть себе травы поищет и съест, и будет здорова. Вся её болезнь в том, что её слишком откармливают.
Князь покачал головой, по-прежнему присматриваясь к Непте, которая, растянувшись на другом боку, спокойно засыпала. Какое-то время прошло в молчании.
– То правда, – начал снова воевода, напившись, – что мы раньше не имели случая проветривать то старьё, что в сокровищнице хранится; а тогда бы, по крайней мере, со шпалер моль стряхнули и с вещей пыль стёрли… но дорого будет стоить эта демонстрация! Из двух зол я бы предпочёл уж кого из Массальских принимать, пане коханку… хоть и это – ни с пера, ни с мяса. Уж и мы можем позволить приём, а если бы не хватило, то мне Горбачевский обещал пятнадцать злотых в залог дать…
Моравский, не смакуя эти шутки, возмущался.
– Ваша княжеская мосць, – сказал он, – вы глава дома.
– Разное бывает, – пробормотал воевода, – иногда я головой, иногда карманом дома, иногда рукой и даже случалось уже и ногами быть… но – что мы там! Лишь бы Непта была здорова! Суета всё! Горбачевский одолжит, а вы настаиваете на своём, я уже это вижу. Когда вам чего захочется, бедный пан воевода должен слушать. Голову ему забивают, забивают – для святого мира… залатает старый контуш, и даст последний грош. Что он должен делать, бедняжечка.
И, покачав головой несколько раз, добавил:
– Всё это бабские интриги… Твоей жене захотелось показать королю Заушье, следовательно, я его должен привезти в Несвиж для неё, чтобы она ему цветочками хвасталась.
Генерал пожал плечами.
– Иные бабы, которым хочется браслетик или ожерелье, – говорил далее князь, – вторят ей. Все в него влюбились, а это негодяй, который гладкими словами отделывается от Бога и людей.
Повторился вздох, вытирание пота с лица, попивание калтешала и поглядывание на Непту. Разговор перешёл на любимого сеттера.
– Не могу даже предположить, – начал воевода, – когда случатся роды; я был бы более спокойным, между тем, вы велите мне заняться приёмом этого экономщика и отдачей ему королевских почестей.
– Потому что ему они полагаются, – воскликнул нетерпеливый генерал, – всё-таки он помазанный!
– А, асинджей, ты знаешь, каким маслом? – сказал живо князь. – Мне покойный Подбипята гарантировал, что просто взяли то, которое для салата используют. Откуда он о том знал, я не спрашивал, но он никогда не лгал.
Моравский отвернулся почти гневный, а князь, помолчав, говорил дальше:
– Затем, я полагаю, что мы сюда его приведём! Чем же развлекать в Несвиже? Девчата ему балет станцуют… но целый день на ноги их смотреть не будет. Генералова покажет ему рисование Эстки, что толку, когда он имеет своего Итальянца, который ещё ярче рисует… Золотую хоругвь муштровать перед ним? Не оценит это! На коня его посадить, тот за гриву ухватится. Медведя для него выпустить, может быть казус, потому что желудок имеет, слышал, неспокойный. Мой флот в Альбе, существенная вещь, но этого не поймёт, потому что флотом, как я, не занимался. Наконец, что стоит такой человек, с которым даже напиться нельзя. Ничего не пьёт, кроме воды, которую любит, как гуси, у меня же в Несвиже хорошей нет. Боится напиться, чтобы не проболтаться… то достаточно сказать… если бы искренним был… рюмки бы не боялся. Что ж я с ним делать буду. Гм? – князь понизил голос.
– В сокровищницу его пустить с аколитами[7]? Это всё нищие…
– Ну же, светлейший князь! – прервал возмущённый генерал.
– Как же? Не голый? – прервал воевода. – Гм! Занимают у Голендров, занимают у Теппера, занимают у посла, а я ещё не слышал, чтобы кому что отдал. Впустить его в сокровищницу, это только аппетит разыграет.
– Ведь князь только что жаловался, что таких денег не имеет! – сказал Моравский.
– Потому что не имею, – воскликнул князь, – сокровища радзивилловские, а я их сторож. Всё же этих золотых слитков из него не могу взять, а бриллиантов не заложу, и арендаторы не платят, и из товаров мне только сушённые грибы и лесные орехи приносят. Дать ему орехи погрызть! Зубы себе поломает и скажет, что это измена!
– Князь всё обращает в шутку, – разразился Моравский, – серьёзно нельзя поговорить.
– Ты думаешь, что шутки то, что я говорю, – воскликнул воевода. – Размышляй и рассуждай, как хочешь, а выйдет то же самое, что у меня в шутках. Не спереди, не сзади. Выступить по-радзивилловски, говорю, что хочу его впечатлить; принять его скромно, крикнут, что я скупой… а в итоге, ни за себя, ни за людей не ручаюсь, чтобы какого фокуса не устроили и дым под нос не пустили. Брызнет кто неосторожным словом – возьмёт его на себя… на воре шапка горит. Из той великой дружбы готова неприязнь вырасти.
Воевода говорил ещё оживлённей, когда из соседнего зала медленно вышла высокого роста, достаточно тучная, не слишком уже молодая, совсем некрасивая, с мужским выражнием лица и чернеющей растительностью над верхней губой, дама в белом платье, без шапочки, с золотой табакеркой в руке.
Это была сестра князя, пани генералова Моравская, жена разговаривающего как раз с ним литовского секретаря. Услышавши её приход, воевода поднял тяжёлые веки.
– Так вот! – сказал он. – Теперь она в свою очередь приходит ко мне надоедать мне этим приёмом его величества короля. Обязательно бы его хотели видеть в Несвиже?
– Мы его – ничуть, – ответила грубым голосом пани Моравская, – но мы хотим, чтобы он увидел Несвиж и убедился, что Радзивиллы на Литве значат.
– И за это мы ему должны будем руки целовать! – вставил князь… и сплюнул…
Более громкий вздох Непты прервал едва начинающийся разговор.
Воевода положил палец на уста.
– Слышишь, асинджка, как она тяжело дышит? – шепнул он, обращаясь к сестре…
– Что за диво! – презрительно ответила Моравская. – Ты видишь, что на ней жир!
Князь сморщился, услышав это пренебрежительное выражение, и, забывая о прибывшей, беспокойным взором следил за всеми движениями Непты, у которой в самом деле был тяжёлый сон. После короткого перерыва генералова, принимая табак, начала тихим голосом:
– Ты угадал, пане брат, что я тоже сюда пришла настаивать на принятии короля в Несвиже. Для чести дома надо выступить, ничего не поможет. Позволила это Яблоновская, позволили Огинские, а мы могли бы не позволить?
– Но, но, – воскликнул воевода, – хотя бы я занимал у Горбачевского или у Толочки, позволил бы и князь воевода это, но нужно другое принять во внимание. Он так хорошо знает обо мне, как я о нём, что не любим друг друга; значит, подабает лгать политично, а меня это душит… и либо я, либо кто-то из моих вырвется с каким-нибудь словом – пива наварит! Он будет во всём искать намёк – а мы, хоть неохотно, пустим ему какую-нибудь злобную шутку. Я говорил это уже генералу. С великого обожания вырастет злость ещё большая. Князь схватился за голову.
– Мы должны будем в нём славить ягелонскую кровь, хотя, кто знает, какая там в его жилах течёт.
Моравская начала гневаться.
– Ну что ты! Достаточно, что он король… или его совсем не нужно было короновать, или теперь ему кланяться следует. Всё-таки пан воевода виленский на границе княжества должен будет его приветствовать. Ну и что ж? Не попросит его к себе в гости?
– Но, но, если бы это свекольной ботвой обошлось, – пробубнил воевода, который себе снова отпустил поводья. – Мой замок вверх ногами опрокинется. Нужно ему всё представлять, начиная с псарни, даже до балета… Фейерверки палить, жаркое из барана жарить, в Альбе флот приготовить, стянуть полки, медведя привезти, и, всю шляхту на двадцать миль вокруг созвав, её кормить и её лошадей. И готова мне ещё на эти дни выпасть слабость моей Непты, надзора не будет, все потеряют головы – несчастное создание, вместе с потомством падёт жертвой! Род на ней угаснет!
Генералова начала сердечно смеяться.
– Словом, – сказала она, – Непта – препятствие всему и, вероятно, она у вас в большей цене, чем…
Воевода не дал ей докончить.
– Чем многие люди, – добавил он живо. – Ну, да. Асиндзка должна знать, что кроме Непты, никто меня не любил.
– Годится это говорить! – прервала генералова с возмущением.
– Годится, ибо правда, – продолжал далее воевода. – Непта меня одна любила и не требовала никогда от меня ни залогов, ни пожизненной ренты, никаких расписок… радовалась костям с тарелки.
Моравский, стоящий напротив говорящего, пожал плечами, поглядывая то на него, то на жену. Между тем воевода, словно говоря сам себе, бормотал всё тише и окончил неслышным шёпотом, который утопил в колтешале.
Генералова спокойно приняла табак, князь, вытерев усы, громко начал разговор:
– Я знаю, вы настаиваете на своём. Ваше всегда наверху – я должен всех слушать, начав от Бернатовича и ксендза Катенбринка, даже до князя крайчия и госпожи благодетельницы. Пусть же заранее пошлют телеги в леса за метлами, потому что после этих гостей мусор придётся вывозить в течении полугода. Пани генералова, ты также с фрауцимер будь бдительней, потому что двор беспардонный. Приедет князь Нарушевич, который на старых баб особенно падок, иные на молодых, не прощают никому…
– Не плёл бы! – воскликнула Моравская.
– Увидите, – продолжал далее неугомонный князь, – увидите, не буду ли пророком. От этой великой чувствительности получится раздражение, будет потом плач и скрежет зубов… Должна быть финфа, ничего не поможет… Кто её пустит, не знаю, но что король заранее должен нос приготовить – это точно… Вы все насели на меня – много плохого на одного, я должен быть послушным. Теперь из двух неминуемо одно, выступив по-радзивилловски, угодливые и льстецы скажут, будет им слишком мало – крикнут, что мы бунтари и мятежники. А ну! Сегодня воля ваша!
Воевода продолжал бы ещё дольше, если бы в это время не задвигалась Непта, не зевнула громко, не начала вытягиваться, после чего пришла тереться о панские колени и полизала свешенную руку. С великой нежностью потянулся к ней воевода и начал потихоньку с ней разговаривать. Сеттер, словно его понимал, виляя хвостом, смотрел ему в глаза. Казалось, словно хотел залаять, но окончилось зеванием.
Супруги Моравские поглядывали на это приветствие разбуженной с сожалением и родом насмешки. Князь, казалось, о них забыл – позвонил. Тотчас вбежал слуга, бывший на страже. Тот подвергся выговору, что Непте свежей воды забыл поставить.
Генералова между тем, немного подождав, дала знак мужу и встала.
– Тогда, – сказала она, беря понюшку, – вещь решённая. Король будет в Несвиже, а ты его поедешь на границу пригласить. Теперь следует думать безотлагательно о приёме.
– И о финфе, – тихо шепнул воевода, а Моравская закончила, делая вид, что не слышит:
– Нужно начать готовиться! Если не ошибаюсь, прибытие короля выпадает где-то на вторую половину сентября. Больше чем от шести до семи недель мы не имеем на всё. Итак, время хлопотать…
– Мы хлопочем! – вздохнул, уходя, князь. – Пусть завтра ко мне утром придёт Бернатович, а я тем временем подумаю… Если гриб – лезь в корзину… должен был упасть на Радзивилла… Огинский каналы копал, а я терплю за него!
* * *
Король с утра прохаживался по кабинету, генерал Комажевский стоял в стороне, опираясь на столик, ожидая, пока наисветлейший господин обдумывал. На красивом ещё, но уставшем и выжитом лице Понятовского светился, редкий на нём, лучик внутреннего удовлетворения… Иногда он останавливался в этой прогулке, белой, красивой рукой брался за свежевыбритый подбородок и думал, потом с улыбкой внутреннего удовлетворения возвращался к медленной прогулке и размышлению. Комажевский смотрел издалека с видом уважения и почтения. Был это один из тех немногих людей, которые верили в короля…
Несколько минут продолжалось молчание.
– Знаешь, мой генерал, – промолвил, наконец, король, останавливаясь напротив него, – всё так, как я тебе говорил, минута как раз способна на то, чтобы все следы былой вражды, недоразумений, раздробления на лагеря, стереть и работать на умиротворение. Сосредоточить всех около трона… а, если не удаётся получить баламутов, уменьшить, по крайней мере, их численность…
Он мгновение помолчал.
– Что думаешь, – добавил он, – если мы постарались бы теперь на Литве Радзивиллов склонить на свою сторону? Эти люди вообще не имеют больших голов, пылкие, безрассудные, но традиции их связывают со страной, имеют большое влияние и не хватает им того, на чем оно держится, денег… Пане коханку теперь со мной ни хорошо, ни плохо… А если бы мы попробовали, пощупали, или посещением его в Несвиже мы не польстили бы ему и не получили его? Как тебе это кажется?
Комажевский улыбнулся.
– Наисветлейший пане, – ответил он с доверительностью, полной уважения старого слуги, – мог бы я иначе или лучше что-то выдумать, чем ваше королевское величество? Золотая мысль… Радзивиллы всё-таки сохранили на Литве то обаяние, какое имела их семья от веков, и которое их связь с династией Ягеллонов ещё возвысила. Всегда что-то значит то, что Барбара была на троне… Сегодня князь Пане коханку занимает видное положение, поскольку самый доблестный, хотя, впрочем…
По устам короля проскользнула улыбка.
– Что ты скажешь о посещении Несвижа? – спросил он.
– Я повторяю вашему королевскому величеству, – сказал генерал, – золотая мысль, но не нужно заблуждаться и вам, наисветлейший пане, исполнение будет нестерпимым… С Радзивиллом нужно пить…
– Ну, рюмку! За процветание дома… – ответил король. – Преодолею себя, хотя бы отболеть пришлось. Когда политика приказывает, многое проглотить нужно.
– Рюмку! – воскликнул Комажевский. – Ваше королевское величество думаете, что там рюмками пьют?
Понятовский втянул голову в плечи.
– Тогда уж, пожалуй, ты меня должен будешь выручить, – сказал он, смеясь. – Но скажи мне наперёд, как мы дойдём до того, чтобы в Несвиже смогли напиться?
Комажевский задумался.
– Кого же мы подставим для инсинуации, – сказал он, немного подумав. – Вам, наисветлейший пане, напрашиваться не подабает; меня слишком знают как преданного вашему королевскому величеству, а нам следует толкнуть кого-то нейтрального к генералу Моравскому.
Он и жена его подадут воеводе мысль. Он должен пригласить.
– Естественно, – сказал король, медленно остывая по мере того, как мыслью анализировал все последствия предпринимаемого шага. – Естественно. Политика нынешнего времени может нас вынудить к этому шагу, хотя, мой Комажевский, с моей стороны это будет большой жертвой. С Радзивиллом нужно вести дело осторожно, уметь к нему приспосабливаться. С другими врагами это мелочь, но с таким, как этот добряк Пане коханку! Я, король, в сравнении с ним, бедненький. Кроме ордена, которого дать ему уже не могу, потому что он его имеет, ничем даже отблагодарить не смогу за гостеприимство, которое ему дико дорого может стоить, не для меня, а для его самолюбия.
– О! Что Радзивилл выступит монументально, в этом не сомневаюсь, – прервал Комажевский, – что ему это может стоить кучу денег – нет слов; но он себе это позволит.
– Только бы не совершил какой нелепости, – вставил король, – он тщеславный… боюсь.
– Нам следовало бы поставить там кого-нибудь для контроля, – сказал генерал, – но сначала ваше королевское величество захотите объявить решительную свою волю.
– Я должен об этом с Шрептовичем и с Платерем поговорить ещё, – сказал Понятовский, – а ты, мой генерал, со своей стороны, прошу тебя, думай заранее, не выдавая эту мысль, потому что, возможно, мы будем вынуждены отступить?
Комажевский поклонился.
– Мне кажется, – сказал он тише, – что это вещь исполненная и будет полезной, но мне заранее жаль ваше королевское величество… это будет тяжёлой жертвой.
– Я заранее это предчувствую, – вздохнул король, – но признайся мне, что слишком дорого согласие и единство оплачивать нельзя. Это то время, в которое мы можем и должны создать сильную партию для нашей поддержки, а поэтому… будь что будет!
Король мгновение подумал и прошептал, кладя палец на уста:
– Не выдай только моего секрета. Это должно исполниться не через меня, но… само собой. Сам воевода должен этого желать. Близость Несвижа должна подать ему эту мысль. Мы будем осматривать каналы, доплывём даже до Пинска.
– Маршрут ещё постоянно не обозначен, времени мы имеем достаточно, хоть Несвиж нам нескольких дней будет стоить. Князь захочет покрасоваться всем – и стрелять, и плавать, и музыку прикажет слушать.
– Если бы только на этом кончилось! – вздохнул король. – Но эта рюмка, к которой у меня отвращение!..
Комажевский вздохнул.
– Я не смею вставать на её защиту, – шепнул он, – но она имеет свою хорошую сторону. Много вещей ей объясняется и оправдывается. Как из-за тумана выходят неясные картины, и это иногда нужно.
Король уже был мыслями где-то в другом месте.
– Через Радзивилла, – сказал он, – приобретя его, мы будем иметь обеспеченный выбор послов, таких, в каких мы нуждаемся, чтобы провести трудные предложения от трона. Понимаешь, что об этом сейме нет речи, но о будущем и последующем. У меня слишком много врагов явных и скрытых. Сейчас время стараться об умиротворении и согласии. Я не отчаился в Браницком, с Радзивиллами мы хорошо, но нужно быть сердечней, поддерживать их и иметь их всегда за собой. Пане коханку всё-таки является силой. Не высоко я ценю его способности, так как он ими красоваться не умеет и играет роль шу та, но хватае т ему, возможно, хитрости.
– Для меня он загадка, – отозвался Комажевский, – потому что рядом с минутами безумия у него имеются моменты большого разума.
– А мне кажется, что, поглаживая его самолюбие, получить его можно. Ты понимаешь, что я напрашиваться к нему не могу, – сказал король, – он должен меня пригласить, но я был бы рад, если бы так случилось.
После этого короткого разговора с Комажевским король, через пару часов выйдя из кабинета, среди особ, которые ежедневно с утра приходили к нему поклониться и узнать, нет ли приказов для выдачи, увидел каштеляна Платера. Был это один из будущих товарищей путешествия, такой же необходимый, как ксендз Нарушевич. Ни для кого не было секретом, что Платер вёл рабочий дневник своей жизни и деятельности. Учтивый, ловкий, не слишком навязчивый, не дающий себя затереть и закрыть, Платер был одним из наиболее практичных придворных, всегда предвидящий будущее направление ветра и приспосабливающийся к нему. Плыть против течения и нарываться на неприятности он не любил.
С его лица наисветлейший пан вычитал, что у каштеляна было срочно что-то ему сообщить, а так как, что имел чудесные отношения и с посольством, и везде понемногу, король, ловко маневрируя, приблизился к нему.
– Наисветлейший пане, – прошептал Платер, – мы едем из Беловежи к каналу, потом каналом, часть дороги по воде, далее сушей, но всё это путешествие может назваться гидрографическим, а одну вещь вы забыли в ней.
– Какую? – спросил король.
– Всему миру известно, что в Альбе воевода виленский накопал каналы и озёра для основания там флота и возрождения военно-морской силы, – сказал каштелян. – Осматривать Мухавецкий канал и не видеть флота Радзивилла… что скажет на это свет?
Король удивился этой интерполяции, и вместо ответа вставил:
– Ты не видел сегодня генерала Комажевского?
– Ни даже вчера, – ответил Платер.
– Откуда же эта мысль об Альбе и радзивилловском флоте? – сказал король.
– Эта мысль, должен признаться, не моя, – смиренно отозвался каштелян, – я слышал её из уст многих друзей князя воеводы.
Говоря это, он внимательно смотрел в глаза наисветлейшему пану, который стоял на вид холодный и рассеянный. Минуту длилось молчание. Платер ждал.
– Ты понимаешь, что я напроситься не могу, – сказал король наконец.
– Естественно, но дадите ли ваше королевское величество пригласить себя? – спросил каштелян.
– У тебя есть поручение незаметно что-то узнать от меня?
– Нет, но я бы рад на всякий случай знать мнение вашего королевского величества.
Король немного подумал.
– С одной стороны, всё, что сближает и объединяет – является хорошим и желательным, – отозвался он, – с другой – это очень тонкая и скользкая экспедиция… где каждый шаг и слово весьма взвешивать нужно и непредвиденное предвидеть, чтобы то, что хотело приблизиться, не сорвалось…
– За этим слуги вашего королевского величества должны следить, – сказал Платер живо.
Подходящие паны не дали говорить дальше, но король объяснялся взглядом с каштеляном.
Совещание Комажевского в кругу самых близких друзей короля и семьи окончилось принятием с большой охотой поданной мысли. Все были за то, чтобы сближение с воеводой и его семьёй скрепилось наикрепчайшим узлом, хотя воспоминание сердечных отношений с Браницким и с удачливым Потоцким, которые обратились потом в упорную ненависть обоих, могли оттолкнуть Понятовского. Но опыт мало кого учит, а тут полностью другой характер человека, казалось, обещал больше. Не нуждался он ни в чём, кроме чуточки славы.
Король, однако, быстрей, чем иные, видящий вещи, боялся, как бы в кругу приятелей воеводы, в его семье не нашлись злобные, чтобы либо его королевское достоинство могли в чём обличить, либо каким намёком его унизить. Он знал, как со своей кровью и родом высоко ставили себя Радзивиллы и чем для них был литовский стольник, ягеллонское происхождение которого Чарторыйские отрицали.
Между тем эта мысль, едва прошептанная, как бы вместе с тем родилась во многих головах, уже занимала друзей и все её нашли счастливой, естественной, а некоторые думали, что пропустить Несвиж было бы оплошностью для княжеского дома. По их мнению, король мог даже без умаления своего достоинства сам пригласить Радзивилла. Станислав Август, госпожа Краковская, примас – все желали этих визитов, но один король только боялся, чтобы среди неизбежной лести и заискиваний не скрывалось какое жало. Так легко было одним словом разбудить неприятные воспоминания!
Через пару дней затем говорили уже громко о том, что король несомненно захочет Радзивилла посетить, что князь несомненно не замедлит его пригласить; и что было бы желательным, чтобы таким образом королевский лагерь на Литве застраховался от неприятелей, каких падение Тизенхауса ему приумножило. С обеих сторон начались переговоры для этой цели.
* * *
У князя воеводы виленского, сказать правду, слуги были переписаны в определённой численности, но панская фантазия беспрестанно её изменяла. Мало кто увольнялся, пребывало же в течение года очень много. Уходили только те, которым доставалось наследство и милостивый хлеб по возрасту, залог или собственность; тотчас же появлялись кандидаты на их место и занимали многие синекуры, умножая число нахлебников, и так значительное. Рассчитывали на дворовых и придворных, и таких, которые едва пару раз в году прибывали в Несвиж за назначенной наградой и для напоминания о себе его светлости князю. Большую часть своих слуг князь не знал вообще. Кроме них, случалось, что от семьи и друзей приезжали посланцы с письмами, которым приказали ждать ответа, забывали о них, те тоже не надоедали с отправкой, и иногда по году сидели в Несвиже, кушая, попивая, выезжая на охоты, коня перекармливая и служку.
Население несвижского двора было огромным, дисциплина довольно нестрогая, много свободы, панский достаток и вообще всем жилось хорошо. Прижималась сюда также далёкая бедная шляхта, рекомендованная приятелями князя, а кто умел понравиться и попасть на глаза, тот мог быстро гарантировать себе будущее.
Князь, хоть имел хорошую память, из самых мелких своих придворных и каморников многих знал только с лица.
В менее деятельных, но много лет уже состоящих на службе князя, числился в то время пан Северин Шерейко. Кто его князю рекомендовал, никто не помнил. У него был разборчивый и красивый почерк, был знаком с латынью и на первых порах взяли его в канцелярию для каллиграфирования писем, которые из неё выходили. Неведомо, каким образом потом Шерейко освободился от сиденья за столом и грызения пера, которому часто нечем было заняться, взял обязанности библиотекаря, хотя в это время книжками никто не занимался. Их было достаточно в замке разбросанных в разных углах; одна большая комната звалась библиотекой, но в неё никто никогда не заглядывал. На полках находились преимущественно такие книги, авторы которых посвящали и приносили их князьям. С давних лет остались от княгинь французские, от Сиротки, от ксендза Альбрехта религиозные латинские, с ещё более древних времён Библии и теологические труды, изданные за их счёт. Всё это было присыпано пылью, а, если кому нравилось, случайно зайдя, брал что-нибудь под мышку, никто не препятствовал.
В архиве, где издавна хранились акты и дипломы, относящиеся к Литовскому княжеству, слежка и надзор были строгие. Славились Радзивиллы этой наследственной канцелярией, но что до книг, они их вообще мало интересовали. Больше их находилось в Олысе, чем в Несвиже.
Шерейко был парнем интересующимся, а особенно имел влечение к корпению над книгами, что в это время ещё было особенностью в светском человеке. Небольшого роста, с кудрявой головой, уже начинающей лысеть, хотя не имел ещё тридцати лет, с чёрными глазками, выпуклыми, с округлым личиком, мелкими чертами, подвижный, одетый всегда скромно, не слишком разговорчивый, Шерейко под видом уборки и описывания библиотеки, выбив себе это поручение, года два в ней сидел и устроился очень удобно, независимо от всех.
Никто ему здесь хозяйничать не запрещал. К неотапливаемой так называемой библиотеке примыкала комната с печью, в которой, стол и стул поставив себе у окна, Шерейко сидел тут, как у Бога за печью, делая, что хотел, или вовсе ничего, когда не имел охоты. Ходил регулярно к маршалковскому столу, ел молча, слушал разговаривающих, никому, впрочем, не переступая дорогу, мало на себя обращал внимания.
Более свободной жизни трудно себе представить, потому что, за исключением обязанности кланяться старшине, которую встречал во дворе, никакой другой почти не было у этого импровизированного библиотекаря. Чрезвычайно редко выпадало, чтобы кто-нибудь какую-либо книжку потребовал или заглянул в библиотеку. Однажды зашёл сюда пан Матусевич, потом пан Михал Залеский, а так как статуты, корректуры, volumina legum[8] лежали в канцелярии для каждодневного использования, в библиотеке, о существовании которой мало кто знал, вовсе не сообщали.
Шерейко мог без единого препятствия читать и познавать, что ему нравилось, а был он ненасытен и сиживал в книжках часами. Деятельного и беспокойного ума, он, кроме того, когда имел свободное время, крутился среди двора, подслушивал, смотрел и лучше знал здесь людей и отношения, чем те, которые были обязаны следить за ними. Человечек был особенный по всем взглядам. Сам он рассказывал, что он бездомный сирота, имеющий только далёкую и равнодушную родню. Говорили, что он начал с того, что из школы пошёл в семинарию, но, поразмыслив потом, что к дудуховному состоянию призвания не имел, сбросил платье и неизвестно чьей протекцией добрался до князя.
Здесь, как мы говорили, из канцелярии он ловко вытянул себе почти полную свободу и использовал её на копание в книгах. С людьми, хотя вовсе их не сторонился, был в целом молчаливым и замкнтым, но изучать их и узнавать умел так хорошо, что для него не было здесь никаких тайн.
Кланяясь старшим, снимая шапку, показывая послушание, имел их достаточно хорошо настроенными к себе, но ни слишком к ним приближаться, ни близко контактировать с ними не старался. Зато с более убогими и беднейшими общался охотно и вместе с ними сетовал на притеснения, на которое они жаловаться не привыкли, справедливо или нет. Каждый сетующий был уверен, что его будет иметь за собой. Шерейко не только симпатизировал им, но иногда то показывал, что имел неприязнь и ненависть к влиятельным и наверху сидящим. Сам избегая вмешиваться в чужие дела, подавал советы, указывал дороги, живо занимался их судьбой, а особенно радовало его то, когда мог устроить кровавый трюк кому-нибудь из старшин. Чем выше мог достать, тем его больше радовало. Тогда он потирал руки и глазки его светились, как у кота.
Таким образом, привлекая к себе беднейших, Шерейко среди них имел друзей и самых лучших шпионов, доносящих, что где могли подхватить. Был же он любопытным до всего.
Новость о том, что короля, возможно, ожидали в Несвиже и что здесь готовили великий и торжественный приём, немедленно через подслушивающих у двери придворных дошла до любопытного Шерейки.
Его глазки засмеялись; он подумал и пошёл в библиотеку, по которой долго прохаживался, размышляя. Можно его было заподозрить, что что-то замышлял, так, ушедши в себя, долго медитировал, иногда давая знаки какого-то великого волнения и злобной радости. Ни для кого не было тайной, что король, равно как и все, что его окружали, не минуя даже семьи князя, а хотя бы и его самого, для Шерейки были ненавистными врагами. Чем ниже он был вынужден им кланяться, тем большую имел к ним неприязнь и отвращение. Не раз он тем изменил, что, когда князю выпадало что-то неприятное, он имел с этого великое утешение. Из шляхты, а даже из деревенского люда, которого никто в это время не считал за Божье создание, в зависимости от того, кто был более бедным и больше притесняемым, горячей интересовали Шерейку.
Ни одно слово не появлялось на его устах чаще в тихом шёпоте, чем «тиран» и «тирания». В библиотеке, будучи один, иногда поднимал вверх стиснутый кулак, кривил оскаленные уста и, казалось, что он угрожает целому свету. Его также чрезвычайно радовало, когда он мог над кем-нибудь из тех старшин насмеяться или навести нелепые высказывания. Делал же он это на вид так добродушно, невинно, словно у него получалось непреднамеренно. Потому что подвергать сам себя и вмешиваться в борьбу не любил, и хоть потом посмеивался над приказами, выполнял их самым аккуратным образом. С тем видимым добродушием, когда только мог, подстрекал неприязнь в других, высмеивал потихоньку, сам его вовсе не выдавая.
Того дня, когда потихоньку начала расходиться по двору новость о том, что король собирался прибыть в Несвиж, Шерейко, довольно долго пробегав по библиотеке, под вечер украдкой пошёл к конюшням. Эти радзивилловские конюшни, хотя князь сам особым наездником не был, и, всё больше приобретая тучность и имея слабое зрение, не с радостью пускался на коне, потому что, раз сев на коня, слишком дерзко с ним обходился, изобиловали конями цуговыми, то есть статными, наиредчайшей масти: изабелами, белыми, тарантами и т. п., иноходцами восточной крови, в особенности испанскими конями, в это время особенно излюбленными, хотя тяжёлыми, и с головой, напоминающей овечью.
Кроме коней придворных, чиновников, казаков, бояр, самих панских, стояло там столько, что надзор над ними был поручен даже трём конюшим. Надзор над конюшнями имели конюшие: Божецкий, Каминский и Шабанский, но кроме них, служащих поменьше над маштарниями[9], каретными сараями, экипажами, при лошадиных кормушках и регистрах было несколько, а слуг и челяди не счесть. Секретарём Божецкого при регистратуре был с прошлого года молодой шляхтич, бледный, незаметный, высокого роста, худой, о котором только то было известно, что имел он киевское происхождение. В речи также по-русински вырывалось, но мало кто его знал и он мало с кем общался. Только Шерейко, который с каждым новоприбывшем должен был завязать знакомство и изучить его, познакомился с ним сразу, расспросил его, и, когда ему показалось, что он был бедным, начал им интересоваться. Однако, кажется, что не столько бедность, сколько фамилия притягивала к нему Шерейку. Ибо он утверждал, что звался Понятовским.
Не учли это как-то, а повсеместно его называли либо Русином, либо по имени, Филиппом. Шерейко только фамилию себе записал хорошенько в голове.
Тот пан Филипп, на дворе совсем ничем не отмечаясь, терялся в великой численности себе подобных. Служил пану Божецкому, который уже был большим паном, и охотно заменял его очень хорошо, а хоть, может, о себе помнил и двух лошадок кормил, не имея права только на одну, вовсе его упрекнуть было нельзя. Божецкий хлопал его по плечу, обещал увеличить зарплату, и раз выдал премию.
Время от времени Шерейко к нему наведывался и глаз с него не спускал. Русин жил при маштарниях, в двух немного низких комнатах, вообще приличных. Чувствовался в них запах кожи, ремней, дёготя и краскок, которыми обновили внизу старую телегу, но, впрочем, было в них удобно и уютно. Бедность пана секретаря даже слишком била в глаза. Один маленький узелок, с которым сюда прибыл, жалкий порядок, немного одежды, кроватка, на которой вместо одеяла были натянуты потёртая опонча со старым кожушком, сабелька, вложенная в стальные ножны с изношенным ремнём, в голове кровати громница с веночками от Божьего Тела… и незаметный крестик – составляли всё имущество и инвентарь хозяина. Когда Шерейко отворил дверь первой комнаты, Филипп, который сидел над регистрами, вскочил с пером за ухом для приёма, не зная, кого мог приветствовать, так как гостей он имел немного. Шерейку же с великим уважением, как по возрасту и положению старшего, привык принимать.
– Ну, что же ваша милость тут поделывает? – спросил, войдя, литвин, и садясь за стол. – Что нового у тебя? Как ты?
Пан Филипп съёжился, пожимая плечами.
– А что же! Регистры, как видите, пишу, а, впрочем, нет у меня ничего нового, кроме того, что мне затхлый овёс прислали, и беда с этого будет.
– Э! Что там овёс! – отпарировал Шерейко, наклоняясь к нему. – А что ты думаешь о том, что король Понятовский собирается сюда к нам, в Несвиж?
Филипп вытаращил глаза.
– Не может быть! – воскликнул он.
– Как! Не может быть? Когда я тебе говорю, – прервал Шерейко. – Король наверняка заедет и несколько дней тут развлекаться будет… Гм!
Русин сильно задумался.
– Однако ты так же зовёшься Понятовским?
– А как же! – очень быстро ответил секретарь. – И на это у меня есть документы, что я шляхтич Понятовский…
Он посмотрел на Шерейку, который, по своей привычке, когда его сильно что-нибудь занимало, нервно грыз ногти…
– Гм! – начал он, всматриваясь в сильно взволнованного Русина. – Что же вы скажете на то, что король Понятовский к нам приедет, гм?
– Ба! Если бы не страх, – сказал секретарь, понижая голос, – знал бы я, что делать. Мать покойница постоянно мне то в уши клала, что обязательно к королю нужно пойти и что не может быть, чтобы Понятовский Понятовскому не помог; хоть правда и то, что он, его величество король, не из Руси, а мы веками осели над Днепром.
– А что это значит? – прервал Шерейко. – Или не знаешь о том, что шляхта, мазуры и великополяки общинами на Волынь и на Русь веками переселялись, где было легче с землёй и не такой песчанной, как в Мазурии. Вы тоже, несомненно, из того же Понятова, что и король. А герб ваш какой?
Филипп зарумянился и поскрёб голову; голос его стих.
– Должен быть Цёлек, когда другие Понятовские его используют, – прошептал он боязливо.
– Говори смело, что Цёлек, – прервал, смеясь, Шерейко. – Что тебе жалеть себя. Ты шляхтич, ну, а шляхты Понятовских другой нет, только Цёлек.
Филипп думал… какое-то мгновение оба молчали, Русин, как бы испуганный, смотрел в землю, Шерейко на него.
– Вы имели когда-нибудь какую собственность? – спросил он.
– Отца я не помню, – начал секретарь, – а покойная мать рассказывала, что якобы мы две деревни имели, только когда и какие, не знаю. Отец, однако, потом был на службе у Любомирского и смотрителем.
– А бумаги имеешь какие-нибудь? – допрашивал Шерейко.
– Ведь имею, – спешно воскликнул, доставая из кармана ключи, Филипп, идя к сундуку. Открыв у него замок, секретарь начал рыться в глубине и достал стопку документов, чёрной тесёмкой, по-видимому ещё рукой матери, связанную.
– Дай мне их сюда, – сказал Шерейко. – Я вижу, ты не заинтересован.
– А на что мне эта макулатура! – вздохнул Русин. – Есть мне они не дадут.
– Кто это знает! – пробормотал, развязывая и шибко, видимо, со знанием дела, рассматривая пожелтевшие документы, которые по очереди складывал на столе, Шерейко.
Были это по большей части выписки из метрик, брачные договоры и завещания. Шерейко узнал из них только то, что дед Филиппа был владельцем имения, что мать внесла отцу пять тысяч злотых и которого года он пришёл, обжалованный, на свет. Дальше уже бумаг не вынимали, они могли быть только указкой, где нужно было искать другие.
Последнюю метрику Литвин сжал на столе.
– А что тебе ещё нужно, кроме того, что ты шляхтич и Понятовский! – воскликнул он. – Этого хватит, чтобы у короля выяснить.
Серые глаза бледного Филиппа немного прояснились, он улыбнулся.
– Но с этим нужно осторожно, очень осторожно, – добавил литвин, понижая голос. – Королю, естественно, приятным быть не может, что бедный Понятовский служит при конюшнях Радзивилла. Будет ему казаться, что воевода умышленно для издевательства принял его себе в слуги. Забыли, видно, о твоей фамилии, а ты её также теперь не напоминай, если хочешь что хорошее сделать.
Филипп сначала заломил руки, а потом бросился целовать руку Шерейке.
– А вы мне дайте совет! Прошу, посоветуйте! – воскликнул он. – Я сам себе в этом деле совета не дам. У вас доброе сердце… скажите, что мне делать!
Шерейко задумался.
– Сейчас сразу нельзя предсказать, как тебе подобает поступить, – сказал он тихо, – но не подлежит сомнению, что ловкость найдётся, дабы приблизиться к самому королю или к кому-нибудь из панов, находящихся при нём. И не может быть, чтобы король всё-таки не разместил тебя лучше и не забывал о тебе, но…
Шерейко погрозил пальцем.
– Молчи! Не очень на глаза показывайся, чтобы не напоминать о себе, что ты Понятовский, так как сразу отсюда уберут и в Налибоки или в Бьялу отправят. Князь понимает, что королю это будет упрёком, когда найдётся бедный Цёлек при воеводинских конюшнях. Таким образом, первая вещь – Silentium! Ни мру-мру!
Филипп вместо ответа поцеловал ему руку.
– Будьте моим опекуном! – воскликнул он. – Сделаю, что прикажете.
– И о том вы должны помнить, – добавил Шерейко, – чтобы не выдали меня, дабы я советовал и придумывал; так как, что из этой авантюры потом вырастет – неизвестно. Тебе это, конечно, не повредит, но я из-за тебя погибать не хочу.
Понятовский ударил себя в грудь кулаком, аж ёкнуло, заверяя, что не предаст.
– Слушай же, – начал медленно литвин, – наперёд в это время с фамилией не выставляйся. Называй себя Филиппом или Русином. Этого достаточно. Я тебе дам знать, где, как и когда ты сможешь к королю или к кому из панов подойти и просить о помощи. Наготовь себе приличную одежду, но не слишком великолепную.
– Но кроме праздничного контуша, переделанного из отцовского, нет у меня ничего, а поясок – помилуй, Боже! – стыжусь я его и поэтому на жупан его привяжу, – вздохнул Филипп.
– Больше тебе также не потребуется, – проговорил Шерейко, – чисто, но бедно представишь себя. Когда и как – это моя вешь. Тем временем – молчать и даже не доведываясь слишком о короле, чтобы это не обратило на тебя внимание.
Шерейко сам себе улыбнулся и было видно, что это доброе дельце, связанное с выходкой во вред Радзивиллу, чрезвычайно его занимало. Филипп тоже был вне себя от радости, то припадая к руке благодетеля, то ломая руки и хватаясь за голову.
– Вы думаете, что король что-нибудь для меня сделает? – воскликнул он.
– В этом нет ни малейшего сомнения, должен, – добавил Шерейко. – Ты являешься каким-то Понятовским, всегда носишь ту же самую фамилию, probabiliter[10], и кровь одна, потому что королевская тоже не особенная.
Ты также должны быть либо из Понятова либо из Душник.
Филипп слушал, но было видно, что ни о Понятове, ни о Душниках он не имел ни малейшего понятия.
– Готов меня генералом сделать! – воскликнул он простодушно и рассмешил этим Шерейку.
– Может и это быть, – сказал он, – но не сразу, начнёшь, пожалуй, с полковника, а если бы и ротмистроство тебе дал со староством каким в добавок, для начала будет с тебя. Но хочешь чего иметь, помни одно: не вылезай ни с языком, ни с фамилией до времени. Скрывайся хотя бы в мышиной норе, потому что, когда воевода о тебе вспомнит, или запрёт, или отправит куда-нибудь, дабы о тебе до ушей короля не дошло. Делай, что хочешь, но старайся, чтобы о тебе забыли.
– Э! – сказал Филипп. – Тут мало кто о том знает и помнит, что я зовусь Понятовским. Конюший Божецкий и другие не зовут меня иначе как Филиппом или Русином, а поначалу из Понятовского делали Коняковского, насмехаясь надо мной.
– Пусть насмехаются; ты потом будешь подшучивать над ними, я тебе говорю! – воскликнул Шерейко. – Но князь Пане коханку гневаться будет, потому что ему то, что конюшего себе взял с королевским именем, конечно, на счёт давней недоброжелательности к королю припишут.
Шерейко начал потирать руки и грызть ногти – так ему радостно было думать, что и королю сделает неприятность, и воеводе фиглю устроит, и бедному хлопцу поможет. Ибо он не допускал, чтобы король, будто бы мог тёзке не подать руки.
Потом сразу хотел Шерейко уйти, но его не пустил размечтавшийся Русин, стремясь поговорить о будущем своём счастье и обсудить, как и что он хотел делать. Литвин одно ему старался внушить – молчать и не показываться, не упоминать свою фамилию.
– Упаси Боже, придёт кому в голову, что тут Понятовский есть, тогда на руках отсюда как можно дальше вынесут. Король на пункте родовитости очень раздражителен, так как ему её не хватает. Что касается бумаг, – добросил, беря ещё их в руки, Шерейко, – посмотрим, удастся ли где втиснуть stemma vitelio[11]. Тогда бы только вашу милость поставили на бархат. Но…
Литвин крутил головой.
– Опасное это дело, – сказал он в завершении, – желая сделать слишком хорошо, можно всё испортить. Всё же дай мне эти бумаги, просмотреть нужно, а что, если…
Они связали тогда тесёмкой стопку и Шерейко её всунул глубоко запазуху, глядя, чтобы не была видна. С тем он уже попрощался с Филиппом, который, целуя его руки, проводил даже до выхода. Литвин огляделся вокруг, не желая быть здесь увиденным, и покинул это место очень ловко.
Когда это происходило в маштарниях, у князя и во всём уже замке господствовало беспокойство; шли постоянные совещания и споры о программе этого приёма, который собирался показать миру возможности Радзивиллов.
– Тут уже, Пане коханку, – говорил воевода, – нечего взвешивать, что будет стоить и откуда что взять; должно быть по-радзивилловски, по-княжески, по-королевски. Пусть его величество король знает, с кем имеет дело. И мы тоже недалеко от тронов стояли. Заставь себя, Пане коханку, но поставь себя!
Никто также князя умерять не думал, так как знали, что этого не достиг бы никто. Хотя приближающаяся осень вызывала на охоту, а князь был до неё жаден, уже о ней даже говорить не давал, настолько был постоянно обеспокоен обдумыванием королевского приёма. Жаловался, что ни есть, ни спать не мог и всё что-то новое выдумывал. Посланцы неустанно в Вильну, в Варшаву и в Бьялу ездили, а из пущ в Налибоках зверя в клетках привозили.
Совещания по украшению замка, триумфальным воротам, отрядам для сопровождения короля, разговорам и приветствиям, церемониалу, забавам проходили по несколько раз в день, которые возглавлял сам князь и собирал голоса, повторяя пословицу, которую не заканчивал:
– Не имела баба хлопоты…
Хлопоты действительно были великие, так как речь шла не только о достойном выступлении радзивилловского дома, но о том, чтобы избыточной роскошью короля не унизить и не раздражить. При том мелкое самолюбие выступало для рисования, потому что каждому хотелось играть какую-то роль: рекомендоваться королю и что-нибудь от него получить. Радзивилловский двор был уверен, что король будет щедрым на награды, но дело было не в дорогих подарках, а гораздо больше в титулах и орденах, которых ожидалось много.
Вместе с тем князь, хотя об этом не говорил, не был без некоторой злобной мысли и, если бы осторожно удалось припомнить, чем в отношении к Радзивиллам были Понятовские, не гневался бы на это.
Кроме князя Иеронима, князя Моравского, его жены, доверенные слуги, ксендз Кантембринк, некоторые духовные были вызваны на кабинетную раду (так её, смеясь, называли), которая почти безостановочно заседала в княжеском кабинете. За исключением перечисленных особ, время от времени входили в неё: остроумный и злобный Северин Жевуский, староста Володкович, Войнилович, а из домашних, Бернатович и маршалек двора Фричинский.
Придворным художником князя воеводы, который росписи не очень любил, а из-за глаз, уже в это время болящих, не много издалека мог различить, больше для формальности, чем из нужды, был назначен литвин Эстко, маленький, энергичный, огненного характера, человечек, который, хотя Варшавы и Кракова никогда не видел и мог зваться самоучкой, считал себя не многим хуже, чем Баччиарелли и Смуглевич. Эстко, от которого тут также не много требовали, писал всё, кто что пожелает: портреты, изображения святых в костёлах, аллегории для дам, цветы, гербы, а отличался особенно тем, что делал быстро, и тем, что написал, всегда был очень рад, начиная с прислуги до князя, хвалясь перед всеми своими делами.
Князю этой верой в себя мог он вдохнуть такую уверенность в талант, в способности, в знание искусства, в свою изобретательность, что ценил он Эстку больше всех современных мастеров.
– Знаю, – говорил он тихо, – что король мне завидует и рад бы его отозвать, потому что в Эстке имел бы художника что называется, но добродушный литвин от меня не уйдёт ни за какие деньги.
Правдой и Богом добродушный Эстко действительно был привязан к дому князя, и, хоть с верой в себя, не имел охоты нарываться на борьбу и состязание с Баччиарелли.
– Это, пане, итальянец, – говорил он, крутя головой, – или бы меня интригой опорочил и, оскорблённый, я удалился бы со двора, или даже отравить готов!
Итак, он писал портреты князя, семьи, соседей, друзей, вырисовывал даже Непту с щенятами и из Несвижа выезжать не думал. Когда больших масляных портретов на мальберте не имел, делал небольшие миниатюры, совсем даже успешные. В это время всему миру было известно, что король любил искусство, покупал и собирал картины, понимал его и горячо занимался живописью. Поэтому на первый отголосок, что король собирался приехать в Несвиж, у Эстки забилось в груди сердце. Необходимо показать себя перед королём.
В первую ночь он не мог заснуть. Какой-то аллегорией небольшого размера обязательно нужно было приветствовать короля, но где её поместить и какую? Нарисовать на триумфальных воротах для того, чтобы первый сильный осенний дождь уничтожил шедевр, а холст потом заброшен был куда-нибудь в угол, Эстко не думал.
В огромной зале, в которой должно было собраться всё общество, потолок был беленький и пустой. Для Эстки хватило бы нескольких недель, чтобы на нём сымпровизировать во вкусе века какую-нибудь аллегорическую картину. Он был уверен, что ему это отлично должно удасться. Дело было только в том, чтобы князь понял необходимость и подтвердил программу, какую художник имел уже в голове. Не было ни минуты свободного времени. Поэтому Эстко рано утром, прежде чем князь встал с кровати, втиснулся к нему через гардероб[12]. Это не был час, в который обычно князю являлся придворный художник; увидев его на пороге, воевода подумал, что его привело что-то срочное, и дал знак рукой, чтобы подошёл.
Эстко дал понять, что при слугах говорить не желал, их выпроводили, и художник приступил, начиная с целования панской руки.
– Ваша светлость, – проговорил он поспешно, – ежели ваша светлость хочет королю сделать милый сюрприз и память о его прибывании увековечить, хотя времени очень мало, я с моими кисточками к услугам… день и ночь готовы работать.
– Где? Что? – спросил князь.
– Без какой-либо аллегоричной картины не может обойтись, – продолжал далее Эстко, – в большом зале потолок чистый, огромный, есть на чем пописать. Словно это место ждало.
– Человече, но когда же ты в такой короткий срок, пане коханку, сможешь с этим справиться? Я всегда слышал, что на это нужны годы.
– Кому как! – ответил смело художник, потирая чуприну. – Я обязываюсь быть готовым и весь потолок украсить аллегорией ad hoc[13]. Не может быть, чтобы это уважение королю не понравилось.
Князь воевода поморщился.
– Тогда ты мне залы завалишь строительными лесами и ещё не поспеешь к сроку.
– Шею свою ставлю, – прервал Эстко.
– А что мне от твоей шеи. Шейка только у раков хорошая, – сказал князь и задумался, – но ты, может быть, прав, нарисовать ему что-то нужно, и надеюсь, ты не подведёшь. Краски себе привези самые лучшие, на это не пожалею; но прежде чем к чему-то придёт, – докончил воевода, – нужно хорошо рассмотреть, что и как получится, чтобы финфы в том не было; они подозрительными глазами на всё смотреть будут. Тебе одного не достаёт, а я головы уже не имею, так мне разбили её этими программами, которые Бернатович каждый день пишет и мажет. Соберём, поэтому, сегодня консилиум и решим.
– Но пусть же князь будет любезен, – подхватил Эстко, – приказать позвать меня. Без меня не может обойтись, а у меня уже есть идея.
– Намажь ты свою идею на бумаге, – ответил князь, – и принеси с собой, или… нет, пане коханку, вперёд приди без идеи… не подобает, чтобы ты её нам навязал. А что же там думаешь нарисовать?
Эстко задумался, прикусил губы.
– Это представится, ваша светлость, – сказал он, – я должен тоже хорошо взвесить.
– Смотри, чтобы Радзивиллов особо не унизить, а короля слишком не не возвысить.
– Но это уже точно, что мы будем потолок изрисовывать? – спросил беспокойно Эстко.
– Я ведь об этом сперва думал, – прервал воевода, – только мне казалось, что ты с этим не управишься в такой короткий период!
– Хоть бы я на лесах трупом пал! – крикнул в порыве Эстко. – Поэтому, не тратя времени, прикажу готовить леса.
– А прикажи… скажи сначала Фричинскому, – воскликнул князь, – лестниц в замке достаточно, досок найдётя сколько нужно.
Бросился Эстко как из катапульты, немедленно побежал к маршалку, тем временем князь встал и после короткой молитвы собирался завтракать, когда вошёл Моравский.
– День добрый!
– День добрый!
– Как же князю спалось?
– А! Ты уж меня теперь не спрашивай, – вздохнул воевода. – Пока эти праздники не минуют, а наисветлейший пан не будет за воротами, я отдыха не вкушу. Всё нужно обдумать, а из вас меня никто не выручит.
Он вздохнул.
– Вот например, – добавил он, – вот бы мне кто-нибудь из вас нашептал, что всё-таки нужно королю что-то нарисовать, дабы память о его пребывании увековечить! Гм? Видишь? Хотя бы потом это тряпками пришлось смывать, памятник этот ему сейчас мы должны намазать. А для чего же я Эстке плачу? Не правда ли, пане коханку? В большой зале потолок, как огромный лист, поместится на нём король и я и вы все…
– Но, ваша светлость, – вставил несмело генерал, – мне кажется, что на потолке только гении, божества, облака и т. п. подходят…
– Да ты что! Мы это разберём на генеральном консилиуме, – прервал князь, – ты, пане коханку, не знаешь, нужно нам для совещания ксендза Кантембринка вызвать и других, а дело срочное. Потолок должен быть разрисован, пане коханку.
Что мне Эстко за краски насчитает, Господу Богу известно, потому что здесь какими попало рисовать нельзя…
Последовал вздох.
– Мой истощённый карман так же следовало бы изобразить, propter aeternam memoriam rei[14], – сказал князь.
Генерал пожал плечами.
Перед полуднем собрался кабинетный консилиум. В него входили: князь Иероним, который поддакивал брату и ни с кем не спорил, Моравский, Бернатович, Фричинский и прибывший в этот день президент Северин Жевуский. Сам воевода открыл консилиум, доказывая необходимость росписи чем-нибудь потолка; причём сразу Бернатович и Фричинский выразили сомнения, удасться ли в такой короткий срок прийти к цели.
– Это уже, пане коханку, дело Эстки, – сказал князь, – обо всём, что хотим предпринять, нужно наперёд думать.
Северин Жевуский, как вся семья, остроумный и злостный, откликнулся первым с мнимой серьёзностью:
– Но это наипростейшая вещь на свете! С одной стороны – история дома Радзивиллов, трубы славы над ней, с другой – история фамилии Понятовских, над ними же, с позволения, телёнок, задравши хвост…
Все прыснули смехом.
– Северин, пане коханку, – крикнул князь, – да брось, дело серьёзное.
Жевуский сел.
– Тогда я слушаю, – шепнул он, – что скажет генерал?
– Я? Ничего не скажу! Не смыслю ни в аллегориях, ни в живописи…
Князь задумался и поморщился.
– Я вам скажу, что знаю только, что должны быть гении с голыми ногами, крыльями, какая-то богиня либо нагая, либо немного одетая, всё-таки и алтарь, потому что должна гореть жертва, а я лучше всех чувствую, что жертва будет толстой и много в пепел обратится. Всё же думайте ещё что-нибудь.
– Что мы тут воду кипятим! – прервал генерал. – Вещь простая. Послать за Эсткой. Пусть он обдумает, что собирается рисовать, а князь выскажет своё мнение, согласится или нет.
Князь дал знак Фричинскому, который вышел и отправился за Эсткой. Художник уже ждал это. Не подобало ему только с рисунком прийти, чтобы инициативы не выдать, которую князь хотел оставить при себе. Он заранее оделся в воскресный контуш и бирюзовую запонку под шею пришпилил, не забывая о перстне с сердоликом на пальце, потому что, как художник, своё дворянство тем выше носил, чем его призвание ставило ближе к ремесленникам. Эстко, в некотором отдалении, задержался между порогом и столом.
Жевуский, который его знал и немилосердно над ним подшучивал, прозывая его Эстко-Фапресто, в немногих словах рассказал ему в чём было дело.
Дали ему минуту на размышление, после чего художник начал сначала с того, что подобные аллегории имеют свои правила, которых нужно держаться.
– Мы должны иметь, однако, ввиду, – продолжал он потом дальше, – что времени мы имеем мало, а потолка много, а раз рисовать, то всё-таки нужно его полностью покрыть изображением.
– А облака? – вставил Жевуский. – Всё-таки это для тебя отличная вещь; где не будешь иметь что поставить, сотворишь облака и цветы.
Эстко покрутил головой.
– Уж без них не обойдётся, – сказал он с важностью, – но их слишком нельзя навешать.
– Несомненно, пане коханку, – вставил князь. – Облака всегда подозрительны, кто-нибудь подумает, что мы наияснейшему пану градобитием угрожаем.
Жевуский рассмеялся. Эстко тем временем осмелел и повысил голос:
– Мне кажется, – начал он, – что тут главной вещью будет портрет наияснейшего пана в раме, удерживаемой двумя гениями.
– Даже двумя? – спросил Жевуский.
Художник немного поразился.
– Хотя бы для симметрии должно быть два, – ответил он чуть резко. – Гений добродетели и мудрости.
– Браво! – согласился Жевуский.
– Гении сверху будут удерживать над ним корону, – добавил Эстко.
– Помни, что один из них должен быть похож на ту, которая ему надела на голову корону, – прошептал Жевуский.
– Пане коханку! Veto! – крикнул воевода. – Лишь бы злобные люди не сделали из этого повод для шуток. На милость Бога, хоть усы гениям нарисуй, лишь бы только не были ни на кого похожи… понимаешь?
Эстко головой дал знать, что понял, и хотел быть послушным.
– Дальше что? – спросил Жевуский.
Художник закашлял.
– Я думаю в важной позе женщины преклонного возраста, стоящей при алтаре, изложить несвижскую ординацию…
– Ну, так, без алтаря не может быть, – забормотал князь, – я говорил.
– И сжигающую в качестве жертвы крылатые сердца, поднимающиеся к изображению, – завершил художник.
Пан Северин заслонил свои уста ладонью, чтобы не выдать улыбки.
– Очень мило, – сказал он, строя серьёзное лицо, – но подумай, что она добрые эти сердца, которые хотят лететь, сжигает и уничтожает… неприятели готовы сказать, что это делает назло, чтобы их не пустить к пану?
Эстко обиделся.
– Иначе это аллегорично выразить невозможно, – сказал он кисло. – Будут ли они взлетать – не знаю, по крайней мере, главное, что сердца гореть должны.
– Ну да, пане коханку, – добавил князь, – нарисованные сердца пусть горят.
– И больше ничего? – спросил Моравский. – Будешь вынужден очень много облаков нагромоздить, пожалуй.
– Я хотел ниже ещё, в последнем ярусе поставить Гения князя Радзивилла в облике рыцаря, отгоняющего мечом зависть.
Жевуский не мог уже удержаться от смеха, но аплодисментами его старался исправить.
– Даю слово, – сказал он, – Эстко вдохновлён и что за богатство воображения…
– Оставь меня в покое, – крикнул князь, – возьми себе Иеронима или крайчего, но меня не касайся. Я в облаках с моим тяжёлым брюхом…
Эстко смолчал.
– Если останется место, – доложил он через мгновение, напрасно ожидая, чтобы кто-нибудь откликнулся, – можно внизу, как дату месяца, повесить весы, так как солнце вступает в этот знак, а кроме того, весы выражают Справедливость, которая тем даёт себя истолковать, что король в конечном итоге отдал её дому князя – уважение ему своё выражая посещениями!
– Очень точно и красиво, – вставил Моравский.
– Ну, что же вы скажете на это, пане коханку? – добавил князь. – Наверху изображение наияснейшего пана и два гения, которые его венчают, будет с него, ниже ординация, сжигающая сердца; но помни, чтобы их там было достаточно, наконец, рыцарь со старой бабой. Меня только одна вещь поражает (он обратился к Эстки): на потолке будут два гения среднего возраста, так как добродетель и мудрость не могут быть незрелые, пане коханку; дальше одна пожилая женщина, попросту баба, а ниже зависть, тоже немолодая и некрасивая. Таким образом, весь потолок со старыми, когда известно, что король молодых любит… а и мы все уважаем, пане коханку, мы почитаем пожилой возраст, но веселей нам смотреть на молодых.
Жевуский за это меткое замечание пошёл даже обнимать князя.
– Ничего более справедливого, – сказал он, – но необходимо иметь в виду, что Эстке будет гораздо легче писать старых баб, чем молодых… и уродливых, чем красивых.
– А ещё, благодетель, – пролепетал Фричинский, – когда бы молодых моделей потребовал, могло бы из этого что-нибудь возникнуть…
Его прервали смехом, художник нахмурился, от чего его забросали шутками.
– Я лучшего ничего выдумать не сумею, – произнёс он, отступая на пару шагов.
– Пусть рисует, как планирует, – сказал воевода, – мне видится, что это пойдёт. Прежде чем мы обдумали бы что-нибудь лучшее, на это ушло бы время, а Естке бы чужие замыслы не были по вкусу, поэтому мы даём ему конфирмацию и пусть начинает во имя Бога, пане коханку!
Все поглядели друг на друга.
– Я тебя только прошу, мой Эстко, – добавил воевода, – чтобы мне никаких портретов, за исключением наияснейшего пана, не рисовал, и не чьих сходств там не помещал, потому что от этого только болтовня будет и насмешки. Зависть ты можешь сделать отвратительной, но избегай, чтобы какая-нибудь из соседок не признала себя.
– Ты не воспользовался радзивилловскими трубами, – засмеялся Жевуский, – а это всё-таки атрибут славы. – Может быть, по четырём углам ты выпалил бы ещё ангелов, разглашающих миру.
Эстко был ревнив к своей программе и не хотел допустить, дабы к ней что-нибудь добавили.
– Дай Боже, чтобы необходимое вовремя кончить, – воскликнул он, – четыре ангела – немалая вещь, я за это не примусь, а помощника не одного нет, кроме того, что мне краски растирает. Сам всё должен буду рисовать, даже облака – даю слово.
– Но так же один с этого иметь будешь славу и наияснейший пан тебя, конечно, поблагодарит.
Князю было срочно закончить совещание об этом предмете, он оглядел собравшихся.
– Итак, что же, согласны? – спросил он.
– Я там не знаю, – сказал Моравский, – годится ли решать так поспешно, без размышления.
– Но тут ни часу нельзя терять, – начал Эстко, – позже я не примусь. Пан генерал думает, что такая картина может из пальца возникнуть… Иные художники годы над подобными тратили, а тут через пару недель готов быть должен и репутации себе испортить не могу.
– Малюй уже, малюй, как обдумал! – вздохнул князь. – И помни о том, что здесь эти умные королевские четвёрки, Нарушевичи, Трембицкие будут обсуждать, критиковать и не твоя, но моя шкура за это будет страдать.
– А, ваша светлость, – вставил художник, кладя руку на грудь, – это падёт на Эстку.
– А ты бы предпочёл, чтобы на меня пало, пане коханку? – вздохнул князь. – Благодарю!
Слушания тогда на том кончились и Эстко только требовал, чтобы немедленно ему готовили леса. Полный запала, он вышел за двери кабинета, вытирая со лба пот, под которым теперь у него крутились мысли, раскрашенные самыми яркими красками.
Он надеялся и был уверен в триумфе. Король сам легко мог догадаться, в какое короткое время возникла эта картина, и должен был её оценить. Перстень с инициалами наисветлейшего пана он обещал себе несомненно.
* * *
История этой аллегории на потолке большой залы была только частицей тех забот и беспокойства, какие князя воеводу окружали и до последнего оставить его уже не могли. В душе его постоянно боролись друг с другом охота выступить и искушение сделать какую-нибудь шутку, которую князь называл финфой. Вынуждённый уважать экономщика, воевода не мог его стерпеть и завидовал ему. Вместе с тем он боялся и немного хотел, чтобы среди этих оваций что-то напоминало Понятовскому о его скромном происхождении. Ибо в итальянских Вителинов, недавно прилепленных к генеалогии, никто не верил.
Удивительная вещь, что когда князь об этом раздумывал, не припомнил, что на своём дворе имел при конюшнях Понятовского. Никому также, за исключением Шерейки, не пришла на память фамилия, пару лет назад принятого Русина.
Князь не приувеличивал, говоря, что ни спать, ни есть не мог, так беспокоился об этом приёме, и был должен добавить, что и пить даже не мог сейчас, и пил без обычного запала, а странные истории, которыми себя и других обычно раньше развлекал, теперь к нему не клеились. Чуть что-то начинал, морщился и неожиданно умолкал. Всего того, что он и другие выдумали, не хватало; он хотел чего-то больше и каких-то небывалых, особенных изобретений, которым бы никто никогда подражать не мог.
Это беспокойство князя, которое портило ему настроение, разделяли семья, друзья и домочадцы. Идея Эстки, хотя приходилась в пору и была желанной, ни в чьих глазах не имела такого значения, чтобы за всё заплатила.
С другой стороны, немалыми хлопотами для окружающих князя было то, как бы, напрягая на экстраординарные идеи, он не стал смешным; Северин Жевуский особенно этого боялся. Он хорошо знал, как шут королевского двора, сам король, его женщины высмеивали князя Пане коханку и старались его выставить как недалёкого простака, не имеющего ни утончённого вкуса, ни европейского обычая. Чрезмерные идеи воеводы очень легко могли его выставить на посмешище. Со двора короля уходила корреспонденция в голландские и парижские газеты; легко могли в них писаки подхватить смешную сторону того рисования богача и гордого пана. Жевуский стоял как на страже, чтобы защитить от какой-нибудь выходки.
Тем временем всё то, что до сих пор выдумал Радзивилл, что ему подали, не удовлетворяло его и нехватало.
– Что мне там, пане коханку, – вздыхал он каждый вечер, – это всё вещи избитые, старые, а как бы я хотел ему что-то такое показать, чего ни он и никто никогда ещё не видел.
– Как ему, князь, сокровищницу покажешь, – возражал Жевуский, – этого достаточно, такого он не видел, наверно, никогда… и золотые слитки с радзивилловскими гербами, пусть же кто-нибудь из них даст сдачу?
Князь задвигал руками, словно отгонял мух; всё это недостаточно. Он явно мучился.
Наконец на завтра после совещания о потолке, день едва светал, а князь, за исключением, когда был на охоте, часто подолгу утром спал, в этот раз же он пробудился, громким голосом позвал камердинеров и одного из них послал за паном Северином Жевуским, который ещё спал.
Разбуженный, он не мог сразу вспомнить, что произошло, зачем ему в этот час приказано вставать, но, нарядившись как можно быстрее, бормоча, поспешил к воеводе.
Он нашёл его на огромном ложе с балдахином, представляющим княжеский плаудамент с короной наверху, с букетами страусиных перьев на углах, беспокойно переворачивающегося так, что одеяла и покрывала с ног и с себя сбросил на пол.
– Что с князем? – воскликнул, вбегая в спальню, Жевуский. – Не болен ли?
– Но где там, где там, пане коханку! – начал воевода, вытягиваясь на ложе и пыхтя. – Я хотел тебе похвалиться.
Он ударил в ладоши.
– Вот, пане коханку, я, я, нашёл! Теперь я могу сказать уже, что покажу им такую вещь, какой не видели и не увидят.
Жевуский, смерившийся, но грустный, сел слушать; он был уверен в какой-то выходке и в душе просил Господа Бога спасти родственника от издевательств, уберечь его от высмеивания.
На князе было заметно сильное волнение и вместе с тем большая радость. Он весь из ложа вытянулся к пану Северину.
– Слушай только! Я ему покажу… знаешь что? Знаешь?.. Взятие Гибралтара англичанами, разумеется, фантазийное.
Князь, глядя в глаза Жевускому с победной миной, начал смеяться.
– Понимаешь, взятие Гибралтара!
В действительности трудно было додуматься, каким образом в Несвиже, за исключением театра, мог быть представлен этот захват Гибралтара.
Воевода между тем с почти детской радостью повторял:
– Пане коханку, взятие Гибралтара! – он ударил себя огромным, словно распухшим, кулаком.
– Взятие Гибралтара!
Жевуский покачал головой, ожидая более ясного трактования.
Всем издавна была известна, особенно альбенчикам, эта фантазия князя забавляться флотом в каналах, специально для этих целей выкопанных. Построили на несвижских прудах большие военные корабли, галеры, различного вида челны и барки, которые становились альбенским и несвижским флотом. Этот флот – вещь удивительная даже для ребёнка, иногда князя так горячо занимала, что ради неё он забывал даже излюбленную охоту. Кто хотел ему понравиться, приносил ему рисунок какой-нибудь особенной амбаркации, а воевода по возможному размеру приказывал его выполнить. Этих судов с мачтами, реями, парусами, с пушками на палубах находилось достаточно на прудах. На князя иногда нападала охота командовать флотом и он одевался, как говорил, по-адмиральски, садился на корабль, приказывал плыть, стреляя из пушек холостыми снарядами во все стороны.
Жевуский догадался, что Гибралтар с флотом должен быть в какой-то связке, и ему сделалось досадно. Смехотворность становилась неизбежной. Князь так был пронизан своей мыслью, что не заметил перемены на лице Жевуского и говорил дальше с огромным запалом.
– Появится на пруду из досок и полотна, пане коханку, фантазийная твердыня Гибралтар; корабли будут подплывать и бомбардировать её; из пушек с обеих сторон молотить. Напоследок мы пустим на воздух несколько судов. Я говорю тебе, пане коханку, это будет spectaculum, невиданный, неслыханный, непрактикуемый.
Князь, говоря это, даже задыхался, его глаза сверкали, уста смеялись.
– А что же! А что! – повторял он, таща Жевуского за рукав. – Что скажешь?
Сопротивляться такому взрыву не было возможным, пан Северин опустил глаза, замолчал и прошептал, подождав:
– Но, ваша светлость, это будет трудно выполнить, а если не получится, насмешкам бы не подвергнуться.
– Как это! Насмешкам! Ба! – крикнул князь. – Трепетать будут, огнём запылает весь Несвиж, увидишь! Гибралтар сразу сегодня прикажу начать строить, все суда поставить на военную стопу, вкатить на них пушки. Ты увидишь, что будет зрелище, какого мир и корона Польская не видели, я тебе говорю, пане коханку.
Жевуский только подумал.
– Но зачем же меня тут было будить?
Князь выглядел убеждённым, который не мог ждать.
– Ну, что же ты скажешь, пане коханку! Король остолбенеет от этого вида! Гм! – он начал смеяться. – Я пороха не пожалею.
Пан Северин должен был наконец собраться на похвалу.
– Вещь, несомненно, будет особенная, – промурчал он, – очень особенная, лишь бы только удалась.
– Должна удасться, у меня есть фейерверк, артиллерия, у меня есть моряки, матросы, рулевые; флот выступит великолепно. Этого ни в Варшаве и нигде король не увидит, а я покажу мою мощь, создавая флот, можно сказать, из ничего, так как это всё я создал. Я чувствую, что если бы я не был воеводой виленским, то адмиралом бы стал. Ехать на Мальту и… У меня страсть к морскому делу.
Жевуский грустно повесил голову, потому что никаких замечаний себе князь чинить бы не дал, сопротивляться ему было напрасно; смехотворность представлялась неизбежной, хотя эту гибралтарскую фантазию легко было прозвать фейерверком и тем её как-то так объяснить. Воеводе же мысль взятия Гибралтара на несвижском пруду казалось такой великой, такой прекрасной, что в запале он не мог удержать её и укротить.
– Но тут нечего, пане коханку, уравнивать и на блюда раскладывать, – воскликнул он, – нужно, чтобы вскоре приступили к работе.
Беспокойный, он начал звонить, крича, чтобы ему, несмотря на раннюю пору, немедленно прислали особ, которых беспорядочно, одного за другим он перечислил. Жевускому сделалось его жаль.
– Ваша светлость, – сказал он, – лучше всего кому-нибудь одному командование этим Гибралтаром доверить, иначе порядка не будет.
– Ба! Но кому? Кому! – вздохнул воевода.
Что произошло дальше, описывать не даёт себя и кого-нибудь запомнить. По поводу Гибралтара началась такая неразбериха, суматоха, стучание дверьми, беготня посланцев по замку, во дворах, в коридорах, и наконец такой хаос, столько недоразумений и споров, что Фричинский должен был был использовать всю свою власть, чтобы вернуть кое-какой порядок. Князь встал с кровати в одной рубашке и в этом наряде давал аудиенцию; почти не было смотрителя, который бы не получил какого-нибудь поручения, и оттого, что повторяли и забывали, некоторые имели самые противоречивые приказы, а иные ссорились, потому что одна и та же вещь была поручена сразу двоим. Вызывали князя, который показывал своё нетерпение и прогонял.
Фричинский, хотя всегда хладнокровный, потихоньку повторял:
– Судный день! Судный день!
Пан Северин выскользнул из спальни, пожимая плечами.
Прибавив к тому, что Эстко в большой зале леса, кобылицы и лестницы велел сооружать как можно скорее, что с утра музыканты проводили репетицию концерта и оперы неподалёку, а каменщики снаружи заканчивали маленькие репарации и штукатурные работы, можно себе вообразить, какую картину представлял замок. То же самое происходило в Альбе и дорога из замка к ней так была забита возами, конями, людьми, что проехать было тяжёло.
С другого конца города строили уже триумфальные ворота, скелет которых поднялся поблизости от усадьбы, а то, что несколько несчастных хаток очень искажали вид, приказали беднякам, загродникам и лачужникам, выезжать из них, и сносили их, равняя с землёй.
Мы не говорим уж о муштрах золотой хоругви и радзивилловского войска, которые, собираясь стоять рядом с национальной кавалерией, прибывающей с королём, готовились не только держать ей шаг, но её превзойти. Гвардия воеводы не могла уступить даже королевской.
Разумеется, что при таком общем движении в кассе воеводы было также не меньшее, и каждое мгновение оттуда выносили мешки на все стороны. Деньги сыпал как мякину…
Большого имени маленький пан Филипп с того момента, как недодостойный Шерейко подал ему мысль презентования королю, ходил, как пьяный. Ему предписали тайну и имел решение как можно тщательней хранить её, но по преображённому лицу, по взгляду, улыбке, движениям и речи было легко узнать, что Русин в себе что-то носил недающее ему покоя.
Парень, обычно очень спокойный, тихий, боязливый и немного даже ленивый обращался теперь иначе и ботинки взял значительные. Известно, что когда человек находится в подобном состоянии возбуждения, все его чувства и действия закрашиваются. Понятовский теперь иначе даже овёс выдавал и мякину, командовал другим образом. Казалось, что с того дня, когда он видился с Шерейкой, вырос на несколько дюймов.
В замке и несвижском дворе, хотя в то время княгини не было, потому что князь от брачных уз освободился и новых заключать не имел охоты, ограничивались не очень большим количеством фрауцимер. Кроме этого, сформированный из подданых его княжеской светлости балет насчитывал десять с небольшим танцовщиц, отлично обученных двумя балетмейстерами: Петинетом и Лойкой. В различных функциях при гардеробе, кофейне, белье, при шатном, крутилось множество младших и старших девиц. Были различные степени в этом женском мире, разделённом на многочисленные категории, но бедная шляхта преобладала. Экономы и писари брали из этого рассадника панн, различно наделённых князем приданым, а случалось, что и беднейшая шляхта, малые собственники из двора себе выбирали супругу. Об этих фрауцимер ходили различные слухи; двор был довольно распущенный, но больших скандалов избегали, а щедрость князя закрывала уста.
Филипп, изначально прибывши на двор, ни мужских, ни женских знакомств не имел; несмелый, боязливый, избегал их долго, но хотя имел внешность непривлекательную и выглядел бедно, в конце концов, волей-неволей, встречая постоянно девушек, иногда вынужденный делать им небольшие услуги, должен был познакомиться с более смелыми. К таковым принадлежала панна Моника Чачкевечовна, которой дали прозвище Цивуновной.
Панна была, может быть, на пару лет старше Филиппа, но очень красива и свежа, а смела и решительна, как никто. Была воспитана на дворе, знающая досконально всех и слабости каждого, обращалась здесь с большой свободой. Почему ей скромный и незаметный пан Филипп попал в око – трудно объяснить, быть может, именно законом контраста, потому что был таким несмелым, как она отважной, даже до бахвальства. Кажется, что она первая приблизилась, познакомилась и подбодрила Понятовского, не выпуская его уже из глаз и, очевидно, заботясь о нём.
Филипп был ей чрезмерно благодарен и, естественно, должен был влюбиться, так как панна Моника была кокетлива, а обаяния ей было не занимать. Рассказывали несколько раз, что на ней хотели жениться и собирались, но всегда в итоге как-то этот брак срывался.
Филипп о женитьбе не помышлял, но не мог, несмотря на это, равнодушным быть к чарам панны Моники. Увидев её издалека стоящую на крыльце или в саду, бежал Русин что есть духу, дабы хоть поздороваться с ней, поклониться, и слово какое поведать. Он не имел от неё тайн, а если бы даже хотел, не смог бы их удержать, так ловко она из него добыть их умела. Был это её верный слуга, которого она использовала в самых разнообразных случаях, где и как ей было нужно.
После конференции с Шерейкой, первая мысль, какая пришла Понятовскому, была: довериться и посоветоваться с панной Моникой, но так как Шерейко рекомендовал ему не открываться никому, Филипп боялся, чтобы ему порядка кто не нарушил; наконец он припомнил, что женщины бывают долгоязычные, и решил молчать.
С этим решением нужно было избежать встречи с панной Моникой, так как сам он знал, что она прочитает по лицу, что он что-то скрывает, а потом легонько его принудит к исповеди. Поэтому он сказал себе, что будет избегать панны и обходить её сколько возможно, хотя было ему от этого очень тоскливо.
Простодушное создание, Филипп льстил себе, что сумеет с собой сделать, что захочет, ничуть не сомневался, что, решив исчезнуть с глаз панны Моники, исполнит это. Как-то в течении пары дней не показывался он ни в саду, ни во дворе, где мог бы с ней встретиться. Ему становилось скучно; он утешался тем, что для великой цели нужно уметь выстрадать, а не могло это всё-таки продолжаться вечно.
Панна Моника, которая имела некоторые расчёты на наивного Русина, не желала, чтобы он был к ней безразличен. Третьего дня она начала спрашивать, не болен ли он. Ей отвечали, что только возле приёма кормов был занят. Но вечерами не привозили их; итак, что же означало его отсутствие?
Её это гневало. Она вовсе не была в него влюблена, но по её расчётам выпадало, что для будущего супруга очень ей казался приличным. Рекомендовались к ней другие, но этих она не хотела себе, потому что не думала пойти под ничьё господство, но сама хотела быть госпожой.
К ней благоволили генералова, князь, она уверена была в приданом и положении. Филипп был работящий, спокойный… остальное она себе сделать из него обещала. Фамилия вовсе её не поражала и не имела значение для неё, не рассчитывала никогда на неё, только на протекцию князя. Следовательно, угадать ей было невозможно, что отдаляло Филиппа! Четвёртого дня она уже так была неспокойна, что под видом какого-то поручения, послала горничную, дабы привела к ней Русина.
Она ждала его на крыльце, взявшись за бока, сердитая на неблагодарного. Филипп, когда ему дали знать, сильно смутился, но отказать не мог. Сложил регистры и побежал.
Панна Моника угрожала ему уже издалека.
– Что с вашей милостью происходит? – вскричала она. – Третий день в глаза мне не показываешься. Что же это значит?
Дрожащий Филипп поцеловал ей руку.
– Как Бога моего люблю, – начал он живо, – если бы панна Моника знала, что я имею сейчас за работу! Выше головы! День и ночь! Не вздохнуть!
– Ах! Ах! Что там ваша милость мне говорит! – прервала красивая панна. – Все вы такие. Уже где-то новое ситечко…
– Где мне о каком ситечке думать! – простонал Понятовский. – Я обед съесть не имею времени.
Панна пожала плечами, но смягчилась.
– Не нужно просто головы терять, – сказала она, – а своей дорогой не забывать о тех, кто добра желает. Я думала уже, что ты заболел.
– Я бы и на болезнь времени не имел. Наскакивают враги, нет помощи! – отозвался Филипп.
– Приди вечером в сад, – прошептала она, видя приходящих, и исчезла.
Вечером Филипп должен был явиться и панна подвергла его допросу, но он не изменил. Она очаровала его ещё больше, но так как не догадалась о деле, которое он скрывал от неё, не расспрашивала его даже. Она убедилась, что он не остыл – об этом была речь.
Филипп тоже успокоился, что не будет посягать на признания и нет опасений, таким образом, как раньше, обещал являться по приказу. Монисия использовала его для малых услуг.
Из двора никто также, хотя раньше его иногда той фамилией Понятовского преследовали и передразнивали, теперь, казалось, её даже не вспоминали. Шерейко только иногда проскальзывал, чтобы ему духу придать и убедиться, что не трусит. Для него вся вещь по большей мере была в том, чтобы и король «сглупил», как он выражался, и князь «взорвался», и эти триумфы и аплодисменты хоть маленькой финфой короновались. Состряпать трюк тем величинам, к которым он имел жестокий зуб, было для него неоплаченным восторгом. Шерейко не был в сущности злым, но теории века, разнообразное чтение, труднопонимаемое им, сделали его страстным демагогом. Не имея возможности тем так называемым тиранам ничего сделать, по крайней мере маленькую шалость рад был состряпать, которая, впрочем, никому ничего плохого учинить не могла.
Он был уверен, что князь, хотя с виду рассердится, потихоньку потом будет смеяться. У Филиппа всегда что-то должно было испечься; что касается короля, хотя бы он сделал гримасу неудовольствия… Он жил в атмосфере, в которой его не любили, и наслушался про себя несусветных вещей.
Вместе с Филиппом теперь в великой тайне редактировали просьбу к королю, которую при устной рекомендации имел Филипп вручить наисветлейшему пану, чтобы забытым не была. Русин регистры как-то так ещё поддерживал, но в написании петиции показал себя таким неловким, что Шерейко должен был ему сам полностью продиктовать её. Остерегался только писать так, чтобы не быть потом привлечённым к ответственности.
На потолке в большой зале Эстко, прикрывшись старыми простынями от любопытных глаз, потому что не мог терпеть, когда без разрешения подглядывали, рисовал уже гениев добродетели и мудрости, об эмблемах которых он должен был даже с князем Канембринком советоваться. Он теперь убеждался, приступая к делу, что задание было трудное и неблагодарное. Добродетель не могла быть очень молодой, мудрость тем паче. Ни одного красивого лица, ни одного идеала не мог поместить на потолке!
Ежеминутно он сталкивался с какой-то непредвиденной трудностью. Иногда его охватывало сомнение, он вздыхал и говорил себе:
– Нужно было тебе выступать с этим трюком, из которого только огорчения вырастают, критика, зависть, а князь, вдобавок, не заплатит за грубую работу!
Почти теми же самыми мыслями мучился князь, который кричал теперь, что дал себя склонить к приёму короля. Ему действительно льстило представление сокровищницы, архива, золотой ординатской хоругви, а, может, даже своей идеи взятия Гибралтара, но рядом с этим столько проблем и расстройств, убытков и непредвиденных последствий. Временами оживала в нём старая неприязнь к экономщику, которому хотел дать почувствовать, каким он был маленьким при Радзивилле, то боялся, как бы его слишком не раздражить. Он имел великую охоту укусить, трудно ему было даже удержаться от этого, но нужно было осторожно его дразнить.
Мысли приходили разные. Почти ежедневно с утра он призывал пана Северина и понемногу сообщал ему о том, что ночью пришло в голову. Жевуский чаще всего отговаривал.
– Достаточно ему, князь, тем крови напортишь, когда покажешь какой ты процветающий, а он бедняк, по уши в долгах сидит. Пани Краковская, пани Люблинская, князь экс-подкоморий, племянники, любимая племянница маршалкова высасывают из него и пьют, недостаточно им.
– Уже это, пане коханку, – пробормотал воевода, – мне также сосущих хватает.
Через несколько дней после размышлений насчёт потолка, утром прибежал снова слуга, вызывая пана Северина к его светлости князю.
– Ты несомненно что-то придумал, или второй Гибралтар, или что-то подобное, – прошептал Жевуский.
Он застал князя с сияющим лицом и сильно взволнованного.
– Садись, пане коханку, – сказал он, – теперь только лишь поведаю тебе, что я скомпоновал что-то такое, что… погневаться за это не может, а должен будет устыдиться. Слушай только. Король всегда является генералиссимусом всех войск…
Не правда ли? Ему их надлежит продемонстрировать! Хе! Поэтому, как же он их будет муштровать? Очевидная вещь, сев на коня, как следует. А он на коне ездит, как собака на заборе, а на неизвестного коня совсем не сядет. Я ему моего араба Пальмира прикажу вывести с самой красивой уздечкой, седлом, упряжью. Ты понимаешь меня. Что не сядет, за это ручаюсь. Отличная финфа, и ничуть меня упрекнуть не сможет. Дай, Боже, грязь, должен будет в чулках и тревичках выступить перед шеренгой.
И князь смеялся, приложив губы к стиснутому кулаку.
– А что?
– Ежели это князю доставит удовольствие?.. – вставил Жевуский.
– А доставит, доставит, – сказал живо Радзивилл, – ни только конь, которого при нём прикажу привести, но охота, медведи. У меня есть такой один, который на всех порядочного страху нагонит. Как яростная бестия.
– Лишь бы это без кровопролития кончилось, – прошептал Жевуский.
– Ну! Ну! Уж там мои метальщики копий будут следить, – отпарировал князь, – но королю приказать медведями развлекаться! Гм! Понимаешь это?
Пане коханку прищурил глазки и усмехался.
– Лошадь! Гм! Не правда ли! Хорошая идея!
– Хорошая, – подтвердил пан Северин. – Но если сядет, а лошади придёт фантазия его сбросить?
– Но если сядет! Хо! Хо! Не допустят его адъютанты, а если бы сел, тогда мы его окружим – может, немного потом на желудок жаловаться будет, но кости ему не поломаем.
Каждый такой пункт довольно разнообразящий программу ежедневно подвергался разбору. От четырёх до шести дней имел Станислав Август развлекаться в Несвиже, на каждый день должно было что-то иное обдумать на утро, на после обеда и на вечер. Театр, балет, фейерверки, охота, экскурсия в Заушье, где собиралась принимать генералова Моравская, в Альбу, осмотр замковой роскоши и особенностей могли до утомления занять все часы.
Почти весь замок по этому поводу обновили. Все детали обили и позолотили заново, обивку на стены натянули свежую; особенно украсили королевский апартамент. В большой зале, которую кисть Эстки собиралась украсить нетленной аллегорией, выставили даже трон, который достался в наследство после Яна Собеского, а второй дали ему в его апартамент.
Устроив несколько финф, над которыми радовался князь, так как немного ехидности всегда в нём играло, срочно приказал всем, начиная от Фричинского, чтобы без ведомости самого князя, никто не смел к королю приближаться, никаких петиций ему подавать, ничем ему надоедать.
– Что я сделаю – это я знаю и в этом будет некоторая мера, – говорил воевода, – задам ему перца, но не слишком, потому что всегда это гость, хоть Понятовский, но это наша шляхта, пане коханку, Шукшты, Пукшты, Рымгайлы и Дрыгайлы, которые на короля, как и я, имеют негодование и наслушились, что я не раз его высмеивал, готовы себе позволить… от этого прочь!
Когда так всё приспосабливалось, хотя воевода утверждал, что тут без него обойтись не могли, подобало по этикету, чтобы сначала на границе княжества он сам приветствовал короля и, вместе с тем, его пригласил. В последних днях августа Станислав Август собирался быть в Бельски.
Расставили, поэтому, коней, и воевода, взяв себе в товарищи троцкого каштеляна Платера и камергера Собеского, пустился с такой поспешностью, что сто с небольшим десятков миль туда и обратно он сделал почти в четыре дня. Времени было так мало, дни так рассчитаны, что, хотя ночью уже подъехал князь к Бельску, а король собирался на отдых, Комажевский и Бишевский прибежали уведомить его, что наисветлейших пан примет князя воеводу.
Его также здесь ожидали.
Пришёл и пан Михал Залеский, который хотел сопровождать короля в осмотре каналов, любимец князя, – и этот также заверил, что немедленно будет принят.
Королю ничто лучше быть не могло, как побыстрее избавиться от Радзивилла, с которым не знал ни как, ни что говорить; он должен был делать вид грубого, весёлого, а это ему не удавалось.
Странными были отношения этих двух людей, ничем друг на друга непохожих, принадлежащих к двум вполне разным мирам и имеющих вкусы, как небо от земли различные.
Станислав Понятовский, воспитанник пани Геофрин, принадлежащий к самому изысканному европейскому обществу, вежливый, ровный, вечно играющий какую-то роль, никогда почти не открывающий своей мысли, превыше всего ценящий формы и элегантность, учёный, лингвист, эрудит, острослов, мягкий и приятный, кокетливый как женщина, он не мог ни прийтись по вкусу, ни быть понятым ближе чудаком старого кроя, привыкшим к превосходству везде, редко когда трезвого, вовсе неценящего слов, фамильярного даже до бахвальства, а за всё остроумие имеющий самые фантастические выдумки и басни.
Даже для короля воевода измениться не мог, не умел, нужно его было таким принимать, каким был.
Но можно себе представить мучения этого утончённого остроумца, когда ему пришлось подстраиваться к странному тону того, которого в королевском кругу называли литовским медведем.
Для их обоих было пыткой более долгое общение, а кроме того, Станислав Август, всегда и для всех чрезвычайно вежливый, был вынужден налегать на сладости и лесть, и принимать от воеводы такие неловкие бросания в нос кадилом, что часто от смеха, слушая, едва можно было удержаться.
Радзивилл поначалу всегда бывал несмелый, как бы надутый, но немедленно потом пускался в обычную свою болтовню, в которой остроумие заменяло несравненное бахвальство самых диких выдумок. Счастьем, всегда вина, рюмок, виватов хватало для веселья и успокоения воеводы. Наитруднейшим заданием для Радзивилла было выступление с речью, а речи ещё в это время были необходимы, никто и ничто от них освободить не могло.
Князь имел запас нескольких фраз, впрочем, говорил всегда у бока кого-то своего, кто ему подсказывал. В этот раз взял это на себя Платер, а все согласились на то, что по причине позднего часа, нехватки времени и т. п. речь должна быть недлинной. Он застал в освещённой комнате уже ожидающего наисветлейшего пана с ксендзем епископом Нарушевичем, Хрептовичем и адъютантами. Как всегда в таких случаях, король имел на устах ту весёлую улыбку, которая с них никогда почти не сходила. Выражение его лица было полным нежности, как если бы он чувстовал себя по-настоящему осчастливленным свиданием с «наилучшим из своих друзей».
Для князя было невозможным ответить на эту игру физиономии, к которой не был привыкшим, он только облачился в великую серьёзность, докучливую и неприятную, но, по счастью, не долго длившуюся.
Платер встал так, чтобы мог ему подсказывать, и князь выразил свою радость от лицезрения облика наисветлейшего пана; приветствовал его от имени граждан княжества своего и воеводства, а вместе с тем сообщил, что дом (не он сам) Радзивиллов благодарен был бы своему королю, если бы он соблаговолил принять в Несвиже гостеприимство и несколько отдохнуть после трудного путешествия.
Всё это пан воевода повторил как молитву за матерью, не без запинки, потому что должен был кусать себе язык, чтобы своего «пане коханку» не втискивать в каждое слово, отдохнул тогда лишь, когда Платер замолчал и, согласно уговору, слегка потянул князя за рукав в знак того, что доехали до конца.
Король, который слушал с восторженным выражением на бледном и уставшем лице, тотчас начал отвечать с такой сердечностью, как если бы с домом Радзивиллов был в самых близких, непрерывных приятельских отношениях. Он благодарно принял приглашение, заверил, что будет счастлив и т. д и т. д.
Сразу после этого официального приветствия разговор упал на тон ниже. Король спросил о дороге, воевода похвалился быстротой, с какой её преодолел, и доложил, что немедленно должен возвращаться назад, чтобы сообщить радостную новость своему дому. Он даже заверил наияснейшего пана, что в Бельске отдыхать не будет и безотложно поспешит возвратиться в Несвиж.
Вся эта аудиенция, таким образом, не длилась и получаса, и король, очень приветливо попрощавшись с милостивым князем: «До свидания, пане воевода» – скрылся в спальне, а князь с Комажевским и Бишевским вышел, приглашая их к себе. Служба князя, тем временем, в постоялом дворе, перед которым стояли кареты, приготовила ужин и напитки, потому что воевода был голоден, день жаркий, а Комажевский не запретил себе рюмки.
Радзивилл, отделавшись от тяжести аудиенции, в самом лучшем настроении болтал почти до нелепостей о своих путешествиях, гордясь быстротой, с какой прибыл в Бельск и обещая также вернуться. В комнате, в которую вошли, всё уже стояло в готовности и воевода сразу же велел налить огромную рюмку с выбитыми на ней трубами, поднимая её за здоровье наисветлейшего пана. Комажевский же поспешил внести взаимно виват князю воеводе и дому Радзивиллов, который все исполнили венгерским вином, как кажется, привезённый из Несвижа. Вино прояснило лица и вернуло утомлённым резвость; на столе холодного и горячего мяса, фруктов, лакомств стояло множество. Все сели, а князь снова начал рассказывать о путешествиях, особенно же об экспедициях в Тунис и Морокко, где никогда в жизни не был. Притом вспоминал о том времени, когда спасался от опасности, потому что в пустыне песком был засыпан караван, и только хладнокровию князя и карманному меху они были обязаны своим спасением. Среди рассказа густые рюмки следовали друг за другом. Между тем лошадей уже запрягали в карету и, высушив последнюю бутыль, князь попрощался с Комажевским, без проволочек отъезжая в Несвиж…
* * *
В то время, когда это происходило, и князь оставил Несвиж, где его заменяли пан Северин, князь Иероним и генералова Моравская с мужем, Филиппек Понятовский сидел, как на тлеющих углях, ожидая прибытия короля и опьяняясь наикрасивейшими надеждами.
Изменения в его настроении, расположении и способе обхождения с панной Моникой постоянно его беспокоили. Она чувствовала, что что-то произошло или что-то готовилось, чего перед ней скрывал Русин. Поэтому она решила, пользуясь отсутствием князя и немного большей свободой, изучить Понятовского, начиная сначала от мечтаний и до опьянения. Русин давал ей делать с ним что хотела, но он до сих пор был замкнут. Смеялся, шутил, но вместе с тем клялся, что никаких таин не имел.
Панна Моника не спускала с него глаз; она дошла до того, что он очень часто имел конференции с Шерейкой, но из этого она ничего заключить не сумела.
Однажды вечером она потребовала, чтобы Филипп ей песенку «О Филоне и Жустине» переписал. Понятовский не имел очень красивого почерка, но для Мониси садился несколько раз, писал, смазывал, драл, жёг, наконец, на регатном парусничке без ошибки переписал Филона и в конце каллиграфическими узорами его украсил.
На таком же парусничке он носил постоянно при себе приготовленную петицию, вместе с Шерейкой обработанную, к наисветлейшему пану; оба документа покоились в одном кармане.
Случилось так, что когда неосторожный парень в спешке, при первой встрече с Монисий хотел ей вручить песенку, ошибся и вместо неё отдал петицию, которую она, не глядя, спрятала в корсет. Филипп не видел днём этой ошибки, а девушка лишь вечером, желая изучить песенку, заметила, как он невольно себя выдал. Всё теперь для неё прояснилось: беспокойство Русина, закрытые советы с Шерейкой, избегание людей.
Таинственность всего, что творилось и говорилось на дворе, всю важность того, что потихоньку в тайне совершалось, панна Моника поняла отлично. Она знала, что князь не мог быть довольным, когда на его дворе появится такой убогий смотритель Понятовский, как бы умысленно поставленный, чтобы королю очень скромно припомнить его происхождение. Князя должно было подозревать, что сам приготовил или, по крайней мере, специально предотвратить не старался публичное унижения короля. Она сама не могла надивиться, каким образом забыла, что Русина звали Понятовским! И что князь с радостью себе выбирал друзей и слуг с королевскими именами, наилучшим доказательством этого был камергер Собеский, прибывающий на дворе. Понятовский при конюшне, Собеский над двором, шли в паре друг с другом, хотя в действительности о Понятовском все забыли.
Она была более чем уверена в том, что князь никогда на свете этому Понятовскому представляться здесь королю и петиции ему подавать не позволил бы.
Поэтому она имела случай отлично князю послужить, дать ему доказательства заботы об имуществе и милость себе обеспечить, то есть приданое. Она надеялась и без этого что-то получить, потому что её князь любил и охотно с ней шутил, а такая известная услуга не могла остаться без награды.
По правде говоря, нужно было предать Филиппа, но в её убеждении это должно было выйти на его состояние. На радзивилловском дворе в силу и богатства короля никто не верил: смеялись над его позолоченной бедностью, над долгами; панна Моника наслушалась этого. Не считала она, поэтому, чтобы Филипп от короля мог что-нибудь получить и через неё это потерял. В конце концов, он позже мог королю напомнить, ничего не препятствовало, лишь бы не в Несвиже. Таким образом, тем сильнее решила Монися предотвратить, чтобы петицию подать королю и представиться он здесь не мог. Дело было в том, как поступить, не давая ему узнать, что она его предала. Она была уверена, что, заметив ошибку, он прибежит за петицией; она обдумала, что вернёт её ему так, как если бы в бумагу не заглядывала и не знала её содержания.
Как-то на следущее утро прибежал Филипп встревоженный, смущённый и, запинаясь, попросил о замене песенки о Филоне, потому что первая была плохо переписана. С хладнокровием начала панна Моника искать, нашла парусничек и отдала его, получая Филона; а так превосходно играла безразличие, что Русин вздохнул, более убеждённый, что в бумагу она не заглядывала и тайна его спасена. Поцеловав ей руку, писарь тут же ушёл, под видом огромного количества работы. Панна должна была хорошо подумать, как и что предпринять. Она отлично знала князя, давно знала, какие у него были чувства к Понятовскому, что принять его был вынужден и уговорён, но она так же слышала, что заботился, чтобы ему кто без его ведома не учинил какой фигли. Страшнейшей же фиглей и большей неприятностью не могло быть ничего, чем то, что ему среди триумфа припомнили бы бедность и происхождение бедных Понятовских.
Дело было в том, как по возвращению князя из Бельска приступить к нему, не дать себя опередить, предостеречь его и тем обеспечить себе благодарность.
В Несвиже знали почти день и час, когда воевода вернётся. Жевуский, князь Иероним, несколько должностных лиц ожидали его. Нелегко было дотянуть, но панна Моника знала все обычаи князя, дороги его, привычки, моменты наиболее возможные для разговора, и придворных имела за собой.
Воевода воротился с утра и сразу на крыльце его окружили; он начал распрашивать о Гибралтаре, о других приготовлениях, об оборудовании, которое хотели привести из Бьялы и из Вильна. Дотянуться до него не было возможности. Наступил завтрак, при котором князь сильно захмелел, а то, что был утомлён путешествием, сел в кресло, накрыл лицо платком и все вышли, так как это означало, что он хотел вздремнуть. Как-то вскоре раздался громкий храп и не дремота, но сильный сон закрыл ему отяжелевшие веки. Временами только вырывались из его уст восклицания и князь яростно двигался, свидетельствуя, что и во сне не имел он покоя.
Панна Моника с нетерпением ждала. Она уложилась так, что собиралась войти как только он проснётся. Она стояла, ожидая, за дверью и, когда князь позвал слугу, стягивая платок с лица, вместо него вбежала Моника прямо к руке князя, которую схватила и поцеловала. Воевода был в неплохом настроении.
– Чего ты хочешь? – спросил он. – Иди к князю Иерониму или крайчиму, потому что я старый!
– Ваша светлость! – начала, говоря очень быстро, Монисия. – У меня чрезвычайно важная новость, которую хотела бы принести князю.
– Ну! Ну! Что же случилось? Тебе изменил кто-нибудь из панычей? Гм? – рассмеялся воевода.
– Ах! Ваша светлость! Не обо мне речь, – говорила осмелевшая девушка. Здесь такое что-то готовится, что князю, наверное, совсем не понравится.
– Э! Что же? Что? – прошептал, потягиваясь, князь.
– Я не знаю, известно ли князю, что тут на дворе при конюшнях есть смотритель, писарь, которого зовут Понятовским?
Князь сильно нахмурился и пальцы приложил ко лбу.
– Подожди, пане коханку! Ну да! Действительно! Припоминаю. До ста тысяч уток! Понятовский! Так точно!
– Вот он также готовится воспользоваться возможностью и приступить к королю. Смотритель князя.
Воевода не дал ей говорить, вскочил на ноги, схватил девушку за плечи:
– Молчать! Слышишь! Молчать!
– Но я, собственно, поэтому и пришла сюда, чтобы предостеречь князя воеводу.
Мрачно задумчивый был князь воевода.
– Вот тебе финфа! – замурчал он.
– Ваша светлость, – поспешила, прерывая, Моника, – я могу предотвратить это, никто знать не будет.
Князь поглядел на неё.
– Нельзя его допустить! – воскликнул он. – Скажут, что я придумал умысленно, что это дело задуманное! Сто смотрителей есть на дворе и никто не подумал, не вспомнил, что мы тут имеем Понятовского, не предостерегай меня, пане! Нужно было только, чтобы девушка пронюхала это.
– Ваша светлость, – прервала Моника, – нет ещё ничего, ничего не случилось… Со всем справиться можно. Пусть князь мне поручит, я исполню наказ.
– Так! Пане коханку, – сказал князь, ломая руки, – но что тут теперь делать?
Он начал живо прохаживаться.
– Можно было бы его запереть на это время, – воскликнул он, – но от этого возникнет потом такой протест, что я его не оплачу, и сделают из этого криминал! Просить же этого глупца, чтобы тихо сидел в углу, не могу. Королю такого Понятовского из-под тёмной звезды не проглотить. Он должен подумать, что я ему его умысленно сюда привёл, уговорил, чтобы допечь.
Воевода беспокойно прохаживался по кабинету, двигая руками, крутя усы, пожимая плечами, когда Монисия подошла к нему, целуя руку.
– Пусть князь только скажет, что мне делать, и я ручаюсь, что исполню поручение, и Понятовского никуда не допущу!
– И даже, чтобы о нём тут не болтали! – прервал воевода. – Никто о нём знать не должен. Потому что и я сам, и смотрители, никто к нему не может прикасаться. Каким хочешь способом заткни ему уста, пане коханку, и чтобы ничего не решался показывать, и никому о том ни слова.
Моника успокаивающе улыбнулась.
– Пусть князь подумает, – проговорила она, – я, хотя бы пришлось, не знаю, что для князя сделать, сделаю так, что ни Понятовского, ни петиции его король не увидит.
– Наипростейшая вещь была бы – запереть его в тюрьме! – повторил князь. – Но тут ничего не скроешь. Раструбят! Кто! Что! Понятовский! Князь его боялся. Обидел его… шляхтич…
– Ваша светлость, – прервала Моника ещё раз. – Это всё сделается без вас, я устрою.
В другой комнате послышались шаги; Радзивилл указал Моники на дверь, в которую она проскользнула, когда затем всунулся генерал Моравский.
Он застал шурина ещё таким взволнованным, что наперёд его спросил:
– Что же, как спалось?
– Сон имел недобрый! – ответил воевода. – Мне снилось, что меня Понятовский за горло душил.
Генерал рассмеялся.
– Я уверен, – добавил Радзивилл, – хоть я тут волосы из-за него себе выдираю, а окончится на том, что никто не будет доволен, и король уедет кислый.
– Но что же опять за имаджинация! – подхватил Моравский. – Почему это должно быть так? Всё идёт как по маслу. Зверя живого и убитого навезли предостаточно; с Бьялы, что хотел князь, прислали. Эстко рисует, даже страшно. Такую Жадность пальнул, что на неё смотреть нельзя. В Альбе всё приэлегантно.
Князь вздохнул.
– Вы все и я тоже слепой, – сказал он. – Тут что-то планируется такое, что мы не заметим, когда нашу тяжёлую работу лихо возьмёт.
За Моравским вошёл пан Северин, потом князь Иероним; воевода немного посмеялся, но до вечера остался задумчивый и сдержанный. Видели, что его что-то беспокоит; причины никто не мог разузнать.
Моника от радости, что ей так хорошо удалось, напевала в этот вечер не только Филона, но такие песенки, какие никто никогда от неё не слышал.
Назавтра утром, Довгелло, придворный князя, незаметно зашёл из гардероба к Мониси и шепнул ей, чтобы шла к князю. Воевода уже ждал её.
– Я очень хорошо понимаю то, – сказал он, – что ты, шутница этакая, не для моей милости этим занимаешься, но мне это на руку. В Ставках есть пять хат холопов, вся усадебка и неплохого угодья. Ты будешь это всё иметь, а избавь меня от этого Понятовского, пусть тебя выкрадет, а ты его задержи там за шею, пане коханку, пока король не уедет.
– Тогда князь хочет, чтобы разговорилось и разнеслось, что был здесь Понятовский, – начала Моника, – а что люди с того распродадут? На что это всё? Я его на эти несколько дней запру и живая душа об этом не будет ведать.
– Выбирется, – сказал князь, – а я гайдуков моих в помощь дать не могу!
– Гайдуков? – сказала смело Моника. – На что мне они? У меня есть шесть-семь фермерских девок, которые будут следить за дверями. Впрочем, я также смотреть должна и не дам ему двинуться, а меня он послушает. Вся штука в том, чтобы его вовремя к себе притянуть и чтобы сам князь приказал охмистрини Дересневичевой, чтобы она, не спрашивая, делала то, что я говорю.
Лицо воеводы рассмеялось.
– Как мне Бог милый, пане коханку, – воскликнул он, – но ты одна. Шесть девок с лопатами или с мётлами и конфискованный шляхтич. Хорошо ему так будет, а зачем Понятовским зовётся и у Радзивилла служит!
Князь очень тихо смеялся. Моника триумфовала.
– Только, чтобы мне шума никакого не было.
– Не пискнет, – воскликнула девушка. – Я ему скажу, что его гайдуки стерегут по приказу князя, но девок поставлю у дверей.
Воевода погладил подбородок.
– Но сама же будь милосердна к нему, – дабы ему в тюрьме не было очень тоскливо. Гм! Понимаешь.
Монисия скромно опустила глаза.
– И смотри, чтобы мне о том не болтали, – добавил князь воевода. – Когда король отъедет, всё устроится… вознаградится, а теперь тишина! И чтобы его не всполошить!
Моника покачала головой.
– Всё-таки князь видит, что я не так глупа и знаю, что нужно делать.
Воевода пошёл к столику возле кровати, достал огромную, длинную дорожную сумку из зелёного шёлка, высыпал из неё горсть дукатов и бросил их в подставленный фартучек девушки.
– Приказываю там бутыль вина ему дать… чтобы не говорил потом, что его морили и пить ему не давали.
Говоря это, он указал на двери, дал знак Мониси и шепнул:
– Получится хорошо, помни!
В этот день по лицу князя все могли прочитать, что он приспосабливал какую-то фиглю, от которой был очень рад, но его не расспрашивали, так как имел временами такие фантазии, что упорно молчал… готовя какой-то сюрприз.
Король ехал дальше из Бельска, всюду по дороге торжественно привествуемый, принимаемый со старопольским гостеприимством. Та обязательная королевская улыбка, которая с утра до ночи не сходила с уст Понятовского, сопровождала его в путешествии. Можно во многом упрекнуть характер Станислава Августа и самые близкие к нему защитить его не могут от обвинения в слабости, отсутствии энергии, постоянства и настойчивости, но самый больший недруг не может отрицать, что сердце имел он доброе. И именно эта мягкость делала его слабым.
Он рад был на протяжении всей жизни не только нравиться всем и быть им полезным, но даже грустью и заботами своими не хотел им чинить самой маленькой неприятности. Потому также вечно и всегда показывал себя удовлетворённым, довольным, счастливым, хотя в сердце болел и мучился. И в этом вынужденном путешествии, а тем более в посещениях Несвижа, король легко предусмотрел, каким неприятностям он должен подвергаться, но чувствовал себя обязанным показывать постоянно восхищение, радость и благодарность. Для тех, кто могут завидовать судьбам монархов, достаточно было бы представить себя в этой роли, чтобы убедиться, какой неволей есть мнимое счастье царствующих, подчинённых постоянному этикету, вынужденных служить по целым дням и редко могущих делать то, что нравится им. Каждое движение, заранее обдуманное, заранее предусмотренное, вписанное в программу, делает жизнь невыносимой ролью, которую он принуждён играть. Испытывал это Станислав Август в этом пуешествии, быть может, больше, нежели когда-нибудь, так как, за исключением нескольких часов ночного отдыха, не имел ни момента свободного для себя.
Достаточное количество штата сопровождало Станислава Понятовского, составленного из наиближайщих ему особ; имел при себе графа подкомория Хрептовича, епископа Нарушевича, писаря Литовского, генерала Комажевского, адъютантов: Бишевского и Михневича, Шидловского, старосту Мелницкого, шамбеляна Моравского, секретаря Бадени, Бьялопетровича, Гавроньского, каноника-лектора, секретарей и клерков: Сиарчинского, Гондзевича, Гобла и, кроме этого, личную службу с Риксом, старостой Пиасечинским во главе, доктора Боэклера и т. д. Но очень редко этот кортеж один окружал короля, так как по дороге присоединялись и провожали чиновники и горожане. Кареты постоянно были вынуждены останавливаться, король слушать речи и отвечать на них; даже есть и пить из вежливости приходилось больше, чем хотелось. Комажевский в рюмке, иные господа в тарелке заменяли Понятовского, который ни много пить, ни часто есть не мог, несмотря на это, он должен был пробовать то шоколад, то вино, то фрукты, с которыми перекрывали дорогу.
Пятнадцатого сентября ночлег выпал уже только в двух с половиной милях от Несвижа, в Снове, у Рдултоских, где с обедом также многочисленная группа гостей ожидала, имея во главе хозяина, новогрудского хорунджия. Надеялись тут застать или подождать князя воеводу с братом Иеронимом, которые о каждом шаге и приближении короля были уведомлены расставленными гонцами.
Ещё один вопрос церемониала оставался неразрешённым. Короля сопровождал в путешествии, скорее для чести, чем из нужды, эскорт, состаленный из национальной кавалерии, которая его и в Несвиже оставить не могла. Но тут князь ради своей золотой ординатской хоругви мог припомнить о чести отправления стражи с боков короля. Из этого конфликта между кавалерией и золотой хоругвью можно было предусматривать или размолвку, недорозумение, или раздражение, которые надлежало предотвратить. Кавалерией нельзя было пренебрегать, но в золотой ординации золотая хоругвь имела право хозяйничать и быть активной. Хотя генерал Комажевский надеялся это уладить с князем-воеводой, известная его раздражительность во всём, что касалось прерогатив дома, оправдывала страхи.
В Несвиже также заранее на конфиденциальное совещание вызванные паны де Лажац и де Вилль, выражали мнение, что золотая хоругвь, как хозяйская, могла без унижения для себя дать первенство кавалерии, когда князь Иероним и другие утверждали, что прибывшие с королём как гости, они могли тут отдыхать, местному ординатскому войску уступая охрану чести. Раздавались голоса «за» и «против»; согласились, однако, на то, что наияснейший пан должен был разрешить, что естественно предвидеть позволялось какой-то компромисс, дабы и волк был сыт и коза цела.
Снов с очень обширным и красивым двором, с садом, старательно и аккуратно поддерживаемым, очень хорошо подходил для размещения короля и его свиты, которая могла загоститься. Рдултовский выступал, как пристало потомку старой и могущественой семьи. Застал тут король красивую группу приглашённых дам, пани Зеньковичеву, каштелянову смоленскую, Лопотову, Платерову из дома Жевуской и несколько других, панов: Платера, каштеляница смоленского, Обуховичей, Кунцевичей, Мориконов, Оскерков, Брзостовских.
Из Несвижа на обед не поехал никто, но каждую минуту ожидали князя-воеводу, который вскоре, в товариществе брата, толпы горожан и друзей приехал.
Хотя день был довольно холодный, много особ вышло на крыльцо и в сад, потому что двор, хотя и обширный, не мог всё большего наплыва гостей поместить. Князь сел первым от короля, который старался его веселить, но разговор, даже при помощи Платера и ксендза Нарушевича не шёл очень быстро. Ни король к тону воеводы, ни он к королевскому не мог настроиться.
Король старался склонить к сердечной близости, князь постоянно с избыточной венерацией и почтением говорил комплименты, не слишком удачные. В течении какого-то времени продолжали они эти утомительные конверсации в зале и в саду, которые окончились тем, что воевода с братом отошли с Комажевским в сторону и объявили, что кавалерии уступят первенство. Таким образом, должна была равная численность двадцати кавалеристов и столько же ординатских золочённых рыцарей при выезде из замка сопровождать наияснейшего пана, а при покоях стоять только национальная панцирная кавалерия, которая конвоировала от Пинска. В замке все иные посты охраны должна была занимать ординатская милиция, которой дежурный адъютант короля выдавал пароли и приказы.
Весь эскадрон панцирной кавалерии, очень празднично одетый, находился у бока короля, а так как они все были известных семейств, состоятельные и привыкшие превосходить везде и тут, Комажевский и Бишевский могли бояться столкнуться с недружелюбными из радзивилловских офицеров, по большей части чужеземцами, которые на той польской почве были привыкшими считать себя за что-то местное. Была нужна большая бдительность, чтобы это предотвратить. Но, кроме того, король и двор, приближаясь к Несвижу, чувствовали всю раздражительность положения. Во взаимных чувствах друг к другу двух лагерей никто не заблуждался; не доверяли друг другу с обеих сторон, смотрели с опаской и, естественно, при этом положении каждое действие, движение, слово объясняли беспокойно, так как в них искали скрытый злобный намёк, раздражение таким образом, чтобы о нём нельзя было упомянуть. Если бы не мелницкий староста Шидловский, остроумный, весёлый, злобный, но рассудительный и ловкий, а отчасти также и ксендз епископ Нарушевич, который тоже в хорошем настроении ради короля старался удержать себя, Станислав Август показал бы в себе, может быть, тревогу, какую он имел на душе.
Шидловский, легко себе оценивая Радзивилла, успокоил короля, сказав, что ни на какую изысканную злобу он снизайти не сможет, а в его сопровождении никто даже не посмеет королю и гостю прикреплять какой-то ярлык; это не совсем убеждало.
– Само это его богатство, выступление в дорогой роскоше не без более глубокой мысли, – шептал другу Станислав Август. – Внешне делает мне честь, но в действительности говорит: «Пане коханку, для меня это ничем не является… а ты худой прислужник при мне, был им и останешься до конца». Но этого недостаточно; увидишь, мой староста, что тут и иные деликатные разные намёки ко мне по очереди выступят. Князь сам и те, кто ему захотят польстить, доставят идеи.
– Наияснейший пане, – ответил староста, – даже допустив, что подобное что-то может нас встретить, мы имеем на это одно лекарство: гордое игнорирование вещей, которых видеть не захотим. Штука в том, чтобы не оказаться затронутым.
– Bonne mine au mauvais jeu![15] – шепнул король, вздыхая.
В Снове, поскольку гонцы долго находились в покоях и не расходились, хоть король исчезал, по три раза должен был к ним возвращаться и особенно дамам говорить комплименты, пока, наконец, в девятом часу, простившись с хозяином, ушёл для очень необходимого отдыха, так как наступающий день обещал быть очень тяжёлым. А на отдых не сразу можно было удалиться. Комажевский ожидал решения, что должен был получить «на не забудь» пану хорунджию новогрудскому, нескольким дамам, заменяющим хозяйку, службе и т. п. На каждой остановке и ночлеге повторялась та же самая сцена. Генерал хотел отделаться как наименьшим, король рад был выступить великолепно и богато. Между тем, те скромные памятки в затратах путешествия являлись значительной графой. Привезли целые коробки дорогих часов, колец с инициалами и миниатюрами, табакерок, ожерелий, браслетов и серёг. Тысячами взятых в долг дукатов король это оплатил, не считая того, что у ювелиров в кредит взяли. Происходили с подарками бесчисленные трудности, потому что ими также к себе сердца привлечь, как оскорбить можно было. Чем же в самом Несвиже одблагодарить тех, которые имели всё, начиная с наивысших достоинств и орденов?
Радзивилл же, когда дошло до составления программы, в которую был вписан осмотр сокровищницы, заранее объявил тем, которые собирались вести:
– Прошу мне срочно считать, что он будет хвалить, что ему понравится, и записывать, пане коханку. Всё это ему подарим…
– А если… – прервал Моравский.
– Никаких если, пане коханку! – горячо воскликнул воевода. – Или honeste, по-радзивилловски, или не нужно было хвататься.
Этой ночью мало кто спал в Несвиже; назавтра с утра имела начаться та passya, как её там потихоньку называли. Знали, что король в девять часов двинется из Снова. Князь то успокаивался, когда его заверяли, что всё в готовности, то вдруг, что-то себе припоминавший, срывался, будил, посылал, призывал и не давал успокоиться, аж половину двора затрагивал напрасно.
– Дам на богослужение, когда это однажды закончится, – шептал князь Иероним. – Великая честь, но в поте лица её добываем.
В течении трёх дней утренний дождь шёл почти непрерывно, осенний капустничек, тихий, маленький, но до костей пробирающий влагой и холодом. А в этот день, к счастью, с утра распогодилось, но ветер, напраленный на север, веел достаточно неприятно.
На крыльце, ещё раз попрощавшись с хорунджим и дамами, король при криках: Vivat сев в карету с кс. епископом Нарушевичем и Комажевским, окружённый панцирными, выехал трактом на Малев, ведущий к Несвижу. За ним шёл целый поезд карет, фургонов, бричек, а в Снов уже начала прибывать из околицы конная шляхта для сопровождения в Несвиж.
Проехав едва милю, в Малеве собранной той дружины, очень странно построенной, уже находилось около нескольких сотен голов.
Со вчерашнего вечера пушки, установленные на замковых валах в Несвиже, отзывались время от времени; с утра же неустанно по очереди гремели, приветствуя прибытие достойного гостя. Особенно три огромные сорокавосьмифунтовые картаны, оставленные после Собеского, взятые Радзивиллом, заглушали все другие.
В Малеве сборища крестьян, стоявшие по обеим сторонам тракта, срывая шапки, приветствовали громкими криками. Король кланялся, руками давал знаки, улыбался, но, раздражённый уже предстоящими днями, он дрожал при каждом более сильном крике. Шляхта, холопы, все те толпы бежали за каретами; поля поблизости были покрыты людом.
……………………….
Но, прежде чем дальше мы будем сопровождать наияснейшего пана в его триумфально-мученическом походе, мы должны вернуться в Несвиж к пану Филиппу, который, ожидая прибытие своего однофамильца, с надеждами, вырастающими всё пышней, побуждаемый и подбадриваемый Шерейкой, скрывался, в постоянном страхе, чтобы фамилии его не припомнили и под стражу не взяли.
Не догадался бедный, что всё уже было устроенно и разработанно так, чтобы, начиная с утра шестнадцатого, не мог носа на свет высунуть.
В среду вечером он виделся с панной Моникой, которая с ним была более нежной и кокетливой, чем когда-либо. Они стояли вдвоём в сумерках, а дрожащий Филипп держал её за руку, обнимал её и прижимал к сердцу. Тихий разговор, прерываемый, становился всё более нежным.
– Слушай, – сказала в конце панна, – завтра утром все едут на встречу короля в Малев, в замке будет пусто… приходи ко мне на завтрак.
Филипп смешался, испугался как-то.
– Но… – вырвалось у него.
– Никаких но; если меня любишь, то придёшь. Слово.
Русин дал слово.
– Помни же! Потому что иначе между нами всё кончено. Приходи утром, хотя бы в восемь… знаешь мою комнатку?.. прямо, не спрашивая, ко мне. Кофе с бараниной будет на столе и рюмка вина найдётся.
Филиппек должен был троекратно повторить заверение.
В сущности минута для незаметного посещения была отлично выбрана. Войско, кони, кареты, сам князь и весь двор его заранее уже в Несвиж потянулись, где расположились в порядке, а князь всех муштровал.
Понятовский, одевшись в новый контуш, посмотрев в зеркальце, улыбнувшись себе, причесав волосы, натянул на голову шапочку и примкнулся незамеченный к той части замка, которую занимали фрауцимер.
Панна Моника ждала его у порога. Могло бросится ему в глаза и удивить то, что в передней, которая обычно бывала пустой, в этот раз он обнаружил около десятка сильных девушек, задыхающихся от смеха, сперва с криком изчезнувших при виде его, потом вернувшихся назад, вставших у порога, и когда Филипп входил к панне Моники, с шумом окружили дверь, которую он закрывал за собой.
Панна Моника была немного бледной и смущённой. Она просила его сидеть, налила ему кофе и вышла.
Филиппу почудилось, что, выходя, она закрыла за собой дверь на ключ. Но он этому посмеялся. Не могло этого быть!
В весёлом расположении он взялся за кофе. Всё было для него по плану и складывалось счастливо: петиция к королю была превосходно продумана Шерейкой, знал её всю на память; в отношении с Монисий нечего было желать. Дело было только в том, как и где, при чьём посредничестве он мог дотянуться до наияснейшего пана, чтобы ему вручить переписанный начисто аккуратно запрос, но за тем следил достойный его протектор и советник. Погруженный в эти мысли о своём счастье, Филипп не обратил внимания на то, что в передней за дверями господствовало чрезвычайное движение, смех, выкрики, какой-то стук, в самые двери даже кто-то всё больше ударял, как бы непреднамеренно. Панна Моника, которая собиралась удалиться только на мгновение, не возвращалась. Выпив кофе, съев все булки, которые он нашёл на столе, Русин начинал беспокоиться, нужно было ему возвращаться к себе. Выждав достаточно долго, встал он наконец, подошёл к двери, взялся за ручку, потянул… Что за чёрт? Закрыта были на ключ! Он не мог этого понять. Попробовал второй раз… закрыта!
Он принял это за шутку панны Моники, которая вскоре собиралась вернуться; не было смысла тревожиться… Сидел за столом и ждал. Между тем, прошло так добрых полчаса. Он уже сидел тут слишком долго. Подошёл он к дверям, попробовал ещё раз и начал в них стучать, крича: «Откройте!»
Ответили ему сначала очень интенсивные смешки, а вскоре потом послышался знакомый голос панны Моники:
– Сиди, сударь, спокойно. Прошу, чтобы меня впустили к нему, и всё объясню.
Филипп остолбенел.
Он не мог понять, что это могло значить. Какая-то шутка, фигля… но для чего! Ему сделалось холодно и горячо, он потёр чуприну. Затем медленно повернулся в замке ключ, двери немного подались, и втиснулась бочком, держа палец на устах, панна Моника. Филипп приветствовал смехом, она давала ему какие-то знаки.
– Прекрасного вы мне наварили пива! – воскликнула она. – Какие-то заговоры против князя замышляли, или что? Воевода приказал вас арестовать, где схватят, и закрытого держать под самой сильной стражей. Я несчастная! Нужно было, чтобы вас, сударь, тут у меня схватили, весь двор будет об этом осведомлён, стыд, срам…
Она закрыла свои глаза, словно плакала… Филипп стоял окаменелый.
– Что же вы наделали? Что? – начала панна.
Только теперь пришло Русину в голову, что кто-то должен был предать его петицию, которую собирался подать королю, и что это приняли за плохое. Но всё-таки никакого криминала не было, никакого заговора против воеводы!
– Панна Моника, благодетельница моя, – воскликнул он, стуча по груди, – это клевета, я ни в какие заговоры не вдавался, ни о каких не знаю. Меня зовут Понятовский и с этого титула королю Понятовскому я хотел подать просьбу, пожалуй, за это меня виновным делают. Но я же шляхтич, никто мне этого запретить не может. Заключать в тюрьму меня никто не имеет права!
Монисия слушала грозно нахмуренная.
– Ваша милость думаете спорить с князем? Ты всё-таки слуга его. Князь, должно быть, узнал, что ты хотел без его позволения подавать просьбу, и справедливо приказал запереть вас. Король бы мог подумать, что он сам поместил здесь бедного смотрителя, дабы его величеству глаза этим выколоть, что имеет такую бедную родню.
Панна Моника начала вздыхать и отчаиваться очень естественно. Филипп, обычно мягкий и боязливый, на этот раз, видя все свои надежды утраченными, приведённый в отчаяние, бунтовал. Он бросился к дверям, желая силой оттуда выбраться, но панна приступила к дверям.
– Что ваша милость сделаешь наилучшего? – крикнула она. – Погубишь себя. А тогда тебя в кандалы закуют и в темницу отправят; сиди спокойно. Как только князь вернётся, я пойду просить его, если смогу добиться. Стучать в двери ничуть не поможет, хотя бы ты их выломал. Десять гайдуков стоят на охране и я слышала, как им приказ давали, если бы ты хотел вырваться и бунтовал, чтобы заковать тебя и отправить в башню.
В голове Филиппа закружилось. Он наслушался о немалом количестве дел князя воеводы, который не уважал ничего, когда ему кто думал сопротивляться. Что же он, бедолага, один, а хотя бы и с Шерейкой вдвоём мог против силы воеводы.
Представление просьбы было делом значительным, но теперь больше, чем она, интересовала его личная свобода, месть воеводы, вся сломанная будущность.
Моника, читающая в его лице, легко поняла, что он встревожился, и что теперь с ним может делать что хочет. Она ударила его слегка по плечу.
– Будь спокоен, – сказала она тихо, – только спрячься тут скромно и не делай шума, а я постараюсь, чтобы ничего плохого не произошло. Подачу просьбы выбей себе из головы, пересидеть можешь тут в моём покое, пока король не уедет; потом, я надеюсь, воевода окажется любезней и…
Она не докончила.
– Оставь это мне, – добавила она через мгновение. – Десятник, который с гайдуками стоит на страже при вас, мой знакомый из Бьялы ещё, я постараюсь, чтобы вашей милости не отказывали ни в чём, однако, сиди тихо, спокойно, нужно сдаться!
Говоря это, она кивнула головой Филиппу, постучала в двери, быстро молча выскользнула и сразу за ней упали замки, а Русин, попавшийся в ловушку, оказался там один, с головой, в которой запутанных мыслей не мог ещё привести в порядок.
Всю надежду он складывал на Шерейку. Шерейко должен был заметить, что Филиппа не стало, и догадаться, что его заперли; он один мог его спасти. Он не сомневался, что добрую волю ему не ограничат.
Удручённый и грустный, он бросился на стул, облакатился обеими руками о стол и остался так, погружённый в чёрные мысли, не ведая уже ни какой час протекал, ни что делалось вокруг. За дверями голоса гайдуков, охраняющих его, звучали как-то странно не по-мужски…
* * *
Сразу за Малевом в поле начинался приём короля с той весьма деликатно продуманной фигли, которая хотела urbi et orbi[16] показать, что король сарматов, наследник Храбрых и Кривоустых, не мог на коня сесть… Станиславу Августу не годилось даже показать травмы и горя… это унижение. На тракте стояли верховые лошади для кортежа наисветлейшего пана и отдельно, под золотистым седлом, Палмир, для короля. Конюшие Божецкий и Каминский привели коня и были вынуждены остановить карету.
Король смеялся, но побледнел; он понял, что этот конь, на которого он сесть не мог, должен был свидетельствовать о его изнеженности и немощи.
Шидловский, Комажевский, Бишевский и почти весь двор вышли из карет, садясь на верховых лошадей, так, что король с кс. епископом и духовными практически один остался в карете.
Доктор Боэклер поспешил ему на выручку, беря на себя то, что он не мог позволить, ради состояния здоровья наисветлейшего пана, этой конной поездки. Таким образом, разыгралась маленькая сцена на глазах радзивилловских конюших – король вроде бы настаивал, Боэклер не допускал, остальной двор, естественно, был на стороне доктора, так, что наияснейший пан непреднамеренно должен был ехать дальше в карете. Честь спасена, но это первое впечатление радзивилловского приёма было горьким…
Полмили оставалось уже до города, который по-прежнему в дыму бьющих пушек показывался, когда снова королевский экипаж должен был остановиться.
На тракте стояли всадники: генерал Моравский и великий литовский писатель Платер в многочисленной ассистенции панов шляхты. Моравский приблизился к экипажу и сообщил наияснейшему пану, что эскадрон гусар национальной кавалерии, который он должен был конвоировать из Несвижа в Гродно, стоял в поле, ожидая приказа, должен ли был отбыть манёвры, и какие?
После верхового коня, которого король не мог оседлать, кавалерия, которою не мог муштровать из экипажа, была вторым, как бы сознательно придуманным намёком, и значила… король-баба.
Почувствовал это сильно Понятовский, но умел скрыть это второе досадное впечатление, от которого легко бы его Радзивиллы могли избавить, – смеясь, кланяясь, потирая руки, благодаря и стараясь показать себя счастливым от всего.
Всё-таки вполне равнодушным к своей гусарии и войск Речи Посполитой, которые она тут представляла, не мог Станислав Август показать себя. После короткого раздумья, хотя воздух был холодный, хотя морозный ветерок навевал с севера, вышел он из экипажа и… пешим пошёл к эскадрону, построенному у дороги. Подбежал к нему Комажевский с советом, который был очень необходим, ибо король едва ли знал, что предпринять с манёврами. Он и адъютант Бишевский повторно спасли честь короля, прибегая к нему, получая якобы приказы и относя их командиру эскадрона. Эта гусария, хотя в войне не много могла бы быть полезной, потому что была слишко тяжёлой и не отвечала новым запросам военного ремесла, на глаз выглядела очень красиво и живописно. Она напоминала давние времена и могла вызывать слёзы и вздохи, но тут… никто мыслью не переносился в прошлое и красивых этих маскарадных рыцарей приветствовали улыбками.
Гусары, раз приступив к манёврам, к которым были приготовлены на показ, нескоро их докончили. Они рады были показать себя перед радзивилловской милицией своё превосходство над ней. Король, таким образом, переступая с ноги на ногу, чтобы как-то разогреться, и, не забывая давать знаки своего наивысшего удовлетворения, должен был так промучиться добрых полчаса; после чего, часть эскадрона он послал вперёд к Несвижу для занятия караула, к которому был командирован, а оставшиеся сопровождали карету.
После испытанной скрытой неприятности существенно награждал великолепный вид, который перед королём разлегался. Всё пространство с этого места до города было занято разноцветной толпой шляхты на конях, войска и народа, празднично наряженного. Вдалеке гремели пушки, ближе раздавались виваты; все лица весело смеялись, все казались счастливыми.
Для показа, что ординатское войско сравниться с гусарией вовсе не боялось, на небольшом расстоянии стояла в поле золотая хоругвь его светлости князя во главе со своим полковником Янковским.
Тот, словно на показ, был сознательно выбран, так красиво и галантно представился, а вся хоругвь с ним вместе казалась выкроенной из старинной картины. Янковский имел на себе восхитительные обитые золотом доспехи с шишаком, к ним подобранным, и камеризованную дорогими каменьями булаву в руке.
Лицо, фигура, упряжь коня, оружие – всё складывалось в какой-то призрак давно похороненного прошлого. Над ним и его людьми, казалось, развевается на невидимом флажке торжественный и грустный Fuimus![17]
Вся также из двухсот шляхты сложенная хоругвь, а особенно восемьдесят сопровождающих, построенных от чела и на крыльях, были по старинному способу убраны и бронированы. Цвета контушей были гранатовые, чёрные обшивки и светло-золотые жупаны, флажки на копьях, по старинному образцу, очень длинные, пурпурные с чёрным. Сопровождающие имели на этот день выданные из хранилища красивейшие старинные доспехи, кирасы, шишаки, щиты, копья, каких уже не использовали, специально наточенные. Золотая хоругвь, хотя не затмила гусарии короля, но имела над ней то превосходство, что составляла гармоничную целостность.
Князь воевода мог ей гордиться. На самом деле, в дороге она сейчас неособенно пригодилась; не было это войско, которое могло бы представлять чело тому, какое создал опыт Семилетней войны, но как зрелище, было захватывающим.
Также фон, на котором рисовалась эта картина прошлого, был отлично к ней подобран. Отсюда был виден как на ладони весь город, замок, дворец, ратуша, башни и стены костёлов: иезуитского, бернардинского, доминиканского, бенедиктинок; рынок и улицы, составленные из кирпичных камениц, далее в глубине на горе – Свято-Михаловский костёл и огромные постройки некогда иезуитского новициата и тут же на взгорье, окружённые густым и красивым, теперь частью пожелтевшим, лесом, – здания аббатства Святого Креста бенедиктинцев, а в глубине – некоторые строения, относящиеся к Альбе, летней резиденции князей.
Чистое небо, из-за лёгких облаков проглядывающее солнце, поднимающийся над замком дым пушек, которые неустанно палили, оживляли эту панораму, великолепную и весёлую. За золотой хоругвью сразу выступали снова богато убраные в великолепные доспехи, под сёдлами из золота и жемчуга, из сокровищницы на этот день взятыми, на парадных конях, по большей части восточных, за ними стрелки, не менее как восемьсот человек, с одинаковыми ружьями, все одного цвета, зелёных жупанах и серых куртках.
В минуту, когда показалась кавалерия, непрерывной шпалерой над трактом стояла радзивилловская милиция, стрелки, стражи, могущие дать наилучшее представление о могуществе этого дома, который такую многочисленную службу мог по большей части из-за одной только панской фантазии удерживать.
Король со своим двором казался очень скромным, утопая среди этих толп, наряженных и бронированных.
Немного дальше среди великолепного кортежа впереди ждал короля князь-воевода, на этот день также наряженный как для картины и для своей старинной хоругви. Лицо его даже казалось необычно приодетым серьёзностью.
Под ни был его турецкий конь необычайной красоты, покрый седлом с серебряной бляшкой, на котором вместо узора были пришиты тяжёлые штуки золотых тканей, украшенные каменьями. Румак имел что нести, потому что и князь со своей тучностью, и всё снаряжение были немалого веса. Седло, стремена из золота так немало обременяли, но верховая лошадь несмотря на это, казалось, свободно и живо двигалась.
Воевода виленский, естественно, имел на себе мундир воеводства, а на голове соболий колпак с бриллиантовой бляшкой и брошью, в которой светились огромные бриллианты.
Поскольку князь собирался приветствовать короля и был вынужден двигаться свободно, а сивый турок под ним не мог спокойно устоять, двое конюших за узду его придерживали. Тут наступала по очереди для короля минута гораздо более лёгкая, нежели для князя, который ни красноречивым не был, ни привыкшим к ораторским выступлениям. Речь для него писали, кроме Бернадотовича, Залеский, а, может, и Матушевич, была, поэтому, исправленной и испорченной не раз, а какой на свет выйти имела, о том воевода не много беспокоился, но нужно её было изложить. В этом был сук. Князь памяти не имел, а учить что-либо на память, за исключением молитвы, в жизни не пробовал. Таким образом, хоть сокращённой орацией, всегда это проходило через силу. Подставленный, поэтому, на коне рядом князь Северин Жевуский, как все члены этой семьи, одарённый чудесной памятью, хотел подсказывать и смеялся, что ему это напоминало студенческое время.
Этой речи, которую в поте лица, не всегда выразительно, князь, постоянно глотая свою привычку «Пане коханку», произнёс, повторять не будем.
Её особенный стиль свидетельствовал о незрелости языка того века, но была полна сладости для короля. Она называла его «Всеобщим отцом», любимцем народа, дорогим сливом ягелонской крови, чего же больше можно было ожидать от Радзивилла? Пару раз упоминались предки Ягайлы; был упомянут Владислав IV и предок короля Стефан!
Как маленький образец стиля, особенного, принудительного, запутанного, мутного, служить может предпоследняя фраза: «Всмотрись же, добродетельный пане, в радостные лица, окружающие тебя, вглядись в сердца их – они чисты, одной только гражданской верностью, наивысшей любовной привязанностью (!) заняты к своему монарху».
Воевода тогда лишь вздохнул, когда на Стефане, королевском предке (имело место в эти времена соответствующего предка обозначать) завершил.
Король слушал, стоя в карете, с покрытой головой, поддерживаемый Нарушевичем и Хрептовичем, улыбаясь и умиляясь, хотя мучился равно как воевода, ответ ему пришёлся также нелегко, чем тому эта выученная речь.
Согласно тогдашней реляции, королевское выступление так было произнесено, что до слёз растрогало более мягкие сердца. Вокруг господствовала тишина, так что голос, поначалу немного тихий, потом всё более повышался, отлично на значительном расстоянии стал слышен.
Но на этих двух речах не закончилось, к сожалению! Король был вынужден постоянно стоять, старшие должностные лица воеводств и поветов по очереди подъезжали на коне и приветствовали его и на каждую речь он отвечал, что умелому и привыкшему к разговору сладости пришлись с великой лёгкостью. Затем выступили: маршалек виленский Тизенгауз, ошмянский – Оскерка, вилкомерский – Костялковский, минский – подкоморий Прушинский, мозырский – Оскерка, при новогродянах – Войнилович.
Тот в последний раз уже отдал честь королю, «отцу родины», а эту минуту назвал достойной памяти эпохой.
Это продолжалось достаточно времени и в момент, когда были речи, предшестующие выезжали вперёд и строились в шеренгу для дальнейшего похода, на конце которой, перед самым экипажем, стоял князь с главнейшими сенаторами и сановниками.
Прежде чем двинулись из города, король настойчиво начал просить и побуждать Радзивилла, чтобы с ним сел в экипаж, но князь никоим образом согласиться на это не хотел и настаивал на лошади. Он был более свободным и боялся более продолжительного разговора, к церемониальности которого его трудно было склонить.
Несмотря на то, что день и к полудню не переставал быть холодный, Радзивилл постоянно с лица обильный должен был стирать пот, а король от усталости был бледным и жёлтым.
За князем ехал Жевуский, воевода обратился к нему:
– А что, пане коханку, речь?
– Всё отлично прошло! – отпарировал пан Жевуский. – Хорошее предзнаменовение, до сих пор идёт как по маслу.
Князь вздохнул и подумал: «Вот бы мне только этого Понятовчика закрыли».
– Ваша светлость, – прервал в эту минуту провокатор Храповицкий, – как Бог милый, что такого вида, как вот сегодняшний, кто на элекции не бывал, не мог в жизни нигде видеть. На это нужно было Несвижа и Радзивилла.
Князь усмехнулся, но забота и усталость проглядывали сквозь улыбку.
– Пане коханку, – замурчал он, – только лишь в конце похвалимся, а это едва начало.
В Казимежском предместье были поставлены триумфальные ворота, которые Эстко так же, помимо потолка, частично вынужден был изукрасить. На челе их золотыми буквами стояло:
Laetitiae et felicitatis publicae
Et Stanislao-Augusto
Regi polon. M. D. Lituaniae
Carolus II Dux Radziwillus.
Кароль II выглядел здесь гордо, словно царствующий, и за такового считал себя князь-воевода. У ворот more antiquo стоял кахал с раввином во главе и подарком для наияснейшего пана, состоящим из столового подноса и сервизов, какие в то время использовали, с фигурами, инициалами и пирамидами. Раввин произнёс речь, король ответил.
Едва после неё он собирался отдохнуть, когда показались городские ворота, у которых стоял войт Магдебургии с речью и ключами. Король, который долго был бледным, начинал от утомления, от ветра, от волнения набирать нездоровый, глинистый цвет на лице. Он покашливал и крутился.
– Наияснейший пане, – прошептал сидящий с ним Нарушевич, – ничего не поможет, нужно эту чашу испить до дна… Вот магистрат с ключами! Что наступит дальше, не знаю, но ко всему нужно быть приготовленным.
Король должен был привстать, потому что войт, уже держа на серебряном подносе ключ от города, начинал:
«Город Несвиж…»
В речи, счастьем не долгой, он зачитывал несчастную надпись на воротах в Варшаве, положенную при въезде Яна III, и припомнил ею известную всем, не исключая короля, эту:
«… я бы стократ больше потратил, чтобы Станислав умер, а Ян Третий ожил…»
Король с всегдашней улыбкой едва прикоснулся к ключу и поблагодарил очень коротко.
На воротах, украшенных венками и зеленью, было:
Aperite portas principi vestro et introibit Rex!*…
Кареты по причине несметной сутолоки на этой главной виленской улице едва могли передвигаться. Двери, окна, крышы, лестницы, дымоходы полны были самой разнородной толпы, среди которой женщины размахивали платками, мужчины шапками, поднятыми вверх. Князь, желая выступить во всём своём могуществе и силе, на рынке возле ратуши приказал поставить гарнизон, составленный из пехоты иностранных тяжёлых солдат, около тысячи человек гренадёров под командованием Радишевского, гродского секретаря, полковника и генерального коменданта всей радзивилловской милиции.
– Князь выступил, – шепнул на ухо епископу король, – как если бы мне войну хотел объявить.
Но на этом ещё не конец, на иезуитской площади перед костёлом стояла построенная драгуния, голов с триста, одинаково аккуратно и красиво, как гренадёры, выглядящие. Король ехал сначала к костёлу, в котором для него был приготовлен стульчик, покрытый бархатом, с изголовьем, а с обеих сторон его – на страже тридцать рыцарей в старинных доспехах, с алебардами.
Наименее рыцарского короля, как бы наперекор, повсюду тут войско и рыцарство встречало и окружало. Нельзя было защититься от мысли, что в этом заключён был почти упрёк. Почувствовал ли король это? Бог соблаговолит знать, произошло ли это случайно, неизвестно, но не один подумал: предпочёл бы он что-то другое! Это несомненно. Навстречу вышел ксендз смоленский (Водзинский) in pontifcalibus и, покропив короля святой водой, провёл внутрь великолепной святыни, среди грохота пушек, труб на хорах, органов и выстрелов ручного оружия.
Загремело величественное Te Deum Laudamus!
Капеллан и любимец князя ксендз Кантембринк, бывший иезуит, смоленский хранитель, славившийся разумом и речью, взял голос.
Речь была длинной и, может, из всех наиболее свободной, самой ловкой, лучше продуманной и оглашённой. Припомнил старый капеллан в ней, что некогда в Варшаве двадцатью годами ранее с амвона он поздравлял короля. Были это милые, может быть, речи, но какие горькие для короля воспоминания. Quantum mutatus ab illo![18] Все предшествующие монархи, которые посещали Несвиж и Радзивиллов, великие тени, при которых этот новый королик казался таким маленьким, переместились в речь Кантембринка.
Сигизмунд Август, что отказался от своих наследственных прав на Литву, отдавая их Речи Посполитой, Владислав IV, Ян Казимир, принятые в Бьялой, Август II – в Биржах, наконец, король, «народ свой любящий и народом любимый». Был это, как бы пророческий девиз, который в течении несколько лет потом коротко позвучит и утихнет. Король с народом, народ с королём!
Из-за стола взволнованный король ещё раз отозвался, благодаря ксендза хранителя и высоко поднимая заслуги, достоинство и добродетели знаменитого дома Радзивиллов.
Королевская речь, действительно льющаяся из сердца, потому что все знаки чести, какие ему отдавали, не могли не тронуть короля, произвела большое впечатление. Красивый голос, умелая и искусная декламация, внешность Станислава Августа, симпатичная и милая, расположили к нему сердца. Сам князь воевода пару раз слегка вытер глаза.
Наконец этот день, требующий неслыханных усилий, заканчивался отдыхом в замке. Было уже два часа пополудни. От города отделяла только на пару тысяч шагов длинная дамба. В замковых воротах стоял комендант с ключами, но показ их королю и возвращение пану де Вилль не много отняли времени. Пушки на валах, до сих пор непрерывно действующие, которые давали более тысячи выстрелов, вдруг затихли. Карета подъехала к крыльцу; равно как дворы, и покои были набиты прибывшими гостями, а особенно новогродской шляхтой, которая практически полностью прибежала под хоругвь Радзивилла.
Через большую гетманскую залу, стены которой все были завешаны изображениями Радзивиллов, не задерживая уже (так как все легко могли себе представить его утомление), короля провели в предназначенные покои.
И король, и воевода уже из последних сил добрались сюда; но Радзивилл имел привычки и обычай охотника, привык к подкреплению напитком и еде, обильной и питательной, а ослабленного Понятовского песачинский староста ждал с чашкой бульона, как напёрсток.
Упал король в кресло со вздохом…
* * *
Несвижский замок, которому великолепных и огромных зал, позолоченных украшений и драгоценных предметов всегда доставало, при князе Пане коханку не потерял ничего из прежней роскоши, но был довольно заброшенным. Воевода не заботился об элегантности, не знал её, не тревожился о ней. Некогда замок долго пустовал и был покрыт пылью, потом многолюдные пиры, на которые, как на евангелический праздник, вызывали сотнями бедную шляхту, а та, подвыпившая, не уважала ничего, захламляли и задымляли. Поэтому для приёма короля должны были почти полностью весь замок обновлять, обивать, очищать и заново украшать. Пошли на это десятки тысяч, но воевода не жалел. Он объявил, что всё это должно быть по-радзивилловски.
Те, что издавна знали замок, едва его обновлённым могли узнать. Одни апартаменты, предназначенные для короля, заново переоблачили с несравненной роскошью.
Особенно освежён и великолепно оформлен был французскими гобеленами, обитыми на золотых и серебряных фонах, покой для аудиенций, в котором поставили трон, унаследованный от Яна III, а над стулом для короля повешен был красивый портрет Станислава Августа, работа Бочиарелли. Посередине большое зеркало имело серебряную раму и подсвечники искусной работы, также серебряные. В спальне стены покрыли бархатом с золотом. Здесь и в иных покоях короля подвесное зеркало, подсвечники, боковые геридоны, столы, экраны к каминам, старинной работы, все серебряные. Кровать в спальне, о которой было предание, что её Ян III получил в подарок от короля Людовика XIV, привлекала грандиозностью и вкусом. Её балдахин и покрытие украсили богатой вышивкой серебром и золотом.
Прямо из залы аудиенции король вышел в большую залу, называемую гетманской, украшенной изображениями гетманов натуральной величины, во всей форме. Тут бросался в глаза портрет князя Михала Радзивилла, гетмана литовского и воеводы виленского, на коне, выполняющего смотр войска литовского перед Августом III под Заблудовом, вытканный, как говорили, в местной фабрике, чему поверить было трудно. Сомневающимся в том, что где-то в Литве или Польше такая замечательная рукодельня, производящая arazze, могла находиться, указывали другие шпалеры в нескольких покоях, подобной работы, с серебряными, широко вышитыми краями.
Король едва короткое мгновение мог отдохнуть; шум в соседних залах, переполненных гостями, вынудил его поспешить показаться им. Только несколькими словами перебросился с Комажевским.
– Как тебе кажется, Комажес? До сих пор…
– Всё хорошо, – отпарировал генерал, только слегка кривясь. – До избытка, может, этого хорошего, но по-радзивилловски.
– На военной стопе, – шепнул король, улыбаясь, – и меня также на коня хотели посадить, конечно.
Комажевский пожал плечами.
– Всё это уже избито, – ответил он. – Запал великий, энтузиазм искренний, в этом хозяин мог убедиться. Виваты почти заглушали пушки.
Не время было долго обсуждать. Отворили двери; король приукрасил уста официальной улыбкой и вышел с тем изяществом и элегантностью, которые его всегда сопровождали, даже в наиболее болезненные минуты жизни. Кто-то, видя эту улыбку, позже красноречиво выразился, что у короля была она проявлением gratiae status.
Группа дам, также ожидающих короля у двери, с воеводиной смоленской Тышкевичевой во главе, весьма праздничная, цвела красивыми и важными личиками, по большей части бывших уже знакомыми его королевскому величеству. Выделялись среди них: княгиня Массальская, Пжезецкая, старостина минская, Солтанова, великая литовская хорунджина, Бжостовская, Рдултовская, писарова Моравская, и пани новогродзянки: Войниловичи, Яблонские, Межейевские, Завишины, Котлубаёвы и т. д.
После первых приветствий, неизвестно кто, кажется, что пани Моравская, сестра князя, обратила внимание короля на недавно специально изукрашенный тот потолок Эстки, который стоил ему столько труда. Станислав Август, хотя ему, может быть, хотелось улыбнуться, был вынужден хвалить этот свой апофеоз и выразить благодарность, а вместе удивление такому быстрому выполнению.
Видя, как наияснейший пан обратил взор на верх, все подняли его на потолок и, по его примеру, восхищались страшной Жадностью, Гением княжеского дома, Добродетелью, Мудростью и крылатыми сердцами, горящими на алтаре.
Это была единственная награда достойному Эстки за дни, проведённые на лесах, с головой, обращённой на верх, от чего до сих пор чувствовал боль в шее.
Король с большой сердечностью старался выразить свою благодарность генераловой за это увековечение воспоминаний о прибывании его в гостеприимном доме князя.
Между тем собравшиеся пани протискивались для целования белой панской руки, потому что двери столовой залы (называемой залой Вишневецких) были уже открыты и собирались подавать обед уставшим и проголодавшимся.
Заставили его с роскошью и величием, во вкусе того времени, среди зеркальных подносов, фигурами из фарфора и серебра, цветами и пирамидами с инициалами и гербами короля. Разделили общество на две части. Короля окружили дамы при главном столе и часть семьи Родзивиллов, когда другая хозяйничала у стола, от которого по очереди гости были приглашаемы к королевскому. Здесь сидели: князь-воевода, брат его, подкоморий, князья Юзеф, Альбрехт, Антони, Мацей, Сапега, генерал артиллерии, русский воевода Потоцкий, Моравский, Солтан, хорунджий, Жевуский, Бжостовский, воевода лифляндский и т. п.
Кроме двух главных, в других замковых залах разных столов для самых неименитых гостей, духовенства и шляхты, было очень много, и, наконец, что тут поместиться не могло, три стола в иезуитский коллегиуме приняли, потому что сотнями насчитались прибывшие в Несвиж, а воевода, никого, не угостив, отпустить не хотел.
Князь-воевода провозгласил здоровье короля при отзвуке пушек, труб и музыки, а король отвечал виватом воеводе и здоровьем князя Иеронима и всей семьи. Рюмки сразу прояснили лица, развязали уста, и воевода, который с королём чувствовал себя перед тем не своим и обеспокоенным, сам начал по-своему развлекать коронованного гостя, который весело и свободно ему отвечал. Так издалека, по крайней мере, могло казаться, хотя король у Радзивилла мало что слышал, а тот наияснейщего пана не очень понимал, что ни мешало в великой гармонии забавляться взаимно до конца пира. Даже король, не привыкший к рюмкам, пару их должен был выцедить и бледное его лицо покрылось живым румянцем.
Королю, правда, после обеда несколько раз позволили выскользнуть в его апартаменты под видом экспедирования срочных, привезённых к столу корреспонденций, но в этот день обязанности не закончились обедом.
Дамы, которые не имели счастья быть представленными королю, потребовали от Моравского, чтобы их представил; потом нужно было слушать концерт, потом начать бал с воеводиной смоленской, заменяющей хозяйку, и иных дам также удостоил чести прогуляться с ними по гостиной.
Наконец, король должен был сесть в коляску с Тышкевичевой для обозрения великолепной иллюминации, в блесках которой горел весь Несвиж. Говорили, что около полумиллиона лампочек горело на валах, дамбе, дворце, ратуше, рынке, костёлах и главных строениях.
Было уже недалеко до полуночи, когда, наконец, король с Комажевким вошли в спальни, а князь со своими верными аколитами в кабинет, в котором серебряная бочка ожидала жаждущие уста бахусовых слуг.
– А что? А что? – испустил вздох князь-воевода, выцедив первую августовскую рюмку и вытерев уста. – Что скажете? Гм?
Жевуский стоял перед князем, подбоченясь.
– Но что же, ваша княжеская светлость над нами шутит, спрашивая? – воскликнул он. – Всех нас и всю Литву и Корону вы сбили с толку королевским выступлением, роскошью, великолепием! Есть один только голос, что ничего подобного не видели у нас. Король смущённый и почти униженный; его дворня носы повесила.
Воевода дал знак Жевускому подойти к нему, и что-то ему на ухо, смеясь, прошептал. Пан Северин так же рассмеялся и выпил новую рюмку. Воевода был в бриллиантовом настроении, но жаждущий и уставший, больше слушал, нежели говорил, так как разговор его утомлял. Все согласились с тем, что Радзивилл выступил по-радзивилловски! Прежде чем гости сели к обеду, князь вспомнил про Панитовчика! На его лбу появились складки! К черту! А что если бы этот нарушитель все прекрасные планы дисгармоничной нотой перечеркнул…
– Позвать Монику в приёмную! – сказал он поспешно камердинеру.
Через минуту потом прибежала запыхавшаяся девушка. Глазами подмигнула князю.
– А что?
– Сидит! – воскликнула она, смеясь…
Воевода положил пальцы на уста.
– Смотри же! До отъезда даже! Потому что… ну… уж ты это понимаешь.
Моника имела время лишь наклоном головы заверить князя, что приказы его будут выполнены – он исчез.
Что произошло с бедным Филиппом, который плыл, плыл под парусом, полным надежды, а на берегу утонул, рассказать трудно. Он чувствовал себя пропащим не только от того, что не получилось подступить к королю, но что за эту мысль боялся быть наказанным князем. Поэтому он имел в будущем вдобавок ожидаемую потерю места.
Всему этому (как он думал) должен был быть виной Шерейко – не хотел сам себя обвинять.
Воображение, кроме этого, плодило ещё более худшие последствия, потому что вечером он надеялся быть отведённым либо в кордегардию, либо попросту в замковую башню. Он не мог допустить, чтобы его тут, в комнате панны, среди фрауцимер, под стражей гайдуков держали. Он с тревогой вглядывался в предстоящий вечер. Тем временем какая-то милосердная женская рука подала ему с полудня пару мисок, полных мяса и хорошо приправленной еды.
Несмотря на огорчения, Филипп на запас, предвидя тюремную пищу, хотя вздыхая, всё быстро съел, а так как вино стояло на столе, он запил хорошенько проблемы. Следствием этого было то, что тяжко горюя, он задремал и проспал до вечера. Света просить он не смел, ему не дали его, но ещё раз получил ужин, а через окно падающий отблеск иллюминации достаточно освещал.
В любую минуту потом за каждым шелестом он глядел на дверь, не придут ли гайдуки отвести его в башню, но пришла ночь, иллюминация померкла, вокруг начало стихать – не приходил никто и бедный Филипп, не раздеваясь, чтобы быть на всякий случай готовым, заснул на стуле, голову положив на стол, а ближе к утру, разоспавшись, бросился на кроватку панны Моники и, объятый глубоким сном, открыл глаза тогда лишь, когда был уже ясный день, а у двери женская рука начала давать ему знаки, которые объявляли завтрак! Значит, препровождение, думал он, было отложено. Филипп перекрестился, проговорил набожно молитву, слегка умылся и сел поесть, всегда предвидя, что будут нужны силы.
Когда это происходило в комнатке панны Моники, именуемой охраняемой тюрьмы, Шерейко, который заранее тешился отличной фиглей, какую вместе князю и королю собирался устроить, предыдущего дня уже два раза забегал в жилище Русина, возле конюшен, стучал, доведывался и только то узнал, что Филипп ушёл с утра, больше не вернулся и что место его занимал подконюший Вистошевский.
Шерейко мало его знал, но был вынужден, ища информацию, которой ему никто дать не мог, направиться к нему.
Вистошевский, деятельный кавалькатор, а впрочем, symplex servus Dei, который недалеко видел и не заботился отгадыванием чего-либо, не много также беспокоился о Филиппе, которого ему поручили заместить.
– Прошу прощения, пан подконюший, – заговорил, входя в его жилище, Шерейко. – Я не знаю, что сталось с Русином, а у меня есть необходимость его видеть.
Вистошевский поднял голову, он как раз был занят резкой копчёной колбасы, служившей закуской к водке.
– Гм! – ответил он. – Что сталось с Русином? Разве я знаю! Должно быть, его используют где-нибудь, потому что тут теперь Зарваньская улица у нас… ей-Богу! Ну, не знаю, должно быть, его князь на Альбу рекомендовал, или… чёрт его знает!
Шерейко встал.
– Должен бы вернуться.
– Несомненно! – воскликнул подконюший. – И дай Боже, чтобы скорей вернулся, так как замещать его – не моё место.
– А как кажется пану подконюшему? – прибавил беспокойный Шерейко.
– Мне ничего не кажется, – рассмеялся Вистошевский. – Скажу вам, у нас теперь такой беспорядок, что человек не знает, где и как повернуться, а слушать нужно, потому что князь объявил: малейшее неповиновение – прочь со двора.
Сделав гримасу, литвин поклонился и, не желая быть помехой свободному потреблению колбасы, ушёл.
Конец концов, от Вистошевского ничего не узнал, а хотел обязательно достаточно узнать, что стало с Понятовским. Таким образом, пользуясь тем, что не был занят, так как ему как-то ничего не велели и словно забыли о нём, пошёл на разведку. Он был вынужден идти след в след по тропам исчезнувшего Филиппа. Он разузнал, что утром видели его шибко шагающего к фрауцимер, а здесь ни к кому другому не мог идти, как к панне Моники. Узнал от девочек, что его видели входящим к ней, но выходящего никто не заметил.
Шерейко так верно решил, что он обязательно должен был встретиться с Моникой. Стоял и ждал.
Как-то к полудню уже заметил её, проносящуюся, и переступил ей дорогу.
– Пусть панна Моника соблаговолит поведать мне, – воскликнул, приветствуя её, – что сделала с Филиппом. Он мне срочно нужен.
Девушка, краснея, посмотрела ему в глаза, но он должен был ждать ответ добрую минуту времени. Монисия была вынуждена солгать и хотела это сделать ловко. Она чувствовала, что, оставляя Шерейку в неопределённости, побуждает его этим к новым поискам, которые могут обратить внимание на Филиппа.
– Вы, ваша милость, его друг? – спросила она.
– Лучшего, чем я, он, наверное, не имеет, – ответил Шерейко.
– Могу, поэтому, заверить вашу милость, что князю что-то донесли на пана писаря, – начала тихо Моника. – Ваша милость, как друг, знаете его фамилию. Гм! Гм! Догадались. Я только знаю, что его князь приказал держать, но ничего плохого ему не будет.
Шерейко сделал вид чрезвычайно удивлённого.
– Фамилию его знаю, – сказал он, – но чего же князь мог опасаться?
Панна Моника сделала дивную минку.
– Вы не знаете, куда его посадили? – спросил литвин.
Девушка должна была быть осторожной.
– Будь спокоен, пан, – сказала, улыбаясь, она, – ничего ему не будет, ну… а я, если бы я и знала куда его посадили, сказать не могу.
Она прикрыла себе уста рукой.
– Не могу.
Шерейко этим не дал себя отправить. Подошёл к ней и шепнул:
– Но я же не предам!
Он смотрел, ища ответа, но панна Моника убежала.
Литвин остался один, кислый и смешанный.
– Запихнули его в тюрьму, – думал он, – а он всё сложить готов на меня, что его уговорил. Дела усложняются. Если бы я мог с ним увидиться!
Шерейко был так обеспокоен, что всего великолепия приёма, въезда, кортежа почти не посмотрел, а то, что видел, совсем не застряло в его памяти.
Он упрекал себя в том, что подверг Филиппа опасности, хотя ему приписывал, что всё выявилось раньше времени.
Ходил он так, ища в голове какой-то помощи, когда двор короля, часть которого опередила наияснейшего пана, заехал во двор и под командованием старосты пясечинского начал размещаться в приготовленных покоях. Три пажа короля также тут были. Шерейко издалека к ним присматривался, когда его привлекла одна физиономия. Было это весёлое и озорное личико одного из пажей, Бельграма.
Шерейко знал его и был с его семьёй в родственных связях. Во время, когда он разглядывал Бельграма, тот так же узнал литвина, впрочем, слишком характерного, чтобы не застрял в памяти, и подошёл к нему, восклицая:
– Эй! Эй-богу! Шерейко или дьявол…
– Не дьявол, но я, – весело отпарировал довольный радзивилловский придворный. – Я не знал, что ты в пажах!
– Милостью тётки, – смеялся Бельграм.
Они обнялись.
– Ты тут местный, – начал Бельграм, – кладу на тебя арест. Ей-Богу, будь мне наставником, а ежели имеешь что, дай поесть, я голоден. От Рдултовских я выехал после капельки кофе.
– Есть! – смеялся Шерейко, провожая его. – Есть и пить в Несвиже никому не запрещено.
Так они возобновили знакомство и Шерейко с радостью сказал себе, что использует Бельграма для заключённого Филиппа.
* * *
Завтрашний день стоял в программе для осмотра радзизивилловской сокровищности. Чем были эти сокровищницы великих и старинных домов, сейчас трудно представить. Правильней их можно было бы назвать маленькими музеями древности, и особенности всякого рода, начиная от костей гигантов, от рога единорога и гигантских рогов зубров и лосей, от волшебных поясов из шкур сказочных зверей даже до картин и статуй – всего там было полно. Всякие доспехи, оружие, кольчуги особенно её переполняли.
Из поколения в поколение переходили дары пап, королей, военная добыча, заграничные приобретения во время путешествий. Брали из них, по правде говоря, на подарки, которые были у нас особенно в обычаи, что редкие посещения гостей обходились без них, но то, что самое достойное, осталось для семьи.
Из старых завещаний можно иметь некоторое представление об этих польских газофилациях, но ничего о сокровищах такой семьи, какой была радзивилловская. Фантазия, которой хватало всем её членам, путешествия, дары монархов – сосредотачивали тут самые разнообразные предметы невероятной цены и редкости. Недавнее наследство Яна III обогатило несвижские собрания ценными памятниками экспедиций короля против турок.
Ну чего же здесь только не было, в этих трёх огромных залах, начиная от значительного числа картин, гобеленов, даже до двенадцати деревянных коней, построенных в ряды, сёдел и доспехов невиданной роскоши и красоты!
Одни драгоценности, гребни, запонки, обсаженные драгоценными камнями пояса, кольца, часы, ожерелья, шипы – представляли панское наследство. Кроме того, маршальские жезлы, булавы гетманов, дубинки, дорогие колчаны и щиты, сабли в золотых ножнах, золотые и позолоченные доспехи и шишаки, мечи посвящения, дорогое шитьё, кружева; наконец, египетские мумии, оружие диких индейцев заняли несколько часов времени, проведённого приятным и занимательным образом. Князь Иероним, генерал Моравский, а для объяснений, капитан де Вилль, охраняющий сокровища – сопровождали здесь короля, у которого был с собой Комажевский.
Сам князь-воевода, занятый Гибралтаром, Альбой, приготовлениями к охоте, освободился от гостей, велев только пану де Вилль, чтобы отмечал всё, что король хвалил бы, и что ему нравилось. Намерением князя было сделать ему из этого подарок. Оглядел он, таким образом, сначала собрание первого зала, особенно фламандские картины, разного времени и происхождения. Король, как знаток и любитель, пошёл смотреть с большим запалом, начиная расхваливать и выкладывать славные имена мастеров, когда Комажевский слегка к нему прикоснулся.
– Наияснейший пане, – шепнул он, – я вижу, что де Вилль карандашом обозначает всё, что ваше королевское величество хвалит. Я боюсь…
Король понял и тут же остыл. Действительно прекрасные и достойные картины, в которых тут никто не разбирался и не придавал им значения, занимали верхнюю часть стен в двух первых залах. Король бы охотно более внимательно осмотрел и занялся ими, но карандаш капитана де Вилль его отпугнул.
Вели дальше. Молчащий князь Иероним давал мало объяснений, а воеводы не было, который иногда в сокровищнице о диковинках рассказывал под хорошее настроение и для воспоминаний добавлял истории, самим выдуманные, всё новые.
Сам он, может, зная эту свою слабость, отказался от сопровождения, хотя осмотр с его комментариями был несравнимо более забавным. Так например, египетской мумии, как князь выражался, египетского шляхтича, пане коханку знал целую историю, подобную повести из тысяча и одной ночи; рог единорога был добычей его собственной охоты, хвалился индейским оружием, что сам привёз от дикарей, у которых был принят с великими почестями.
Капитан де Вилль скромней объяснял всё это, хотя часто немного профессиональней; около драгоценностей, чудовищных жемчужин и рубинов, как воловьи глаза, король прошёл холодно, едва даря их взглядом.
Между иными фамильными памятниками отворили шкаф, посвящённый князю Николаю Сиротке, в котором сложены были платья, доспехи, рукописи, печати.
– Я очень счастлив, – сказал король капитану, – что к этому достойному собранию что-то смогу добавить. У меня есть янчарка с инициалами его и гербами, которую разрешите мне положить туда, где она лучше всего должна поместиться.
Князь Иероним поблагодарил.
От Собеского тут находились и памятки Жолкиевского, венская добыча и дары французские, когда Людовик XIV неловко пытался привлечь на свою сторону Яна III.
Однако поспешили, минуя много вещей, хотя де Вилль сокращал объяснения, несколько часов заняли виденные только на поверхности сокровища.
Огромную коллекцию венецианских рюмок, кубков, золотых роструханов, чаш и сосудов для питья, расставленных на полках, по шкафам, рассматривать совсем не было времени, ни статуэток из слоновой кости и дерева, также в значительном количестве, так как князь сам раньше забавлялся точением и резьбой.
Токарное дело – на саксонском дворе такая излюбленная игрушка, что Август II за деревом и костью специально в Африку посылал, было модой в то время и развлечением великих особ. Князь-воевода также имел токарню и от его работы выходили необычные табакерки и коробочки, обложенные золотом, которыми иногда одаривал дружественных особ.
Поблагодарив князя Иеронима и капитана, король вышел из сокровищницы, объявляя желание пройтись по валам замка, для того чтобы подышать свежим воздухом и поглядеть на старинные пушки, установленные на бастионах. Были это те огромные картаны, которые так громко объявляли миру его прибытие.
Шёл с королём князь Иероним, а капитан, зная, как любопытно будет князю узнать о впечатлении, какое произвела сокровищница, побежал с рапортом к нему. Воевода, заметив его, потянул в сторону.
– А что? А что? – спросил он.
– Поглядел всё с уважением, – сказал де Вилль, – удивлялся.
– Хвалил? – вставил князь.
– Не слишком. Кто-то его должен был предупредить, – сказал капитан. – Восхищался только несколькими картинами.
– Ты записывал?
– А как же!
– Отослать ему их.
– Король также в сокровищницу пожертвовал янчарку князя Сиротки, – произнёс капитан.
– Откуда же он её взял? – промурчал воевода и замолчал. – Я жалею, что не мог ему сам показать сокровищницы… а ваша милость с князем Иеронимом не сумели объяснить как следует.
И князь продолжал дальше сам себе:
– Рассказал бы я ему историю египетского шляхтича, который имеет на лбу шрамы от сабли. Князь Иероним, наверно, ни золотых слитков не показал, ни…
Он махнул рукой.
– Куда ты пошёл?
– На валы?
Тем временем в покои, занимаемые королём, вошли воеводства и поветы, которых хотел сопровождать князь, чтобы представить людей по отдельности. В этом его выручил князь Иероним.
Король, возвращаясь, нашёл уже покои наполенными, и сразу же подошёл с благодарностью к хозяину.
– Наияснейший пане… коханку, – вырвалось у воеводы, – прошу меня простить, так как я знаю, что мой брат и пан капитан не описали, не показали как следует наши диковинки.
Не дали им разговаривать долго, чему князь, может, был рад, потому что король старался быть к нему ближе, как-то у них друг с другом дело не шло быстро. Воевода говорил о том:
– Это так, пане коханку, как если бы кто запряг две клячи разной крови… один – шею, другой – бока должен намылить.
Оба, однако, хозяин и гость, дальше бремя своё поднимали на вид охотно: король – с радостью, князь – с великой серьёзностью.
Горожан сменили горожанки, с воеводиной смоленской, окружающие наияснейшего пана. А тут маршалек объявил, что подали к столу. Князь-воевода вздохнул.
Столы, как вчера, были заставлены и приукрашены, только из сокровищницы выдали другие фигуры и орнаменты.
Обед с виватами протянулся достаточно долго, а кофе сопровождал концерт певцов, певиц и виртуозов, красующихся на всевозможных инструментах.
Генерал Комажевский, видя короля очень утомлённым, вытянул его на отдых в свои покои, под видом срочных корреспонденций, и пару часов дал ему отдохнуть.
До окончания дня оставалось выслушать оперу, посмотреть балет, который представлял историю Орфея и Эвридики. Можно себе представить, как выглядело танцевальное путешествие в ад.
Опера – стихи и музыка в стиле века, были работой князя Мацея Радзивилла. Как же было не осыпать аплодисментам этот шедевр, выполненный собственными силами артистов, выбранных из простонародья, выученных и демонстрирующих себя в необычных горках и прыжках, хотя судьба предназначила их для граблей и серпа. Эта метаморфоза хамского племени склоняла князя к чрезвычайной похвале. Девочки были очень красивые, юноши-батраки – сильные и ловкие; опытные учителя ходили около их спин и особенно балет, по мнению всех, был на удивление профессиональный.
В конце балета на сцене показался бюст короля, над которым крутящееся солнце из хрустальных пластин освещало его великим блеском, а балерины и артисты балета у его ног складывали венки и жгли благовонные жертвоприношения. Это солнце, очень искусно устроенное, и окончание зрелища вызвали аплодисменты и шумные крики. Было уже близко к полуночи, когда это всё закончилось, так как князь Мацей музыки, а Петинети и Лойко ног танцоров не жалели. Этот театр имел только тот изъян, что всех желающих поглядеть поместить не мог, и многие, оставшись за дверями, должны были утешаться рюмкой.
В полночь в двух замковых комнатах вздохнули одновременно воевода и король с радостью, что день закончился счастливо. На вопрос: «А что, пане коханку?» Жевуский горячо ответил:
– Чего же ты, князь, так беспокоишься? Всё идёт как по маслу. Монархично выступаешь! Король, должно быть, благодарен и удивлён…
– Но ведь ты, – прервал князь, – меня не понимаешь, пане коханку. Всё должно идти так гладко, мило, по-пански, а он… он… гм! Должен чувствовать себя униженным… вот что! Что же, я тому виной, что моя сила и богатство его уколят и заразят? Гм! А заболеть должен. Я о том, пане коханку, будто не знаю, но я этого хочу!
Жевуский рассмеялся.
– Ежели речь о том, князь, чтобы был унижен, – сказал он, – будь спокоен, он чувствует своё ничтожество. Он чувствовал его в радзивилловской сокровищнице, чувствует в замке, на каждом шагу… Бедненьким и малюсеньким тут кажется!
Князь несколько раз покачал головой, подтверждая, что именно этого он себе желал.
В эти самые минуты король шептал Комажевскому:
– Два дня мы уже счастливо проглотили, Комажес. Явная вещь, что этой роскошью князь хочет дать мне почувствовать своё могущество и мою королевскую слабость и бедность. Вся штука – этого не понять.
– Наияснейший пане, – прервал Комажевский, – не знаю, что там думает князь и планирует ли то, о чём мы думаем, но расчёт ошибочный, так как глаза шляхты и граждан не на него, а на ваше королевское величество обращены. Он тут исчезает, его тут не видит никто. Наш пан на вершине!
Понятовский молча обнял его.
– Что же там нас дальше ждёт? – отозвался он. Генерал подумал.
– А ну, охота и захват Гибралтара, – проговорил он, смеясь. – Гибралтар есть собственным изобретением его светлости князя; поэтому нужно наготовить великие похвалы за это смешное представление.
Пожали плечами.
– Не могу в том не видеть немного злого умысла, что меня то на коня хочет посадить, то на медведя вести, хотя с уверенностью знает, что одно и другое может менее всего меня развлечь.
Епископ Нарушевич, который сидел неподалёку с книгой, встал, призывая на отдых.
– Я слышал, что речь о медведях, – вставил он, – но мы отдадим же suum cuique: не одними нас медвежьими лапами кормить думает, всё-таки архив этого великого литовского княжества, огромные богатства, какие имеют Радзивиллы, открыть и показать нам обещают.
– Вижу, что воевода заполучил ваше сердце, – добавил король. – Но не думайте, чтобы и я его ценить не умел. Мой Боже, если бы его слишком малодушными окружили товарищами, что за полезный для страны гражданин из него мог бы вырасти. Великая любовь к славе и амбиция, и притом такие средства!
Между должностными лицами, которых вызвали в помощь для показа архива, находился и заменяющий библиотекаря Шерейко, с радостью, что сможет поближе присмотреться к наияснейшему пану, ибо до сих пор только издалека его рассматривал.
В архиве, который не радзивилловским, но главным всего княжества литовского мог называться, хранили, как известно, за привилегией Сигизмунда Августа, оригиналы всех дипломов, актов, корреспонденций тысячи княжеских дел. Гордились Радзивиллы не без причины, так, что их домашняя охрана была приставлена к этому сокровищу. Этот архив поддерживался с великим старанием и уважением. В сводчатых комнатах шкафы с большими замками содержали более или менее хронологически сложенные пергаменты с увесистыми печатями в серебряных, золочёных, латунных оправах, в кожаных футлярах, в богато украшенных свитках, напоминающих старинные рукописи.
Кроме этого, целые ряды томов, поставленных на полке, содержали в соответствии с датами и происхождением корреспонденцию царствующих, римских пап, князей и особ достойных и славных.
В центре на большом столе, к которому для короля поставили стул, обитый бархатом с золотыми узорами, уже лежали разложенные наиболее любопытные и старые, пожелтевшие листы с разноцветными шёлковыми верёвками и печатями.
Епископ Нарушевич и сопровождающий его секретарь короля, ксендз-каноник Гавроньский, входя, набожно складывали руки, словно переступая порог святилища, и было это действительно святилище, посвящённое тому прошлому, которое в те времена и, может, ещё сегодня, молчало и лежало тут спящим, скреплённое семью печатями, ожидая того, кто бы его вызвал к жизни.
У Нарушевича на минуту загорелись глаза. Какой же обильный тут материал мог привлечь его к папкам! Как долго мог бы тут проживать ксендз Альбертранди, впущенный сюда, роясь в этом мире бумаг.
В молчании, полном уважения, вошли все за наияснейшим паном, которого тут приветствовал Бернатович и несколько помощников, хранителей, писарей и т. п.
Первым делом король обошёл комнаты, рассматривая полки и ведя за собой епископа. Потом сел к столу, разглядывая предоставленные оригиналы, начиная от Ягайлы. А были тут и старые письма, и привелегии. Со времён первой городельской унии, которая именно подтвердила только то, что было объявлено при вступлении на трон Ягайлы, с более поздних выборов великих князей всё, что сохранилось на страницах, находилось тут. Витольдовы времена, съезд в Луцке, переписка Сигизмунда с императором ожидали историка.
Глаза Нарушевича, который с лихорадочным интересом хватал оригиналы известных ему актов, то светились, то покрывались мглой.
– Жизни не хватит на исчерпание этого! – шептал он. – Силы одного человека не справятся, кроме Албертранди, который читает правильно и не заботится об ошибках. Не только сделать, но всё переработать нужно! Из праха наших костей родятся, может быть, историки, а наша сегодняшняя работа будет для них навозом и грязью.
Он вздохнул.
Король между тем просматривал то нотариальные каллиграфические детали на старых пергаментах, то печати, хорошо упакованные в капсулы, то художественные украшения новейших документов. Несколько старинных рукописей с миниатюрами, между другими красивая латинская Библия лежали, разложенные для осмотра. Из томов корреспонденции кто-то наготовил те, в которых были письма Мартина Лютера и Кальвина. Нарушевич посмотрел на них и вздохнул.
– Вовремя Радзивиллы свернули с этой дороги, – прошептал он, – но след пережитой оспы остался.
Король и те, что с ним были, сегодня среди этих бумаг показывали более живой интерес и увлечённость, нежели вчера к рубинам и бриллиантам, и, наверное, забылись бы тут, так много было что посмотреть, если бы король не имел в памяти программу дня. Часы бежали тут быстро. Нарушевич едва мог бросить взгляд на самые главные и более старые дипломы, а уже ему подсовывали новые.
Богатство было неисчерпаемое.
– В этом скарбе, – шепнул он королю, – никто не может с ними соперничать.
В молчании, которое прерывал только шелест переворачиваемых страниц и передвигаемых книг, с уважением к тем векам, остатки которых были тут сложены, уничтожил король несколько часов, постоянно что-то находя, достойное внимания и рассмотрения.
– Из всей человеческой жизни, – сказал в конце историограф-поэт, – вот что останется. На тонкой странице несколько инициалов, которые внуки либо прочесть не сумеют, либо понять не смогут!
Наконец, несмотря на то, что предметов для осмотра ещё не перебрали и хватило бы их ещё надолго, король, взглянув на свои часы, встал, благодаря Бернатовича и всех. Епископ ксендз-писатель литовский вышел за ним грустный.
– Человек на протяжении всей своей жизни учится оттого, что ничего не знает, – сказал он в конце, – чем глубже копает, тем ясней это видит; только те, что скользит по поверхности, рады тому, что имеют.
Вместо того чтобы возвратиться в свои покои, король пожелал посетить воеводину смоленскую, заменяющую хозяйку, и князя-воеводу. Эти оба визита были введены заранее, чтобы обоих неожиданно не застали.
Воеводина, уже одетая, с несколькоми дамами ждала на пороге своих апартаментов. Король снова надел на себя официальную улыбку, прояснил мрачное лицо и с галантностью приветствовал дам, теснящихся для целования его руки.
Недолго побыв у них, пошёл он потом к князю-воеводе, который также приветствовал наияснейшего гостя на пороге благодарным мурчанием. Князь Иероним, целый отряд Радзивиллов и родственников были при воеводе.
Брошенный взгляд на стену покоя, где принимал воевода, мог убедить, что короля здесь ожидали. Большой портрет наияснейшего пана, отца его, матери, братьев, сестёр, примаса и даже любимой племянницы Мнишковой и её мужа украшали комнату, впрочем, умысленно скромно прибранную, чтобы роскошь королевских апартаментов чувствовалась лучше. Радзивилл уже после маленького завтрака был в отличном настроении и расположении к шутливой и странной беседе, какие свободно появлялись только в близком кругу. Королю также ничего более милым быть не могло, чем эта близость, которой себе желал. Посадили короля на стул, при котором уже маленький столик, специально приготовленный, содержал несколько хрупких изделий и очень старательно сделанных из слоновой кости, букса, лимонного дерева и розового.
– Наияснейший пане, – сказал воевода, беря в руку одну из табакерок, лежащих на столике, – я тоже могу похвалиться вашему королевскому величеству, что не всегда бездельничал. В моих странствиях по свету, в которых, пане кох… наияснейший пане, познал различное счастье и беды, должен был какое-то время заниматься токарничеством, чтобы иметь что поесть. Но да! Да! – говорил он всё более серьёзно. – Некий китаец учил меня этой утомительной работе, у меня были не такие разбухшие руки, как сейчас, достаточно, что себе этим зарабатывал на жизнь.
Все улыбнулись, опуская голову; князь-воевода продолжал дальше, вовсе несмущённый:
– Вот с тех-то времён, пане кох… наияснейший, остались мои работки. Если бы ваше королевское величество соблаговолило принять.
Говоря это, он открыл пустую табакерку, обложенную внутри толстым слоем золота, сверху отлично сделанную из слоновой кости, очень умело, и подал её королю. Трудно было поверить, что живой, нетерпеливый и тяжёлый князь мог сам её сделать, но сомнения никто показать не смел, а король, беря табакерку, объявил, что была она очень дорогой и очень милой для него памяткой о пребывании в Несвиже.
Королевские товарищи приблизились к столику посмотреть иные лежащие здесь штучки поменьше, а воевода другую коробочку, мурча, втиснул в руку Комажевскому.
– Токарню я всегда имею под рукой, – добавил он, – указывая на открытую дверь второй комнаты, в которую король вошёл с любопытством.
Действительно, вся эта комната была токарной мастерской.
Верстаки разной величины были поставлены здесь по кругу, каждый из них со своим долотом, разными инструментами и необходимым материалом.
Между другими находилась достаточно сложная машина для резьбы монет и узоров, якобы сделанная и разработанная в Несвиже, которую воевода также предложил королю.
– Я пошлю это вашему королевскому величеству в Варшаву, – сказал он, – потому что ручаюсь, что даже на монетном дворе подобного не имеют.
Король поклонился.
– А я первую медаль, которую на ней сделает Регульский, прикажу украсить изображением князя.
– Лишь бы не согласно с Норблином, – рассмеялся князь, – потому что этот так меня нарисовал, как если бы я на разбой выбирался, а я, пане кох… человек спокойный и только до медведиц хищный.
Осмотр машин, разных китайских и европейских изделий из кости, отняло снова столько времени, что подходил час обеда, который ели раньше. Князь-воевода тем более рад был его ускорить, что на полдень готовилось плавание под Альбой и первая экспедиция к этой княжеской деревне, войтом которой он был, а семья и друзья – жителями.
Обед этого дня ничем не отличался от других, кроме щуки ужасных размеров, которую должны были поднимать двое гайдуков, и княжеский крайчий при упоминании пословицы lucium a cauda, презентовал королю красивый кусок. При кофе, после обычных тостов играла на все лады музыка, но на лице хозяина читалось, что хотел он, чтобы гость как можно быстрее выехал отсюда в Новый город, где в зарослях под Альбой ожидали медведи и волки. В последнии, однако, минуты, он распорядился, чтобы в этот день были выпущены только волки, штук тридцать которых ждало в клетках. Медведей припрятал для другой охоты и применения. Всё же позднее ещё изменил план, так как волки не достаточно дико и яростно защищались. Комажевский и Шыдловский, староста Мелницкий (брат пани Грабовской), хотели остаться при особе короля и стрелять им также разрешили. Для короля была приготовлена беседка с возвышением, с которой удобно было стрелять из заряженных ружей, какие подавали ему слуги.
Станислав Август не имел ни такой симпатии, ни такой практики, как его предшественник Август III, с которым не мог сравниться ни один стрелок, но, несмотря на это, волки показывались так любезно и легко подходили на выстрел, что король сам, неизвестно как, убил их более двадцати.
Поручиться, однако, нельзя, что его не поправлял Шыдловский, стоящий под боком, а у Комажевского не раз дымился ствол, хотя меткими выстрелами не похвалялся.
Вся эта охота имела вид какой-то детской шутки, которая князя не занимала и не удовлетворяла.
– Пане коханку, – пробормотал он в итоге ловчему, который стоял при нём, – эти твои волки чахоткой были больны или, пане коханку, слабые звери. Пустите мать того, что мы собирались сохранить на послезавтра, пускай король хоть одного убьёт.
Ловчий побежал в чащу, где стояли клетки и держали собак. Всё до сих пор шло по плану, но медведь от волков заразился страхом. Открыли ему клетку, начали тыкать палками, напустили собак. Он поднялся на задние лапы и, залезши в угол, не хотел двинуться… Радзивилл, когда приказа быстро не исполнили, разразился гневом, когда ему только один медведь при стольких свидетелях отказал в послушании.
Моравский, стоящий с ним под беседкой, не мог сдержать воеводы, и король с тревогой увидел хозяина, огромными шагами бегущего прямо на медведя. Его сопровождал генерал, но оба без ружей, только с ножами…
– Шыдловский, – воскликнул король живо, – возьми нескольких метальщиков копий и спешите за князем, он дерзко подвергает себя опасности. Беги за помощью… смилуйся…
Минута была действительно драматичной, потому что с разъярённым собаками медведем, которые к нему рвались, было не до шуток. Радзивилл бежал без памяти, настаивая на том, чтобы к нему выгнали медведя. Таким образом, король должен был шепнуть Шыдловскому, чтобы метатели копий убили непослушного зверя.
Как приказал, так и вышло, но настроение князя испортилось.
– Не было сатисфакции, пане коханку, потому что не было эмоций, что такая охота стоит…
Боясь, чтобы не привели ещё одного медведя, король двинулся назад к Несвижу, так как, хотя были уже под Альбой, но белый день не допускал ещё зажигать приготовленной иллюминации.
Во дворце, дабы чем-то себя занять, королю показали ту гениальную машину, созданную специально для вращения искусственного солнца в театре. Когда он её осматривали, подошедший князь быстро добавил:
– Всё это, пане коханку, домашней работы. У меня так: опера князя Мацея, а певцы и балерины – Гришки, Напки и Наски, художник, пане коханку, Эстко, механик – литвин, виртуозы – холопы… Что посеется на радзивилловской почве, то должно уродиться…
Об Альбе король и вся корона знали, что это была летняя резиденция князя, но так просто похожей на другие быть не могла. Сначала тут накопали каналы и пруды, на которых собирался учиться польский флот, на всякий случай, если бы Речь Посполитая снова вернула берега моря. Потом в Альбе не было уже ни князя-воеводы, никаких пани и панов, только войт и крестьяне; мужчины либо носили мундиры альбенчиков, либо наряжались по-холопски, то есть, как театральные холопы, либо те, которых рисовали Буше и Ватто.
Каждый из семьи и друзей князя имел тут свою хату, садик и миниатюрное хозяйство. Пани разводили тут голубиц и горлиц, паны пасли иногда баранов, имеющих на шее ленты. Играли на флейтах и гитарах.
Одним из главных и характерных украшений Альбы были каналы, которые расходились в разные стороны от главного центра. Над ними стояли деревянные домики различных форм, хатки под соломой, китайские, японские, швейцарские, фантастические, стиль которых было трудно определить. Оттого, что нумерация этих усадеб слишком прозаично бы выглядела, вместо номера и надписей, носили они, по старинному обычаю, знаки, по большей части звериные. Таким образом, был дом под Слоном, Верблюдом, Орлом, Медведем и т. п. Посередине, на округлой площади сам князь-воевода поставил беседку собственной идеи, которая в его убеждении была подобна храму св. Софии в Константинополе. Мечети, довольно странные, придумал Радзивилл.
– Смотри же, – говорил он потом брату, – если бы я хотел, мог бы прекрасно быть архитектором и, пане коханку, мои дворцы и домики были бы более достойными, чем те, которые ставят обезьяны-архитекторы по профессии – за это ручаюсь. Не имеют за грош фантазии, один другого обкрадывает, и что у одного спереди, то у другого сзади, в этом вся задумка.
Когда кареты, везущие короля и гостей в Альбу, приблизились, горела она уже всей мериадой цветных огней. Дорога из замка через предместье Новый Город до Альбы также была вся освещена стоящими шеренгой геридонами, в которых пылали лампы. Все домики, большая беседка, иные строения, были покрыты светом, который, отражаясь в каналах, представлял очень красивую картину. Обилие карет, любопытных конных и пеших, их разнообразная одежда, играющая музыка, весело украшали Альбу ночью. Те, что видели её днём, находили её чудесно изменившейся.
Фричинский ручался генералу Комажевскому, что зажжённых ламп было восемьсот тысяч, а людей с околичных деревень для быстрого освещения использовали несколько тысячи.
В Альбе, применяясь к хозяина, тон общества не изменился; король, смеясь, ручался, что корону оставил в Несвиже, а тут хотел быть только войтом из соседства. Пани нарядились пастушками.
Станислав Август громко смеялся и был бы рад принять бесцеремонное обхождение, но ему приходилось тут тяжко.
Князь-воевода провёл короля на башенку над этой беседкой св. Софии и оттуда наисветлейший пан рассматривал фейерверки… в трёх актах.
Мастер, который устроил эту огненную драму, с инициалами, гербами, венками и т. п., увеличивал её так умело, что окончание могло напомнить взрыв Визувия.
– А и то, пане коханку, мастер фейерверков домашний, – сказал князь, – у меня всё домашнее.
В беседке наверху наияснейший пан среди дам и господ выдержал до конца, когда тем временем внизу, куда умыкнул воевода, запили.
– Комажес, – шепнул король генералу, – хотя бы я ничего не хотел, из милосердия к тебе я должен спуститься вниз, потому что у тебя пересохло в горле, а там позвените рюмками… и я также должен наполнить рюмку за здоровье радзивилловского дома.
Когда же спускался король вниз, к многочисленному и весёлому обществу, искал в голове какой-нибудь концепт для тоста. К сожалению, не удалось ему напасть ни на чего другое, кроме банального:
– Чтобы дом Радзивиллов не знал бедности!
В Альбе королю казалось наиболее подходящим отозваться по-холопски.
* * *
Когда в Несвиже все живые радуются, кричат, пьют и едят, восхищаясь всё более новыми чудесами, один Филиппек, осуждённый на неволю, напрасно через окно взирал на дворы, на которых даже мало кого было видно, потому что всё движение и жизнь расположены ближе к челу. Тогда едва какая задымлённая прислуга проскользнёт или кухонный сторож, который, схватив украдкой кусок мяса, хочет его употребить, не боясь коварных глаз.
Впрочем, Русин, через два дня убедившись, что мнимые гайдуки ни собирались отводить его в башню, не слишком мог жаловаться на свою судьбу. Он думал, что о нём забыли, а утешался тем, что панна Моника помнила о его пропитании. Ибо ему регулярно давали завтраки, обеды и ужины, а, когда графин, от тоски быстро высушенный, заканчивался, появлялся полный, его заменяющий, и вино в нём было не хуже. Множество, однако, неудобств должен был терпеливо переносить Филипп. Давали ему, правда, воду для умывания, но он был привыкшим умываться летом и зимой у колодца; бельё не было чем заменить. Чистая и ладная комнатка панны не спеша немного сменилась замусоренной и грязной. Притом не было с кем перемолвиться словом. Эти гайдуки, которые стояли за дверью, вовсе ему не показывались, не были слышны, а зато женский смех, визги девчат доходили до его ушей и огорчали его, так как было очевидно, что мужская стража коротала своё время, приведя девочек для забавы.
Панна Моника также ему не показывалась, хоть пару раз он видел её согнутую руку и узнал её, осторожно втиснутую через дверь.
Как долго могла продолжаться эта неволя? Что потом могло наступить? Наказание? Изгнание?
– Пусть бы уж было что им хотелось, чтобы только вырваться из этой клетки! – ворчал Филипп.
В субботу, когда весь Несвиж вечером поплыл в Альбу на новую иллюминацию, в замке сделалось тихо, как в могиле.
Бедный Филипп ходил по комнатке, в которой более пяти шагов туда и столько же обратно сделать не мог, вздыхал и всё более заглядывал в графинчик. Это было одной его радостью. Когда ему возле сердца делалось тоскливо, он прибегал к венгерскому лекарству.
Затем среди этого молчания он услышал под окном сильный кашель. Он повторялся так настойчиво, что Филипп наконец отворил окно и вгляделся вглубь, но взор не давал распознать, кто стоял внизу с поднятой вверх головой. На всякий случай Филипп также закашлял. Затем долетело со двора:
– Шерейко…
Филипп так вытянулся, что чуть не упал, но с высокого этажа на брусчатку нельзя было отважиться.
– Ради Христовых ран, спасите меня! – воскликнул он.
– Нет способа, – шепнул снизу приятель, – один есть: объявить королю, что вас сюда заключили, но, когда король это обдумает, от Радзивиллов ты должен навсегда освободиться. Наияснейший пан, возможно, не много захочет для тебя сделать. Говори, что предпочитаешь?
– Что я предпочитаю? Человече! – крикнул даже слишком громко Филипп. – Я одной только вещи желаю: хотя бы босым и без рубашки, но на свободу. У меня достаточно еды и питья, но когда дольше продлится такое сидение, как свинья в кормушке, готов на брусчатку спрыгнуть, хоть бы голову разбить!
– А зачем же голову разбивать? – спросил Шерейко. – Гм. В окне решёток нет; одеяло или скатерть возле тебя найдётся. Что может быть лёгче, как верёвку связать и вниз спуститься.
Литвин спешно договорил эти слова и, услышав кого-то подходящего, скрылся. Филипп напрасно звал, Шерейки внизу уже не было. Филипп задумался над советом, какой ему дал приятель, и начал рассматривать, из чего бы мог связать верёвку, когда дверь отворилась и женская фигура показалась на пороге.
Он узнал в ней панну Монику и поспешил к двери. Это действительно была она.
– Моя благодетельница! – воскликнул он приглушённым голосом. – Идёшь освободить меня. Смилуйся, я тут задохнусь! Выпустите меня отсюда! Выпусти! Я дольше не выдержу!..
– И ты думаешь, что хорош приятельский совет спуститься из окна, – прервала панна, – чтобы либо шею свернуть, либо попасть в руки гайдуков, стоящих на страже, которые, схваченного беглеца, наверное, не пожалеют? Прекрасный совет дал вам Шерейко! Я едва могла выпросить, чтобы вам тут, в моей комнате, остаться разрешили; блуждаю, не имея, где удобно отдохнуть, а вы хотите отсюда убежать, чтобы всё испортить и новой беды наварить.
– Панна Моника…
Названная топнула ногой.
– Ни плети, – сказала она, – ничего плохого с тобой тут не сделается; ты не голодаешь, питья также хватает. Сидел бы спокойно. Убегая, прогневишь князя и погубишь себя.
– Король меня в опеку возьмёт! – воскликнул Филипп.
– Не плети! – повторила панна. – Хочешь умереть – умирай, своим разумом руководствуясь, но в таком случае между нами всё кончено. Будь здоров! Увидишь, чего достигнешь.
Филипп стоял смущённый.
– Но, панна Моника, – начал он, – я здесь задохнусь.
– Не можешь ещё три дня выдержать, – воскликнула она с упрёком, – для себя и для меня?
– Ну, а потом, – пробормотал Филипп.
– Я всё беру на себя, – прервала Монисия. – Князь нас простит и даст нам приданое. Вы торжественно на коленях мне обещали, клялись; я вас, как наречёного, спасаю, а вы…
Филипп схватил её за руку.
– Пусть панна Моника приказывает, – сказал он, задобренный.
– Сиди тихо, пока я не приду тебя освободить, – шибко воскликнула опекунша. – Хотя бы Шерейко искушал тебя, не отвечай. Я вам погибнуть не дам.
Филипп хотел жаловаться дальше, но панна, пожав плечами, отошла, погрозила ему пальцем и добавила, уходя:
– Помни, что ежели двинешься и сделаешь какие-нибудь глупости, я спасать тебя не буду и между нами всё кончено! Всё кончено!
Она исчезла. Филипп, которому спуск по верёвке не был по вкусу, сел, задумчивый. Через минуту он налил себе из графинчика, махнул рукой и пошёл на кровать.
– Да будет воля Божья!
Но Шерейко не сдавался. Он не ведал о том, что за ним шпионила Моника, и обязательно хотел настоять на своём и с помощью Бельграма освобождённого Филиппа отвести к королю. Злобная уховёртка, он учинил бы таким образом и князю фиглю, и королю неприятность, что его чрезвычайно радовало бы. С пажом короля, хоть родственником и другом, он был осторожным, допускал, поэтому, что Бельграм был привязан к своему пану. Между тем, когда открыто разговаривали, оказалось, что и Бельграм, и многие из службы, хотя король по-отцовски и очень мягко с ней обходился, одарял, никогда злым словом не коснулся, недовольны были своим паном. Всё, что только могли против него придумать, поднимали и распутывали. Есть в человеческой природе то, что бросается она на мягких.
За исключением нескольких значительных друзей, как Комажевский, Нарушевич и т. д., даже в собственной семье Понятовский находил неодовольных и мало доброжелательных. Примас ставил ему в вину слабость и непостоянство (в чём был прав), пани Краковская, которой он слишком уступал, была ревнивой и подозрительной, князь экс-подкоморий жаловался на его скупость и т. д. Никому говорить о нём не воспрещалось. Бельграм также высмеивал пана и хмурился, говоря о нём.
– Обдерёт его, кто хочет, – бормотал он, – а мы, что ему служим, иногда по полгода жалкой зарплаты дождаться не можем. У нас вечная нищета. Король послам делает подарки на тысячи дукатов, а мы заслуженного талера не можем допроситься.
Шерейко, осмелев от таких заверений, рассказал, sub rosa[19], Бельграму историю Филиппа Понятовского. Паж смеялся и потирал руки, находя, что штука, сыгранная с королём, была бы отличной.
– Ну и воевода был бы сконфужен, – добавил Шерейко, – и весь этот приём не имел бы значения. Сложилась отличная фигля, – вздохнул литвин, – а тут, чёрт возьми, изменил, наверное, сам Понятовский, и всё пропало, заперли его. Вся надежда моя, что улизнёт, и тогда ты его королю представишь и сдашь на его опеку. Гм!
Бельграм немного подумал.
– Почему бы не представить? – сказал он. – И, конечно, я её не искал, не придумывал, отведу его, но…
– Что за но? – спросил Шерейко.
– Если думаете, что король возьмёт его в опеку с восстановлением против себя князя, – говорил Бельграм, – то в этом ошибаетесь. Король, как бы я видел, дасть несколько дукатов и прикажет идти прочь, слушать не захочет. А что ему там такой Понятовский, которого брать в телегу с мелкой шляхтой?
Остыл, услышав это, Шерейко, но то, что он больше думал о фигле, чем о Понятовском, пожал плечами и решил ждать, хотя немного уже времени оставалось до отъезда наияснейшего пана.
На следущий день выпадало воскресенье, а вечером имела место эта огненная драма, идея хозяина, Гибралтар, к которой он, как к наипрекраснейшей и небывалой вещи привязывал чрезмерное значение. Весь двор также, зная об этом, крутился возле приготовлений с удвоенным рвением; те, которым было это поручено, и добровольцам, кто только мог, помогали, зная, что этим послужат князю. Князь развлекался своим флотом под Гибралтаром, как дитя куклами, всерьёз принимая эту игрушку, постоянно что-то новое выдумывая и добавляя.
Около тридцати кораблей, на которых были мортиры и маленькие пушки, ракеты и всевозможные ружья, готовились штурмовать Гибралтар, который также приспосабливался к обороне. Командующий милиции, старшина, придворные гайдуки определяли себе позиции на судах и скалистой твердыне, которая в действительности была составлена из полотна и досок.
Все корабли носили самые дивные имена, написанные на них огромными буквами. Кроме этого, они имели вырезанные резьбой эмблемы и флаги, придуманные самим князем.
Но захват твердыни для большего эффекта имел начаться только поздним вечером; утро было посвящено благочестию. Король уже около восьми часов слушал святую мессу в замковой часовне, при которой известный в своё время проповедник, экс-миссионер, сегодняшний пробощ Среньский, произносил проповедь.
Речь из необходимости была применимой ко времени. А то, что все удивлялись чрезмерной расточительности, с какой воевода сыпал на этот приём тысячами, ксендз Карпович напомнил при этом историческом случае ответ Казановского королю Владиславу IV, упрекающего друга в избыточном великолепии:
– Без тебя, король, не хочу быть богатым, а при тебе бедным быть не могу.
Все находили это точным, только князь-воевода крутил носом.
– Но что этот ксендз думает, что Радзивилл из-за такого вздора обеднеть может!
К счастью, в этот день Гибралтар так занимал князя, что травмы кс. Карповича он забывал.
После мессы король вернулся отдыхать в свои покои, а оттого, что выразил желание видеть Альбу днём, потому что осматривал её только при свете иллюминации и фейерверков, запряжённые кареты и военная свита короля ждали приказа.
Князь-воевода, как войт, одевшись в обычный альбенский костюм, ожидал уже при своём дворечке, где, приняв короля, провёл его по комнаткам, привосходно украшенным, садам, диким променадам, беседкам, вольерам и даже фермерским зданиям.
Не закончилось на осмотре главной усадьбы, потому что тут каждая иначе и оригинально была оформлена; таким образом, по очереди осматривали домик генераловой Фергюссоновой, князя Мацея (автора оперы); на пороге встретил его князь-крайчий с хлебом-солью и комплиментом:
– Хлеб, которым мы потребляем под твёрдым правлением, у нас сладок, наияснейший пане!
В садиках, комнатках были для осмотра разные особенности и фантазии. Дальше князь-каштелян троцкий с дочкой, пригласили в свою хатку на шоколад, а то, что Комажевский, смеясь, находил её тусклой, подали ликёры и фрукты на закуску. При домике князя-подкомория дикая променада, ладная, но не обширная; посередине искусственная скала, облитая водой и для украшения обвешанная сетями, выглядела живописно и заслужила похвалу.
Но целый ряд этих домов не было возможности осматривать подробно; поэтому, посетив более значительные и от князя-воеводы об уставах этого поселения с интересом выслушав сведения, король с великой похвалой Альбы и альбенчиков собрался возвращаться.
Время шло так шибко, что в замке уже собирались подавать к столу, когда король вернулся. Согласно ежедневной программе, наступали обед, тосты, кофе с концертом, но князь по причине Гибралтара постоянно сбегал.
Сдавали ему рапорты, он посылал приказы; бремя лежало на сердце воеводы, чтобы эта оригинальная его выдумка, вещь новая, особенная, из-за какой-нибудь невнимательности не была подвержена провалу.
После обеда и кофе король пожелал посмотреть иезуитский костёл и могилу князя Радзивилла Сиротки, потом костёл бенедиктинок и богатую ризницу, отдавая при этом визит аббатисе, панне Шанявской.
Это отняло столько времени, что, когда король собирался отъезжать от бенедиктинок, Гибралтар уже начинали освещать; ибо тысячи тех ламп, несмотря на задействованных людей и гарнизон, не могли быстро зажечься все.
Крепость выглядела необыкновенно, пламенеющая уже обильными линиями ламп, и флот, который готовился бомбардировать её, но сам князь, тоже разгарячённый, запыхавшийся, невероятно заинтересованный важностью этой игрушки, для многих был более интересным, чем само зрелище, которым управлял с берега.
Он не слышал, не видел уже ничего, никого, уставил глаза в свой Гибралтар и флот. На судах, естественно, и радзивилловский флаг развевался с трубами. Самый большой из них назывался «Навуходоносор». Другим князь дал не менее напыщенные имена: «Василиск», «Саламандра», «Титан» и т. п.
Однако скала, замок, батареи, флот, когда всё это лампами и факелами, каганцами, зажжёнными в железных корзинах, было освещено, представляло собой оригинальную и очень фантастическую картину. Над башенкой твердыни огромная хоругвь представляла дракона с огненной пастью.
Эстко шептал потихоньку:
– И этого зверя я должен был рисовать.
Командовал сам князь. Затем началась пальба кораблей по крепости и из крепости по кораблям; взрыв, дым и блеск ужасные.
– А что? – спросил воевода, толкая локтём стоящего рядом князя Иеронима. – Не великолепно ли это? Гм? Но эта бестия Радишевский вяло ходит около пушек, слабо огня дают. Сегодня тут все стёкла от взрыва повылетать должны.
Королю особенно понравилось то, что страшный грохот и крики матросов не позволяли разговаривать. Он рад был расслабиться и улыбался.
Со всех мер зрелище можно было считать очень успешным и великлолепным, хотя сам автор работой, может, был не вполне удовлетворён, по той причине, что стёкла остались целыми.
Зато несколько кораблей, конечно, сознательно разбитых для лучшей иллюзии, плавали живописными остатками, а людей задымлённых и обожжённых только завтра хотели посчитать.
Около полуночи король дал знак Комажевскому, что Гибралтар обязательно сдастся, а время было на отдых. Князь, однако, ещё остался, пока последняя бомба из разорванной на трепьё твердыни не вылетела в воздух.
– А что? – буркнул он Жевускому. – Сможет ли он мне в Лазенках что-нибудь подобное сотворить? Гм? Я тут больше пороху спалил, чем он за всю свою жизнь!
В замке падение Гибралтара залили ещё старым венгерским вином.
* * *
Днём ранее приглашённый, согласно всегдашней программе, в Заушье, резиденцию сестры князя, генераловой Моравской, литовской писаровой, выехал король с русским воеводой и князем-подкоморием.
Пани генералова и её муж не старались в скромном Заушье конкурировать с роскошью и величием князя-воеводы, но сама пани имела тут сельскую усадьбу и особенно сад, устроенный в соответствии со вкусом века.
Из описания тогдашних Поважек, из представлений, какие оставил нам Вогель из Седлец с гетмановой Огинской можно получить некоторое представление о старательности, с какой английские сады и дикие променады устраивали при богатейших дворах. Были они в большой моде. Беседки, статуи, надписи на камнях, алтари, хатки, искусственные руины, сломанные колонны украшали их. Напрягали на выдумки, а где не хватало статуй, вдалеке хоть рисованые на досках фигуры их заменяли.
От этих больших парков сегодня не осталось почти ничего; что создала мода, уничтожили войны, а ещё больше раздробление владений и обнищание владельцев.
Заушье Моравских не уступало садом никакой другой польской резиденции. Речушка, пробегающая неподалёку, ловко использовавшаяся, разведённая каналами, разнообразила виды, беседки и домики, очень скромный внешний вид корых представлял собой умышленный контраст с очень изысканным интерьером, густо были также разбросаны в тени старых деревьев.
Воспользовались соседи Моравских, семейство Лопотовых (литовский обозный), чтобы пригласить короля быть крёстным отцом дочки. Крёстной матерью и кумой была хозяйка.
Князь-воевода, не одходящий от короля, находился тут тоже. Подали завтрак и через пару часов ревнивый князь напоминал, что обед ожидает в Несвиже. Перед замком вышел наияснейший пан около вала Равелинов поглядеть старые пушки, которые красивым литьём могли сойти за произведения искусства.
Обед тем только отличался от предыдущих, что, встав, чтобы выпить за здоровье наияснейшего пана, князь воевода заявил, что для умножения в своём доме общего веселья и памятного подарка, всех заключённых, своих подданных, за какой-либо проступок посаженных в тюрьму, даже преступников, приказал выпустить.
Общие аплодисменты. Король встал, благодаря.
– Наиясенейший пане, – добавил воевода, – одних преступников тридцать, а что до других, количества не знаю, пане… наияснейший… коханку…
Его язык немного заплетался.
Кофе сопровождал концерт, а короля развлекали пани; он смеялся и говорил им комплименты, но, смотря на него издалека, легко было понять, что он был жестоко замученным.
Оставалось ещё два дня тех мученических забав, которые он должен был претерпеть с той самой улыбкой, какую сюда привёз. Концепции князя-воеводы уже начинало не хватать; впрочем, после Гибралтара, в который он вложил наибольшие усилия, не чувствовал себя уже обязанным бороться за из ряда вон выходящие вещи.
После кофе сострадательный Комажевский, по причине милосердия, пришёл вполголоса объявить, что экспедиция ожидала конца. Мог он, поэтому, встать и пойти в свои покои. Едва закрылись двери, когда, повернувшись к генералу, он со вздохом сказал:
– Комажес! Скажи, что меня ещё ждёт? Я забыл…
– Несколько десятков медведей, pour la bonne bouche[20], – сказал, смеясь Комажевский. – Насколько я знаю и можно предвидеть, звери жестокие и охота будет драматичной.
Король грустно рассмеялся.
– A la guerre comme a la guerre[21], – проговорил он, – верь мне, что медведи иногда менее ужасные, нежели глупые люди.
– Несомненно, – шепнул генерал, – с медведем копьём и корделасом всегда можно справится, а с людьми…
Не прошло двух часов, когда уже лошади и кареты для охотников стояли у крыльца.
Под окном Филиппа смело закашлял Шерейко.
Русин это слышал, а выглянуть не смел, но навязчивость литвина в конце концов притянула его к окну. Он отворил его и выглянул.
– А что?
– Князь только что за столом объявил, что всех узников, даже преступников, отпускает, чего же ты сидишь! Бей и стучи в дверь, должны тебя выпустить.
Сказав это, он замолчал. Потом через мгновение, когда Филипп ещё раздумывал, смелый Шерейко бросился на верх. Но тут бодрствовала панна Моника.
– Что это? Панна не знает, что князь оглосил, что всех арестантов приказал выпустить, а Филипп до сих пор сидит! – крикнул он, подходя.
Панна подбоченилась, стоя напротив борца.
– А? Сидит! – ответила она. – И что?
– Следует его выпустить!
– Откуда? Из моей комнаты, в которую сам вошёл и в ней заболел. Ведь он никогда заключённым не был.
Шерейко был изумлён.
– Панна шутит со мной?
– Может, – ответила Моника, – потому что ты не должен вдаваться в то, что к тебе не относится. Смиренно кланяюсь.
И закрыла перед ним дверь.
В процессе всех приготовлений к приёму и во время пребывания короля все видели по князю, что он был неслыханно разгорячён. А что жажда его сжигала от утомления, он пил много вина и не выходил из этого состояния раздражения.
Командуя флотом под Гибралтаром, он иногда увлекался; теперь сама мысль охоты на медведей, которые были специально подобраны так, чтобы не на шутку с ними нужно было сразиться, так снова увлекала его, что ловчие и сопровождающий его двор и родственники, не могли его успокоить. Он приказал заострить себе корделас, пистолеты вложить в кобуру, лошадь, заложенную для охоты, оседлать, и дрожал от нетерпения.
Комажевский, Шыдловский, Юдицкий, полевой литовский стражник, у которых на сердце лежало, чтобы, если не король, то двор его порисовался отвагой, выбрались так же, вооружившись копьями, развлекаться, чтобы показать Радзивиллу, что ни один он имеет отвагу.
Староста Мелницкий, который с остроумием и великой осмотрительностью соединял бесстрашное мужество и хладнокровие, казавшийся насмехающимся над всякой опасностью, заранее улыбался.
– Я уже с медведями пробовал, – говорил он холодно Комажевскому, – неповоротливые звери, кабан гораздо страшнее их. Первого, что подойдёт, я вызову на танец! Будет у меня прыгать.
Комажевский нахмурился.
– Зачем выдумывать развлечения, сочетающиеся с опасностью! – бормотал он.
– Pardon, они как раз наивкуснейшие, – сказал Шыдловский, – это перчик, что им добавляет du piquant.
И смеялся.
Охоту собирались провести в поле за городом, на открытом месте, окружённом сетями и толпами людей. Медведи в клетках ожидали своей участи.
Для короля была поставлена беседка, устланная коврами, под балдахином с короной, в которой заняли места сопроводжающие его: князь каштелян троцкий, подканцлер литовский и генерал Комажевский; Сапега, генерал артиллерии, которого также сюда пригласили, отказался и вместе с Шыдловским и Юдицким стоялс корделасом и копьём под беседкой. Поблизости от неё другая, значительно больше, для дам и достойнейших особ, была уже переполнена.
Сам князь-воевода не дал себя уговорить, чтобы пойти в беседку. Он сидел на коне и, как ловчий, вертелся, шутя на площади с генералом Моравским.
– А это, пане коханку, было бы красиво, если бы я со сложенными руками смотрел. Во мне кровь кипит!
Началось с самого огромного медведя, который уже в клетке показывал такое настроение, что возвещал о себе как о бешеном животном. Раздражённый неволей и видом псов, он укрепился на лапах и дико ворчал. Возле клетки лаяли нетерпеливые псы.
Затем слуги отворили её и колами начали вынуждать мишку выйти на плац. Но тот из своей крепости выходить не думал; только собак, которые подскочили даже к клетке, хватал лапами и царапал. Его глаза налились кровью, он бушевал и ломал, рвал, что попадало.
Клетка также начинала разламываться. Князь с Моравским стояли тут же оба, а воевода кричал во весь голос:
– Выгнать его в поле, давай его сюда!
Наиболее смелые из ловчих с корделасами, с копьями, самые мощные псы насели на чёрного старого разбойника, который отчаянно оборонялся, рвал и калечил.
Князя едва можно было удержать. Падали псы, медведь покалечил несколько лошадей, людям также, по-видимому, досталось, когда, наконец, ошалелое животное бросилось на плац, ведя за собой стаю дворняжек, но вместо того, чтобы бежать к беседке, к которой его старались гнать, пустился медведь наперерез чрезвычайно быстро в поле. Здесь, когда перед ним от страха расступилась толпа, повалив сети, бросился он вслепую дальше. Князь повернул также, за князем генерал, все ловчие, доезжачие, вся охота. Вид был страшный и забавный, потому что старый зверь, казалось, издевается над погоней.
Всадники, собаки и всё исчезло от глаз смотрящих, но, по истечению доброй четверти часа послышались трубы, на запыхавшемся коне показался сперва князь, потом генерал, а в конце несколько ловчих, тянущих огромного зверя, окровавленного, убитого копьями, к ногам наияснейшего пана.
С трибуны послышались аплодисменты.
Шыдловский прищурил один глаз.
– Ma foi, – сказал он Сапеги, – князь-воевода великий ловец перед паном. Но и нам нужно порисоваться.
С преемниками этого предводителя медведей дело было несравненно более лёгким. Гнали трёх под беседкой; король выстрелил, подтверждали, что… ранил его, а собаки добили. По очереди отворяли клетки, обречённые бедняги выходили как ошеломлённые, король целился, стрелял, и медведь в зубах огромных собак недолго мучился. Шыдловский нетерпеливо крутился.
– А если бы также он один разум имел, – промурчал он.
Затем, как бы на зов, помчался бурый худой медвежонок очень бойко и, невредимо от выстрелов короля, начал убегать к лесу. Шыдловского ничего уже не могло сдержать, пустился с копьём, преграждая ему дорогу. Напрасно кричали, отзывали его; он не думал слушать.
Недалеко отбежав от беседки, медведь встал на задние лапы и стоял, готовясь напасть на старосту, когда тот мастерским ударом копья нанёс такой сильный удар, что медведь зашатался, но затем, собрав силы, уже собирался рухнуть на Шыдловского, которому, по своему обыкновению, сорвал бы часть черепа, если бы Юдицкий не побежал на помощь. Бежал также и Сапега, но припозднился.
Через мгновение, когда медведь хотел броситься, Юдицкий с одной стороны, Шыдловский с другой, забили его копьями; животное пало, поливая кровью землю.
Эта короткая битва с таким хладнокровием и мужеством была проделана, что даже изумила князя.
– А! Это смельчак, пане коханку! – проговорил он и приехал поздравлять.
– Это обычное дело, ваша светлость, – засмеялся староста, – медведь был такой любезный, как все в Несвиже.
И так в этот день в сумерках закончилась охота.
Поздно ночью князь, задыхающийся и усталый, уже начинал раздеваться, чтобы лечь спать, когда вдруг, что-то себе припомнив, ударил по лбу.
– Пане коханку, а в этом я ошибся!
И крикнул Павлучку, покойовцу.
– Павлук, позови мне Монику, хотя бы она лежала в кровати.
Жевуский, который только что было отошёл, вернулся с вопросом:
– Что же там такого срочного?
– Это тебя не касается, – сказал князь. – Только скажу тебе, что я ничуть не изменил вырванному слову, пане коханку. А это бы только было!..
Князь не докончил. Жевуский, зная странности воеводы, ушёл. Тем временем, князь, набросив на себя род шёлкового плаща, который служил ему халатом, ходил босым по спальне, бормоча:
– Слово Радзивилла… слово сказано… слова должно сдерживать!.. Но что с ним сделать?
Поскольку панна Моника в действительности уже была, как выражался Павлук, «до бульона» раздета, князь вынужден был ждать её с нетерпением.
– Что же она, чёрт возьми, причёску себе делает для меня или что, пане коханку? – ворчал он.
После ожидания, которое казалось князю более долгим, чем в действительности было, прибежала Монисия, не только не причёсанная, но с ног до головы покрытая шалью.
– Что же ты сделала со своим пленником? – спросил воевода.
Девушка пожала плечами.
– Сидит, ваша светлость, – ответила она.
– Но, до ста тысяч… зайцев, пане коханку, – начал князь, – я дал слово, что всех арестантов выпускаю, а слово – вещь святая!
– Я ни о чём не знаю, – буркнула Моника, которой охраняемого в течении стольких дней наречёного не хотелось отпускать на свободу, чтобы не сбежал.
– Сидит! – повторил задумчивый князь. – Ну и я вышел, пане коханку, на лгуна!
– Всё-таки в тюрьме он не сидит, – отозвалась с софизмом Моника, – арестантом не был, только я его у себя, в моей комнате держала.
– Э! Шутница этакая! – рассмеялся воевода. – Как это вы, женщины, сейчас крутить умеете! Между тем нужно его отпустить. Слово Радзивилла, пане коханку, такая святая вещь, что когда сказано, лишь бы всё пропало, а держать нужно… ничего не поможет! Отпустить его, отпустить!
Моника молчала, надувшись. Она смотрела из-под насупленных бровей на князя.
– Это только народит сплетни! – начала она.
Воевода стоял и крутил толстыми пальцами, за пояс заложив руки.
– Князь приказал его отпусть, – добавила она, – ну, а если я не послушаю, не будет это вина князя, но моя.
Усмехнулся воевода и погрозил, однако, не сказал ничего.
Прошёлся по спальне, пару раз тяжко посопел и, увидев стоящую на пороге Монику, промурчал:
– Иди же спать… с бабами, пане коханку, не придёшь к согласию.
Девушка исчезла, а князь в те же минуты приступил к молитве; но Богу ведомо, как он шёл, потому что молитву собаки и медведи на куски разрывали.
Приключение несчастного Филиппа всё усложнялось.
Шерейко, видя, что его не выпустили, боясь, как бы ему его шутку и вмешательство не приняли в лоб, нетерпеливый, злой, отважился он на смелое действие.
Вечером он выискал себе Бельграма.
– Слушай, брат, – сказал он, – тебе ничего не будет, а я его деспотизма вынести не могу. Нужно несчастного Понятовского освободить и предотвратить, чтобы его князь не наказал за то, что зовут его так же, как короля. Я тебя прошу, – тут он его обнял, – иди к генералу Комажевскому и доверься ему с этим Понятовским.
– Хочешь этого?
– Хоть бы я не хотел, но вынужден, – отпарировал литвин, – ибо я его надоумил и взбудоражил. До сих пор всё идёт плавно; пусть же хоть маленькая финфа надымит под их носом.
Бельграм ещё стоял.
– Иди, – поддержал Шерейко, – нет времени, завтра вроде бы последний день.
Бельграму вовсе не было неприятным приняться за донос – пошёл.
Король сидел ещё в халате, окружённый своими близкими. Шыдловский, Комажевский, Бишевский, кс. Гавроньский потихоньку, смеясь, рассказывали всевозжные приключения этого дня, когда показался в дверях Бельграм и дал знак Комажевскому.
Отведя его в приёмную, в немногих словах паж поведал ему о Понятовском. Генерал наморщился и сконфузился, измерил глазами Бельграма, как бы говорил: «Чтоб тебя с твоим донесением!», кивнул головой и отправил его, возвращаясь в спальню. Он сам не знал, что делать с этим донесением.
Король многократно ему повторял и заклинал, чтобы ничего перед ним не скрывал. И теперь он, обеспокоенный выходом, преследовал его глазами. Комажевский дал знак, что имеет что-то ему сказать. Тут же король встал и подошёл к нему сбоку.
– Довольно неприятная ведомостишка, которую мы можем игнорировать, но я её вынужден принести наияснейшему пану. Короче говоря, вот что.
И он рассказал, что ему донёс Бельграм.
Несмотря на всю силу, какую имел над собой, король смутился и побледнел; не отвечая ничего, он задумался. Было видно, что эта вещь сильно и неприятно боднула его. Комажевский заметил, что король, как по привычке, когда что-нибудь его косалось, машинально поправил на голове волосы. Было это движения, может, от усатых предков безусому потомку, которое передал атавизм, а обычай перенёсл на парик.
– Да, игнорировать мы можем, – подтвердил король, – но, мой Комажевский, вероятно, ещё мудрей было бы не придавать этому значения, не стыдиться бедного омонима и принять его.
Комажевский молчал, не смея выступать с советом. Король минуту стоял.
– Благодарю тебя, – сказал он, – хорошо, что ты мне поведал об этом. Впрочем, оставь меня и молчок!
Он положил палец на уста.
Часы пробили поздний час и королевские товарищи начали расходиться, так что наияснейший пан вскоре один остался с Комажевским. Вздохнул.
– Завтрашний день мы ещё проведём в товариществе медведей и волков, – шепнул он, – послезавтра, даст Бог, воротимся к людям.
Назавтра, во вторник, был последний день, но князь не дал отдохнуть гостю; а то, что сам охоту любил больше всего и весь свой двор ловчих имел поставленным на большую стопу, решил развлечь спокойного короля, который этого дня, уже уставший, встал, жалуясь на головную боль.
– От этого нет ничего лучше, пане коханку, чем свежий воздух, – сказал хозяин. – Поедем в Альбу, в зверинец, пусть король себе постреляет. Мне кажется, что он за всю свою жизнь столько дичи, что у меня, не набил.
Уже в семь часов утра король дал аудиенцию при кофе Сапеге, назначенную вчера на этот час, генералу артиллерии, который своей весёлостью и остроумием его немного развеял. В девять стояли уже кареты в Альбу.
Альбенский зверинец был так устроен, особенно для лося и кабана, что мог вместить в себя самую многочисленную компанию стрелков. Кабанов насчитывали несколько сотен, лосей за сто, а олени и зайцы не давали себя пересчитать.
Недолгое путешествие до Альба разнообразила компания амазонок, потому что Пжездецкая, старостина минская и Нарбуттова, хорунжина лидзкая, прибыли конно на выносливых верховых лошадях и по обеим сторонам открытой кареты эскортовали короля. Обе ловкие и изящные, улыбками и остроумием ещё сократили поездку до Альбы.
Отдельную беседку, как обычно, поставили для короля, а другую почти одни дамы заполнили. Впрочем, охота не имела вчерашнего драматизма; зверь был перепуганный. Король стрелял более десятка раз и говорили, что убил около десяти лосей и кое-что поменьше, кабанов и поросят. Выше всего ставили один случайный королевский выстрел в зайца. Все, однако же, эти убийства для многих были сомнительными, потому что… стрелки неловко помогали. Так друг другу шептали.
Прежде чем наступила обеденная пора, отпросился король и Комажевского послал к князю с извинением, что по причине срочных писем обедать будет у себя. Действительно, утомлённый охотой, к которой не был привычен, обеспокоенный раздачей знаков благодарности, не имел уже сил развлекать воеводину смоленскую и князя; наконец, мелочь, этого бедного Понятовского оставалось также проглотить.
На послеобеденное время князь припас презентацию убитых зверей, своих собак и ловчих, и поединок диких зверей в манеже, который Шыдловский грубо называл «Зрелище». Не нужно забывать о том, что, хотя жестоко измученный, наияснейший пан должен был до конца играть роль чрезмерно счастливого и всё расхваливать, потому что приём был и панский, и сердечный.
Во время обеда князь-воевода с виватовой рюмкой попросился к королю.
– Князь-воевода, – сказал король, обнимая его, – хотя бы стремился я подобрать более значительные слова благодарности, не изгладят они никогда чувство, какое ваше гостеприимство, поистине королевское, на меня произвело. Верьте, что в сердце до смерти сохраню память так приятно проведённых тут мгновений. Я так же заверяю себе, чтобы князь считал меня другом и учинил мне то удовольствие, дабы прямо предъявлял мне то, что хочет иметь для себя или своих. Поддержите меня на Литве, я вам так же служить буду и исполню, что пожелаете, сколько сил и возможности хватит.
Он обнял воеводу ещё раз.
– А! А! – вставил он, словно что-то припоминая. – Один небольшой вопрос, ваша светлость. Правда ли, что на своём дворе вы имеете смотрителя по фамилии Понятовский? Этих Понятовских и в Киевском есть много. Не знаю вполне, принадлежит он к моим или нет, но всегда им опекой я обязан.
Князь, слушая, зарумянился как свёкла, аж до синевы, и начал что-то невразумительно лепетать.
– Ежели этот Понятовский стоит того, я охотно занялся бы его судьбой, – добавил король, – хоть он не представился мне. Я узнал о нём случайно.
– Наияснейший пане, – вставил Радзивилл, – я тоже о нём помню, у меня кусочек хлеба он будет иметь. Прошу не беспокоиться.
Говоря это, он живо поклонился, разговор, к которому не был подготовлен, не желая продолжать, умыкнул. Король также вздохнул свободней. Воевода за порогом был вынужден вытирать пот, который выступил на его лице.
– А это мне, пане коханку, взял с левой руки! – замурчал он. – Смотрите, ему о том донесли. Имеет этот нахал счастье.
Вернулся князь к столу, не показывая, что чувствовал себя побеждённым хладнокровием, с каким король говорил о Понятовских.
– Обошлось бы пятью хатами в Ставках, – подумал он, – а теперь буду вынужден отдать деревеньку в пожизненную собственность.
После обеда, когда со двора послышались трубы, играющие погребальную, король с Комажевским поспешил в покой воеводы, перед окнам которого стояли возы, покрытые цветами и ветками, с красиво, как для картины, уложенной добычью; а весь двор был полон зелёных курток ловчих, стражников, стрелков и свор сдерживаемых собак, лучше которых Литва и Корона не имела.
Действительно, было на что смотреть, потому что, начиная от огромных мастифов на крупного зверя, гончих, борзых, легавых, даже до такс, всевозможные виды псов были тут отлично представлены. Неизбежно при этом случае фаворитка князя Непта имела бы честь также представиться королю, но именно двумя днями ранее став матерью пятерых дворняжек, не вставала от них и позвать себя не давала. Не освободили короля от зрелища, на которое он был вынужден идти в манеж и сесть в беседке.
Сперва был выпущен огромный старый лось, а потом на него два раздражённых медведя.
Казалось, что такие страшные враги, даже два на одного лося, не имеющего ничего, кроме рогов и копыт, могли его легко поразить; между тем оказалось, что этот храбрый гигант литовских пущ покалечил медведей рогами и ни они ему, ни он им ничего сделать не могли. Битва, довольно монотонная, протянулась бы до ночи, если бы наияснейший пан, которому зрелище было неприятным, не объявил, что готов стрелять в медведя. Тогда лось вышел целым, а противники его, пронзённые пулями, пали последней жертвой королевских забав в Несвиже.
При факелах ещё на другом дворе осмотрели ездовых коней князя, прохаживаясь возле которых, воевода, немного злобно указывая на одного, забормотал, что это есть собственно тот, на котором наияснейший пан не соизволил въехать в Несвиж. Король закусил губу. В театре ему зато пропели прощальный гимн.
На следущее утро из нескольких слов короля, потихоньку прошептанных Комажевскому, наступил le quart d’heure de Rabelais[22]. Нужно было за это гостеприимство заплатить, не только словами благодарности, но, что было гораздо труднее для бедного короля, подарками.
Что можно было подарить князю для его сокровищницы? Золотую табакерку с изображением короля, украшенную бриллиантами. Подобную получил князь-подкоморий. Часы, кольца с портретами, серьги, ожерелья разделили между женщинами, а для слуг Комажевский оставил несколько сот дукатов для распределения.
Попрощавшись с воеводиной смоленской, когда хозяин решил проводить наияснейшего пана даже до Мира, последние благодарности отложили до Мира, где принимали Солтановы.
На лицах обоих главных героев, короля и князя-воеводы, была видна настоящая радость, они могли отдохнуть.
Комажевский говорил позже, что никогда короля с очень давнего времени таким весёлым и свободным не видел, как на ночлеге в Шчорсах у Шептовича.
– Значит, мы пережили счастливо, даже канонаду Гибралтара! – гововорил, смеясь, Станислав Август. – А если же достойный пане коханку совсем недоволен мной, что я для него стрелял, столько раз приказывал и пил за здоровье, как никогда, то уже, пожалуй, ничего на свете его не удовлетворит.
Князь, возвращаясь из Мира, где много пил, потому что ему хорунждий Солтан неустанно доливал, заснул, сидя в карете, и не пробудился даже когда гайдуки вынесли его под руки из кареты в ложе.
На следущий день он встал резвый, хвалясь, что чувствует себя лёгким, как пёрышко. Потом всем по очереди болтал:
– А что, пане коханку? По-радзивилловски было? Гм? Король на коня не сел – струсил раз, потом, плохо стреляет; сказать правду, такой из него стрелок, как из меня капуцин; наконец, бедного Понятовского почуял. Я в этом не повинен.
Лучше всех в действительности из этого вышел простодушный Филиппек; досталась ему очень находчивая жена, деревенька в пожизненное владение, а позже от короля очередь какого-нибудь староства, который дал титул и вместе на хлеб немного масла.
Шерейко, друг семьи, всегда напоминал ему даже до занудства, что всём были обязаны ему.
В Несвиже мраморной таблицы не положили, долго оставался потолок Эстки в большой зале, а князь, пока жил, привык показывать некоторые памятные места:
– Тут, пане коханку, место, где король не пожелал сесть на коня; тут, пане коханку, он не попал с пяти шагов в медведя.
1887
Рассказы
Митрега
Послал как-то Господь Бог на землю ангела, который никогда ещё на ней не был. Смотрел только на неё свысока, а до ушей его доходили оттуда жалобы и нарекания. Поэтому ему было любопытно увидеть вблизи этот подол плаща. Дело, с которым он был выслан, не было таким уж срочным, поэтому разрешил ему Господь Бог посмотреть землю поближе.
Когда ангел принял человеческий облик, спустился на зелёную долину, отовсюду окружённую лесом, через который протекала речушка – потому что была именно весна. Птицы среди деревьев, на лугу, в небе песней и щебетанием её наполняли – цветы распускались, воздух был благоухающий и свежий; ангелу земля очень понравилась. Улыбнулся он ей, говоря про себя, что люди, должно быть, очень испорчены, когда жалуются на пребывание в таком раю. Потому что земля на первый взгляд показалась ему раем. Он начал, однако, рассматриваться вокруг, и заметил сперва волка, который, подкравшись за кустом, напал на овцу, задушил её и пожрал. Это ему не понравилось. Немного дальше лиса, сидящая у ямы, в которой жила, хрустела недавно схваченной курицей. На дереве ястреб драл голубя, а на ветках паук поджидал муху. Он, однако, подумал, что такой, должно быть, порядок между животными, чтобы сильнейшие кормились слабейшими, но между людьми должно быть иначе.
Однако же ему было любопытно услышать, как животные будут объяснять свои жестокости, и спросил сперва волка, за что несчастную овцу, мать детей, так безжалостно убил?
– Потому что мне есть хотелось, – отвечал волк, не наматывая пряжу.
Когда приблизился к лисе и задал ей вопрос о курице, получил ответ, что это было существо не достойное сожаления, полное коварства и предетельства, что согрешило даже против Бога, потому что разгребала землю и добывала зёрна, которые сеяло Провидение, чтобы взошли и цвели, что допустила убийство нескольких степенных червячков, которых проглотила без жалости. Поэтому она, лисица, хоть с болью сердца, должна была исполнить над птицей приговор справедливости.
Когда он спросил ястреба о голубе, тот ответил ему, что голубь ни на что не пригоден, только к еде, потому что петь не умеет, перья имеет некрасивые и ходит неуклюже. Паук, спрошенный о деле мухи, объяснился, что они пристают к целому свету и что он сделал большую услугу людям и скоту, уничтожая это противное насекомое. Он кстати добавил, что жирная муха была очень вкусной.
Не многому научившись из этих ответов, кроме того, что животные имели в себе много коварства, спросил ещё ангел цветы и деревья, как им жилось, будучи уверенным, что им, должно быть, хорошо. Но едва он проговорил, начались жалобы вокруг.
Сатрый дуб стонал, что его пастушки опаляли, что птицы уничтожили его ветви гнёздами, что мох на него влезал, что ураганы его обтрепали.
Кусты жаловались на соседство дуба, который из земли все соки вытягивал так, что им для жизни почти ничего не оставалось; трава жаловалась, что её грыз скот; лапухи – что под ними жабы жили; колокольчики – что их девушки рвали для внеков. Словом, никто не был доволен своей судьбой.
Но оттого, что все эти создания не были одарены разумом, ангел думал, что с людьми должно быть иначе.
По дороге он удивился, что даже камни роптали и пищали, одни – на плесень и наросты, – другие – на то, что их раскалывали на кусочки для строительства, иные – что корни деревьев помаленьку втискивались в само их тело и очень быстро, в какие-нибудь сто – двести лет в прах обращали здание.
Задумчивый ангел шёл через лес, но земля ему уже таким раем, как поначалу, не казалась.
На опушке леса он наткнулся на убогую хатку, в которой жил будник по имени Митрега. Был это очень бедный человечек. Как раз, принеся воды, он сидел на пороге и заготавливал щепки, чтобы было чем огонь зажечь и еду приготовить; одет он был бедно, имел чёрную рубашку, нечёсанные волосы, грязные руки, и громко стонал.
Подошёл к нему ангел.
– Слава Иисусу Христу!
– Во веки веков, – ответил Митрега.
– Что же там у вас слышно? – спросил ангел. – Как же там, на земле и в доме?
– А! Что вы хотите… – сказал Митрега, – во всём бедность; всё худшая нужда, с каждым годом всё тяжелей на хлеб заработать, пот с чела льётся, минутки отдыха человек не имеет, а тут детей куча, а тут все есть просят и на моих плечах дом, хозяйство, аж дыхания не хватает.
– Что же тебя сильнее всего мучает? – расспрашивал ангел. – Поведай мне откровенно.
– Что? Пожалуй, всё! – сказал Митрега. – Хорошего нет ничего, плохое с утра до ночи преследует. А что всего хуже, то, что неустанно, без отдыха работать нужно.
– В воскресенье отдыхайте! – произнёс ангел.
– Лишь бы здоров был, – засмеялся Митрега, – то я должен дров бабе принести, воды приготовить, часто репу очищать, в огонь дуть, скотине набросать корма, напоить! А! А! Кто посчитает!
– Но в течении года, – говорил ангел, – всё-таки есть недели и месяцы, в которых вы отдыхаете?
Митрега начал смеяться.
– А откуда же вас сюда Господь Бог прислал? Вы, пожалуй, не знаете нашей жизни и порядка земного. Когда же можно отдыхать? Зима – это молодьба, посев, вывозы, а долго там зимы? Замёрзнет человек, правда, но чтобы отдохнул?! Где же. А тут едва засвестят весенние жаворонки, иди же в грязное поле с сохой, нужно сеять, чтобы град имел, что выбивать. Закончил сеять, начинается уборка; ещё сено мокнет в копнах, а тут перепёлка зовёт: «Иди жать! Иди жать!» Только овёс заколосился, а тут уже спешно пахать нужно, чтобы первое жито на Варфоломея засеять.
И вздохнул Митрега, а так как разговорился, его язык ходил как крутящаяся прялка, которая крутится даже если пряха отойдёт.
– Но так плохо на свете! Плохо! Отдыха нет. Даже неизвестно, будет ли лучше на другом, потому что там, как слышно, нужно будет с ангелами день и ночь петь, а это такая же работа.
– Значит, тебе работа так утомила? – спросил ангел.
– Да уж, да уж, – ответил Митрега, – потому что, с тех пор, как родился, отдыха не испытал.
Ангел о чём-то подумал и говорит ему:
– Дорогой человече, жаль мне тебя. Знаешь, что? Вот я дам тебе мешок золота, понимаешь? Но под тем условием, чтобы ты совсем ничего не делал.
Митрега бросился ему в колени, целуя его ноги и спасителем своим называя, а когда хотел благодарить ещё сильней, ангел встал и быстро улетел. Поведал ему только ещё раз, что теперь уже ничего, совсем ничего он делать не может.
– А кто бы там о работе думал, когда, лёжа на печи, мог есть солонину с хлебом, – отпарировал Митрега.
Пошёл тогда ангел дальше, а что видел и слышал, того мы уже рассказывать не будем.
Между тем, этот Митрега стал паном и начал ко всему приспосабливаться, благодаря Господа Бога. Имел уже и паробков, и смотрителей и так, как себе желал, поместился на печи, ел куски жареной солонины с хлебом, попивая пиво, хорошо ему, очень хорошо сделалось.
Пришла тогда зима, привезли ему дров, растопили печь, а Митрега, с боку на бок переворачиваясь, благодарил Господа Бога. Затем как-то после недолгого времени напала на него зевота. Зевает, зевает, аж в его челюстях трещит; как зевнёт, делает крестик на устах, не помогает. Думает: «Встану». Потащился тогда к окну, сел на лавку, посмотрел на двор, дремля. Скучно ему было.
Наступала как-то вторая весна, во дворе кучами летали воробьи, то припадая к земле, то гнёзда готовя; ласточки грязь в клювиках носили, аисты на лугах суетились, всё, что жило, страшно двигалось, крутилось, хлопотало и весело пело.
Митрега зевал.
– Слава Тебе, Господи, – думал он, – что мне не нужно ничего делать, за все года отдыхаю!
Он зевал, потому что ему было скучно.
Вышел во двор и сел рядом с избой.
А тут паробки с девчатами крутятся, тяжести поднимают, скот загоняют, с плугами выходят, с боронами возвращаются. Митрега сидит себе, сложив руки, пальцы с пальцами скрутит и зевает.
– Хорошо мне так!
Вечером пошёл на печь. Но так как целый день дремал, заснуть не мог. Начал вытягиваться, сон не приходит, пролежал так до утра.
– Давай, баба, есть!
Принесли ему огромную миску клецок; взялся за еду, но аппетита не имел. Ему казалось, или продымлённые, или недосолённые; подсыпал соли, подложил солонины, не идёт в горло. Значит, к пиву. Пиво казалось ему слишком кислым, вода – невкусной.
Отругал бабу, досталось всем понемногу, сел на лавку и мух гонял.
День ему выдался долгим, таким, что и не пережить; подошла ночь – не заснуть. Эта зевота постоянно на него нападает. Настроение его испортилось.
Через несколько дней он начал вздыхать, сам хорошо не зная, от чего, пошёл в поле, ноги его отяжелели, погневался на паробков и вернулся злой. Весь день протосковал, всю ночь провздыхал. И думает: «Что это? Всего в достатке имею, чего душа пожелает, а ни к чему охоты нет».
Но, припомнив с тревогой, как раньше тяжело работал, утешился только тем, что ничего не делает, и уснул. Во сне его терзали кошмары, проснулся со страшной болью в голове, и такой злой, что не было доступа к нему.
Что тут делать? Ба! Начинало ему уже хотеться чем-нибудь занять руки, хоть бы пойти дровишек порубить, но устыдился – а, потом, слово дал. А слова Митрега должен держать.
Сам с собой наругавшись, сел Митрега в прихожей и орехи грыз. Все почти были дырявые. Жалуется тогда снова, как он ужасно несчастлив, и плевал и злословил. Уже к осени жизнь стала невыносимой.
А когда при работе здоров был и крепок, теперь исхудал, пожелтел, осунулся и едва держится на ногах.
Дошло в итоге до того, что пожелел о прошлой жизни.
– Я был глуп, – сказал он себе.
Затем, когда так мучился, смотрит, идёт тот самый, который его золотом одарил.
– Слава Ему!
– Во веки веков!
– А что у вас слышно, достойный Митрега? Уж вы счастливы, когда имеете, что хотели?
Холоп поскребыхал по голове. Не смел признаться, что глупым себя чувствовал.
– Конечно, по вашей милости счастлив, – сказал он, вздыхая, – но что-то со мной.
– Что с тобой? – спросил ангел.
– Вот иногда нападает на меня охота что-нибудь поделать, потому что меня скука съедает.
– Но ты же пан и в работе не нуждаешься, – отозвался ангел. – Ты хотел панства и отдыха, вот их и имеешь.
Митреге скука и безделье так уже надоели, что, подумав, пал к ногах благодетеля.
– Верни меня в прошлое состояние! – сказал он ему. – Уж мне сейчас всё не по вкусу, сон не берёт, сохну и умираю. Что мне от богатства, когда оно счастья не даёт… Предпочитаю жить в бедности, как до этого.
Ангел над ним сжалился и, изменяя сущность, предстал перед ним покрытый ярким светом.
– Человек мой! – сказал он. – Путь будет у тебя, как пожелаешь. Но знай о том, что на свете полного счастья нет. Господь Бог же дал человеку работу, чтобы ему было легче и жизнь сделать более сносной.
Как раньше писали письма
Было это поздней осенью. Подкоморий Верещчака, вернувшись из малой экспедиции в поле, для обозрения посевов, как они выглядели перед зимой, ходил по большой гостиной комнате, в которой никогда очень тепло не бывало, а в этот день особенно чувствовался пронизывающий холод.
Подкоморий, который на неприятном воздухе и резком ветре немного уже продрог, топал ногами, потирал руки, двигался, вытягивался, а разогреться не мог.
На дворе начинало смеркаться. Из окон перед домом был виден широкий двор, правдой и Богом довольно небрежно поддерживаемый. С одного бока припирали к нему конюшни, перед которыми всегда что-то стояло: или простая телега, или обшарпанная двуколка со свешенными грустно на землю оглоблями.
Не говорю о том, что рассыпанное сено, разворошённая солома и другие неизбежные последствия пребывания коней, сделали честь двору ближе к конюшням. С другой стороны большой флигель служил домом фермера, челяди, кухней, прачечной и для всякого пользования, для которого не хватало дома.
Естественно, околицы усадьбы также слишком чистыми сохраниться не могли. Тут рубили деревья, расщепляли скалку, бросали угли и залу, кухонные остатки, выливали помои, а гончии псы подкомория, всякий раз, как их выпускали, сами, похоже, этот мусор по большей части опустошали.
Прямо напротив окон были ворота, стоящие таким привычным отверстием, что были люди, которые сомневались, можно ли ещё их было закрыть. От этого бездействия они преобрели странную физиогномию, казалось, превращались в руину – однако стояли так уже очень давно и, вросшие в землю, обещали так продержаться года.
Когда подкоморий ходил, разогреваясь, по избе, как раз в эти воротам въезжал всадник, в котором самый неопытный глаз мог узнать посланника.
Есть это фигура допотопная, сегодня уже исчезнувшая и известная только из традиции, но раньше существовали такие люди, что на протяжении всей жизни справляли обязанности посланцев, было это их назначение. Такого «нарочного» узнать можно было сразу по физиономии. Человек этот обычно бывал смелый, привыкший к людям, сведущий в дорогах, закалённый для всего и охотно перевозящий разные ведомости. Он не гнушался рюмочкой в шинке и конь его должен был обычно даже перед каждой останавливаться proprio motu[23].
Большие паны имели много таких бояр, шляхта выбирала самых способных из крестьян. Письмо, которое обычно привозил посланец, часто адресованное в собственные руки, было завёрнуто в ткань, держалось за пазухой, иногда под рубашкой на голом теле, чтобы посол его всегда чувствовал, часом затыкал в баранью шапку, между двумя её стенками.
Письмо иногда сопровождало устное приветствие и какое-нибудь словесное добавление. Принимали посланца по-разному, но чаще всего и рюмочкой, и миской. Иногда какая горсть и лошадке доставалась, которая либо шла в гостеприимную конюшню, либо дремала у забора.
Подкоморий Верещчака в подъезжающем на пёстром коне человеке, который привязал скакуна к колышку, и, не обращая внимание на лай псов, провожающих его к усадьбе, направился к крыльцу, узнал сразу посланца. От кого? Это было для него тайной, но всё-таки забеспокоился. Посланец вёз письмо, которое было нужно прочитать, а что хуже, ответить на него. А нужно знать, что со времени, когда его у иезуитов в Люблине мучили писанием, подкоморий, равно самой манипуляции, как того напряжения мысли, которого требует писание, терпеть не м о г.
– Ну вот! – сказал он в духе. – Посланец и письмо. А жены в доме нет.
В самом деле, подкоморина была у дочери… а Верещчака один дома.
В сенях уже было слышно, как этот посланец начал торговаться со служащим Якубом. Подкоморий отворил двери.
– Кто там?
С открытой лысоватой головой стоящий посол шибко отвечал:
– С письмом к ясно пану.
– От кого?
– От подскарбия.
Говоря это, положа шапку на лавку, посланец потянулся за пазуху, взял оттуда красный платочек, развязал и, достав из него письмо, написанное на серой бумаге с большой печатью, вручил со скромным поклоном.
Подкоморий принял его, обеспокоенный. Видно, он предвидел, что с ответом ему будет тяжело, потому что через минуту мягко сказал:
– Пусть Якуб скажет, чтобы коня взяли в конюшню, а посланца на фольварк.
И, шепнув что-то старому слуге, подкоморий закрыл дверь. В покое было уже серо, он положил, а скорее, бросил письмо на стол, кислый.
– Иисус мой милосердный, – жаловался он, – чего он снова пишет? Наверно, о сеймике и своём кандидате. Но, пусть бы его с ним… дал бы голос и я, и мои, чтобы мне письма не насылал. Что тут теперь делать без подкоморины?
Кроме старого Якова, который был и слугой, и родом мажордома, у подкомория был парень, Яська, для тех меньших услуг, как например, снимание ботинок, всегда слишком кропотливое, которое всегда сопровождали проклятия и стук, приношение дров для камина и т. д.
Именно в этом раз Яська был отправлен за сухим деревом и должен был зажечь камин. Ушёл, но была эта обычная вещь, что, несмотря на пинки, какие за это получал, Ясек всякие за глаза исполняемые функции проделывал с неизменной потерей времени. Что он делал во время этих экспедиций, не было точно известно. В соответветствии со временем года и переменчивыми обстоятельствами, он дразнил индюка, иногда доводя его до наивысшей агрессии, гонял кур, ковырялся в носу, выбирался к огурцам и т. п.
В этот день нельзя его было заподозрить в чём-то ином, только, пожалуй, в кочане капусты, до которой тоже был жаден. Ключница клялась, что он ел сырую морковь, что же говорить о сладких кочанах!..
И не было его, хотя дрова лежали в сарае тут же около кухни, а подкоморий ругал и ворчал. Он имел эту плохую привычку, хотя результатом частого повторения доз было то, что результата не приносили.
Он воскликнул вполголоса:
– Где этот мерзавец Ясек? Когда ушёл, а до сих пор не вернулся! А, чтоб его!..
Тут наступало перечисление всех египетских казней, которые желал Яську. Подкоморий имел великое обилие таких слов.
Хотя письмо слишком интересным быть не могло, оно дразнило его и выводило из себя, лежа запечатанным. Подкоморий без свечи его читать не мог и даже при ней не обходился без очков.
Он позвал Якуба, чтобы ускорил возвращение Яська. Якуб, ленивый равно как честный, пошёл только на крыльцо и прикрикнул на сторожа, приказывая ему, чтобы привёл за уши дизертира.
Но затем и он сам с огромной вязанкой, полной дров на топливо, сгибаясь под их тяжестью, показался со стороны сарая. Выругал его сперва сторож, потом Якуб по дороге, наконец, сам пан прибежал, которому Ясек живо начал рассказывать что-то непонятное – и, бросив дрова, побежал за свечой.
Эти свечи для подкомория было не так лёгко подать по призыву.
Сальная трубка, какие использовали ежедневно, ключница имела под своим ведением, поэтому нужно было бежать за ней на фольварк, потом обернуть свечу в бумагу, очистить подсвечник с заслонкой, и щипцы, всегда фундаментально полные вчерашних фитилей, привести в порядок.
А так как Ясек был привычен делать это не спеша, зажигание свечей протянулось так, что нетерпение подкомория выросло до той степени, что Яску, вносящему свет и, согласно обычаю, говорящему на пороге: «Слава Иисусу Христу!» – погрозил кулаком.
Теперь следовало пододвинуть стул, подать скамеечку под ноги.
Подкоморий сел.
– Подай очки.
С очками с незапямятных времён была всегда неслыханная проблема. Верещчака чрезмерно дорожил этими очками, которые выбрал себе для глаз с немалым трудом во время своего пребывания в Варшаве; спрятал их, но никогда не помнил, куда положил.
Имели они два или три места, предназначенные для них, в которых, однако, никогда не находились. Официальное их размещение было в выдвижном ящике рядом с картами для мариаша и каббалы, иногда находили их на комоде около голубой чашки, иногда валялись на большом столе, а однажды даже застали их на окне, что подкомория возмутило, хотя сам их туда положил.
В кармане капота они попадались экстра-редко.
Начался поиск очков, на ощупь в темноте, потому что большие сальные свечи с заслонкой недалеко бросали свет, и проклятия. Искал сам подкомирий, Ясек, позвали Якуба.
– Расступись земля! Очков не слышу.
Поднялась гроза. Прибежала старая Дорота с фитилем в руке на помощь, и ей удалось настоящим чудом или удивительной женской догадливостью обнаружить их воткнутыми… между комодом и стеной.
Только тут нужно было послушать выяснения, чьей виной они туда попали, потому что вещь очевидная – сами они, как поведал подкоморий, влезть туда не могли, но кто-то, убираясь на комоде, с пренебрежением, достойным порицания, этот дорогой прибор, не достаточно что сбросил, но даже не был осведомлён об этом поступке… либо… могла в этом быть недостойная злоба.
Убедившись только, что пребывание за комодом очкам не повредило и футляр их только немного потёрся, подкоморий одел их на нос, разорвал конверт, достал письмо, приблизил его к свече и внимательно начал читать, с intytulacji.
«Ясно вельможный подкоморий, благодетель и мне очень милостивый пане и брат».
Обычные письма, только для формальности, были написаны на четверти бумаги, редко занимали больше, чем одну страницу, и рассчитаны бывали так, что подпись, помещающаяся в некотором отступлении внизу, выпадала чуть не на самом краю. С ужасом подкоморий сначала заметил, что на первой этой стороне не только не было подписи, но даже формул, ей предшествующих, отвернул беспокойно бумагу и убедился, что письмо имело три полные страницы, а дополнено ещё постскриптумом. Очевидно, коротко на него отписать, per dominum nostrum, не годилось, особенно подскарбию; дело должно было быть magni momenti, важное.
У него опустились руки.
– Ну вот тебе! – сказал он в духе. – Не говорил ли я?
Подкоморий в действительности ничего не говорил, но привык использовать это выражение, утешаясь в каждой проблеме своей проницательностью.
Будь что будет, нужно было начать читать. Эта операция неопытному подкоморию, который по причине глаз и из отвращения к бумаге всегда кем-то пользовался, не давалась легко – а что же говорить о тех зигзагах канцелярии подскарбия, amanuensis которого корябал как курица.
Верещчака, которому минуту назад было холодно, начинал потеть; а было это не от огня, зажжённого в камине, потому что Ясек едва его раздул, но от чрезмерного усилия всей силы разума, какая трбовалась для чтения и выговаривания. Прерывал себя только.
– А, пусть бы его! О, вот пишет! Что это снова? Нет конца.
Дело было довольно сложное. Речь шла не о сеймике, но о старом процессе по поводу сбежавшего подданного, личность которого доказывал Флеминг, а подкоморий опровергал.
Дело это спало на протяжении какого-то времени, теперь его возобновляли.
Помимо того, что сама вещь производила неприятное впечатление и грозила процессом, нужно было отписать.
Проницательный подкоморий угадывал, что возобновление претензии было только штукой, чтобы ценой погашения её получить себе на сеймике поддержку.
Значит, следовало так отписать, чтобы и не дать определить, что почуял письмо носом (выразился подкоморий) и уговаривать… а потом…
Опершись на локоть, Верещчака долго думал и вздыхал. Тянуть с ответом только день или два, выслать его другим нарочным в Терасполь – не подобало. Доказал бы то, что слишком заставили думать и встревожили. Stante pede следовало ответить.
В этом была загвоздка.
Наступало вечернее время, после еды же Верещчака по неизменному правилу должен был воздержаться от всякой умственной работы, кроме вечерней молитвы. Он придерживался того старинного правила: mille passus meabis, и ходил, писать, следовательно, не мог.
Он был вынужден немедленно сесть за письмо, отложив ужин, только рюмкой настойки подкрепиться, и – отделаться от этого чёрта.
Он позвал Якуба, который стоял у порога.
– Слышишь, старый, – сказал он, – это проклятое письмо от подскарбия! Тоже мне в пору! Я должен сразу отписать… а тут – ужин, а после ужина не могу. Пусть с этим ужином подождут, что ли?
Якуб взмахнул рукой.
– А это же утка на вертеле, – сказал он, – тогда полностью сгорит!
– Чтоб его с этим письмом, – заворчал подкоморий и прибавил с героизмом, – ну и пусть сгорит! Чёрт её возьми! Дай мне рюмочку ликёра! С ужином подождать!
Верещчаке, когда говорил этим тоном, невозможно уже было делать никаких замечаний. Якуб пошёл за ликёром.
Подкоморий в уме приготавливал свой ответ, он ему не давался…
Он не имел вдохновения. Дать его мог ликёр – но иначе и с этим случается. Бывает тот, кто подкрепится, в голове неразбериху создаст.
Якуб принёс хлеб, соль и бутылку этого ликёра, которую подкоморий измерил изучающим оком, потому что ему что-то казалось, что в последний раз в бутылке он оставил его больше.
Подозрение пало на Якоба, но времени не было об этом спорить.
Спустя мгновение потом, закусив хлебом, подкоморий действительно почувствовал, что в голове у него прояснялось.
Слова и выражения как-то ловко у него выстраивались, прибежали на призыв; вязались друг с другом красиво; улыбался некоторым из них.
И хотя письмо он мог бы в такие минуты вдохновения симпровизировать смело, но оттого, что дело шло о случаи с подскарбиной, безопасней было бы и подумать, и черновик себе оставить.
Такой дневник может пригодиться.
Поэтому дело шло уже только о написании.
Застонал бедный Верещчака, потому что руки имел всегда немного раздутые и перо брал с отвращением. Но dura necessitas.
Он открыл ящик, в котором всегда бывало несколько аркушей бумаги, если не в линейку, то вполне приличной… Посмотрел, впустил руку – достал, но заместо белой синюю, простую, толстую, реестровую, на которой стыдно было отписать.
Лихорадочное опустошёние ящика извлекло из его лона: старые ножички, клубочек ниток, намотанных на бубнового туза, кусочек воска, напёрсток подкоморины, два старых конверта, уже порванных на квитанции для аренды, и линейку.
Белой бумаги – ни следа.
Подкоморий крикнул: «Якуб!», даже в другом конце дома всё закачалось, «Якуб!»
Старик, которого уже раздражила отсрочка ужина, вошёл насупившись.
– Где бумага? Бумаги нет? Куда могла подеваться? Кто смел переложить? Шесть аркушей тут, в этом ящике, сам положил.
Якуб о бумаге вовсе не знал, побежал за Доротой. Дорота заранее клялась, что с бумагой никогда дела не имела; а на Пасху под лепёшки, кроме старых реестров, ничего иного не брали. Быть, однако же, могло, что пани подкоморина, опасаясь злоупотребления, закрыла её в свой выдвижной ящик, ключ от которого взяла с собой.
Верещчака впал уже в такое отчаяние, Яська немедленно отправил на деревню за слесарем, чтобы силой вскрыл комод. Дорота протестовала – не помогло. Ясек уже отправился, когда Якуб, серьёзный и молчщий, из другого покоя принёс, найденные настоящим ясновидением, три аркуша бумаги, которые покоились в самом столике подкоморины.
Было их только три… но это могло позже объясниться.
Подкоморий остыл и сел… Приказал Якобу принести чернильницу.
Этот прибор, будучи очень редко в использовании, широкий на дне, с узкой шейкой, обычно заткнутый пробкой, стоял всегда, с незапамятных времён, на комоде в спальне. Каким-то образом он нашёлся на своём месте, но без пробки.
Несмотря на тёмно-сапфировое стекло, из которого он был отлит, рядом со свечой показался пустым – чернил не было в нём ни капли.
Но на это известный был способ: вливали немного тёплой воды и застывший осадок на дне давал совсем приятный сероватой цвет жидкости, с горошинками пыли, которая на бумаге принимала неопределённый цвет, но читаемый. Дорота принялась за воскрешение чернил.
Только теперь Верещчака припомнил себе, что, кроме бумаги и чернил, нужны были обязательно перья для письма. Якуб пошёл их искать и нашёл два. Одно было с длинным белым хвостом, красивое для глаза, но когда Верещчака к нему присмотрелся при свете, оно оказалось трагично порванным на две части и каждая из них выкручена была так, словно поклялась, что никогда не притронется к бумаге.
Второе перо, чуть обрезанное, как узникам головы стригут, было длинным, выглядело хорошим для использования, но рассохшееся, стёртое на конце, не совсем позволяло; первым его плодом был «еврей», которого подкоморий, жалея бумагу, по-студенчески облизал языком.
Сразу сплюнул, но потом остался такой неприяный вкус, что должен был приказать дать себе немного ликёра и хлеба с капелькой соли. Только тогда это прошло.
Замахнулся уже приступать к письму – и успокоенный Якоб отошёл к порогу, когда послышался крик, который подкоморий издавал только в минутах полного забвения.
– А, овод, чтоб тебя!..
Якуб стонал.
– Не пишет… шельма!
И бросил на стол перо так, что если бы потом даже хотел приспособиться к нему, не мог бы, потому что разбил его на части.
– Беги сейчас к эконому на фольварк… перья! На раны людские, перья! Чтобы в доме одного достойного пера не было! А то наказание – несчастье какое-то!
Якуб отправил Яська за перьями, а мальчик не имел привычки спешить. При том дело с экономом представляло, несмотря на свою простоту, некоторые трудности исполнения. Эконома не было дома. О тех его вечерних абсенциях, поскольку не был женат, ходили разные вести, обычно слухи. Официально же эконом должен был находиться у арендатора по причине сомнения в водке, находящейся в бочке. Подозревали его в доливании тайно её поставляемой.
Ясек, поэтому должен был бежать в корчму, а корчма находилась на добром расстоянии от дороги. Пришедши туда, эконома он не застал, только что ушёл, но где был, не знали.
Тем временем подкоморий проклинал, а так как уплывали четверти, напал на гениальную идею написания письма карандашом.
Сущестование карандаша в доме, немного мифическое, не позволяло себя проверить.
Дорота клялась, что только раз видела его маленький кусочек, которым, сильно его слюнявя, панна Петронела рисовала узор на перкале. Неизвестно, однако, был ли этот карандаш её собственностью или казённым.
Якуб смело говорил, что никакого карандаша не знал, потому что никто в нём тут не нуждался.
Подкоморий припомнил, что что-то валяющееся в выдвижном ящике, похожее на карандаш, своими глазами видел.
Перетрясли все возможные укрытия, в которых карандаш имел право покоиться – не нашли ничего.
Тем временем, что происходило с этой уткой, будущей уже на вертеле, страшно подумать.
Ясек вернулся через добрых полчаса с тремя перьями, уже использованными, стёртыми, из которых одно особенно порекомендовал эконом, как хорошо пишущее, но заранее заметил, что сам он никогда перьев заострять не умел, ножика для этого не имел и обычно перо получал от родственного ему доминиканца в Бресте.
Около свечи это рекомендованное, как хорошо пишущее, перо, казалось, имеет все необходимые качества. Не слишком исписанное, не слишком свежее, с немного потёртым носом, умеренно расщеплённое, выглядело на приличное экономское перо. Подкоморий смочил его, отряхнул, приложил к бумаге – писало. Вздохнул с облегчением.
Тонких черт нельзя было им написать, но с толстыми одинаково сносно мазало. Тут же Верещчака старательно написал: «Ясно вельможный подскарбий благодетель, очень милостивый ко мне пане и брат!»
Но тут была загвоздка. Флеминга некоторые звали графом, иные – по мнению, что в Польше шляхетское равенство титулам противилось, в этом саксонско-немецком атрибуте ему отказали.
Не подлежало сомнению, что «граф» должен был прийтись Флемингу по вкусу, с другой стороны было это подлизывание к магнату, в котором Верещчака не хотел быть заподозренным.
Положил перо – и ударил в пальцы.
– Пусть его, дам ему графа, когда ему это мило.
Согласившись, поэтому с наделением его титулом, написал заново:
«Ясно вельможый граф, пане подскарбий благодетель, мне очень…»
Снова загвоздка. Должен ли был назвать графа братом? Этот титул не допускал уже братства.
Верещчака встал, усталый, и прошёлся пару раз по комнате.
Потел – на часах было половина девятого. Утка – не хотел думать об утке, хотя был это чирок, после которого пальцы себе оближешь.
Должна была сгореть до уголька.
Сел писать, дело титула, братства и т. п. откладывая на потом, начал состовлять письмо дальше.
Мысли, которые в первые минуты после ликёра так живо и охотно ему приходили, куда-то исчезли, спрятались, шло как из камня.
«Гордый почтенным Вашим письмом, к которому моя оценка и высокое уважение всегда…»
Снова сук.
Уважение должно быть глубоким или высоким? Подкоморий бегал, путался – и начало ему попеременно делаться то холодно, то жарко.
Разрываясь между высоким и глубоким, он мог только составить узус, нужно, поэтому было искать в письмах. Верещчаке сделалось холодно – он предпочитал уже всё это начало обратить иначе. Поэтому смазал – начал заново.
Не далее как в четвёртом вирше произошла новая трудность – застрял.
Положил перо, вздохнул, затем вошёл Якуб и закашлял.
– Что будет с ужином? – спросил он.
Это походило на издевательство – кровь в нём заволновалась.
– А иди ты, трутень, чтоб тебя! Не беспокой, слышишь?
Смелый Якуб не поколебался, однако, добавить:
– Около девяти!
– Хотя бы и двенадцать было! – воскликнул подкоморий и нагнулся над столом.
Но первая в умственной работе – цепочка мысли – прервана, при том само гневное волнение работает обычно фатально. Подкоморий потерял всё, что имел уже приготовленным, разобраться не мог, читал, что написал – дальше продолжать не мог. Одним взмахом перечеркнул он всю свою работу и уничтожил её. Должен был ещё раз начать заново.
Шло чрезвычайно тупо, получилось всё-таки три с половиной вирша, наискось и фантастично написанных каракулями, так, что, казалось, одни убегают от других – поскольку подкоморий, поехав слишком в гору, соскользнул потом вниз, вернулся к первому и т. д. Затем, читая эту редакцию, которая казалась ему новой, заметил, что повторил только самый первый свой конспект. Его это удивляло, потому что не имел намерения совершить плагиат у самого себя.
Поэтому он размышлял, каким образом это могло произойти, – а время уходило.
Письма, как не было, так и нет – поскольку то, что однажды показалось плохим, несмотря на изменения, он находил подозрительным.
Пот каплями падал с его лица – делал выговоры Провидению, которое подвергало его такому неприятному усилию. Ждал вдохновения – не приходило.
Униженный, с грустью в душе нагнулся и начал в четвёртый раз, давая себе слово, что всё-таки не будет уже напрягаться напрасно и, praeter propter ответив, вышлет подскарбию, что Бог даст.
На этот раз по слову, медленно расставляя, определяя, изменяя, в половине десятого он докончил кропотливо склеенный ответ.
Читая, хотя не был им удовлетворён, находил ответ подходящим. Ясным не был, но интерес требовал, чтобы умысленно бросить сомнение. В нескольких местах стиль оставлял желать лучшего, но к красоте изложения подкоморий не имел никакой претензии. Дело было в том, чтобы чёрным по белому против себя не выдать свидетельства.
– Пошёл он к чёрту! – сказал он, вздыхая. – Ежели не поймёт, пусть голову ломает! Моя вещь – отписать, а его – объяснять себе и выводить из этого следствия, какие хочет.
Дело было уже только в переписывании.
Подкоморий трясущейся рукой отрезал не вполне ровно бумагу, поправил кривые края и засел, держа в левой руке письмо со свечой, а правой начиная писать. Не придерживаемая бумага движением тянущейся правой руки съехала вниз и «Ясно вельможный…» незаметно так некрасиво рванулся вверх, что упёрся в самый край.
Верещчака, занятый каллиграфированием, не видел, что делал, и перо только, падающее на подложенный лист, объявило ему о неудаче. Четверь бумаги была испорчена.
Это повергло подкомория в такое отчаяние, что, не обращая внимания на то, что могло пригодиться для примечания, подтверждения, на незначительные письма, порывисто смял его в кулаке и бросил в камин. Бумага, как известно, есть вещью горящей. От прикосновения с огнём она занялась пламенем и скатилась на пол так неудачно, что, прежде чем подкоморий вскочил со стула, загорелась на столе свисающая до пола салфетка.
Этот огонь мощным кулаком Верещчака подавил, но что с ним сделалось, невозможно описать. Попросту сошёл с ума.
Руки его тряслись, так что отрезка другого листка прошла с ещё большим трудом, чем первого, а по краям он был отвратительно обкусан.
– Пусть канцелярия смеётся, – говорил он в духе, – я не такой великий пан, чтобы держать писак, скрипторов, дармоедов…
На этот раз вышел титул с пропуском одной буквы, незамеченной.
Подкоморий торопился, потому что, привыкший к регулярной жизни, одарённый превосходным аппетитом, не на шутку чувствовал голод. В желудке отзывались голоса – то характерное бурчание, которое было как бы речью природы к совести!
Нужно было сперва раз положить конец этому несчастному писанию.
До половины шло как-то так, когда, вынужденный прибегнуть к носовому платку и прервать воспроизведение, Верещчака не заметил, как половина строки, уже написанной, повторил iterum…
Только кончая этот дубликат, его охватили подозрения!
– На тебе!
Наступила минута такого сомнения, что, кто бы в это время увидел достойного Верещчаку, пожалел бы его.
Переписывать ещё раз? – не имел уже сил. Зачёркивать эти строки – было признаться в ошибке и оскорбить подскарбия высыланием письма, так небрежно выполненного.
Подкоморий сказал себе, что мог это игнорировать.
Впрочем, повторение слов, строго взятое, не было таким великим грехом.
Однако, садясь далее писать, Верещчака жаловался на судьбу, которая дала ему родиться в эпоху, когда люди должны были писать письма.
Впечатления придирки так подействовало на его руку, что почти ни одного слова не мог он написать теперь, когда бы что не пожелал. Одним не хватало букв, другие были слишком сжаты, другие слишком свободны. О пунктуации речи не было, потому что подкоморий всегда её считал излишней. Ласкать так читателя, чтобы ему показать, где должен был задержаться, где понизить голос, где кончалась одна мысль, начиналась другая – Верещчака находил видом злоупотребления.
Доехав до конца первой страницы, отдышался. Посмотрел на выполненное дело. Не выглядело оно в действительности лучше, чем иные современные, но также не хуже.
– Уйдёт, – сказал он в духе, – чёрт с ней там… с элегантностью.
Взял в руки перо и вместе листок, чтобы перевернуть его, заметил теперь, что с толстого пера строчки не были ещё сухие.
Он так уже чувствовал себя уставшим и был бессознательным, что каким-то давним бессмысленным студенческим обычаем, как если бы имел перед собой песочницу, с самой холодной кровью вылил чернила на бумагу. Заметил слишком поздно свою ошибку и крикнул.
Из чернильницы вытекла чёрная речушка и, очерчивая на бумаге несколько извилин и доказывая закон тяготения, с исписанного листа полилась на чистый, а с него и на колени подкомория…
Верещчака заломил руки, поднял глаза, недовольный Якуб стоял перед ним. Он показал ему, что за несчастье случилось, но невозможно было этому помочь, потому что под рукой Якуб имел только салфетку, а известно, какой репутацией пользуются чернильные пятна. Бросился за тряпкой.
Верещчака, онемелый и смирившийся, сидел, выжидая. Ясек с тряпкой, и то старой, Якуб – для надзора, а Дорота – из любопытства, с фитилём в руке, появились у столика.
Между тем, Верещчака увидел на столике кусочки промокательной бумаги и освободил ими лист от остатков чернильного наводнения; он решил отрезать третий листок и писать заново.
Никто не отрицает, что он давал доказательства ангельского терпения.
Уже собирался приняться писать, когда Дорота, как все женщины догадливая, взяла чернильницу в руки и, смотря напротив свечи, убедилась, что чернильница была сухонькая, чернила из неё вылились до капли.
– А что? – спросил со страхом подкоморий.
– Совсем ничего.
– Долей тёплой воды или с письмом послать на фольварк к эконому за чернилами!
– Где у него чернила? – забормотала, бывшая в плохих с ним отношениях, Дорота, и вышла.
Подкоморий имел время отдышаться.
Часы пробили десять.
Тем временем бумага была вырезана заново. Подкоморий, не тратя времени, так сел, что ему ничего не оставалось, только намочить перо. Как-то погрузил его тут же, но это был несчастливый день (старый столетний календарь свидетельствовал о том), панна Дорота переполнила уже предварительно промытого старичка и вместо чернил стал борщ, как говорил подкоморий.
Дорота, надувшись, утверждала, что как раз такие бледные чернила лучше чернеют – впрочем, иных не было. Сел писать Верещчака, хотя почерк был едва заметен.
– Чёрт с ним, пусть себе глаза портит! Что мне там! – сказал в духе подкоморий. – Моя вещь – писать, его – читать.
В этот раз шло несравненно лучше, рука немного приобрела опыт от предыдущей пробы – при перевёртывании страницы сохранил все надлежащие осторожности, он даже дотянул до респекта и оценки, над которым задумался, закрутил зигзаг к низу, подписался с титулом manu propia, положил дату – вздохнул…
Читать письмо не было возможности, но не чувствовал теперь подкоморий себя обязанным.
Теперь речь шла уже только об обрезке конверта, теория которой была известна подкоморию, но на практике навязывалось множество непредвиденных трудностей. Старые ножницы, которыми без милосердия все злоупотребляли, ещё резали, не так, однако, гладко и ровно, как были должны.
Конверт вышел фантастично и криво, но этим уже подкоморий не беспокоился. Гербовую печать на тысячилистники ut decet вырезать должен был на пальце. Дело шло о лаке. Он хлопнул в ладоши Якубу.
Старик притащился с нахмуренным лицом.
– Не знаешь, где лак?
– Какой?
– Глупый! А какой же должен быть? Лак для печати… болван!
– Лака у нас давно нет, – ответил Якуб спокойно.
– Как это – нет?
– Потому что вышел, – говорил слуга, – пани подкоморина последний раз, когда хотела запечатать письмо к канонику, я знаю, что, найдя капельку, на перо насадила, чтобы не замарать пальцев, и перо испачкала, а на печатку не хватило…
День был самый несчастливый. Подкоморий потребовал оплатку. Был это один возможный суррогат. Дорота нашла остатки красной на комоде и Верещчака взялся заклеивать конверт… Дело это пошло не вполне счастливо, но речь была о том, чтобы письмо продержалось до Терасполя. Дрожащей рукой положил подкоморий адрес и громко потребовал ужин. Письмо до завтрашнего утра должно было остаться на столике, потому что чернила были так бледны, что днём следовало проверить, почернеют ли, согласно заверениям Дороты. Лапшу на молоке, сероватую, съел Верещчака с аппетитом, за ней последовал жареный чирок, которого нужно было принять на голодный зуб. Подкоморий встал, перекрестился и с ужасом заметил, что он, который регулярно в девять часов после молитвы был в кровате, имел ещё mille passus и молитвы; а на часах приближалась полночь… А ну, хорошо, что ещё и так окончилось. Вернувшись в покой, в котором на столике лежало письмо, желая убедиться в почернении чернил, Верещчака взял его в руки и – заметил только, что… напротив, чернила как бы побледнели… Но не могло этого быть – днём оно должно было показаться иначе.
Как потом он заснул, уставший, как жестоко храпел, какие имел сны, в которых припоминалось ему это писание – не видим нужды рассказывать. Пробудившись утром, первой его мыслью было отправить посланца… Чуть перекрестившись, побежал в покой, схватил приготовленное письмо и с ним поспешил к окну.
Взял очки, надел… смотрит… написанный адрес – ни следа… чернил ни признака – испачканная бумага, больше ничего.
Подкоморий напрасно сорвался и на мелкие куски разорвал вчерашнюю работу…
– Якуб! Якуб!
Якуб с неотступным Яськом бежали оба…
– Позови мне посланца из Терасполя!
– Он тут уже на кухне ждёт с утра.
Подкоморий душил в пальцах добытый из кошелька самый жалкий тинф, какой имел.
У двери стоял, кланяясь, посол.
– Кланяйся, душа моя, пану подскарбию, скажи, что с устным ответом сам приеду.
Говоря это, он вручил посланцу тинф и добавил:
– Вели себе дать полчетверти водки!
Так закончилась история, памятная в жизни Верещчаки, письма к подскарбия, а когда вернулась пани подкоморина, было чего слушать, ибо все трагичные её переходы рассказал жене – и долго, долго отдышаться после неё не мог.
1882
Учителя сироты
сказка
I
Шёл себе раз бедный паренёк дорогой, не ведая, куда идёт; потому что и дети, и взрослые часто так ходят. Был бедняга сиротой, не имел никого, кто бы ему самую короткую и верную дорогу до городка показал; а нужно ему было туда идти по той причине, что работы искал и пристанища. Самая дорогая и единственная мать умерла неделю назад. Похоронили её на кладбище в деревне, до которой дотащилась, прося милостыню. Несколько убогих, как она, женщин пошли за бедным гробиком; погребение было из сострадания, поэтому очень скромным и тихим.
Паренёк шёл за останками матери аж до чёрной ямы, выкопанной в земле; видел, как опустили гроб, как его как можно скорее засыпали; а когда, пошептавшись, кучка людей разошлась, сел на могилу и до ночи там проплакал. Во мраке его пугали темнота и пустота; он побежал, плача, в деревню, но тут все двери застал закрытыми, притулился к стене и, утомлённый, уснул.
На следующий день он был голоден; он полагал, что, когда постучит в первую хату с края, дадут ему, может, кусок хлеба. Поэтому постучал. Но вышла сварливая женщина; гневно спросила, он не умел ничего ответить; расплакался и она выгнала его. Сидел, поэтому и плакал. Пришёл пастух, который стадо из деревни выгонял в поле, старичок с палкой, и начал его спрашивать; ребёнок едва мог что-то о себе ему рассказать. Догадался, однако же, что бедняга голодный, добыл из торбы хлеба и дал значительный кусок его хлопцу.
– Слушай, – сказал он ему, – взял бы я тебя на выгон стад со мной, потому что мне часто, старому, с бадающимися телятами трудно справиться, но тебе будет тяжело быть пастухом. Лучше тебе немного потерпеть и другой работы искать… Вот в этой стороне лежит местечко. С этим кусочком хлеба дойдёшь до него, там найдёшь работу, чтобы напрасно не клянчить… а Бог сделает остальное… Над сиротой Бог с калитой…
Стадо ревело, идя по улице; пастух поднял палку, крикнул и потянулся дальше. Паренёк привык слушать и послушал старого, стал есть твёрдый чёрный хлеб и поплёлся трактом. Тракт проходил рядом с кладбищем, поэтому он подошёл ещё ко могиле матери и поплакал, поцеловал землю и потащился дальше. Пастух ему ещё раз, издалека, с луга, палкой показал дорогу.
Вот как это случилось, что хлопчик-сирота один шёл дорогой… и немного плакал…
Но тракт, поначалу широкий, начал крутиться и уменьшаться, потом сошлись с ним иные дороги с правой и левой стороны, потом было их несколько, и уже неизвестно было, как попасть, чтобы не заблудиться, в местечко… а поселений не было видно. Солнце припекало и могло быть около полудня. По этой дороге то мелькал всадник, то проносилась бричка, то проползала холопская телега, и никто не обращал на сироту внимания, а бедняки также и спрашивать не смели… Ноги в песке начали уставать… охватил страх…
Сев под сосной на камень, он опустил голову, и снова навернулись слёзы… Затем его пробудило щебетание птицы: вокруг него летал какой-то старый воробей или трясогузка, и крутился как-то так весело, так бодро, что сирота невольно поднял голову и начал к нему присматриваться. Птичка то спускалась к земле, хватала какую-нибудь соломинку, былинку, пушок, и с этой добычей в клюве спешила на сосновую ветку и пряталась в её листьях, то снова пускалась дальше и садилась на маленькую лужу воды и пила, то рылась в песке, обсыпалась им, размахивала крыльями, то, взлетев в воздух, весело пела… Когда из его глаз исчезла серая птичка, мальчику даже грустно сделалось – ему очень была любопытна птичья жизнь… Пока, приблизившись, он не увидел гнездо и своего знакомого, который сам себе делал порядок, укладывал веточки, ножками и клювом стелил и огораживал… Работа была интересная, быстрая и очень красивая… гнездо начало расти на глазах, округлилось, украшалось… А когда паренёк осторожно приблизился, с изумлением заметил, что птичка, которая так крутилась около своей работы, совсем его не боялась…
Люди, за исключением пастуха, как-то ему не много помогли; бедный мальчик подумал, что не мешало бы у такой мудрой птички испросить совет. Поэтому он снял шапочку, очень вежливо поклонился и сказал тихо:
– Уважаемый воробей благодетель, ежели я ошибаюсь в титуле, прошу меня простить, потому что я маленький, не много видел света и могу заблуждаться; затем, прошу прощения, потому что, может, ты иначе зовёшься и какую высшую должность опекаешь..
– Нет, нет, я простой воробей! – сказала птица, садясь на край гнезда. – Чего хочешь, человечек?
– Совета…
Воробей покивал головкой.
– А какого?
– Что мне делать с собой, мама у меня умерла, я совсем один, люди на меня не обращают внимания, некого спросить, что предпринять?
– А присмотрелся ли ты, что я делаю? – сказал воробей.
– Немного, издалека.
– Я также, – говорила птичка, щебеча, – был сиротой, мою мать убил ястреб, когда я ещё едва был птенцом; долго прятался в чаще, живя мушками и червячками, пока немного перьями не оброс… Посоветовал мне один воробей полететь куда-нибудь под крышу в город, где больше людей, разбросанной еды и братишек-воробьёв, но, к счастью, припомнил себе совет матери и остался в деревне…
– А я иду в городок, – сказал хлопчик.
– Вот этого я тебе не советовал бы, – шептала старая птаха.
– А это почему, если там жить будет легче?
– Сейчас тебе скажу, что мне старый опалённый воробей, который из города прилетел сюда, говорил, и почему я туда не направился… Там, в местечке, жизнь легче, но и опасность больше… Гнезда устроить негде, поджидает множество нахальных хлопцов и воробей отучается от работы, потому что пища лёгкая.
– А что это такое – работа? – спросил мальчик.
– Работа – это есть закон Того, что и воробья сотворил, и человека, всякому созданию данный.
– А почему я об этом не знаю?
– Потому что ещё маленький…
– Научи же меня тому, что ты называешь работой.
Воробей-самоучка начал кивать головкой, слегка провёл пару раз клювиком по крыльям и, казалось, думает.
– Как это тебе сказать? – проворковал он. – Как это тебе сказать? Всё работает на свете… работа – это жизнь, мой маленький; нужно что-то делать, чтобы жить, чтобы чему-то научиться, чтобы чего-то достичь, а чем больше кто работает, тем ему лучше…
– Следовательно, труд – это значит работа, – сказал мальчик. – Но работа мучает?
– Безделье мучает ещё хуже, – говорил воробей.
– Впрочем, что я буду делать, – спросил сирота, – когда ничего не умею.
– А ты посмотрел на меня? – отвечала птичка.
– О! Долго и внимательно: ты носил крошки и копался в песке.
– Ну! А если бы ты чего-нибудь насобирал и понёс, может, нашёлся бы кто-нибудь, кому это нужно, и дал бы тебе хлеба кусочек… этот хлеб был бы уже не выпрошенный, но заработанный, был бы твой собственный.
Мальчик задумался, и ему казалось, что для воробья, такого серого, невзрачного, птичка была очень мудрая… каким-то это ему неестественным увиделось. Затем что-то зашелестело над деревом, воробей как можно быстрей спрятался и мальчик увидел только маленького ястреба, который кружил, распластав крылья и, казалось, чего-то высматривает под собой.
Вдруг он упал как пуля и живо затрепыхался. Ребёнок ради интереса побежал, спугнул птицу и увидел окровавленную птицу, умирающего в борозде…
Жаль ему его сделалось.
Ещё он над ним стоял, когда сильный выстрел раздался в воздухе и ястреб упал на землю.
Он с ужасом огляделся и заметил неподалёку человека, бедно одетого, из ружья которого вылетал остаток дыма.
Человек этот имел дикое и угрюмое выражение, на устах его был смех боли, а мальчику казалось, что услышал выходящие из них слова:
– Довольно с тебя, зачем воробьёв душишь.
Интересуясь, что стало с ястребом, побежал мальчик на поле, куда видел его падающим. На краю овражка лежал раненый ястреб, из него текла кровь, но, когда мальчик приблизился к нему, он выставил клюв, поднял когти и собирался защищаться. Не знал, как к нему приступить, когда случайно, бросив взгляд на человека, который выстрелил, увидел новую вещь. Плечистый человек схватил за шею стрелка, одной рукой держал его за воротник, а другой рукой вырывал оружие; недавно ещё беспечный и смеющийся человек был бледный и испуганный. Сирота, уже не думая ни об умирающем ястребе, ни о раненом воробье, весь повернулся к людям, но те, схватившись, исчезли в лесу.
Так много как-то новых для него вещей вместе попало в его глаза и уши, что сирота присел на землю, чтобы это всё взвесить и понять. В поле было тихо, несколько туч пробегало по небу, заслоняя солнце, которое припекало. Разбирая всё, что с ним случилось, сирота сначала запомнил науку воробья, что нужно работать; потом из истории ястреба и людей вытянул для себя ту уверенность, что много есть и злых птиц, и нехороших существ на земле, которых нужно остерегаться. Его положение показалось ему страшным, но бояться и плакать ни к чему бы не пригодилось. Он снова увидел воробья, который вылетел из гнезда, носил соломинки и в песке копался.
– Тебе не страшно? – спросил он.
– А что поможет, если бы я боялся? – весело ответил воробей. – Своё делать нужно, а о беде не думать, потому что из неё выкрутится можно, пересидев тихо в гнезде. Уж когда-нибудь ястреб меня съест или человек застрелит, или большая сова заклюёт спящего ночью, но прежде чем это придёт, пою себе и тружусь.
– Какой это мудрый воробей! – вздохнул мальчик, завидуя ему. – Такой маленький, незаметный, а такой умный, надо его слушать.
Он встал тогда и пошёл, когда на ветке увидел сидящую птицу с хохолком, большого размера, которая чистила пёрышки. Вошедший уже в знакомство с птицами, он считал себя обязанным и этой поклониться, но птица не много на него обращала внимания; он решил, что это, должно быть, какой-то знатный господин, когда был такой невежливый.
Остановился, однако, против него, чтобы хорошо к нему присмотреться, а оттого, что ветер с кустов повевал к нему, почувствовал не очень приятный запах, который, казалось, исходит от птицы. Был это смердящий удод, но казался панским, с чубом на голове, и имел страшно гордую мину.
– День добрый, ваша милость! – сказал мальчик.
– Ты мог бы меня немного лучше назвать, чем ваша милость, – отпарировал удод, взъерошившись. – Что это? Ты меня считаешь за глупую сороку или за какого-нибудь мастера дятла, который целый день в деревьях долбит и нос себе портит? Всё-таки ты должен знать, что я удод и что мой прапрадет был удод, а моя прапрабабка происходила от самого красивого удода, какого свет видел.
– Я не знал о том, – ответил мальчик, – прошу прощения, но не соблаговолишь ли, вельможный удод…
– Ясно, ясно вельможный, – прервал удод.
– Но, стало быть, ясно, – молвил сирота, – не соблаговолишь ли мне показать дорогу в местечко, так как я, странствуя от куста до куста, потерял её и боюсь, чтобы меня ночь в поле не застала.
– Что, меня дорога интересуюет!? – крикнул удод. – Мне дорога везде, куда лететь хочу, а чернь с любым нищим, как ты, не люблю, будь здоров.
Сказав это, удод покрутил головой и полетел. Но когда уже собирался уходить возмущённый его невежливостью мальчик, что-то жёлтое мелькнуло перед его глазами и на ветке появилась белка с орешком в лапах. Это вовсе не была пора для орехов, мальчик сильно удивился, откуда она могла достать его.
Опасаясь, как бы не оскорбить белку, и желая обязательно узнать от неё секрет, паренёк снял шапку и начал:
– Ясно освящённая белка!
Та подняла головку, держа в лапках орешек, и весело засмеялась.
– Глупый хлопче, – сказала она, – почему ты меня так называешь?
– А! Потому что удод меня разуму научил, – ответил сирота, – обиделся, что я сначала его вашей милостью называл, я боялся оскорбить.
– А чего ты там хочешь?
– Я дорогу потерял и не знаю, что с собой делать. Но, моя благодетельница белка, научи ты меня, прошу, откуда ты взяла орешек, когда они ещё не созрели?
– Ещё прошлогодний, – сказала белка живо. – Видишь, я насобирала их много осенью, спрятала в дупле дерева и теперь по одному на обед съедаю. Если бы все, которые тогда могла унести, поедала, а слово чести тебе даю, были они очень вкусные, сейчас должна была бы подыхать с голоду. Сделай и ты так, когда себе чего-нибудь насобираешь, оставь немного на завтра.
Это была очень хорошая наука, и сиротка подумал, что, однако, многому от птиц и животных можно научиться, если к ним приблизиться.
– Поскольку вы такая умная и благоразумная, – сказал он, – вы не были бы так любезны немного показать мне дорогу до местечка?
– Я не могу, – отвечала белка, – потому что там люди могли бы меня поймать и в клетку посадить и приказать вечно нудно колесо крутить или позарились бы на мой хвост для ювелиров и художников… но неподалёку вижу сороку, которая привыкла летать везде и выкручиваться из беды. Это услужливое создание, притом лепетать любит; она тебе дорогу покажет и даже готова проводить, когда вежливо попросишь.
Действительно, неподалёку сидела на ветке сорока и кричала, декламируя какой-то баламутный стишок, сложенный против ворон старым вороном. Она ничуть не испугалась подходящего мальчика, декламировала дальше и сердечно смеялась.
– Моя благодетельница… – сказал мальчик, начиная.
– Но уж мне ты ничего не говори, – прервала сорока, – я всё знаю, и разговор с воробьём подслушала, и историю ястреба видела, и знаю, о чём ты болтал с белкой… Город недалеко за моим хвостом… утоптанная тропинка к нему ведёт… Впрочем, я там также имею свои дела и скоро полечу, тогда провожу тебя. Но что ты там будешь делать?
– Воробей мне говорил, что нужно работать…
– Воробей, хотя маленький и грязный, не глуп, – воскликнула госпожа в чёрном плащике. – Ну, что же ты будешь делать?
Мальчик подумал, под ним было полно белого красивого песку, сухого и чистого; пришло ему на ум, что в городе улицы и дворы им посыпают… начал, поэтому, сгребать белый песок в торебку, которая осталась ему единственным наследством от матери, а сорока, декламируя, присматривалась к нему.
Когда торебка была полна, сорока полетела перед ним, крича, пока из-за берёз и сосен не показались башни городка, костёлы и стены – и сирота перекрестился с каким-то страхом. который его охватил при этом виде… Но сорока была такой весёлой, что и ему легче на сердце сделалось, глядя на неё.
– Если она так болтает, спокойная о себе, почему бы я не мог довериться Господу Богу? – спросил он в душе.
И, надев шапочку набекрень, пошёл за сорокой в город.
А что с ним случилось, и каких учителей там заметил, это, может, вам в другой раз расскажу.
Дрезден 3 мая 1865 г.
II
Уже в самих городских воротах шум и крики были такими великими по сравнению с тишиной деревенских полей, что мальчик, не привыкший к толпе и сутолоке, остановился, потрясённый, думая, идти дальше или нет; ибо он сомневался, сумеет ли справиться. С любопытством он поглядел во все стороны – всё влекло глаза, множество было красивых и очень дивных вещей, толпы людей, невыносимый шум – все, казалось, спешат, бегут, летят, запыхавшись… В первые минуты мальчик думал, что попал на такую временную суматоху, которую мог бы переждать, и немного задержался – но вскоре убедился, что то, что казалось ему случайным, было обычным и повседневным.
Среди иных его удивило и то, что на него никто не смотрел, что его, правда, пихали и чуть не опрокинули, но живая душа не спросила, откуда шёл, зачем пришёл. Вскоре он также убедился, что тут самому надо справляться, на никого не надеясь, ничего не ждать от людей, а силой немного проталкиваться дальше. Остановившись только на минуту, он заметил, что, постепенно его задевая, прижали почти к канаве, потому что не сопротивлялся; но когда понемногу стал защищаться локтями, люди уступали.
Сорока, которая привела его в город, вероятно, имея свои дела, тут же исчезла – мальчик был один… Каким-то инстинктом его глаза больше обращались на животных, чем на людей, и тех как-то меньше понимал, с творениями же Божьими ребёнок-сирота был как с наилучшими кровными. Чувствовал, что отлично их поймёт и меньше бояться нужно.
Однако тут, в городе, даже животные выглядят иначе. Кроме сорок и грязных воробьёв, задымлённых, с отбитыми крыльями и выглядящими страшной блудливой кучей, не видно было свободного создания – но зато множество на людских услугах; тем хотя жилось не хуже и достаточно около них было прилично, но цивилизованных мальчик не так хорошо понимал. Даже откормленные свиньи, которых вели на бойню в город, были такими гордыми, тщеславными и, несомненно, занятыми какими-то важными делами, что с мальчиком разговаривать не хотели. Он заметил также отару овец, помеченных на боках красным цветом, но те бежали встревоженные и блеяли только: «Несчастье! Несчастье! Мы погибли! Спасите! Куда убежать?» Бедняги вполне утратили своё сознание.
Лошадям нужно было уступать, потому что летели как безумные, одетые в бубенцы, в ленты, в кружочки, даже в цветы, а так кокетливо друг с другом соперничали, такими были гордыми, такими уверенными в себе, словно этот городской свет принадлежал им.
Мальчик заметил, что в действительности лошади играли тут необычную роль, что были обласканные и откормленные, а некоторые из них гораздо пышней были одеты, чем многие бедные люди – он сделал про себя вывод, что для него стократ было бы лучше родиться конём – и вздохнул.
Потом почувствовал, что его что-то кольнуло в плечо.
Обернулся и увидел за собой страшную несчастную клячу, впряжённую в бочку. Этот конь стоял с опущенной головой и, казалось, улыбается мальчику, мысли которого, видимо, отгадал.
– Смотри же на меня, – сказал ему инвалид, который имел одну кривую ногу и ужасно на неё ковылял. – Был и я некогда фаворитом, ухоженным, бегуном, откормленным и обласканным; накрывали меня сёдлами, я ел из мраморного желоба, но когда сломал ногу и стал калекой, всё это кончилось. Милостивый пан хотел мне поначалу в голову выстрелить, кто-то меня выпросил, и продали, подлеченного, еврею, который воду возит.
– Дитя моё, – прибавил седой водовоз, – на свете ничего нет даром, на всё нужно работать, всё нужно добыть, а на милосердие и сердце рассчитывать меньше всего… Из милосердия стреляют в голову, чтобы им своим мучением не делал неприятности. Те, что сейчас ходят под сёдлами, окончат, как я, в еврейском возе, если их болезни с этого света в лучший не отправят…
Мальчик внимательно слушал, когда тут же в нескольких шагах, заметил нагруженную телегу, запряжённую маленьким осликом. Владелец телеги и ослика безжалостно бил палкой длинноухого, который, не обращая на это внимания, стоял на месте и, казалось, только немного скучает от этого невежливого налегания на спину.
– Чего он так тебя лупит? – спросил мальчик осла.
– Потому что глупец, – отвечал важно осёл, – но у меня шкура твёрдая и я учился философии в Падуе; совсем не обращаю на это внимания. Не потяну тяжесть через силу. Парень измучается, или груз облегчит, или другого допряжёт. Заметь только, как терпеливо переношу, думая о чём-то другом. Ничего мне не сделает… Бока будут немного болеть, но не разорвусь… Если бы я только потерял терпение, тогда должен был бы потащиться и сдохнуть. Я принадлежу к стоикам… человек измучается, а я поставлю на своём – ещё его, может, якобы случайно, угощу задними ногами, когда приблизится… Я немного голоден, – добавил он, – и рад бы вернуться домой, но тяжесть сверх силы… предпочитаю претерпеть…
Говоря это, осёл зевнул, обернулся; хлоп, ругаясь, сломав палку, начал сам толкать воз – поехали.
– В конце концов, – сказал мальчик в душе, – здесь нужно думать о себе самому и иметь твёрдую шкуру.
Эту мораль вытянув из осла, припомнил себе, что имеет песок в сумке, который принёс в город; но как тут его продать? Есть также начинало хотеться.
Затем другой, почти такой же потрёпанный, как он, мальчик, обошёл его, восклицая: «Белый песок, белый песок!» Наш путешественник держал свою торебку, молчащий. Затем приблизилась женщина к первому торговцу песком и начала торговаться. Он получил за свою торебку пол-золотого.
Узнав цены, и он также начал восклицать: «Белый песок!» Но никто както на его возглас внимая не обращал. Прошёл, поэтому, немного дальше. Немолодая женщина с ребёнком на руках заступила ему дорогу и милосердно поглядела на него.
– Что хочешь за этот песок? – спросила она.
– Я видел, – сказал хлопец боязливо, – что за меньший мешочек заплатили пол-золотого.
– А ты откуда? Или не знаешь цены?
– Нет, я только первый раз приплёлся в город.
– Кто же ты?
– Сирота…
Женщина прижала к груди ребёнка, которого держала на руках, в её глазах заискрились слёзы, достала из кармана две десятки и велела высыпать песок в сени усадьбы. Мальчик сделал это очень ловко, сложил кучки и поцеловал ей руку.
– Смотри же, – сказала женщина, – не испорть гроша… благословит тебя Бог, бедолага.
Найдя немного сострадания в человеческом сердце, мальчик удивился, но подумал, что на этом свете у людей как-то лучше должно быть, чем у животных. Тогда смелей он вошёл в сени. На пороге заметил мальчика, который только что продавал песок, и с любопытством смотрел на него. Деревенский мальчик имел страшную мину сорви-головы, был похож на оборванного и задымлённого городского воробья.
– А что ты заработал? Гм? Две десятки? – спросил его мальчик. – Глупая баба, тебе так дорого заплатили, потому что ты имеешь бедное выражение лица. Хочешь со мной поиграть?
– Как это – поиграть?
– У меня также две десятки, испробуем счастье, бросим вверх. Если десятка упадёт на литеры, то твоя; если на орла, то моя. Будешь иметь четыре десятки заместо одной.
– А если проиграю? – сказал мальчик.
– Тогда не будешь иметь ни одной, – смеясь, ответил другой.
– А на что же я буду играть и также твою отобрать?
Затем, когда разговаривали, худая собачка задела за ногу нашего беднягу. Тот обернулся, а пёс ему проговорил: «Не играй, а иди дальше; что заработал, то твоё, а что выиграл бы, было бы вырвано у другого».
– Не хочу играть, – сказал, осторожно пряча десятку, послушав собаку, мальчик.
– А куда ты идёшь? – спросил первый.
– Иду искать пристанища…
– Что же это, ты не имеешь никого?
– Никого.
– Тогда ты нездешний?
– Нет.
– А, тысяча чертей, – закричал мальчик, – а что, ты тут будешь песок продавать на чужом мусоре, приблуда какой-то… дам я тебе тут!
И устремился на него с кулаками.
Счастьем, хозяйка, что купила песок, прибежала на помощь, но его защитила только от синяка, потому что, вырвав два десятка, нападающий скрылся и, верно, счастливо бы ушёл, если бы тот старый пёс не схватил его за сермяжку. Тут же на шум подбежали и люди. Мальчик, припомнив науку, что самому себя нужно спасать, поспешил за собакой, придушил злодея и вырвал у него десятки. Поскольку уже собрались люди, а женщина, что смотрела на представление, подходила, и молодой вор не имел надежды обороняться ложью, бросив все вместе десятки, от страха убежал.
Так тогда потеря была не только возвращена, но пятнадцать грошей чистого зароботка. Мальчик, однако, сообразил, что их также не должен был себе присваивать.
Начали его люди и эта женщина с ребёнком расспрашивать, как было. Он открыто рассказал, что его встретило, добавляя, что эти пятнадцать чужих грошей брать не думает; только не знает, что с ними делать, кому их отдать.
Всем это показалось очень честным, особенно женщине, которая поласкала его по голове и сказала:
– Хорошо начинаешь, тогда тебя Господь Бог благословит. Я знаю мать того сорванца Франка, оставь деньги у меня, получит он за свои проказы хорошего ремня. А раз ты такой честный, – добавила она, – запомни же этот дом; если тебе будет холодно и голодно, приходи сюда погреться и подкрепиться.
На том первая городская авантюра закончилась.
Мальчик медленно, но осторожно пошёл дальше. Огляделся – старый пёс шёл за ним и вилял хвостом. Поначалу он шёл за ним вдалеке, потом ближе, наконец, начал его обгонять и заглядывать ему в глаза.
– Чего ты от меня хочешь? – спросил мальчик.
– Ну ничего… я тебя провожаю, – отвечал пёс, – я был некогда другом твоего отца.
– Ты знал его?
– О! О! Долгие лета мы ходили вместе – но это грустная история… собака привязывается… жаль мне тебя… бедняга сирота… пойду с тобой.
Этот товарищ очень понравился мальчику, который был ему рад и приласкал его. Пёс полизал ему руку и, прыгая, побежал впереди.
Так, идя улицей, пришли они к ларькам. И пёс, и мальчик остановились – столько было соблазнов для голодных. Белые булки, позолоченные сверху, румяные рогалики, ароматные колбаски, белые сырки. Подойдя к самым первым продавцам, ребёнок думал, что купить. Пёс смотрел ему в глаза…
– Ты голоден? – спросил он.
– Очень.
– Не имеешь много денег?
– Нет, две десятки.
– Купи что дешевле, – прибавил опытный пёс, – накормится человек лишь бы чем, чтобы жил; а если съешь грош на сладостях, потом голод хуже тревожит, когда ничего нет в кармане.
– И ты голодный? – спросил ребёнок.
– Ну, я к этому привык, – вздохнул старый, – не обращай на меня внимания; я в водосточных трубах живу.
Поласкав собаку, купил он тогда булку и кусочек сыра к ней, чтобы не была слишком сухой; потом вдвоём с псом пошли под балюстраду сада на камень, и мальчик приступил к еде. Пёс не настаивал и думал о чём-то другом, но было видно, что слюна стекала по губам. Ребёнок сжалился над ним и дал ему хлеба. Старичок немного церемонился, сперва не хотел прикоснуться, но голод, всемогущий голод его изменил; съел шкурку и полизал руку.
– Теперь ты, небось, устал, ложись и спи, – сказал пёс, – я буду бдить над тобой.
Удобно и спокойно под этой стражей хлопчик хорошо уснул и проспал так, сам не зная, сколько часов. Проснулся только, когда ему восходящее солнце припекло веки. Его бдительный товарищ уже сидел, зевая и вытягиваясь, и приветствовал его, виляя хвостом и полизывая ему руку.
– А что, – сказал он, – пора за работу.
– За работу, – спросил мальчик, – но у меня ещё есть на сегодня, на что купить хлеб мне и тебе.
– Это правда, – отвечала старая дворняга, – но этого недостаточно; поздно будет работать, когда будет докучать голод… Нужно иметь запас.
Мальчик вспомнил белку и живо встал.
– Что же тут делать? Пожалуй, снова песок принесу! – подумал он. – Ибо на что я кому пригожусь.
И собрался уже идти, когда вчерашняя женщина увидела его и позвала. Шла она на рынок. Велела ему нести за собой корзинки; одну из них взял пёс.
– Будет у вас завтрак, – сказала она, – и у тебя, и у твоего приятеля.
Дворняга, которая поняла, завиляла хвостом.
Таким образом, они заработали себе на бесплатную еду, а женщина ещё мальчика, как честного, рекомендовала старой торговке, которая дала ему больше работы и обещала дать целый злотой. Поэтому шло как по маслу.
Около полудня имел мальчик минуту отдыха и сел под садовую балюстраду.
В саду ходил павлин с роскрытым хвостом и чрезмерно собой гордился. Мальчик, который никогда подобную птаху не видел, очень ей дивился и едва не поклонился, но пёс его остановил.
– Да брось, – сказал он, – это пустой и надутый господин, которого никто не любит; дуться только умеет – голос имеет отвратительный, а держат его только из необычности, потому что ни к чему непригоден. Едва ли перо из его хвоста кто-нибудь воткнёт. Если уж хочешь подивиться птицам, почему не присмотришься вот к этой ласточке, которая лепит там гнёздышко под крышей.
В самом деле, мальчик заметил работящую птицу, которая неустанно суетилась, нося в клюве немного соломы и мокрой земли, из которой очень правильно лепила гнездо.
– Кто её этому научил? – подумал он в духе.
Ласточка, словно отгадала его мысль, подлетела ближе и села, отдыхая.
– Моя ты милая, – спросил мальчик, – кто тебе этому мастерству научил?
– Сначала Господь Бог, – сказала она, – а потом родители, мама и папа; мы видели, как они немного подпорченное гнездо поправляли… пришла и нам очередь работать…
Ласточка посмотрела, замахала крыльями и крикнула. Увидела в эти минуты негодяя воробья, который, пользуясь её отсутствием, напал на ещё недоконченное гнездо и силой расположился в нём.
– О, я несчастная! – воскликнула она. – Сёстры и братья, спасайте!
Едва она это сказала, собралась тьма ласточек, и все, неся немного грязи, в мгновение ока замуровали злодея в гнезде, который, напрасно пытаясь выбраться, задохнулся в нём и сдох.
Мальчик начал думать… Что тут в этом всём было науки для него… Ласточка навела его на ту дорогу, что нужно было учиться от людей какому-то ремеслу, потом судьба воробья ему поведала, что злым никогда не везёт.
– Это очень мудрые создания! – говорил себе в душе мальчик. – А всё-таки я не раз слышал, что люди прозывали: «Это зверь, это быдло», но, видать, к ним никто вблизи не присматривался. Такие маленькие, а такие мудрые.
Пёс как бы угадал, хоть только смотрел ему в глаза.
– Посмотри-ка ещё за забор, – сказал он, – а там также что-то интересное увидишь.
За забором стояли ульи, около них, страх… крутились и вились пчёлы. Одни носили мёд, другие воск, те влетали, те вылетали; деятельность была неизмерная: движение, шум, как обычно в улье. Поскольку ульи были стеклянные, мальчик мог хорошо присмотреться к работе ещё более искусной, чем гнездо ласточки, восковым каморкам, поставленным одна в другую, как по циркулю, и золотому мёду, который в них светился.
– Ещё человек у них много для себя отберёт, – сказал пёс, – а на зиму будет достаточно; такие это трудолюбивые создания.
– Что же, если бы человек со своим умом хотел так работать, как они! – сказал себе мальчик.
Он встал, и великая радость проникла в его сердце.
– Пойдём, дворняга, справимся!
И пошли…
1866
Профессор Милчек
историйка
Мало кому известная личность. Боже мой! Даже не очень старые вещи так легко забываются; полугодовая могила – это уже часто загадка, а из множества живущих через пятьдесят лет – горстка праха и пустая фамилия, если и она останется. Так это, возможно, стало с этим достойным профессором Милчеком. Это имя не было его полинным именем, окрестили его им студенты. Мы на университетских лавках звали его паном Дамианом Пальцевичем. Уже тогда, когда мы вместе с ним ходили на лекции Капелло и Муниха, Пальцевич тайно брался за перо, но это было таинственное состояние, секрет, который только случайно кому-то удалось подхватить. Стыдился этого и отпирался. Я был с ним ближе, поэтому после долгих настаиваний признался мне наконец, что действительно задумывает писать.
– Видишь ли, – сказал он мне, – кроме пана Иоахима и нескольких, что рыщут по архивам, для истории нет никого. А то, что у нас зовётся историей, есть ли она в действительности? Материал это сырой, в который никто не вдохнул оживляющего духа. Поэтому я потихоньку мыслю… сначала собрать этого материала как можно больше, а потом… потом сжиться с ним, воплотиться, переварить его в себе – только тогда писать историю! А! Чтобы ты знал, – добавил он с энтузиазмом, – как мне уже теперь эта моя книга истории выдаётся чудесно прекрасной! Такой она, наверно, никогда не будет, но о ней мечтаю, как о любовнице.
После этого признания, которое я много сократил, мы не говорили уже с ним больше; наши судьбы вскоре разделились, я с отцом выехал на деревню, он исчез с моих глаз. Через несколько лет, долгих и богатых событиями, проезжая через С., я случайно узнал, что Дамиан является профессором истории в здешней гимназии. Как же не зайти, не поздороваться с давним товарищем, не пожать руки, не вспомнить тяжких лет испытаний, вместе пепережитых! Я побежал к нему, он занимал пару покоев в школьном здании, полных книг и бумаг. Мы со слезами обнялись.
– Что поделываешь? Что сталось с твоей историей? – спросил я после первых приветствий. – Забросил её?
– А! Упаси Боже! – воскликнул он. – Сижу, глубже в неё погружённый, чем кто-либо. Я выбрал чудесную эпоху, влюбился в неё, работаю над ней и самыми прекрасными днями моей жизни я обязан ей. Представь себе это откапывание из-под руин погребённой в них жизни и сокровищ. Каждую минуту новое открытие, блеск… чудо! встают из мёртвых фигуры… вижу их каждый день отчётливей, лица их румянятся, уста говорят… учусь понимать их речь. Эта эпоха – царствование Сигизмунда Августа. Представь себе фон этого XVI века: возрождение искусства, брожение умов, пробуждение христианства, в окостенелых замороженных путах… это фон европейской культуры, на котором выступают такие характеры, как Сигизмунд Старый, Бона, Кмиты, Ожеховцы… религиозные новаторы, такие женщины, как Барбара и Ягеллонка… такой двор!!! Что это за картина! А какой обильный материал!..
– Уже его отобрал? – спросил я.
– А! Нет! Ещё этого не могу поведать, ещё мне этого недостаточно, ещё тысячи томов остаётся для просмотра, для нудного изучения, но я на дороге… кучи заметок лежат…
– А значит, работа протянется ещё долго?
– Разве я знаю? У меня при ней года проходят, как молнии. Я начал уже редакцию нескольких глав и должен был бросить, убедившись, что о законодательстве, которое является здесь важным моментом, я не подготовлен говорить компетентно. Изучаю право и современное европейское законодательство.
Мы говорили потом о чём-то другом. Вечером профессор показывал мне исписанные целиком книги… ценные исследования, но отрывочные. Мы радовались с ним вместе и, желая ему удачи, я расстался с ним на следующее утро.
Было это, если не ошибаюсь, около 1839 года. Я переселился на Волынь и профессор Дамиан со своей историей ушёл с моих глаз… Снова шибко пробежало несколько лет… для меня – при наполовину фермерской, наполовину литературной работе… а для мира – в переработке понятий, современных идей и истории всё в более новый крой…
Однажды утром я заметил почтовую бричку, подъезжающую к крыльцу; какого же было моё удивление, когда я, войдя, узнал (не сразу) в бледном и уставшем лице путешественника давнего товарища.
– Что ты тут делаешь и какой счастливый случай? – воскликнул я, ведя его в свою пристройку, к моим сплетённым книжкам. Не быстро, однако, я мог вытянуть из Дамиана, что он ехал… пользуясь вакациями, в библиотеку, в которой надеялся закончить некое исследование.
– А что же делается с историей? – подхватил я.
– А! С историей! – сказал он, будто бы пристыженный. – Грустная эта моя история. Представь себе, я уже завершил половину работы… но в это время осмотрелся, что много понятий и условий изменилось… Выросли требования. Я должен мыслить над философским фзглядом на эпоху, будующим в гармонии с сегодняшними требованиями науки… иначе труд будет пестреть давнишними теориями… – и добавил, – теперь историю иначе пишут, я больше должен изучить литературу, обычаи, культуру народа… это необходимо. То, что я делал, было как бы наброском, колорит отсутствует, колорит добыть должно.
Мы говорили об этом долго. Дамиан вздохнул.
– Есть это работа Пенелопы. Что сегодня сделается, завтра нужно переделать, переиначить… заполнить, вчерашний труд ломая. Это что-то как тот дворец Станислава Августа на Уядзе, что миллионы стоил, каждый год в нём стены ломали и в итоге король вынужден был отдать его городу на казармы.
Жаль мне было беднягу; преждевременно начинал седеть. Несмотря на потерянные годы, сам он сохранил давний запал для своего идеала истории.
– А! Эти жертвы, – говорил он, – это ничего, лишь бы дожить до того, чтобы увидеть доконченной мою работу и такую, такую, какую я её в душе моей ношу! Полная, великая, красивая, ценная для учёных, понятная для простачков, занимательная, как роман, разогревающая, как поэзия… правдивая, как страница из жизни.
Два дня я задерживал у себя профессора, тем в итоге, что нашёл ему пару ненапечатанных уставов Сигизмунда Августа, касающихся экономического управления и королевских лесов. Наконец мы нежно попрощались на пороге, говоря тихо:
– Кто знает, встретимся ли мы ещё в жизни!
Но – хорошая эта пословица – гора с горой… неожиданно выпало путешествие в Литву, и однажды вечером снова очутился в С. В голову мне пришёл Дамиан и его история. Улицей шёл студент, я спросил его о профессоре. Он улыбнулся.
– А! Вы спрашиваете о профессоре Милчеке?
– Как это? Почему Милчеке?
– Потому что мы его тут так называем, и все его так называют.
– Понимаю, – сказал я, улыбаясь, – профессор Дамиан говорить не любит!
– Да! И это великий позор, – добавил тихо молодой человек, – потому что мог бы поведать много гораздо более разумных вещей, чем те, что слов не жалеют. Но он – весь в себе. Более скромного на свете нет… Пугает его каждый, что громко и смело выскажет своё мнение, немедленно отступает и молчит… поэтому его Милчеком прозвали.
Он жил ещё на старой своей квартире; в промежутке этих нескольких лет он женился, а молодая жена и дети его и книжки запихнули в один тесный покоик. Это ещё бедней выглядело, чем когда бы то ни было, но Дамиан был, хоть поседел, таким горячо сердечным, как раньше. Среди книжных стопок, которые буквально сверху донизу устилали комнатку и полы, и едва оставили место для двух стульев, мы сели снова беседовать. Детский плач доходил до нас из другого покоя и визгливый голос жены.
– Женился я, как видишь, – сказал он. – Я очень счастлив. Дети такие ладные и жена такая добрая, и хотя великая бедность… но много ли нужно человеку!
– Ну, а история? Пошла в угол? – спросил я.
– А! Упаси Боже! Что же ты думаешь! Идеал моей жизни! Разве я мог бы её забросить!
– Значит, она должна быть законченной, – отозвался я, – двадцать лет работаешь над ней, это большой отрезок времени.
– Двадцать лет! Но что это для такой задачи! – воскликнул, запаляясь Дамиан. – Знаешь ли ты, что это есть история эпохи, такая, какой я её понимаю? Страна не была всё-таки без отношений с жизнью Европы… отражалось на её жизни, что где-нибудь отыгрывалось, историю всех стран надлежит изучить, чтобы понять её положение и связи… Представь себе… история Германии, Австрии, Молдавии и Венгрии, всех соседних держав. Потом я измерил, что каждая самая маленькая собственная фигура, выступающая на сцене, должна быть ясно охарактеризована, поэтому, история семей… биографии, изображения… Кто работает над таким реликварием из мозайки, должен кропотливо отбирать штучки.
– Сие правда, – сказал я, – но когда тому конец будет?
– И когда же? – вздохнул он. – Конец должен быть, приближаюсь к нему… вступление написал… Отредактировал его шесть раз, обилие мысли сделало его слишком обширным, я должен был сократить… хотя выдалось мне слишком обрезанным, растянул его немного… добавил объясняющие примечания. За год прочитал и заметил, что ничего. Не было художественной целости, оно имело форму агломерата, целость должна выглядеть ограничено. Историку необходимы, как поэту, минуты вдохновения, а тут у меня дети плачут. Представь себе, в минуты, когда я с запалом описывал ту сцену, когда Сигизмунд Август приезжает из Вильна, а Бона выходит рядом с гробом мужа встать на колени у ног сына, как короля… мой Стефанек упал и расшиб себе голову… Я бросил перо… побежал его обнять, уже потом никогда не мог прерванной темы подхватить. Но это пустяки – счастливая минута найдётся… между тем, исследователи открывают всё новый материал… не могу всё же сказать, как Верто: Mon siege est fait[24], должен его включить в мою работу, а тут мне часто любая глупая дата все мои концепции и объяснение случаев отбрасывает! Раздумываю заново!
– Дорогой профессор… я люблю твою настойчивость, но позволь тебе сказать: если бы ты не хотел обязательно закончить архидело, мы уже имели хотя бы дело, так же мы не имеем ничего.
– Подождите! – прервал Дамиан. – Невозможно, чтобы я вам дал такой суровый и неточный подбор и отсебячину, как честный, достойный и любимый Голубёвский. Я, – говорил он, запаляясь, – я хочу создать оконченную картину эпохи, не эпизод без связи, вырванный и непонятный… хочу, чтобы моя история отражала прошлое, которого есть результатом, будущее, которого была семенем… Хочу быть историком, не компилятором и хроникёром. Мы не имеем историка во всём значении этого слова, а я должен им быть.
– А! Мой дорогой! – воскликнул я, обнимая его. – Будь им! Но скорее, потому что я не дождусь твоего Сигизмунда Августа, а мне очень срочно.
– Ну, между нами говоря, – начал Милчек, – уже теперь мне не много остаётся. Очень обильные примечания в порядке, главные взгляды написаны… несколько маленьких пробелов… а потом возьмусь за редакцию, будучи уже паном предмета. Я должен ещё совершить несколько поездок… В Петербург обязательно… Рукописей, метрик и библиотеки императорской ничто не заменит. В метриках есть бесценные подробности, нужно их только уметь добывать из кучи слов и наводнения формул… саму эссенцию.
Мы проболтали весь вечер, но уже не в комнатке профессора, потому что пани прислала няньку предостеречь нас, что мы говорим слишком громко, а дети рядом не могут заснуть. Поэтому мы вышли на старую каштановую улицу и блуждали по ней до полуночи.
Утром я должен был ехать дальше; а через несколько лет я сменил место жительства и оказался на берегах Вислы. Спустя пару месяцев после заселения меня сильно удивил один из виленских коллег, когда, вспоминая о давних товарищах, он упомянул, что Милчек в Варшаве.
– Что же он тут делает?
– Получил пенсию, а так как ему тут работать удобней, переехал сюда с семьёй.
На следующий день я был у дверей достойного Дамиана, которого я нашёл на отдалённой улице, в маленьком домике, построенном в тыльной части города в очень невзрачной квартире. Одна комната, выделенная профессору на его отдельное использование, представляла ту же хаотичную картину, что тот покоик на С. На посеревшей софе в шлафроке… лысый и седой, сидел достойный Дамиан, заслонившись фолиантом, в котором по причине близорукости утонул с носом, услышав походку, не отрываясь от чтения, спросил, кто там. Я приблизился, он не сразу меня узнал, и то только по голосу. Глаза ему очень плохо служили.
– Знаешь, – отозвался он, – я уже давно собирался быть у тебя… это даже до Мокотовской недалеко, но я так теперь занят.
– Ну что же? Всегда Сигизмунд Август? – спросил я.
– А что же иное могло быть? – ответил он медленно. – Я приближаюсь к концу. Но знаешь, я скажу тебе, читаю теперь, что себе отметил и написал двадцать лет назад, нахожу это таким лихорадочным, импетичным, слишком смелым, что, чёрт подери, должен заново материал изучать, дабы проверить эти сангвиничные идеи. Так история писаться не должна. Как раз, остыв теперь, только сейчас чувствую себя расположенным создать что-то достойное этого имени. Я слишком много посвятил колориту, впал в мелкую анекдотичность, мне казалось, что она лучше изобразит век, а эти великие фрашки линии исторической композиции прерывают и заслоняют. Я должен всё переделать… Да, да – Ars longa, vita brevis[25]. Однако же, дорогой мой, – завершил он, – этой истории я обязан, что моя жизнь пролетела, как мгновение ока… дети выросли, я состарился и не заметил.
– Но для мне очень важна история, – прервал я.
– И для меня ничего более важного. Я имею её полностью в голове! Тут – он указал на грудь, – я её чувствую, вижу и читаю, радуюсь… и всё-таки должен это себе признать, будет разработана добросовестно, многосторонне. Работаю над ней, сам научился очень многому, неоплаченным удовольствиям я обязан той счастливой мысли посвятить себя такой прекрасной исторической эпохе.
– Тогда я имею надежды, – подхватил я, – что её вскоре увижу, и ты разрешишь мне, что сегодня объявление оглашу в газете.
– А! Помилосердствуй! Этого не делай, человече, ты погубил бы меня! Никаких обещаний. Я жду только, чтобы Дзялынский закончил издавать «Томицианы», потому что и отсюда ещё какой-то мне лучик светит, потом сяду за окончательную редакцию… а так как имею всё в голове готовое, молнией это пойдёт. Знаешь, – добавил он, – эти последние минуты, эта смерть, эта боль сердца последнего из Ягеллонов, сходящего без потомства и ищущего лекаря в соколах… эти Гижанки и разные женские профили, эта сирота Анна, стареющая над гербарием и лекарствами для бедных… эта толпа жадных придворных вокруг, это ограбление из-под гроба… что это за картины! Дай это Макалаю, увидишь, что он с этим сделает. Но я, – добавил, запаляясь, старик, – я буду этим Макалаем для Августа…
– Дорогой профессор, у меня аж слюнки потекли, ради Бога, не дай же нам этого ждать.
– Но скажу тебе: уже берусь… пусть только «Томицианы» выйдут, вещь готовая, всего хватает. Анексу я велел переписывать, это не больше, как шестьсот аркушей, потому что нужно быть точным и поставить перед глазами читателей документы, чтобы могли из них сделать своё собственное суждение. В экономике моей истории, – говорил он далее, – происходят ещё маленькие трудности. Есть случаи, которые, чтобы представить в целости, я должен заключить в один раздел, не следуя точно хронологии, это меня беспокоит… читатель будет заблуждаться. К некоторым предметам я должен возвращаться и они будут повторяться. А тут! Тут снова форма! Потому что ты признаешь, что труд, выполненный плохо, когда формы нет, это куча камней только. Нужно быть художником и архитектором, без этого – ничего! Правда?
Я молчал, он продолжал дальше:
– Заранее также нужно прогнозировать, что скажет наша критика! Если моя история слишком оденется литературным халатом, скажут, что роман сотворил, хоть слова не смыслю, если напишу сухо, никто не прочитает. Для одних это будет слишком мудрым, для других слишком лёгким… конец концов Бартошевич сделает вывод, что материалы ещё недостаточно предварительно обтёсаны, чтобы преждевременно строить. Когда подумаю, кто труд тридцати лет будет судить… в газетах, в журналах, кто его оценит, кто его внимательно прочитает, руки мои опускаются. Вот студент немецкой академии, открыв одну ошибочную дату в печати, обвинит меня в неточности… а фильетонист осудит план содержания и глав и… если первая критика будет хоть глупой, а смелой и острой, дело пропало; впечатление останется. Притом и неизвестное имя, а тут столько достойных!..
Он опустил голову.
– Но, несмотря на это… нужно закончить.
Через год после этой беседы я шёл за гробом бывшего товарища на Повазки, думая по дороге, что стало с той историей, сочиняемой тридцать с лишним лет.
Нужно было дать почтенной вдове отойти от горя. Само собой через шесть месяцев я несмело постучал в её двери.
Она занимала ту же самую квартиру. Комната Милчка была закрытой, приняла меня в маленькой гостиной, загромождённой и бедной, кроили для детей траурные платья. Я начал с соболезнования.
– А, да, – отозвалась она, плача, – достойный мой Дамиан покоится, добрый, благородный был человек. Но, пане, как же он нас оставил! Этой своей несчастной истории пожертвовал всё.
– Что же с ней сталось?
– Книги я евреям продала, – проговорила она, – потому что это был хлам, не много стоил. Только такой сумасшедший человек, как этот пан Дамиан, мог привязывать к ним какую-то цену.
– А рукописи? – добавил я с испугом.
– Во время погребения ещё часть сгорела, – равнодушно ответила профессорова, – а так как этот мусор занимал много места, и остальную часть я бросила в печь, потому что уже и смотреть не могла на эти бумажки, ради которых мы пали жертвой.
Таков был конец труда моего профессора. Замолвите за него вечное успокоение! В одной с ним могиле покоится Сигизмунд Август.
Дрезден, 15 августа 1872 г.
Слеза в небе
фантазия
Было это в небе.
А я уверен, что неба вы не знаете: философы вам его выкручивают небылицей, сердце предчувствует или припоминает, мысль, набранными с земли красками рисует и позолачивает; но кто же нам расскажет, что такое небо? Небо, по которому тоскуют все, живя на земле, которого ожидают умирающие и ищут за временной жизнью, небо для всех – мгла закрытая и недоступная.
Кто в нём был даже мыслью, мечтой или восторгом души, как сумеет его описать, как расскажет страшное видение, чудесное, непонятное, столькими словами и такими молитвами, где одно бы только и такое сильное нужно! Слишком много слов есть в языке, слишком мало мыслей в головах наших, уста немеют среди начатой речи и паучья нить мысли срывается.
Было это в небе.
Там царствует тишина и вечное спокойствие среди вечной жизни; неизменное бытие, бытие полное, бытие единое, в котором мерцает всё, что живёт! Ибо на небесах мы соединяемся с Богом: там целостность, там единение. Все цвета сбежались в один цвет негасимого света, все звуки – в один гармоничный напев, все линии – в наичудеснейшие формы, все мысли – в одну огромную мысль вечной жизни. Там каждый отдельно живёт во всех, все – в каждом; всякий дух есть в целом и есть друг другом, а мысль родится одна везде и обегает вокруг духов, как звук разливается по ветру.
Посередине небес царствует Бог.
Под ним разноцветными кругами светятся бессмертные духи; совершенство, до какого они дошли, даёт им место дальше либо ближе от божества, как вес тел земных задержит их либо погрузит в воду. Сам тут каждый себе судья, потому что, когда душа выйдет из тела, летит и становится там, куда несут её собственные крылья: чем более широкие и сильные крылья, тем выше место.
Ступенями, ступенями от очага темнеют круги духов, аж утонули в темноте, на дне которой лежат и стонут в бездне те, что жили только телом и убили в себе элемент бессмертия. Ближе других к Богу стоят ангелы непорочные; излучение его короны.
Среди торжественного молчания слышится медленная гармония, всегда одна, всё более разная, будущая как бы дыханием небесной жизни: эта песнь сложилась из тысячи, а звучит единогласно. Каждые уста добрасывают в неё слово, а в глубине всех таких разнообразных слов, как листья наших деревьев, трепещит одна мысль.
Что за обозрение миров с вышины небес! Миллионы огней бегают и мигают золотыми кругами: одни гаснут, появляются другие, делятся иные и золотыми косами пишут в синей темноте непостижимые для нас буквы – бренные тела. Всё же оттуда, с небес, эти буквы читаемы и понятны для бессмертных жителей, прижавшихся к Божьему лону. Тут и там блестит недвижимое солнце, вокруг которого движутся огненные ядра, медленно приближаясь к нему. Некоторые из них как бы из двух домов носили вести, ходят от солнца к солнцу, бросая за собой рассеянную гриву, полыхающую в эфирных глубинах. Там родится младенец – звёздочка, бледная, слабая, дрожащая поначалу, сосредотачивает в себе силы, зажигается, взлетает, кружится в молодом танце и гаснет среди бега – навеки. Остывшие конечности мирка разлетаются в бездонное пространство, рассыпаются в прах, в пыль, в лёгкие пары и – в ничто; дух, что их оживлял, улетел. Пониже только тёмные пропасти, где спят забытые духи. А кара им – их вечное одиночество, их исключение из единства; ибо на всю вечность останутся сами с собой, отторгнутые от большого целого. Их болезненные стоны не доходят до сферы живых духов и теснятся в безвоздушной пустоте.
А в небесах такое спокойствие, такое веселье! Смотрите, как ясен облик благословенных, как соединены руки, сердца, души тех, что жили не только себе и для себя, что не боялись ума, работы и страдания.
В сердце Отца отбивается каждая их мысль, а жизнью Его живут духи, под одеждами Предвечного отдыхающие. Все есть одним, каждый чувствует себя в целом, целое – в себе. И нет там таин, потому что мысль родится тут заметно, ощутимо, взлетает над сияющей головой, обегает все сферы и нет там изменения, потому что нет ничего другого и борьбы; любовь скрепляет золотой цепью каждое звено бессмертного целого.
Почему же взгляд ангелов из края спокойствия обращается так часто на чёрные земли и останавливается на мелких, населяющих её, существах? Потому что там внизу они видят попытки жизни, которые окончились победой, а сердце их скорбит, жалеет и в помощь братьям летит сердечной молитвой.
Один из безупречных духов смотрел на маленький мирок и смотрел на него долго, долго, пока не нахмурилось его чело, пока не затуманились глаза, пока слеза милосердия и вместе возмущения не упала с сапфирового глаза на облачение, белое, как снег. Та слеза выпустила из себя крылья и взлетела в высшие круги, падая у Божьего порога. Все духи заплакали той слезой возмущения и сожаления и, как собственного ребёнка, привели её.
А Отец пожал плечами, движущими миры, и отозвался голосом, что слился с гармонией миров:
– Слеза ужаса и возмущения, откуда же ты прилетела ко мне?
– Я родилась ниже, Отец, святое чувство – моя мать, а ангел – родитель мой.
Затем обратились лица и глаза духов к Отцу и сказали:
– Тяжкая есть жизнь на земле, тяжкие испытания тела, всё-таки Ты дал им силы, а не борются, дал им крылья, а не взлетают. И вот один снова упал навеки!
А Отец ответил:
– Не осуждайте, не возмущайтесь, потому что и это дети мои, даже в грехопадении.
– Ты дал им силы, дал им мощь, а не используют их, поэтому мы плачем и удивляемся! Может ли человек, чувстую щий себя бессмертным, продать себя за минуту, может ли считать за жизнь, что есть только ступенью, к ней ведущей? Мы заплакали, потому что видели падение, а понять его нам трудно!
– Не порицайте и не судите, потому что все одинаково являются моими детьми! Не осуждайте! – сказал голос сверху. – Тот, что упал, разве не может подняться? Или один из вас не упал бы также на месте человека?
– Нет! Нет! – пели духи. – Так как земная жизнь есть моментом и проходящим сном только.
Они замолчали, а тот, который первый заплакал, покраснел престыженный, поглядывая на Отца.
– Дитя, – сказал Бог, – осуждаешь, потому что не понимаешь падения, потому что не боролся никогда. Душа моя засияла в вас и вы не были в теле и на земле, только чувством, состраданием и взглядом. Не возмущайся, ибо грех стирает покаяние и за ним идёт отпущение греха.
– Нет! Нет! Отец, – сказал дух взглядом.
Наступило молчание, а слеза, лежащая у трона Бога, шелестела серебряными крыльями у подножья.
– Поэтому спустись, пытайся и живи! – сказал великий голос. – Дабы понял испытания жизни.
Едва слово это было брошено, круги расступились, и ангел начал скользить к земле. А за ним неотступным товарищем сбегал другой, посланный Божьим кивком, чтобы сопровождал его в паломничестве, чтобы присматривал за ним.
И снова небо спокойно засияло, а глаза всех духов опустились следить за изгнанным на время братом.
Златовласое дитя играло на зелёном газоне и, глубоко задумавшись, положило головку на руки матери.
– Ангелочек мой, что с тобой? – спросила женщина.
– Мамочка, – зазвучал милый голосок, – не знаю, что со мной, но беспокойство меня охватило, я хотел бы заснуть. Во сне вижу другую, лучшую жизнь и более светлый мир, к которому тянется моё сердце. Тут холодно, тут темно, тут пусто.
– При мне? – спросила мать.
– А даже при тебе.
– Дитя моё, дорогой ангелочек, это не мир снов и грёз, но мир жизни тебе улыбается, хочешь отлететь от меня и не вернуться больше?
– О нет! О нет, мамочка. Боюсь отдалиться от тебя и ничего не желаю, только мечтать и спать моими снами.
– Бедное дитя, – и мать заплакала, но не над ним – над собой.
Златовласый сынок закрыл веки, уснул и оказался в родном небе.
– Как тебе на земле? – спросили его духи, прижимая головки к нему.
– Грустно и тяжко, братья, потому что ещё молодая душа всё время к вам срывается. Такие там долгие минуты, когда наша вечность так коротка и быстра!
– И уже, уже твои крылья испачканы! – воскликнули испуганные братья.
– Так они у меня отяжелели! – вздохнул посланец. – Едва на них к вам долетел. Обогрейте меня, прошу, обогрейте.
Обняли его, овеяли тёплым дыханием небес ангелы, пока сон не прервался и снова на землю должен был вернуться. Проснулся, чтобы увидеть текущие ещё слёзы матери. Сердце тянулось его к ней, а тело отрывалось к бьющей молодыми обещаниями удовольствия природе. От слёз матери побежало дитя к благоухающим цветам, к играм, к подруге их черноокой.
И развлекались дети, а мать плакала.
И развлекались они очень долго, долго, пока, развлекаясь, не подросли и забава их не переменилась в жизнь.
Тогда стали друг против друга, взаимно притягиваемые непонятной силой, и говорили в восхищении: «Мы одно в двух».
В земной любви ангел почувствовал как бы отзвук и воспоминание небесной и своего первородного бытия, а слёзы матери по-прежнему текли, текли, пока широкой, как море, рекой не разделили двух влюблённых, руки которых напрасно вытягивались ещё друг к другу.
Посмотрел ангел на реку слёз и бросился в неё, проплыл её, страстный!
А когда уснул и проснулся в небе, духи его спросили, поглядывая на почерневшие от слёз крылья:
– Что случилось?
Он молчал, а голос сверху произнёс:
– Он первый раз упал в грехе, не осуждайте его, однако, не возмущайтесь, милости, сожаления для него!
Дух-изгнанник очутился снова на земле. Высохла широкая река слёз и зазеленела могила: матери не было в живых. Их двое осталось с рукой в руке, сами с собой, как хотели. Почему же им так себя мало, так много ещё не хватает? Почему почувствовал ангел, что ему не доставало полного счастья, о котором мечтал, на которое рассчитывал? Упал, и упал напрасно. Взгляд его подруги бегал по земле, когда его зрачки шли к небесам. Они не понимали друг друга и не были одним, как хотели. Два сердца бились в двух грудях, не одно. Он поднимал двойную тяжесть: своего запятнанного тела и своей подруги, которую только жалел.
Но жалость не спасает.
– Расстанемся!
Расстались, посмотрели, заплакали, ушли.
Ангел посмотрел на широкий мир, на людей и на их спутниц, его сердце начинало биться не раз, но глаза уже лучше видели будущее, не мечтал о любви и единении для счастья, потому что ни во что на земле не верил.
– Тут нет двух сердец, как одно! – воскликнул он с болью. – Соединимся не с одним ограниченным существом, но с душой святой.
И ладонью, обогретой ещё рукой женщины, взял в руки книгу.
Книги не научили его ничему, кроме того, что предчувствовал, и убили в нём врождённые знания и веру. Разум поднимал его к божеству, но вместе делал более заблуждающимся, чем животные. И засомневался, забывая своё прошлое, говоря в себе: «Я существо, посланец небес? Я дух? Не тело ли это думает и живёт во мне только одно? Не умру ли я с телом?»
Чем дальше он шёл в науке, тем ему становилось темней и непроходимей. Мгновениями, как огромной молнией, прояснялся мир, что угасал снова в сумерках.
Когда во сне залетел на небо, не узнал себя в нём, сомневался, было ли прошлое настоящим прошлым, не обманчивым сном только, не грезил ли, что был ангелом!
А братья духи спрашивали его напрасно, потому что им отвечал только стоном либо болезненным смехом сомнения и отчаяния.
Великим и безбрежным есть море науки и проплыть его безопасно только тот может, кто пустится в него со светом, что принёс с неба; те, что в себе его погасили, плывут, борясь с волнами, и никогда не увидят берега, пожалуй, их ветры на него выбросят. На сухом, каменистом песке долго лежал он, потерпевший кораблекрушение, прежде чем пришёл в себя и открыл глаза. Зелёные воды, бездонный океан обмывали ему ещё стопы: он бросил на них тоскливый взор и встал, ослабевший.
А в небесах голос изрёк:
– Упал в грехе второй раз! Не осуждайте падения.
Почему же сердце ангелов и сердце людское так всегда, так постоянно желает любви и слияния? Потому что это чувство говорит ему о небесной родине, оно выражает бессмертие, единение всего, слияние в целое. Она есть божественной в нас искоркой, по образу Отца созданной. Бой происходит из тела, любовь – из духа.
Раненый и разбитый ангел положил руку на сердце, поднял глаза в небо и спросил себя:
– Куда вернусь? Куда пойду?
Страж с неба, ему данный, вытянул пальцы и указал на толпу людей, к ним его возвращая.
– Да, пойду к ним, – воскликнул ангел, – и объединюсь с ними, полюблю их всех сердцем, страдающим прибавлю отваги, в слабых волью силу, упавших возьму на крылья и унесу наверх.
Итак, он пошёл.
Перед ним стояла тёмная толпа, воющая тысячами голосов и жалобами, стоном, отчаянием и насмешкой, аж сердце кровоточило.
– Поведайте мне вашу боль, исповедуйте ваши болезни, я вас вылечу.
Все бедные бросились к нему и начали кричать, каждый свою указывая рану, а он советовал, утешал, примирял, даже до пожертвования им жизни.
Затем начали его спрашивать одни:
– Почему нас не лечишь?
Другие спрашивали:
– Кто ты, чтобы неизлечимые и тысячи лет кровоточащие раны мог исцелять?
Иные бормотали:
– Это предатель, который нас соблазняет!
Остальные кричали:
– Убъём его, чтобы не смел глумиться над нами, продавать нас за ветку плюща. Разве это не насмешка – сметь обещать нам счастье?
А напротив шептали:
– Смотрите, разве это не дух темноты, не посланец ада? Закидаем его камнями! Закидаем!
Поднялся страшный ропот и шум; поднялись руки, камни, и пали на грудь ангела. Он хотел звать о помощи с небес, о разговоре с людьми, но не мог настолько повысить голос, чтобы его услышала страстная толпа.
У него потемнело в глазах, мокрых от слёз; из них брызнула кровь, гнев вырвался из груди и проклятие боли вырвалось из синих уст.
Проклятие! Проклятие! Самое страшное из человеческих падений, самое презренное из слов, самое большое из преступлений. Потому что не касается только дня сегодняшнего, но завтрашнего и всего будущего невидимым образом.
Дух-изгнанник отказался от человечества, оттолкнул его и, думая, что умрёт, и желая уже смерти, будто бы навеки, скользнул на холодную землю.
Толпа подняла его, адскими прыжками топча ему голову и грудь, и шалея; но он не почувствовал этого, не видел, так как спал и грезил давно.
Его тяжёлый дух собственным проклятием, кропотливо тянулся к небу.
Но не стало у него сил на преодоление порогов жизни, так как великим бременем отягощала его вина.
Бог смотрел и жалел падшего ангела, а все души-братья заплакали одной слезой сожаления над ним.
– В небеса! В небеса! На отдых меня примите! – кричал падший, болезненно стоня.
– Нет! – сказал мощный голос. – Небо есть самой любовью, а ты в него несёшь ненависть; небо есть спокойствием, а ты истерзанный и отчаяние несёшь на плечах; небо есть отдыхом и наградой, а ты не боролся с собой и не победил себя; спустись на землю и живи ещё.
Проснулся дух-изгнанник.
Глухая тишина, адская тишина царила вокруг, ничем не прерываемая; на небе вместо солнца какие-то кровавые и чёрные занавеси горели огни в пепельных долинах, а густой дым маячил лениво между небом и землёй. Толпы людей рядом с ним уже не было; он остался один, только проклятие камнем лежало на его груди.
Тяжело ему было встать на ноги, воздух душил; всё-таки он тащился и медленно дотянул до появляющегося слабо рассвета.
Он уже увидел перед собой снова людей, снова шум, страдание и боль. Но он уже не сказал, как раньше: «Лечить буду, помогать вам буду, буду вас поддерживать»; не взобрался на высоту, чтобы осыпать обещаниями голодных; пошёл работать в тишине, в укрытии, не рассчитывая на награду, скорее ожидая страданий.
А отовсюду толкали его, говоря: «Почему ты здесь? Иди прочь! Иди прочь от нас!»
И ушёл дух, но возвращался незамеченный, благословлял тех, что кидали в него камни.
Долгие лета прошли в работе без награды и в поту, пока одним утром, уставший, онемевший от окружающего его холода, сел ангел на камень и, усомнившись в себе, сказал в духе:
– Нужен ли я миру?
И тысячи издевательских голосов ему отвечали:
– Иди прочь, ты только есть помехой!
Другие тысячи говорили ему:
– Ты есть ссорой и суматохой: иди прочь!
Дух заплакал горькими слезами в душе своей и руки его опустились, и он отчаился в себе.
– О! Тяжка, – сказал он, – тяжка человеческая жизнь! На что же бы она пригодилась? Себе быть достаточными не можем и другим мы помочь не умеем, и зачем эта жизнь??
Говоря это, дух уснул и потащился к небесам, а был так слаб, что, бессознательный, изогнулся на их концах и упал.
Пот тёк струями с его лица, слёзы лили из глаз, кровь струилась из ран. Товарищ прижимал печальную голову и опалённые вытерал ему уста.
– Брат! Брат! – звал хор духов. – Ты снова упал, потому что сомнение есть падением, как проклятие, отчаяние – слабостью и грехом.
А голос Бога прогремел ещё сверху:
– Вернись ещё на землю!
– Вернуться! Как же вернуться, тяжко перемещаясь в полёте, – плакал бедный изганник. – Мои силы исчерпались, дух упал, а страдание пожрало меня, как труп пожирает вековая могила.
– Пусть этот поцелуй тебя оживит!
И через уста товарища поцелуй любви со всех небес силой влился в ангела-изгнанника. Его облик прояснился, сердце забилось снова, крылья поднялись; он улетел свободней.
А земля была в зарницах утреннего рассвета восходящего дня, в ясном утре, и всё на ней пело и радовалось, словно предчувствовало под временной оболочкой какую-то иную, вечную жизнь.
Ангел спустился к новым страданиям и работе.
Люди смотрели на прибывшего равнодушно и пропускали его с презрением. За их равнодушие он заплатил отважной насмешкой и шёл дальше.
Он шёл с другими, которые его приветствовали насмешкой, а он отдал им её прощением. Иные тёрлись об него с гневом: гнев откликнулся к ним любовью и сожалением.
Подкреплённый небесным поцелуем, ничем не выделялся, не разочаровывался, остановить себя не дал. Но медленно открылись также глаза у людей и через мгновение тишины один из них воскликнул:
– Он истинно нам много хорошего сделал, благословим его, благословим!
А за тем одним крикнула толпа, что его проклянала и била камнями:
– Благословим, честь тебе! Будь прославлен! Будь награждён нашим чувством за то, что страдал!
Бедный дух, поднятый этим криком земных братьев, вырос, набрался сил, но телесная гордость, гордость разрушительная забилась в то же время в его сердце. А сердце открылось широко для её приёма, приняло её, чтобы в нём жила, и начало биться живей на аплодисменты.
Дух сказал, движимый своим величием:
– Я равен Богу! Я великий, я наивысший!
Затем потемнело, всё вокруг погасло, толпа отступила от него и пошла венчать другого уже великого изганника небес, побивая камнями ими выбранного на осуждение. Ангел остался наедине со своим величием.
Но того ему не было достаточно для жизни, какой-то могильный холод его окружал, пожирал сам себя и голодным был, как в начале. Он начал искать на голове лавр и нашёл на ней только сухие ветки; искал воспоминания величия для поддержания души и нашёл только их высохшие и холодные кости.
Затем во сне он снова увидел небо, к которому подлететь уже не мог, потому что очень много пал гордостью, что его задерживала в холодных землях долины. Только один верный небесный товарищ стоял у его бока со слезой милосердия на глазах.
– Брат! Брат! – спросил грустными словами ангел. – Не унесёшь ли меня отсюда в мой край, на небеса?
– А! Я желал бы, но не подниму тебя. Твоё тело оковано, ты окаменел в гордости; обрати глаза выше и проси Отца.
Кто же произнесёт молитву падшему? Слушали его Бог и духи, а в продолжении уничижительной песни спадало бремя падений с небесного изгнанника. Наконец очень лениво отпустила его земная гордыня. А глас Божий говорил сверху:
– Не судите, да не судимы будете! Не возмущайтесь и не осуждайте, чтобы возмущения и осуждения не вызывать! Ты столько раз падал, сколько раз боролся, и, если бы не милосердие, ты бы не поднялся после падения.
Долго расходились слова Отца по пространству эфира и звучали тысячу лет в сердцах ангелов и написались золотыми буквами на крыльях духов, и небесный посланец отнёс их даже на нашу землю. Слеза возмущения, пролитая духом-изгнанником, была последней в благословенных кругах.
Варшава 1 декабря 1846 г.
Пан староста Каниовский
(из бумаг Глинки)
Мне выпало пережить те времена, когда можно было досыта насмотреться на людей, которые не были похожи на ординарных и имели фантазию или плохую, или хорошую, или свою. Позже уже появилась некая мода, к которой молодёжь склоняли с детства, чтобы кубок в кубок один к другому приставал, и стали считать то наибольшей порядочностью, когда кто-нибудь, как деньги, выходил из-под штемпеля по воспитанию… похоженький по взглядам моды.
В наши времена, хотя определённые правила никто не нарушал и уважал их, в иных делах считал себе за обязанность не лгать ни фигурой, ни ртом, ни париком, ни вставными зубами, ни мягкостью, если её не имел, ни мужеством, ежели Господь Бог его не дал. А уж могу смело сказать то, что людей особенных иные, быть может, времена столько не показали бы, как последние лета Речи Посполитой. Пусть мне кто-нибудь покажет такого пана, как князь наш, воевода Пане Коханку, как пан староста каниовский, как Гоздзкий, сводный брат княгини де Нассау, как Яблоновский, что иных я обойду, потому что более мелких не перечислить. В меньших селениях также было предостаточно таких более мелких оригиналов, что на малую мерку тем не уступали. Я на них насмотрелся! Но кто бы там о жуках писал, когда об орлов тёрся.
О пане старосте каниовском ходило много историй, не все правдивые, потому что на спину таких людей кладут часто то, что им не принадлежит; я тут только об одной авантюре расскажу, в которой коса попала на камень, как это обычно говорят, и этот известный кавалер ясно вельможный воеводиц Гоздзкий… столкнулся со старостой каниовским. Гоздзкому же счастье во всех его авантюрах служило дивно, потому что также был неустрашимого мужества, так его это подзадоривало, что готов был броситься на самого дьявола. А он имел в себе то, что, когда слышал о равном себе авантюристе, его неизмерно тянуло шишек ему набить или накликать несчастье. Всегда имел неспокойную натуру, а в отдыхе долго держаться не мог.
Гоздзкий уже в то время, на колоды продав за бесценок своё будущее наследство, вроде бы после Хумецкого, – поселился на Руси, приобретя местечко Ярычов. Жил тут временами, иногда во Львове, где вытворял авантюры, потому что был энергичный по натуре, особенно для красивых женщин, а с теми во Львове никогда не было трудно, и ходил, Бог изволит знать, верный ли, слух, что чести не теряли.
Пан Базилий Потоцкий, староста каниовский, именно тогда, согласно своей казацкой фантазии, женился. Не найдя панны в магнацком доме, которая бы за него хотела пойти, – потому что его все боялись, особенно, когда напивался сивухи, – бросил взгляд на бедную шляхтинку, дочь эконома, который у него управлял одним фольварком. Бедный этот Домбровский считал для себя то великим счастьем, что такой пан требовал от него ребёнка и, хотя девушка с плачем к ногам его падала, отказываясь от этого счастья, ничего не помогло, должна была выйти замуж за пана старосту. Женщина была дивно красивая, скромная, мягкая, а как то у нас не раз случается, хорошего образования не имела, едва выучившись от матери читать и писать, хватало ума и какого-то благородства, которое, пусть говорят, что хотят, человек с собой в мир приносит. Кто его не имеет, хотя бы весь золотом обшился, будет выглядеть холопом, а кому Бог его дал, должен быть паном, хоть в лохмотьях. Панна Домбровская тогда относилась к таким существам, что в полотняной рубашке были подобны королевам. Староста каниовский, однажды увидев её у отца на фольварке, не успокоился, пока, по всякому стараясь, не дошёл с ней до свадьбы. Начали тогда жить, сперва сносно, а дальше – жёстоко и безжалостно. Бывало, как говорили, что её и палкой бил, и розгами наказывал, и в кордегардию к своим казакам за воображаемую обиду отсылал. Женщина была добрая, честная, но безумным фантазиям, унижающим её, поддаваться не могла. Тогда начали рассказывать чудеса о тирании старосты, который, как с другими, так с женой в то время обходился, словно не Потоцким был, а простым хамом.
Ходили о том вести по краю, рассказывали, может, и дорабатывая, необыкновенные приключения, и все несчастную старостину жалели. Дошли эти слухи до Львова, где их за болтовню приняли. Итак, дамы, плача над судьбой бедной женщины, вызывали месть Божью на изверга.
В то время у некоего мещанина Янаша, если хорошо помню, была жена, женщина ловкая, с отличным языком, смелая, которую полюбил Гоздзкий, и, прошенный или непрошенный, ездил к ней, хоть муж кривился на это. Ему это было всё одно, так как, если бы он хоть сказал слово, его бы непременно побили саблей плашмя. Мещанин, спокойный человек, всё-таки эту панскую милость переносил, хотя кисло, делая только то, что, сколько бы раз ему этого гостя лихо не приносило, всегда с великим респектом ассистировал, на шаг от жены не отходя. Гоздзкий пробовал его поить, потому что сам имел голову, как знали, что бочонок венгрина могла вынести, не одурманивши, но Янаш также пил не хуже. Поэтому в итоге они обнимались, и мещанин ещё воеводича в карету сажал, сам потом под колодец идя, дабы избавиться от похмелья.
Однажды, будучи у пани Янашевой, Гоздзкий, под хорошее настроение, когда она рассказывала разные вещи, забавляя его, услышал о старостине каниовской, какую судьбу ей уготовил пан Потоцкий. Так как это было при рюмке, он принял к сердцу – хотя, как жив, никогда этой пани в глаза не видел. Янашева по-женски досыпала к повести перца и соли. Гоздзкому не нужно было того, чтобы на него горячка напала.
– А, негодяй! А, нечестивец! Разбойник! – начал он. – Не стоит такой жены… кто честен, должен отобрать её у него.
– Если кто, то пан воеводиц один это мог бы учинить, – отозвалась Янашева, – потому что ни кто иной не справится со старостой… не может с ним мериться. Но это и для ваших зубов твёрдый орех, потому что это жена… муж и жена – одно тело. Кто бы между супругами хотел мешаться… разве рискнул бы? И вы бы с этим не справились!
Гоздзкий покрутил усы.
– Ты так думаешь, сударыня? – спросил он.
– Не иначе, – сказала Янашева.
– А что бы ты поведала, если бы я её отоборал?
– Этого не может быть, – ответила красивая горожанка.
– Спорим, что это сделаю! – крикнул Гоздзкий.
– Не хочу вас вытянуть на слово, потому что это невозможно трудно. Во-первых, она его жена, а во-вторых, он староста каниовский, а о него тереться, хотя бы такому непоколебимому холостяку, каким вы слывёте, опасно.
Побила его баба бубном, как бы специально. Гоздзкий настаивал.
– Ты меня не знаешь, – воскликнул он, – я, когда что решу, если бы дьявол на дьявола сел, или жизнь потеряю, или поставлю на своём.
Пан Янаш, который был сообразительный, догадываясь, что его достойная жена будто бы специально высылала воеводица к старосте, чтобы самой избавиться от его навязчивости – пронюхав письмо носом – начал также со своей стороны прибавлять, каким великим опасностям подвергся бы Гоздзкий. А тому в этом – игра; чесалась его кожа, таким образом, так невидимо влюбился в эту старостину, словно её одну в сердце носил.
Янашева от него отделалась… но, повернув в Ярычов, он не мог уже усидеть, пока сразу не разведал о старостине, где, что и как, что с ней делалось. Нашлись люди, которые её видели, иные – что слышали о тирании, подтвердилось в значительной части привезённое из Львова. Гоздзкий принял сильное решение вырвать старостину из рук мужа.
Таким он был, надоумил себя, что это, должно быть, было геройством и делом чести – перехватить потерпевшую и униженную женщину.
В Ярычове он всегда имел при себе придворных и вроде бы милицию голов до ста. Бывало меньше или больше, потому что выдержать его долго была штука, а кто туда заявлялся, определённо больше имел безумства, чем степенности. Его люди, как он сам, отчаянные, должны были слепо идти за ним в огонь и в воду, куда дал команду… а, если кто-нибудь сбегал или разочаровывал его, он не имел уже за чем возвращаться. Кормил и поил, что называется, деньгами обсыпал, но также, когда кринул: «Вера! За мной!», нельзя было оглядываться и рисковать. Тогда сразу со всей этой ярычовской силой Гоздзкий начал выбираться к старосте, не объявляя ему войну, как тот прусский Фридрих II на Саксонию во время Семилетней войны. Естественно, он сам командовал этой бандой.
Сначала пошли шпионы, чтобы разузнать, на котором фольварке пребывает старостина, сделать рекогносцировку позиции и узнать силы неприятеля. А над ним Гоздзкий имел то преимущество, что пан каниовский знал его ненависть к себе (издавна угрожали друг другу), но ожидать вмешательства в свои домашние дела не мог. На это только нужно было такого безумца как воеводиц. Уже должны были выбираться из Ярычова, когда случайно там оказался приятель Гоздзкого, пан Пжилуский, которому признался в своих намерениях; тот начал отговаривать.
– Бойся Бога, – сказал он, – так не делай, это агрессия и разбой. Даже твоя честь требует, чтобы сперва, по меньшей мере, каниовскому напомнил об обязательствах, прежде чем нарываться.
– А где я его буду искать? – спросил Гоздзкий.
– Во Львове легко его найдёшь.
У воеводица всё шло молнией. Оседлал коня и направился во Львов. Прибыв туда, до старосты достать было нелегко, он закрывался в каменице, а казачество охраняло двери. Поджидал его воеводиц на рынке, и поймал, когда тот возвращался из костёла. Переступил ему дорогу. Люди, что видели это издалека, остановились смотреть. Гоздзкий был гигантской фигуры, как дуб, широкоплечий, что называется красивый мужчина, голова всегда вверх, шапка всегда набекрень, руки в боки. Староста, высокий, костистый, худой, невзрачный, с жёлтым лицом, с впалыми и косо смотрящими глазами, немного согнутый, имел мину скорее франта, чем забияки. У Гоздзкого нога и рука панские, у старосты стопы огромные, руки костистые, чёрные. С воеводицем страшно было встречаться, потому что или убил бы, или напоил; когда раздражил того, человек не мог спать спокойно, он мог приказать поджечь, на дуэль не вызывал, но до смерти не прощал. Знали друг друга по лицу и репутации. Староста хотел обойти стороной, Гоздзкий встал перед ним.
– Челом, пане староста, несколько слов.
– Я вас не знаю.
– Тогда, может, узнаете, я Гоздзкий, Гумецкая меня родила. Природу я имею такую, что трутней не выношу.
– А я также и смельчаков вдобавок.
– Я хочу вас, пане староста, предостеречь.
– В предостережениях не нуждаюсь.
– Желаю вам их принять, когда даю, потому что могу науку дать, а та будет менее переваримой. Вы женились на бедной шляхтинке, а обходитесь с ней как с невольницей, исправьтесь или будет плохо.
– Кто вам дал право мне напоминать?
– Право имею от Бога и природы, от сострадания к ближнему. Несчастную ущимлённую женщину каждый честный человек должен защищать.
Староста рассмеялся и пожал плечами, бормоча:
– Безумец!
Гоздзкий поднял руку и крикнул:
– Узнаешь меня, когда начну!
И разошлись; а староста в этот день уехал в Збараж.
В Гоздзком уже всё кипело. Затем той же ночью он послал своего поверенного, дабы разведал в Збараже, что там после возвращения Каниовского будет делаться; тот вернулся, донося, что староста жену на хлеб и воду посадил в тёмной избе, а отца, которого подозревал, что на него жаловался, собирался отправить к казакам, чтобы его сместили с фольварка.
Не много думая, Гоздзкий собрал людей и пошёл на Збараж. Там его никто не ожидал, потому что ни у кого в голове не было, что воеводиц решится напасть на дом. Дворовые казаки, согласно обычаю, были на страже, но половина спала, а другая без оружия возле усадьбы развлекалась. Когда Гоздзкий вдруг атаковал дом с выстрелами и криком, испуганные казаки даже не сорвались на оборону; кто жил, взяв ноги за пояс, сбежал в коноплю, в кусты, под сараи, не исключая старосты, потому что и тот убежал за усадьбу и спрятался в ров. Воеводиц с триумфом вторгся в жилище и, всё перетряся, не скоро запертую в тёмной комнате отыскал женщину. Та, испуганная нападением, не зная, кто и что, думая, что пришли какие-нибудь разбойники, упала ему в ноги, умоляя, чтобы не убивал её.
– Но я прибыл сюда на защиту вашей жизни, – поднимая её, воскликнул Гоздзкий, – прошу успокоиться. Я услышал о вашем мученичестве и унижении старостой, и пришёл вам на помощь. Я увещевал его напрасно; трудно от него исправления ожидать, а вы достойны лучшей судьбы. Поэтому я забираю вас с собой во Львов и займусь разводным процессом, а на опеке честного человека вы, наверное, благодетельница, не потеряете.
Красивая фигура старостины, её слёзы, несчастье, всё это вместе так растрогало Гоздзкого, что готов был для помощи ей хотя бы жизнь и имущество ставить. Она долго отпиралась, боясь мести старосты, но в итоге он убедил её и поклялся, что она может положиться на его честь и честность.
– Я вас, пани старостина, в его лапах оставить не могу. Провожу вас во Львов, где приличное и безопасное для вас схоронение найдём.
Затем с плачем женщина должна была доверить честь и жизнь тому словно с неба упавшему защитнику. Так как Гоздзкий с людьми прибыл верхом, он приказал вытащить из конюшни карету и бричку, запрячь коней старосты, упаковать вещи старостины, своих двоих человек посадил на козлы и, сам сопровождая в эскорте, тут же отвёз даму во Львов. Там, приказав ехать прямо в бенедиктинский монастырь, сам пошёл к настоятельнице и сдал ей на опеку пани старостину. На следующий же день от её имени подал заявление на развод, в котором все преследования, злое обхождение, унижение, побои и т. п. были перечислены.
Когда после отъезда Гоздзкого пан каниовский, выйдя из конопли, узнал обо всём, сначала казачество, которое не защищалось, сурово наказал, сменил людей, потом, собрав новых, немедленно напав на Домбровского, отца жены, подозревая его в жалобе, немедленно выгнал прочь с фольварка и выбросил на дорогу. В неслыханном бешенстве ходя день и ночь, начал обдумывать месть, а, будучи так воспламенён испытанным унижением, с людьми не разговаривал и доступа к нему не было. Остерегали Гоздзкого, что не лишь бы какую месть готовит; тот, этим пренебрегая, посвистывал.
Так прошло несколько недель, а о никакой мести слышно не было. В Ярычове люди постоянно были в готовности для отражения всякого нападения; что до своей особы, Гоздзкий не имел привычки бояться и готов был один встать против десяти. Ходил всегда вооружённый, а амуниции всегда ему хватало. Тем временем выпала нужда ехать в Каменец и воевода выбрался один, ничего плохого не предчувствуя. Только этого ждал староста. Напасть на него на дороге он не решился, но своих людей, самых верных, сперва двумя партиям выслав во Львов, сам, наконец, подъехал туда ночью и, чуть свет осадив монастырь бенедиктинок, в готовности имея карету и людей, приказал стучать в дверцу, грозя выламать, если бы ему не отдали жены. Монахини испугались, не было, к кому обратиться за помощью, её охватил такой страх за клаузуру от казачества, что, в конце концов, несчастную старостину отдала в руки мужа. Таким образом, штука удалась, и каниовский, вернув жену, в ту же минуту двинулся в Збараж.
Но какое-то особенное Провидение за ней смотрело, потому что в тот же час, когда, видно, в Ярычове дали знать о случившемся, Гоздзкий возвращался из Каменца. Ни минуты не мешкая, собрав людей, он пустился в погоню за старостой, который не ожидал, что может его настигнуть. Как раз от усталости коней в четырёх милях за Львовом остановились в корчме на отдых, имея, однако, бдительность, когда подоспел воеводиц со своими отчаянными. Так как корчма, в которой это происходило, стояла в стороне, прежде чем до неё добежали, уже люди Потоцкого имели время схватиться за оружие.
Ворота закрыли, у окон рассадил староста казаков с ружьями и дошло до формальной осады и штурма. Им управлял сам Гоздзкий, обещав своим, что несчастную женщину, мести для которой боялся, должен вызволить, хотя бы должен был потерять жизнь. Староста также решил защищаться яростно. Когда предприняли первый штурм, пули из-за ставней полетели так несчастно, что одна ранила Гоздзкого в правое плечо и, хотя обливался кровью, тем яростней бросился на осаждённых. Нескольких его людей убили, но сбоку также выломали ставни и из милиции Потоцкого трое погибло. Наконец с тылу в более слабые ворота ворвался Гоздзкий со своими и на пороге начался кровавый бой, который продолжался полчаса, пока людей старосты не одолели. Несмотря на раны, с пистолетами в руке воевода в одиночку вбежал внутрь и, выбив дверь закрытой комнаты, нашёл полумёртвую от испуга старостину. Каниовский с людьми отступил в другой конец дома, отстреливаясь, но его не трогали, когда только имели в руках женщину. Трупов с обеих сторон пало, возможно, около двадцати, но старостина была спасена и Гоздзкий пустился с ней вместе во Львов, оставляя Потоцкого на поле боя.
По городу уже разошлась авантюра и бенедиктинки закрыли монастырь, так что, когда воеводиц прибыл к ним снова, желая доверить женщину, ни за что на свете за такую опасную опеку приняться не хотели. Ездил с ней так целый день от монастыря к монастырю, обещая щедрую награду, охрану и опеку, но ни один ему не отворился. Конец концов, нужно было женщину поместить в Ярычове, что ни для неё, ни для Гоздзкого не могло быть милым. Шло к тому, что, спасая честь, если бы добился развода, должен был бы жениться, о чём никогда не думал, потому что был ветреник и баламут, и всё это ему было не на руку. А, хотя красивая и добрая старостина могла ему понравиться, однако не была это жена для воеводица и счастья друг другу принести не надеялись. Что, однако, всё стало иначе, как мы увидим, потому что никогда человек не знает, где найдёт, что для него хорошо, так как часто вредного не заметит и именно на нём настаивает. На этом не конец; упёрся воеводиц, стоял на возвращении жены староста, чтобы на своём поставить. В Ярычове вся усадьба для обороны не была предназначена, пожалуй, её мужество и бдительность заслоняли. Через неделю потом староста, собрав немаленькую банду людей, ночью подошёл к дому. Застал всё таким приготовленным, что на него ещё вылазку сделал Гоздзкий, и чуть между двух огней их не взяли, так что, настучавшись напрасно и страха наевшись, старостинцы должны были уйти.
В другой раз, в белый день, ожидая найти менее бдительных, вторглись садами с тыла в усадьбу, потому что им, видно, шпионы донесли, что с этой стороны были апартаменты старостины и иногда в сад выходила на прогулку. Это другое нападение ещё хуже вышло у старосты, раненых и убитых казаков было десять, а милиция Гоздзкого так их преследовала, что их лошади падали в погоне, а испуганные холопы во рвы и кусты попрятались.
Уже нечего было делать. Послал пан каниовский письмо Гоздзкому, которое ночью в Ярычове прибили к двери, угрожая, ежели жены добровольно не отдаст, то его Ярычов подполит и в пепел обратит.
Назавтра в Збараже приказал Гоздзкий прилепить листок:
«Жены тебе не отдам, потому что ты её не заслужил, а я угрозам поддаваться не привык. Спалишь ты мне Ярычов, который у меня один, я с дымом пущу пять твоих местечек для расплаты».
Война так война. В Ярычове нужно было сделать формальный забор и рвы вокруг усадьбы, а на валах поставили две пушечки, больше для устрашения, чем для эффекта, потому что не очень с ними кто умел обращаться. Через несколько недель едва немного успокоилось. Староста нападал на Гоздзкого, а тот, будучи всегда бдительным, потому что его это развлекало, становился в оборону, и, потратив порох, часто покалечив себе людей, расходились ad videntum[26]. Для воеводица это было развлечением, при том, что пункт чести ему наказывал защитить несчастную старостину, а никому этой обороны сдать не мог, вынужден был, бросив свою прежнюю легкомысленную жизнь, дома сидеть и своему гостю быть товарищем. Появившаяся от этого любовь первый раз в жизни непостоянного человека была уже в судьбе. Воеводиц почувствовал уважение к старостине, свои львовские аморы забросил, стал больше домоседом и не жаловался на это. Разводный процесс шёл тупо, хотя поводов к нему хватало, а Гоздзкий об этом не жалел. Но в консистории и Потоцкий также имел своих защитников, а денег несравненно больше, чем воеводиц, которому их всегда не хватало.
Трудно поверить, а всё-таки правдивая вещь, что эта ситуация могла протянуться года два и ни староста не отрекался от жены, ни Гоздзкий от её защиты.
Дошло до того, что однажды ночью к Ярычову подошёл Потоцкий и эти две пушки, стоящие на валах, которые ни одного выстрела не дали, забрал и, отступая, вёз их за собой в триумфе.
Гоздзкого это так задело, что со всей громадой пустился в погоню, готовый снова потерять жизнь, чтобы бесчестья не иметь. Староста храбро защищался, но, прижатый, пушки бросил. Таким образом, обвязав их зеленью, с великим шумом и криком отвезли назад на валы, где спокойно себе могли дремать, потому что им охранников добавили.
Приятели Гоздзкого разными советами старались убедить, чтобы они пришли со старостой к какому-нибудь соглашению и компромиссу, потому что ему это действительно травило жизнь, не дал, однако, себя сломить:
– Несчастной женщины не брошу, в жертву её разбойнику не дам. Гоздзкий никогда никого не разочаровал и не предал. Что будет, то будет, Каниовский должен понести ответственность. Если бы уж у меня дело шло не о женщине, то о чести идёт. Не дам ему хвалиться, что меня в каше съел.
Староста, может, больше был склонен к примирению, так как не имел спокойной минуты ни в доме, ни за домом, не мог двинуться без нескольких десятков человек из милиции, ночами должен был ставить стражу и хоть иногда какой месяц проходил спокойно, Гоздзкий устраивал засады на него, поджидал и, где его меньше всего ожидали, нападал.
Ибо он постановил себе, что старосту каким-нибудь способом должен захватить в неволю и только тогда подпишет с ним трактат о мире. Нелегко это было, поскольку оба были бдительны. С обеих сторон насылали шпионов. Выбирался пан каниовский в свои владения, на дороге его стерегли, а иногда ночью, хоть без надежды на результат, поднимали тревогу. Срывалось, что жило, на ноги, к самопалам, а неприятеля уже не было. Гоздзкий так его раздражал, мучил и доводил, пока, наконец, случай не положил конца этой невыносимой войне.
Оба уже без доброй кучки вооружённых людей из дома не выдвигались. Как-то осенью Потоцкому выпал ночлег в Глинианах. Только что разместился в гостинице, когда с другой стороны подъехал претендент-воеводиц. Еврей, к которому он собирался заехать, от страха и отчаяния, чтобы его дом не уничтожили, начал кричать, что староста каниовский в городе.
В этом ему игра. Не давая времени тем собраться к обороне, не слезая с коней, в ту же минуту Гоздзкий бросился и велел окружить корчму. Поскольку от него Потоцкий сам несколько раз ушёл тыльной стороной пешком, а казаков напрасно перебивать ему уже было противно, воеводиц часть своих отделил и в тыльной части гостиницы устроил в хмельнике засаду. По данному знаку бросились на корчму с трёх сторон, четвёртую, как бы от поспешности и недосмотра оставляя свободной. Таким образом, по-старому, из окон старостинки дают огня, а тут окна и ворота Гоздзкого штурмует милиция. Не обошлось без кровопролития, ибо с обеих сторон научились храбро нападать и защищаться. Но, как всегда, люди воеводица взяли верх, больше нечего было делать, только бежать живым.
Дали знать старосте, что в тылах от хмельника есть свободный проход. Пан каниовский, один выскочив из калитки, прямо в гущу хотел умыкнуть, когда сидящие во рву в засаде люди, которым сам почти бросился в руки, схватили его.
Окликнули добычу и воевода подбежал, дабы собственными глазами в ней убедиться.
– Ну, пане староста! – воскликнул он. – Ты в моих руках, ничего не поможет… прикажи людям сложить оружие. Война окончена, нечего уже увиливать, нужно сдаться. Не однажды и короли бывали взяты в неволю. Честью своей ручаюсь, что вам никакого оскорбления не будет.
Стрельба прекратилась. Староста рад не рад сдался своей судьбе. Пошли они тогда вместе в комнату в корчме, а воеводиц вино и водку велел принести, дабы и люди, и он после боя подкрепились. Однако же вокруг стояли стражи. С великого гнева и ужасной ярости как-то сразу пришло к особенной дружбе.
– Не могу отрицать, – сказал Гоздзкий пленнику, – что вы мне порядочно потрепали шкуру. Вам легче было вести войну, чем мне, который денег в сундаках не имеет, и милицию должен удерживать остатками, гоняя, чтобы не выдать их. Значит, составим трактат о перемирии, а условия, какие продиктую, подпишите, иначе будет плохо.
Староста молчал.
– Пиши, милостивый государь, условия, посмотрим.
– Я с чернильницей и пером редко имею дело, – сказал Гоздзкий, – презираю их, пошлём за каким-нибудь писакой.
Староста также не был силён в письме. Отправили посланца в местечко, которое всё стало на ноги, чтобы выискать письменного человека… как раз наткнулись на бедного адвоката, некоего Атамановича, эти подробности я слышал из его уст. Находился он в то время в Глинианах на ночлеге и собирался есть фаршированную по-еврейски рыбу, когда на него указали и просили к старосте. Не очень ему хотелось класть пальцы между дверями, но два плечистых верзилы взяли бы его под руки, хотя бы он упирался. Таким образом, Атаманович пошёл в гостиницу. Два антогониста, уже сидя у одного стола, пили, один другому припоминая разные случаи и события двухлетней войны.
– Как тебя зовут? – начал Гоздзский.
– Атаманович.
– Неинтересная фамилия, казаком пахнет, но что делать! Умеешь писать?
Тот возмутился.
– Я адвокат.
– Это ничего не доказывает, – сказал Гоздзкий, – адвокату только рот нужен.
– И голова, – прибавил Атаманович.
Этим его себе приобрёл, дали ему рюмку.
– Вот видишь, милостивый государь, – отозвался Гоздзкий, – дело в следующем: я с паном старостой каниовским веду два года войну, не за прекрасную Елену, но за замечательную женщину, которая была его женой. Summa summarum, когда много пороху истратили, я пана Потоцкого взял в неволю. Составляем трактат, а ты займёшься написанием его, чтобы это было сильным и непоколебимым.
Атаманович, человек прозорливый, который имел тот добрый обычай, что всегда носил с собой чернила в роговой чернильнице, перо и бумагу, молча пошёл на угол стола и разложил свои инструменты, начиная, чтобы не тратить времени, с шаблона: Между ясно вельможным паном Миколаем Базилем Потоцким, старостой каниовским, с одной стороны и ясно вельможным Ёзефом, графом Гоздзким, с другой.
– Sine titulo[27], – вставил воеводиц. – Составлена сегодня, дня, месяца, года, в местечке Глинианах, вместе с упрошенным свидетелем.
– Прекрасно меня попросили, – вставил Атаманович, – потому что меня двое верзил подталкивало…
Гоздзкий рассмеялся.
– Это в гонорарах ликвидируется… следующие добровольные соглашения.
– Прекрасно добровольные, – прервал староста, – когда милиция Гоздзкого над шеей стоит.
– Но ни к чему не принуждает, – отозвался Гоздзкий, – предпочитаешь, пан староста, в Ярычове сидеть в тюрьме, я не против.
– Твоя несдерженность, – ответил староста, – чёрт тебя возьми… подпишу.
– Добровольно, – добавил Гоздзкий, – и ругаться не нужно, потому что это ни к чему не пригодится, а кровь испортит.
Тут Гоздзкий пункт за пунктом начал диктовать:
– Пан староста каниовский даёт согласие на развод со своей женой de domo[28] Домбровской.
– Которую у него силой Гоздзкий отобрал, – добавил староста.
– Потому, что староста с ней плохо обходился.
Атаманович с висящим пером рассудительно ждал приказов.
– Эти все particularia[29] в контракте стоять не должны, – сказал Гоздзкий. – Позволяешь, пан?
– Когда два года держал её у себя, то держи её у себя и дальше, согласен.
– Второй пункт. Потоцкий оскорблённому отцу жены своей, которого ужимал в почтении и состоянии, обязуется выплатить тысячу червонных золотых и отдать ему в пожизненное наследственное держание деревню Сломянку, принадлежащую к староству каниовскому.
Староста фыркнул.
– Почему не две или три деревни?
– Если воля и милость, хоть пять, – ответил Гоздзкий.
– Возьми вас дьявол со Сломянкой!
Сказав это, пан староста каниовский ждал, будучи уверенным, что Гоздзкий посчитает и денежные траты и военные расходы ликвидирует, но он этим ошибался.
– Пункт последний, – сказал воеводиц. – Описанные условия пан староста обязуется в течении четырёх недель выполнить, sub nullitate[30], настоящего контракта, а спор в противном случае между ним и ясновельможным Гоздзким должен будет разрешиться отдельным вызовом на дуэль и боем… judicuim Dei[31].
– Милостивый государь воеводиц, – муркнул Потоцкий, – что я обещаю, то имею привычку сдерживать.
– И я также, – выкрикнул Гоздзкий.
– Всё-таки эта угроза вызова на дуэль superfua[32], но всё равно, понимаю только, что вы неделикатны, но и я им не являюсь. Расчёт быка за индюка… Что написал, пусть будет! Для моей чести всё-таки не обойдётся без двухстороннего контракта, чтобы и я не поставил своих пунктов.
– А прошу, – сказал Гоздзкий, – и любопытствую.
– Primo, – сказал понуро староста, смотря в глаза Атамановичу и давая знак, чтобы не мешкая писал. – Пан воеводиц, граф Гоздзкий, вскоре после развода должен жениться на пани старостине Потоцкой.
Он взглянул на Гоздзкого.
– Согласен, – сказал он холодно.
– Перед свадьбой же припишет её на своих владениях простым долгом, я взял, позаимстовал, из собственных рук отсчитал, без всяких возражений, вы должны мне сто тысяч злотых.
Гоздзкий, как был всегда великолепной отваги, хотя за неё ни гроша не брал, а ещё дорого ему стоила, вовсе не нахмурился.
– Пишите, – сказал он Атамановичу.
– Tertio, – добавил Потоцкий, – оружие и пушки, забранные во время войны, обе стороны должны друг другу взаимно торжественно вернуть настоящим актом.
Гоздзкий начал смеяться, аж за бока взялся.
– А это мне нравится! – воскликнул он. – Это мне нравится, потому что остроумно, я ни одного карабинчика, благодарение Богу, не потерял, поэтому речь о том, чтобы я отдал то, что добыл у пана старосты… честь, спасённая контрактом. – Конец ли это уже? – спросил он, поглядывая на Каниовского.
– А нет, – сказал Потоцкий, – спрошу себе ваше позволение, чтобы со своей женой в вашем присутствии попрощаться… и чтобы на будущее между нами была заключена неизмерная дружба на вечные времена, чтобы мои враги стали врагами воеводица et vice versa[33].
– Для более сильного впечатления в память о трактате pacifcationis[34], – прибавил Гоздзкий, – контрактующие стороны обменой своих портретов обязываются его документировать, ad aeternam belli pacisque memoriam[35]. Пиши, – добавил он Атамановичу, который было задержал перо.
После чего они встали, подали друг другу руки и обнялись, а Гоздзкий хлопнул в ладоши, подзывая своего маршалка, чтобы готовил приём, не только для старосты, но для обеих милиций, дабы они таже, забыв былую неприязнь, рюмкой согласия запили мир.
Всё местечко слетелось смотреть на это зрелище, когда после недавней баталии начали так шумно праздновать трактат, стреляя из самопала и окрикивая его, что, казалось, война продолжается. Страх брал за соломенную крышу. Староста с Гоздзким, пригласив Атамановича, как сели пить, рассказывая друг другу разные истории и сплетни, так только назавтра встали – и то на неуверенных ногах. Инструмент мира написав в двух экземплярах и скрепив обеими печатями, подписав собственноручно, разъехались только на другой день после завтрака. Львовскому адвокату, которому в этот день особенно послужило счастье, за писание досталось по пятнадцать червонных злотых от обоих, а позже ещё Гоздзкий ему молодого жеребца подарил, за которого бы, как поведал, взял, объездив его, пятьдесят дукатов.
Через несколько дней потом староста со своей казацкой кавалькадой прибыл в Ярычов, когда его уже ждали, принимая с великими почестями, но не хотел ничего, только жену свою, некогда обиженную, видеть; при чём Гоздзкий из деликатности не хотел присутствовать и из другого покоя всю эту сцену просматривал. Староста, войдя, с какого-то запоздавшего сантимента упал ей в ноги, упрашивая, чтобы забыла все обиды и соблаговолила простить. На это бедная женщина, очевидно, с радостью, что освободилась, ответила, что сколько хочет, чтобы ей Бог собственные вины простил, так пану старосте за всё хорошо учинённое есть и будет благодарна, плохого не помня.
Потоцкий, желая показать себя по-пански, в подарок ей надел три верёвки красивого индийского жемчуга с бриллиантовой застёжкой и тысячу червонных злотых одного штампа, как родные братья. Также все условия договора о мире были выполнены. А так как воеводиц не вспомнил о расходах войны и разводного процесса, староста хотел быть щедрым и по доброй воле предложил сто тысяч злотых, которые воеводиц приписал к собственности будущей жены. Наконец немедленно после расставания pro forma[36] старостина поехала к бенедиктинкам на резиденцию, где её уже теперь охотно приняли; вскоре дали развод и Гоздзкий на ней женился. Женщина была добрая, мягкая, красивая – и если бы такой человек, как он, мог успокоиться, при ней успокоился бы, но это была горячая натура, неспокойная и никогда удовлетвориться не могущая тем, что Бог дал. Поэтому совместная жизнь, хоть на глаз добрая, была плачевной для женщины, которая обо всех непостоянствах мужа была осведомлена и терпеливо должна была их игнорировать. Правда, что Господь Бог дал ей двух мужей известного рода, на каких простая шляхтинка, экономская дочка, надеяться не могла, но что оттого, когда при титуле и величии счастья не хватало.
Уважал её воеводиц и обходился вежливо, а на стороне безумствовал и беспокойством её кормил, потому что и жизнь подвергал опасности каждую минуту, и неприятелей множил. Нескоро это немного перестало и успокоилось. Случай выдал, что жена воеводица, будучи в одной компании во Львове, вынужденная пойти на танец, несчастливо в нём упала навзничь, а так как была довольно высока и имела соответствующее тело, всем весом упав на крестец, так ушиблась, что после нескольких месяцев слабости, несмотря на самых искусных лекарей, умерла. Гоздзкий реально жалел её и оплакивал, не переставая до преклонного возраста вспоминать с грустью.
1875
Примечания
1
Плодитесь и размножайтесь (лат.)
(обратно)2
Имеется ввиду роман Ю. Крашевского «Дитя Старого Города» (1963 г.)
(обратно)3
Первым порывом (лат.)
(обратно)4
Старопольская мера объёма.
(обратно)5
Поголовно
(обратно)6
Предместье Варшавы
(обратно)7
Сторонниками.
(обратно)8
Свод законов.
(обратно)9
Служебное помещение рядом с конюшней.
(обратно)10
Похвально (лат.)
(обратно)11
Знатное происхождение (лат.)
(обратно)12
Комната, в которой хранится одежда, и находятся служащие, которым поручено смотреть за её состоянием.
(обратно)13
К месту (лат.)
(обратно)14
В вечную память события (лат.)
(обратно)15
Делать хорошую мину при плохой игре (лат.)
(обратно)16
Всему миру (лат.)
(обратно)17
Мы были! (лат.) Из «Энеиды» Вергилия.
(обратно)18
Сколько воды утекло (лат.)
(обратно)19
По секрету (лат.)
(обратно)20
Лакомый кусок на закуску (лат.)
(обратно)21
На войне, как на войне (лат.)
(обратно)22
Момент расплаты (лат.)
(обратно)23
По собственному желанию (лат.)
(обратно)24
Моё сидение окончено (фр.)
(обратно)25
Искусство долгое – жизнь короткая (лат.)
(обратно)26
До свидания (лат.)
(обратно)27
Без титула (лат.)
(обратно)28
Из дома (лат.)
(обратно)29
Подробности (лат.)
(обратно)30
Под угрозой заключения (лат.)
(обратно)31
Поединок (лат.)
(обратно)32
Лишняя (лат.)
(обратно)33
И наоборот (лат.)
(обратно)34
Мира (лат.)
(обратно)35
На вечную память войны и мира (лат.)
(обратно)36
Формально (лат.)
(обратно)
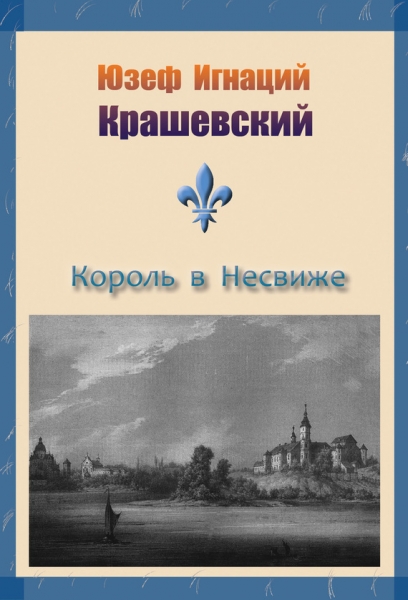
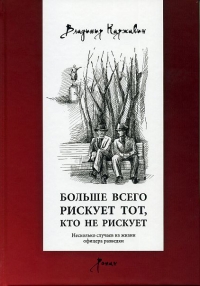



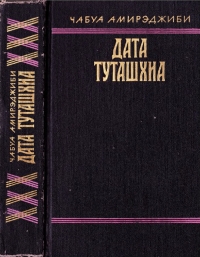


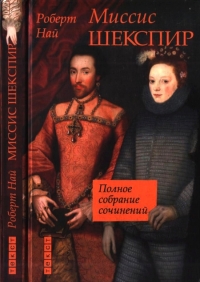
Комментарии к книге «Король в Несвиже», Юзеф Игнаций Крашевский
Всего 0 комментариев