Георгий Марков Не поросло быльем
В начале 1932 года я получил назначение в отдел пропаганды и агитации Западно-Сибирского крайкома комсомола — заведующим сектором теоретической учебы. Утверждая меня в этой должности, Первый секретарь крайкома Саша Голиков произнес на заседании бюро напутственную речь:
— Ну, вот, Георгий, утверждаем тебя на новом посту. Такого сектора у нас в крайкоме еще не бывало. Знаем, что ты парень жадный к знаниям, и потому надеемся, что сумеешь работать инициативно, напористо, с настоящим комсомольским задором.
— Буду стараться, — буркнул я, привстав перед длинным столом, за которым сидели мои старшие товарищи и соратники по работе.
И я действительно старался. Не откладывая, съездил в ряд городов нашего края — в Кузнецк, Кемерово, Прокопьевск, Томск, в которых выступил с докладами и организовал пропгруппы в горкомах комсомола из наиболее подготовленных комсомольцев, способных вести пропагандистскую работу. Тема моих докладов была посвящена состоянию и задачам международного коммунистического юношеского движения. Выбор этой темы не был случайным. Нарастание военной опасности против единственной в мире страны социализма, агрессивный натиск сил фашизма в Италии и Германии, обострение социальных конфликтов в Европе, Азии, Америке приковывало внимание советских людей, не исключая и молодежь.
По вопросам юношеского движения, и не только современного, но и в области его истории, я был «подкован» неплохо, так как занимался изучением этих проблем несколько лет.
Однажды я выступил с докладом на эту тему перед слушателями комсомольского отделения Комвуза имени Дзержинского, все там же, в Новосибирске.
На лекции присутствовал ректор Комвуза профессор Базилевич и еще несколько преподавателей. Моя лекция понравилась им, и вскоре я был приглашен прочесть по истории юношеского движения целый цикл лекций. Я охотно взялся за это, отнесясь к делу с полной ответственностью.
До сих пор в моих бумагах хранится фотография, на которой в медальонах изображены лица слушателей комсомольского отделения Комвуза. Ректор Комвуза и основные преподаватели изображены в миниатюрных квадратиках, в том числе и я. В то время, когда эта фотография делалась, я о ней и не подозревал. Я получил ее от одного из товарищей по комсомолу Н. Митрофанова в дни моего шестидесятилетия.
Но вернусь к более дальним событиям.
В Крайкоме комсомола я проработал недолго. На одном из заседаний бюро крайкома обсуждалось состояние Новосибирской организации комсомола. Новосибирск, который в ту пору рос буквально не по дням, а по часам, превращался в крупнейший промышленный центр обширного края, отставал по уровню работы с молодежью. Горком работал вяло, безынициативно и нуждался в серьезной помощи. Бюро крайкома решило укрепить комсомольскую организацию столицы края. Секретарем горкома был направлен один из самых опытных работников Сибирского комсомола, член бюро крайкома и заведующий отделом, Владимир Шунько. Вместе с ним на работу в Новосибирскую организацию переходили еще несколько товарищей. В их числе и я.
Через несколько дней состоялся Пленум Новосибирского горкома комсомола, на котором В. Шунько был избран секретарем горкома (в те годы в горкоме был только один секретарь), а я заведующим отделом пропаганды и агитации. А потом со мной произошло вот что:
— Георгий, завтра в десять утра тебе необходимо быть у Роберта Индриковича Эйхе, — подозвав меня к телефону, сказал Саша Голиков, первый секретарь крайкома комсомола.
— К самому Эйхе? — изумился я. — А что случилось? Ты знаешь? Скажи, Саша, не томи.
— Будет с тобой серьезный разговор. А о чем, про что, узнаешь завтра. Сегодня же о предстоящей встрече никому не говори, — посоветовал Голиков.
На другой день, задолго до десяти, я был уже в крайкоме партии.
В кабинет Эйхе в то время посетители входили не прямо из коридора, а через комнату управделами крайкома партии Озолина. Ян Янович Озолин по национальности, как и сам Эйхе, был латыш, его соратник по подпольной работе в Риге, вступивший в партию, насколько я помню, в 1907 году.
Внешность Озолина была колоритной и запоминающейся. Плотный, с большой, совершенно голой головой, на широких плечах, с пышными усами, с придирчивыми прищуренными глазами, он производил впечатление недоступно строгого человека. Но стоило ему заговорить, слегка шепелявя и смягчая русские слова, как впечатление неподступности исчезало, и Ян Янович становился очень простым, каким-то даже домашним.
— Ты, Маркофф? Проходи, Маркофф, проходи. Садись. Роберт с командующим фоенным округом разговаривает. Подожди… Он фот-фот уйдет, — присматриваясь ко мне, с ласковыми нотками в голосе, сказал Ян Янович.
Я присел на стул, стоявший в углу, вблизи от входной двери, ведущей в коридор. Волнение мое становилось уже нестерпимым. Ян Янович, по-видимому, заметил это, пристально посмотрел на меня, доверительно проговорил:
— Скоро, скоро пойдешь, Маркофф. Роберт не любит, чтобы ему сказки рассказывали. Фоенный сейчас выйдет.
И вот через две-три минуты дверь кабинета открылась, и из нее вышел не один военный, а двое военных. И первого, и второго я знал. Первый был командующий войсками Сибирского военного округа Левандовский, второй — начальник политического управления округа — Кузьмин.
Не задерживаясь возле стола Озолина, они кивнули ему на прощанье и вышли из комнаты, не проронив ни одного слова.
— Теперь ты иди, Маркофф, — сказал Ян Янович и указал мне на дверь кабинета Эйхе.
Я вошел в кабинет. Комната была продолговатой, с широкими окнами, выходившими на главный проспект города, названный — Красным.
Посредине комнаты стоял длинный стол, покрытый зеленым сукном. К нему были придвинуты стулья. Вероятно, за этим столом сидели люди во время заседаний. Впритык к длинному столу стоял еще один стол — письменный. На нем размещались телефоны, лежали папки с бумагами, в центре стола отливала черным стеклом и медью чернильница. Возле нее — высокий металлический стакан наподобие снарядного патрона с цветными гранеными карандашами.
В кабинете был еще один шкаф с томами сочинений Маркса, Энгельса, Ленина, энциклопедия Эфрона и Брокгауза и этажерка, на которой лежал огромный кусок каменного угля. На стене с одной стороны — портрет Маркса, с другой — Ленина. Позади кресла, в котором работал хозяин кабинета, висела в полстены географическая карта Западно-Сибирскою края.
Внешне Эйхе походил на Феликса Эдмундовича Дзержинского. Такое же худощавое лицо, строгое, волевое, чуть иконописное, острая бородка, глаза внимательные, добрые, открытые. И костюм, в который был одет Эйхе, напоминал костюм Дзержинского: сапоги, брюки-галифе, гимнастерка под широким ремнем с медной пряжкой. Не знаю какого роста был Дзержинский, но Эйхе запомнился мне высоким, тощим, очень стройным.
Эйхе встал из-за стола и вышел на три шага навстречу мне. Он был крайне учтив, корректен в эту минуту. Так мне показалось. Впоследствии много раз встречаясь с ним, я убедился, что эти черты были присущи ему всегда.
Чуть отвлекусь и отмечу одну деталь: нередко я встречал позже Эйхе на улице. И зимой, и летом. Дело в том, что он руководил кружком текущей политики на заводе «Труд» (одном из первых заводов литейного производства Новониколаевска — Новосибирска) и ходил по насыпи вдоль железной дороги проводить занятия. Это происходило в предвечерние часы по понедельникам. Я же жил в этой же стороне у моего долголетнего товарища по работе Николая Сенько. Завидев меня одного или вместе с товарищем, Эйхе не ждал, когда его поприветствуют, и часто первым снимал папаху офицерского образца или кепку, чуть склонял голову, говорил только одно слово: «Здорово!» — и быстрым шагом проходил мимо.
Но вернусь в кабинет Эйхе.
— Здравствуй, товарищ Марков. Садись вот здесь, — сказал Эйхе очень просто, пожал мне руку и вернулся в свое кресло, обитое коричневой кожей.
Вполне допускаю, что, участвуя в наших комсомольских пленумах, совещаниях, встречах, Эйхе, отличавшийся редкостной памятью, мог как-то и запомнить меня среди комсомольского актива. Во всяком случае, раза два-три мне пришлось в его присутствии выступать.
— Голиков рассказал тебе, зачем я тебя позвал? — спросил Эйхе, серьезно взглядывая на меня.
— Нет, Роберт Индрикович. Он сказал, что вы сами обо всем скажете.
— Вон какая у вас конспирация, — с чуть заметной усмешкой воскликнул Эйхе. — А вопрос вот какой: ты уже знаешь, наверное, что скоро состоится Пленум крайкома комсомола. И на этом Пленуме следовало бы утвердить нового редактора «Большевистской смены». У нас впечатление такое, что у Н. дела плохо ладятся. Человек он, по-видимому, нервный, говорят, даже страдает приступами истерии. Ребятам работать с ним трудно. Так вот: у нас в крайкоме партии сложилось мнение, что редактором газеты можно было бы утвердить на предстоящем Пленуме товарища Маркова. — Он сказал именно так: «Товарища Маркова», в третьем лице.
Кровь прихлынула к моим щекам, зазвенело в ушах. Вот уж чего я не ждал никак, ни под каким видом.
— Роберт Индрикович! Я совсем еще молодой! — чуть не со стоном вырвалось у меня.
— Знаю. Но разве молодость — порок?
— Двадцать первый год мне, и знаний еще у меня мало.
— Года и знания прибудут. За этим дело не станет. А опыт у тебя уже имеется. В Томске «Юнгштурмовку» редактировал, в Новосибирске редактором журнала был, — заглядывая, по-видимому, в мою характеристику, спокойным голосом проговорил Эйхе. — И брошюру вот написал: «Комсомольские резервы — большому Кузбассу».
— А все-таки кого-нибудь постарше бы на такое дело, — сказал я робко.
— Думали мы и об этом. Называли нам двух редакторов городских партийных газет из Прокопьевска и Ленинск-Кузнецкого. Но сам посуди: одному тридцать восемь, а другому сорок один. У них молодость в прошлом, им непросто уже понять запросы современной молодежи. Как ты думаешь, так или не так? — Эйхе старался включить меня в свои собственные размышления.
— Это верно, — согласился я с доводами Эйхе.
— И еще: какие у них перспективы? Год, от силы два и надо выбывать из комсомола по возрасту.
Я молча кивнул. И этот довод показался мне убедительным.
— Ну, и, наконец, — оба сопротивляются, не хотят получить в комсомоле кличку «дедушек». С желанием товарищей тоже надо считаться. Можно, конечно, заставить в порядке партдисциплины, но стоит ли? Работа из-под палки к добру не приведет. Вот подумали-порядили и остановились на молодом, на товарище Маркове. У него все впереди. — Эйхе посмотрел на меня и улыбнулся ободряюще.
— Да справлюсь ли, Роберт Индрикович?! Боюсь! — я не скрывал своего смятения. Ежедневная газета краевого масштаба, с большим тиражом, с редакционным коллективом.
— Это хорошо, что ты сомневаешься. Значит, чувствуешь ответственность. Хуже было бы, если б страдал заносчивостью: все могу, мол, все нипочем! Уж если б так было, я первый бы возразил. Ну а журнал «Большевик» читаешь? — вдруг перешел на другую тему Эйхе.
— Конечно! Каждый номер прочитываю, — ответил я.
— А какие статьи в последних номерах остановили твое внимание? — слегка прищурив один глаз, спросил Эйхе. Но тут я оказался на высоте, проявил завидную трезвость. Я действительно был давним и внимательным читателем журнала «Большевик», читал его с карандашом в руках, конспектировал, а самое главное, на заседаниях бюро горкома, по инициативе нашего секретаря Володи Шунько, мы ввели теоретический час, и мне приходилось систематически выступать и делать обзоры партийной и комсомольской прессы.
С первых минут Р.И. Эйхе понял, что я не просто читаю журнал «Большевик», а многие статьи в нем обстоятельно изучаю.
— Это хорошо, это поможет тебе в работе. А еще что читаешь?
Я рассказал Роберту Индриковичу, что поставил цель экстерном закончить университет и потому все свое свободное время трачу на работу над книгами, хожу на консультации в Комвуз, а иногда езжу в Томск на лекции видных профессоров.
— Это тоже хорошо. Так учились многие большевики. Иди по их дороге. Не робей! Поможем! — Эйхе встал, пожал мне руку, и я понял, что вопрос предрешен.
Неделю спустя состоялся Пленум крайкома комсомола, на котором я был избран членом бюро Западно-Сибирского крайкома ВЛКСМ и утвержден ответственным редактором краевой комсомольской газеты «Большевистская смена».
…В один из декабрьских дней 1932 года я пришел в редакцию «Большевистской смены». Коллектив редакции хорошо знал меня, поскольку я активно участвовал в работе газеты, выступая на ее страницах по различным вопросам комсомольской жизни.
Встретили меня доброжелательно, но все-таки известную настороженность к себе я чувствовал. Уж очень молод был редактор! Среди литературных сотрудников ряд товарищей работали помногу лет, обладали журналистской подготовкой и давно перешагнули комсомольский возраст.
В крайкоме партии заведующим сектором печати работал старый коммунист, литературный критик Анатолий Васильевич Высоцкий (позже он станет главным редактором журнала «Сибирские огни»), к помощи которого мне приходилось прибегать многократно.
— «Большевистская смена», Георгий, — наставлял меня в первой же беседе Высоцкий, — должна быть живее, деятельнее, доступнее для молодежи. Имеет большое значение форма подачи материала, язык, наконец, авторы. Их должно быть как можно больше. Конечно, без профессионалов не обойтись, газете нужен фельетон, юмор, серьезная статья, стихи, — юнкоры это не поднимут. Но главное на полосе — жизнь молодежи на стройках, на заводах, в деревне. Делать это нужно прежде всего силами юнкоров.
Советы Высоцкого опирались на его огромный опыт, знание газетного дела, а еще и на конкретное знание того, что и как публиковалось на страницах самой «Большевистской смены».
Высоцкий, судя по всему, тщательно следил за газетой и по долгу службы, и по интересу ко всему, что совершалось вообще в жизни.
— Но, само собой разумеется, все, что ни делается в газете, должно делаться ради осуществления генеральной линии партии и указаний товарища Сталина, — подчеркнул Высоцкий и хлопнул ладонью по столу, завершая нашу беседу. — Важнее этого, запомни, Георгий, ничего нет. Во имя этого мы живем и боремся.
Западная Сибирь переживала бурное развитие. «Большевики заново открывают Сибирь: Даешь Большой Кузбасс! Даешь Кузнецкстрой!» Эти слова можно было встретить не только на газетных страницах, они звучали по радио, их воспроизводили на плакатах, они кричали с красных полотнищ, натянутых через улицы.
Примет происходящих перемен в Западной Сибири искать не требовалось. Они встречались повсюду. Новосибирск был в лесах строек. Все чаще его называли «Сибирский Чикаго».
Самые неожиданные делегации и высокие должностные лица зачастили в наш город. Вот прибыл всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, вот приехал нарком тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, вот пожаловали иностранные писатели-антифашисты Нексе, Вайян Кутюрье, Вайскопф, Иван Ольбрахт, вот приехала старейшая большевичка, возглавлявшая МОПР (международную организацию помощи революционерам) Елена Стасова, а одновременно с ними нагрянули два капиталиста из Англии с целью закупки барабинского масла, славившегося своим отменным вкусом на всю Европу, прибыли какие-то американские инженеры-угольщики, принимавшие участие в проектировании новых шахт.
Но, может быть, самой разительной приметой происходящих перемен были поезда, проходившие через Новосибирск. Они были битком набиты разнообразным людом. Тут была молодежь, ехавшая по комсомольским путевкам на Дальний Восток строить новые города; артели плотников из Вятской и Вологодской губерний, прослышавшие о хороших заработках в зарождающихся шахтерских поселках, целые семьи из Ростова и Воронежа с детьми, со стариками, с домашним скарбом: самоварами, ящиками, узлами. А многие спешили оборвать свои вековые связи с хлебопашеским трудом, ускользали в этом буйном потоке от всевидящего ока НКВД. Они кинули на произвол судьбы свои усадьбы и хутора, возведенные еще их прадедами и дедами.
В переполненных и прокуренных вагонах смешались воедино все языки и наречия России, и у всех, — и светлолицых, и темнолицых наших соотечественников, — была одна цель: понадежнее осесть на просторах необъятной России, пустить корни на новых местах, выжить, выжить во что бы то ни стало под солнцем. Такова уж сила жизни — назначенное нам природой и Богом.
Был такой период, когда бюро крайкома комсомола уполномочило меня принять обязанности ответственного за встречу и бытовое и идеологическое обслуживание поездов с мобилизованной молодежью. Месяца два я не знал, где и когда начинается день и кончается ночь. Были сформированы бригады из парней и девчат, добровольно выполнявших всю эту работу.
Едва поезд останавливался, как в вагон бросались девчата с ведрами и тряпками, с вениками и щетками. Только эти уходили из вагонов, на смену им вбегали другие девчата в противогазах. Из обыкновенных огородных леек они разбрызгивали дезинфекционные растворы, руками в резиновых перчатках разбрасывали пилюли против грызунов, атаковавших от всеобщей голодухи подъездные пути, вокзалы и поезда. Сыпной и брюшной тиф косил людей. Иногда с поездов снимали по несколько человек заболевших, и тогда начиналась забота о размещении их в санитарных бараках, и без того уже переполненных больными.
Пока этим занимались санитары, агитбригады, работавшие параллельно, распространяли по вагонам газеты, книги, листовки. Тут же возле поездов, используя платформы и стараясь перекричать гудки маневрирующих паровозов, сообщали ехавшим политические новости.
Были у молодежных поездов и более длительные стоянки — сутки-двое. Тогда их отводили на запасные пути, и людей вели в баню, подвергая одежду обработке высокой температурой. Вагоны-кухни загружали ящиками с продуктами.
И вот поезда снова приходили в движение и, оглашая просторы песнями, катились, катились вагоны безостановочно на восток.
А на страницах нашей газеты появлялись заметки парней и девушек, ехавших осваивать далекие и загадочные земли своей немерянной Родины, как о деле, выше которого ничего не могло быть.
Надо отдать должное тому замечательному поколению — оно действительно мужественно перенесло все трудности первопроходцев, оставило нам образцы вдохновенного труда и сознательности. И это было не бодрячество, не воспарение ради оного, а истинное, честное служение идеям своего неповторимого времени.
Ну а теперь вернусь на Советскую улицу в жилые комнаты редакции газеты, которую я начал редактировать (замечу попутно — кабинета редактора не было, со мной в одной комнате работали замредактора и ответсекретарь редакции).
Моя редакторская работа начиналась рано утром (чаще всего я приходил в редакцию первым), а оканчивалась поздно вечером и даже частенько заполночь.
Но скажу об одном железном правиле, которое входило в мой ежедневный распорядок: в середине дня (чаще всего под вечер), когда полосы будущего номера были сверстаны, «запас» отослан в типографию, я на час-два садился за книги: читал, конспектировал, готовил рефераты по тем или иным темам.
Вначале сотрудники редакции, не считаясь ни с чем, пытались различными докуками срывать этот распорядок, но когда ко мне присоединились заместитель и ответсекретарь, мы вывешивали на внешней стороне двери какое-нибудь шутливое объявление, вроде: «Если у тебя не смертоносный случай, пережди до пяти. Грызем гранит науки». После этого «теоретические» часы, как я называл это время, стали появляться и в отделах редакции.
Между прочим, это как-то облагораживало жизнь нашего коллектива, в котором, как и во всяком живом собрании людей, возникали свои проблемы, случались недоразумения по тому или иному поводу. Тем более что у нас работали семейные и холостые мужчины и замужние и незамужние женщины.
Постепенно, день за днем, мы старались оживлять нашу газету. В самой редакции оказались несколько сотрудников, хорошо владеющих пером. Это были, прежде всего, Николай Драчев, ставший впоследствии моим закадычным другом (о нем я еще буду иметь случай рассказать подробнее) и Александр Пугачев, и до того прошедший солидную школу газетной работы.
Внимание к литературной стороне материала породило в редакции соревнование на лучший аншлаг («шапку» — в редакционном просторечии) и заголовок той или иной статьи, заметки. Иногда мы так увлекались этим делом, что переходили грань разумного и нам крепко, хотя и всегда по-товарищески, попадало от Анатолия Васильевича Высоцкого.
Помню, к полосе о недостатках культурно-просветительской работы в Кузнецке, где сооружался гигант советской металлургии, мы дали такую звонкую «шапку»: «В городе радости бездельники творят скуку». А полосу о сторожевых собаках, несущих охрану амбаров в колхозах и совхозах, украсили живописной «шапкой» из букв, напоминавших собачьи морды: «Пусть и Жучка станет знаменитой» (не только, мол, это удел собак, принадлежавших известным пограничникам, деревенские шавки тоже достойны всеобщего внимания).
— Георгий, не выскакивайте из шаровар, останетесь голыми оригиналами, — острил по телефону Анатолий Васильевич.
Изводили нас и опечатки. Объяснялось это скорее всего тем, что за линотипами сидели выпускники фабзауча полиграфии, не имевшие ни опыта, ни необходимой грамотности. Ошибки ловили буквально все и в редакции, и в типографии, но иногда они приводили нас к большой беде. Правда, порой удавалось в самый последний момент поймать опечатку и отвести от себя возможный удар, который был бы неизбежен, если б ошибка все-таки проскочила.
Помню, как-то утром я почувствовал необъяснимое беспокойство за выходящий в свет номер. Не дожидаясь завтрака, я быстро оделся и помчался в экспедицию, где, судя по времени, должна была происходить упаковка газеты в пачки для отправки на поезда.
Так как в городе довольно часто происходили перерывы в подаче электроэнергии, то и в этот день выпуск газеты несколько задержался. В экспедицию поступило только три тысячи экземпляров из тех десятков тысяч, которые составляли общий тираж газеты.
Я поспешил в типографию, чтоб точно выяснить, как обстоит дело. Подойдя к ротационной машине, которая печатала нашу газету, я взял один экземпляр, остро пахнущий керосином, и развернул его перед лампой.
И вдруг я почувствовал удар в голову. Нет, удара никакого не было, было подобие удара от тех строк, которые бросились мне в глаза: «Сталин большой и гиблый ум». Эти слова приводились в интервью французского государственного деятеля Эдварда Эрно, посетившего Советский Союз.
Опять она, опечатка! И какая! За такую опечатку и я, и директор типографии поплатимся головой. Вместо «гибкий ум», проскочило роковое словечко: «гиблый».
Я остановил ротацию, бросился к директору типографии, и мы поспешили в экспедицию. Там собирались выдать часть отпечатанного тиража в городские почтовые отделения для доставки подписчикам.
К счастью, этого еще не произошло. Оба мы — и директор, и редактор — поняли, что надо сделать, никому не говоря ни единого слова, мы забрали из экспедиции отпечатанные экземпляры, собрали в кучу приправочные оттиски, лежавшие возле ротационной машины, и все собственными руками затолкали в топку. Строка с искаженным словом была перелита на линотипе и впаяна на место старой строки. Следов произошедшего никаких не осталось.
Однако дня через три директора типографии и меня вызвали в отдел печати краевого управления Госбезопасности и учинили допрос, что произошло с номером газеты, почему о происшествии не составили никакого акта, кто разрешил уничтожить тираж, не оставив ни одного бракованного подлинника.
Оба мы знали, что такое может произойти — ибо наверняка кто-то из типографии или из экспедиции мог «настучать» о происшедшем. Самое главное, от чего нам надо было уберечься, — это избежать всякого, даже малейшего упоминания имени Сталина.
— В одной из строк обломилась буква, и получилось бранное слово. Зачем же коллекционировать матерщину? — оба в один голос твердили мы, и нас с миром отпустили, что называется «по домам».
И еще одно происшествие мне пришлось пережить, стоившее душевного потрясения.
Как я уже упоминал, в Новосибирск в это время зачастили делегации и должностные лица крупного масштаба. В этом числе оказались два коммерсанта из Великобритании. В короткой заметке краевого отделения ТАССа оба этих коммерсанта в сфере маслодельного дела характеризовались как видные люди своей страны, имевшие высокие звания лордов.
И вот с этими лордами у нас произошло ЧП, из которого нам пришлось выходить с помощью работников НКВД.
В номере газеты на первой полосе, примерно на одной линии шли два материала: слева сообщение о приезде английских коммерсантов, с их миниатюрными портретами на полколонки каждый. А справа шел штриховой рисунок: две колоритно изображенные свиньи вторглись в помещение сельского клуба и громят библиотеку, смешивая книги с грязью. Под рисунком расположилось восьмистишие нашего сатирика Андрея Кручины, которое начиналось примерно такими строчками: «Задрав свои тупые рыла…» Факт был подлинный, под рисунком значился даже адрес деревни, где это происходило. Но, тем не менее, — ЧП было налицо.
Во время отбивки матрицы, вероятно, по недосмотру мастера, клише были перепутаны. Английские коммерсанты встали на место свиней, а свиньи заняли место лордов. Причем текстовки не только не облегчали положение, но звучали явно с намеком, с издевкой. К тому же внешний образ лордов не отличался изяществом: полные, обрюзгшие лица, подслеповатые глаза, слегка вздернутые носы. Короче сказать, одно к другому, как назло.
Прискорбный казус был обнаружен, когда более тысячи экземпляров газеты разнесли по новосибирским адресам, в том числе газету доставили в гостиницу «Доходный дом», в которой остановились коммерсанты.
Я обратился немедленно за помощью к органам госбезопасности. Было решено в Новосибирске газету изъять любой ценой. Что касается изъятия газеты из районов края, то с этим было проще. Газета пока дальше почтовых вагонов не ушла, и возврат ее был обеспечен соответствующей телеграммой в почтовые отделения под личную ответственность начальников.
К середине дня в Новосибирске были собраны все газеты за минусом одного экземпляра, который не вернул как раз почтовый узел гостиницы «Доходный дом». Думалось: итак наши старания окончились пустыми хлопотами. Теперь остается ждать дипломатического скандала. Почему-то казалось, что недостающийся экземпляр оказался у коммерсантов, только у них, и ни у кого более.
Но вот прошло два дня, и английские коммерсанты уехали из Новосибирска. «В Москве поднимут скандал. Здесь почему-то сочли неудобным», — рассуждали мы в редакции.
Однако прошла неделя, потом еще неделя, а намеков на скандал не поступало.
Высоцкий позвал меня в крайком партии, с грустной усмешкой сказал:
— Ну, Георгий, считай, что пронесло! Может быть, тот единственный экземпляр, который не вернули нам из гостиницы, сослужил кому-то хорошую службу. В тот день повсюду в городе продавали селедку. А все ж случай памятный, и сделай из него выводы до конца…
Выводы приходилось делать из всего, а из этого факта особенно. Никогда больше я не допускал в своей редакционной практике, чтоб на полосе, на одной линии ставились два клише, никогда я не позволял, чтобы критический материал на внутренние темы так неразделимо соседствовал с материалом о международной жизни.
А самое главное, я решился еще на одну меру, которая хотя и требовала от меня новых усилий, тем не менее я сознательно пошел на это.
После приправки номера на ротации, я просматривал номер и подписывал его. Происходило это чаще всего в три часа ночи. Ночной рассыльник типографии привозил его мне на квартиру. Благо, что дом, в котором я имел комнату в коммунальном общежитии, находился в трех кварталах от типографии. Чтобы не беспокоить жильцов, была устроена специальная сигнализация: колокольчик, висевший у кровати, соединялся с проволокой, выходившей через форточку окна на улицу. Я просыпался мгновенно, заслышав позвякивание колокольчика, открывал окно, просматривал полосы и возвращал их рассыльному, успокоенный, я засыпал в ту же минуту до утра.
Так прошло месяца три. С наступлением холодов пришлось этот порядок изменить. Были введены ночные дежурства ответственных сотрудников, с последующим отгулом на целые сутки. В конечном итоге мы все-таки добились своего — ляпусы в газете сократились если не совсем, то в значительной мере.
Помимо основного издания газета «Большевистская смена» имела два, а временами и три выездных издания. Из этих двух-трех изданий одно было постоянным. Оно выходило в Ново-Кузнецке на строительстве третьей домны металлургического комбината, которое считалось подшефным комсомолу Западной Сибири.
Еще одна выездная редакция «Большевистской смены» работала на строительстве второго Обского моста в Новосибирске. Эта стройка тоже была подшефной комсомолу. Наконец, третью выездную редакцию мы считали сельской. Она работала главным образом в дни сева или уборки. Мы направляли ее в разные районы — но чаще всего в Калманскую МТС, где газета пользовалась расположением как дирекции МТС, так и политотдела станции, который возглавлял Ян Петрович Рыневич, имевший большой опыт партийной работы в разных условиях, вплоть до подполья в Прибалтике.
Организация выездных редакций на важных объектах пятилетки было в те годы делом весьма распространенным. Такие редакции организовывали и центральные газеты, и местные. Практический эффект от таких инициатив был огромный, а затраты — организационные и материальные — минимальными.
Во главе выездных редакций стояли штатные сотрудники (два-три товарища), они стразу же опирались на рабселькоровский актив, вступали в деловой контакт с партийными и комсомольскими организациями, быстро входили во все проблемы на стройках и в колхозах и, обнажая недостатки, выявляя лучших людей, оказывали существенную помощь в выполнении народнохозяйственных задач.
Конечно, сложностей возникало немало. Чаще всего они подстерегали организаторов на первых порах: выездное издание хотя и выходило в свет в одну четвертую полного газетного листа, но его надо было где-то напечатать, а напечатав — доставить к месту распространения. Компактных передвижных типографий было мало и приходилось искать где-то поблизости стационарные типографии и там пристраиваться кое-как.
У выездных редакций была и вторая задача — они выполняли обязанности корреспондентских пунктов основного издания, снабжая газету материалами на темы текущей жизни. Но как ни сложно было все это делать — работа шла, приносила удовлетворение, так как люди очень ценили вмешательство печатного слова в их дела.
Я старался самым внимательным образом следить за нашими выездными изданиями. Естественно, по значению на первом месте стояла выездная редакция на строительстве комсомольской домны. Туда мне пришлось выезжать неоднократно.
Незабываемое впечатление производила в ту пору строительная площадка Кузнецкого металлургического комбината. Она простиралась на десятки километров. Ни днем ни ночью не затихала здесь работа. Мне довелось видеть строительную площадку и летом, и зимой, и в солнечную погоду, и в глубокое ненастье. Осматривал я ее и с высоты лесов домен и мартенов, и со дна котлованов. И всегда возникало впечатление, что завод-чудо вырастает, как дерево-гигант из земли, опираясь на могучие корни, скрытые в недрах, это дерево стелет свои ветви по равнине, раздвигая сопки, озера, чащобы леса к горизонту.
После Великой Отечественной войны пришлось мне бывать на многих стройках страны, да и зарубежных стран. Удивляло несчетное число разных машин, которые гудели, шумели, потрясали землю, вздымали в небеса стрелы чуть ли не до самых облаков. И невольно вспоминалось строительство Кузнецкого комбината. Машин всякого рода настолько было мало, что не они были деталью строительного пейзажа. Человек с лопатой и тачкой, конь, запряженный в сани с ящиком, наполненным землей, — вот что бросалось в глаза. Все это, казалось, движется в беспорядочном лабиринте насыпей песка и глины, штабелей огнеупорного кирпича, нагромождения каких-то хитроумных конструкций из стали и чугуна.
Когда домны и мартены запылали и стали выдавать долгожданный металл стране, я вновь приехал в Кузнецк. Мне верилось и не верилось, что я хожу по той же самой земле, которая была взрыта до основания простыми лопатами, загромождена кирпичом и железом до небес, и вот приведена теперь с великой целесообразностью в то состояние, которое являет новь, сотворенную не мирозданием, как эти горы верхней Томи или реки Шории, а человеком, его умом и руками.
В чем же состоит тайна такого события? Какие истинные истоки природы дают человеку такую власть? Может быть, кому-то покажутся наивными такие размышления, но меня до сих пор ошеломляют ставшими обыкновенными события нашей жизни. Помню, как прикованный, я стоял в машинном зале Иркутской ГЭС. Мне трудно было оторваться от модели космического корабля «Мир», который нам показывал летчик-космонавт Георгий Тимофеевич Береговой.
В институте механизации и автоматики Сибирского Отделения Всесоюзной Сельскохозяйственной Академии имени В.И. Ленина в Новосибирске мне показали экспериментальный прибор, который в считанные секунды раскрепощал энергию, заключенную в листке полевого растения.
Я не смог бы с точностью передать подробности этих и подобных им минут; видимо, непосильно расчленить это самочувствие на какие-то детали, не все ведь человеку подотчетно в нем самом, да и какая гарантия, что, начиная давать отчет другому о себе, не впадаешь невольно в другую логическую структуру.
А теперь расскажу об одном случае, потрясение от которого и теперь еще живет в моей душе.
Я уже упоминал, что в Кузнецке я бывал часто, может быть, даже чаще, чем это диктовалось соображениями работы. Меня просто тянуло в Кузнецк. Постепенно росли у меня знакомства среди молодых строителей, завязывалась дружба, обещавшая стать долголетней. Я любил ходить по молодежным общежитиям, охотно посещал вечера молодежи, часто выступал то с каким-нибудь докладом на текущие темы, то с краткой речью о заботах газеты, о работе Западно-Сибирской комсомолии, поскольку я был член бюро краевого комитета комсомола.
И хотел бы подчеркнуть, что я не был исключением среди комсомольских работников. Таков был стиль того времени, таков был характер требований к нам самого времени. Жили с молодежью, ели из одного котла с ней, спали в ее тесных, а порой и смрадных общежитиях, старались уметь делать все, к чему призывали других. К примеру, все работники «Большевистской смены», не исключая ответственного редактора, во время выезда на места брали с собой квитанционные книжки, чтобы в случае необходимости оформить тут же, как говорится, не отходя от кассы, подписку на газету. И никого это не смущало и давало нашему изданию не одну сотню дополнительных подписчиков.
Я и тогда задавал себе вопрос, что меня влекло на Кузнецкстрой, задаю его и теперь. Что же покоряло меня на Кузнецкстрое? Там работали многие тысячи людей, работали самоотверженно, увлеченно, я бы сказал, с той степенью упоения, когда человек перестает замечать трудности, неудобства, даже лишения, когда воодушевление захватывает его без остатка.
В те дни не было пристрастия к разговорам о героизме труда, о неслыханном подвиге (как это внедрилось в наш быт три-четыре года спустя), просто люди работали с полной отдачей своих сил, не считаясь ни с чем.
Когда я теперь думаю об этом, мне совершенно очевидно, в основе той героики лежала вера в наше дело. Причем вера эта не была отвлеченной, так сказать, абстрактной, она имела конкретные очертания, ребята рассуждали так: «Мы строим новый мир, и он, этот новый мир, вот он перед нами. Сегодня наши руки и спины надорваны тяжелой работой, но вот построим домны и мартены, сделаем из стали и чугуна машины и тогда отбросим прочь все эти лопаты, байдарки, кайлы, лома, которые калечат нас сегодня».
Помню один случай, весьма показательный в этом смысле. Стояли жуткие морозы. Стройка утопала в сумраке изморози. Пылавшие костры в котлованах не прогревали землю. Стоило лишь сдвинуть угли и золу с кострища, как мороз снова схватывал почву, и она окаменевала, и кайлы отскакивали от нее при ударе, не оставляя следа. Температура понизилась до сорока градусов. Производительность труда землекопов настолько упала, что было решено прекратить работу в котлованах, погасить костры. К тому же на стройке появились случаи обморожения, особенно среди тех, кто находился на лесах, где, естественно, было еще холоднее от ветра, чем на земле.
Радио объявило, что руководство стройки рекомендует не выходить на работу, переждать пик морозов. Однако никто эти рекомендации всерьез не принял во внимание. Ни на миг не прекращалась работа в зоне бригады землекопов Петра Постникова. Это была передовая комсомольская бригада на стройке. Она подавала пример не талью производительности труда, но по многим другим показателям: по охвату ребят общеобразовательной и технической учебы, по спортивной подготовке, по содержанию в образцовом порядке общежития, по читаемости книг и газет.
Петю Постникова я хорошо знал. Это был батрак из одной деревни Ижморского района. Красивый русоголовый парень двадцати лет, с голубыми глазами, сильный и ловкий, он был любимцем бригады. Он ставил перед собой большие цели: стать инженером, научиться плавить металл, изобрести такую землеройную машину, которая сама бы передвигалась по горизонтали, сама углублялась по вертикали в недра. Убежден, что свою мечту он, так или иначе, осуществил бы.
Но судьба его оказалась трагичной. В одну из таких морозных ночей на стройке произошла авария. На площадке у одной из домен, вероятно от мороза, лопнули металлические обручи, скреплявшие леса. Высокая башня из тяжелых бревен рухнула под собственной тяжестью, превращаясь в хаотическое нагромождение дерева и железа. На одном из этажей башни, в тепляке, сбитом из досок, для обогрева людей, происходило собрание комсомольского актива. Постников пришел сюда по поручению горкома. Тут и закончился его жизненный путь, вместе с ним погибли еще несколько человек.
Авария вызвала и скорбь, и негодование: мороз морозом, но безопасность человека в любых условиях должна быть всюду первой заповедью.
На строительство немедленно приехал Р.И. Эйхе. Расскажу о встрече с ним в необычных условиях.
Было около трех часов ночи. Шла работа ночных смен. Наша подшефная комсомольская домна росла буквально и вширь, и ввысь.
Целой группой — в нее входили работники горкома комсомола и нашей выездной редакции — мы поднимались на леса домны. Подъем был крутым, местами доски, разделенные брусьями на ступени, обледенели и, чтобы продвинуться вперед, приходилось цепляться за ограждения из проволоки и легких тесин. На одной из самых верхних площадок, в сумраке, перемешанном со снегам, мы увидели людей. Их было пять-шесть человек. Возле них стояли двое военных с фонарями, свет которых пересекался с лучами прожекторов, поднятых на вершины столбов, и был мало заметен. Наше приближение вызвало у военных беспокойство, они замахали руками, пытаясь задержать нас, но стоять на стропилах было и неудобно и опасно, и вопреки их запрету мы все-таки вышли на площадку.
Троих из этой группы людей я сейчас же узнал. Это были Эйхе, начальник строительства Франкфурт, секретарь горкома партии Хитаров. Они уже окончили осмотр домны и подходили к спуску.
Эйхе был в своем неизменном черном полушубке, в серой папахе, в валенках с загнутыми голенищами.
— А ты зачем тут? — вдруг узнав меня, спросил Эйхе.
— Это домна подшефная комсомолу, Роберт Индрикович, — ответил я.
— Да, да! — воскликнул Эйхе и, сделав шаг-два, обернулся. — Люди гибнут! Учите молодежь безопасности!
Мы поняли, что имел в виду Эйхе, и отозвались хором:
— Будем! Обязательно будем!
Эта встреча глубокой вьюжной ночью на лесах будущей домны запала нам в душу. Мы знали, конечно, по другим фактам, сколь деятельно вникает руководитель краевой партийной организации Западной Сибири во все дела по созданию Урало-Кузнецкого промышленного комплекса, но все-таки встретить его здесь никак не предполагали.
Эйхе не было еще и пятидесяти лет, но его биография большевика-подпольщика, сосланного в Сибирь еще задолго до революции, высокий пост, который он занимал уже не первый год, создавали вокруг его имени некий ореол. «Как он мог рисковать ночью, в буран, взбираться на такую высоту?! Куда же смотрели Франкфурт Хитаров?!» — рассуждали мы, когда Эйхе с товарищами удалились вниз. Но тут же возникло и другое суждение: «Вот он настоящий большевик! Невзирая на старость (а нам, двадцатилетним, он казался уже стариком), вьюгу, риск подъема на такую высоту, идет ночью, чтобы самому все увидеть, все знать, обо всем судить не со слов других». И каждый из нас прикидывал эти суждения к себе, сознавая, что жизнь таких людей — пример для всего молодого поколения.
Авария, о которой я упомянул, не была единственной. И наказ Эйхе «учите молодежь безопасности» был наполнен тревогой человека, умевшего видеть в частном общее. Не только на строительстве Кузнецкого металлургического комбината случались аварии. Происходили они на шахтах, на заводах, даже на полях. Люди попадали под взрывчатку, под шестерки трансмиссий, на них опрокидывались тракторы и автомобили. Случаи были разные, а причина всего этого имела один источник — слабое владение техникой, неумение управлять сложными машинами.
Могучим эхом отозвался тогда клич партии: «Оседлать технику, породниться с машинами!»
Не осталась в стороне от массового движения за овладение техникой, освоение новых профессий и комсомольская печать. «Большевистская смена» и в основном издании, и в выездных выпусках поддерживала ребят и девчат, устремившихся в технические кружки, в клубы науки и техники, засевших по общежитиям за изучение учебников и специальных наглядных пособий, которые издавались с широким размахом.
В комсомольских ячейках по примеру «теоретических часов» стали появляться «технические часы». Профессора ВУЗов, научные работники из проектных бюро, работники плановых органов, просто инженеры появились на трибунах комсомольских пленумов и собраний.
Наш редакционный коллектив (а в нем было около сорока сотрудников) не мог не принять участия в этом движении. Еженедельно, в определенный час, довольно большой группой, мы отправлялись в Новосибирский клуб ИТР (инженерно-технических работников), где читались интереснейшие лекции из цикла научно-технических проблем.
Иногда мы приглашали к себе в редакции кого-нибудь из работников Западно-Сибирской плановой комиссии, кстати говоря, располагавшей авторитетными, компетентными работниками, и они посвящали нас в научные, экономические и технические аспекты бурно протекавшего преобразования нашего края.
Вот так мы и жили день за днем, вторгаясь в жизнь, черпая в ней свои заботы и свои нужды.
Центр — имеется в виду ЦК партии и Совнарком СССР, — все больше и больше обращал внимание на Западную Сибирь. Цекамол (так мы тогда называли свой Центральный комитет ВЛКСМ) старался не отставать от общего ритма. Почти безвыездно на Кузнецком строительстве и в шахтовых поселках Кузбасса работали пропгруппы ЦК комсомола. В них было по пять-семь человек отличных лекторов. Тут были и международники, и историки, и естественники, и искусствоведы. Со своими лекциями они проникали в самые дальние населенные пункты. По месяцу, по два работали они у нас в крае, и едва они уезжали, как на их место приезжали другие. Это была огромная помощь ЦК комсомола местным комитетам.
Живая связь с Цекамолом состояла и в регулярных приглашениях нас в Москву, то на совещания, то на беседу, то для поездки в какую-нибудь другую организацию в порядке изучения опыта и передачи своего.
Мне лично как-то пришлось побывать в Ленинграде. Две недели я ходил по ленинградским райкомам, редакциям молодежных газет и журналов, и даже, к моей радости, оказался на собрании комсомольского актива, в котором участвовал Сергей Миронович Киров.
— Зайди, Георгий, есть срочный разговор, — позвонил мне однажды Саша Кокорин, только что сменивший на посту Первого секретаря крайкома Александра Голикова, перешедшего на партийную работу.
Я поторопился в крайком.
— Предстоит нам поездка в Москву, — сообщил Кокорин, — телеграмма от Косарева.
— Кому нам?
— Приглашают и первых, и вторых секретарей ЦК республик, крайкомов, обкомов, помощников по комсомолу, политсекторов крайземуправлений, редакторов некоторых газет. От нашего края едут четверо. Ты в их числе.
— А каким вопросам посвящено совещание?
— Работе с сельской молодежью. Подчеркнуто значение совещания. Так и сказано в телеграмме Косарева: важное значение для будущей работы на селе.
Через неделю мы сели в транссибирский экспресс и отправились в Москву. По тем временам это был самый быстрый и самый благоустроенный поезд. В нем было всего пять пассажирских вагонов, багажный вагон, почтовый вагон и вагон-ресторан. Люди с удовольствием ездили в этом поезде, хотя билет стоил на него в два раза дороже, чем на обыкновенный пассажирский поезд.
Это была первая моя поездка в поезде такого класса, и я немало был удивлен теми удобствами, которые встретил здесь. Блестевшие лаком и медью двухместные купе, хрустящее, накрахмаленное белье под мягкими шерстяными одеялами, занавески на окнах с вышивкой «НКПС», стойкий запах дорогого душистого мыла в умывальниках, двери в которые открывались прямо из купе, внимательный, точнее, услужливый проводник (тогда их еще называли по-старому кондукторами), то и дело подносивший хорошо заваренный чай в серебряных подстаканниках, вкусные завтраки, обеды и ужины в вагоне-ресторане — все это сделало нашу длинную дорогу необычайно приятной. Пользуясь свободным временем, мы о многом переговорили. Рассчитывая, что совещание займет два дня, мы договорились о выступающем от нашей делегации, понимая, что больше одного оратора нам не удастся «протолкнуть». Выбор пал на Володю Шунько, который недавно был избран вторым секретарем крайкома. О его подготовленности, компетентности, как говорят теперь, я уже упоминал, но тут имело значение и еще одно обстоятельство: второй секретарь у нас непосредственно занимался деревенским комсомолом, отвечая за все стороны его деятельности. Ему, естественно, на таком совещании стоило и выступить.
В Москву приехали рано утром и прямо с Ярославского вокзала пешком направились в Цекамол, неся в руках свои чемоданчики с пожитками, деловыми бумагами и книжками для дорожного чтения.
Около девяти утра вошли в здание ЦК комсомола в Ипатьевском переулке (ЦК ВЛКСМ размещался тогда в одном из нынешних зданий ЦК КПСС).
В приемной управления делами сели за столы регистраций. Бросились в глаза подчеркнутая тщательность, с какой товарищи, проводившие регистрацию, проверяли наши документы. Нам предложили заполнить анкету, в которой было множество вопросов, а затем последовали дополнительные устные вопросы: есть при себе личное оружие и какое именно, владеешь ли какой-либо военной специальностью и в каком объеме и т. д.
Анкет тогда было настолько много, что никого это не удивило, как не удивили и сами вопросы, например, о тех же военных специальностях, так как дело это получало широкое распространение. Тот же Володя Шунько написал в своей анкете: «Пилот, парашютист».
Вскоре нам принесли из другой комнаты в особых конвертах документы на совещание, и тут проявленная тщательность при регистрации объяснилась:
— Совещание будет проходить в Кремле, в зале Андрея Первозванного. Вот пропуск туда. При утрате не возобновляется. Питание там же, в Кремле, в столовой Владимирского зала. Это — талоны на завтраки, обеды и ужины. А это — талоны на табачные изделия. Отдельно талон на книги — литературный паек. Жить будете в гостинице Коминтерна. Вот направление. (Ныне гостиница «Центральная», на ул. Тверская.)
— Поняли? Все в Кремле. Вот почему Косарев в телеграмме подчеркивал значение совещания, — многозначительно сказал нам первый секретарь. Но это объясняло далеко не все. Главное было впереди.
На следующий день совещание открылось. Насколько мне помнится, с докладом выступил сам генеральный секретарь Цекамола Александр Косарев.
Все мне было интересно в Москве. Да и другим ребятам тоже. В гостинице мы встретили несколько известных деятелей коммунистических партий зарубежных стран. В Коминтерне проходило какое-то совещание, и они прибыли в Москву для участия в нем. Поскольку имена некоторых из этих товарищей довольно часто мелькали в печати того времени, мы смотрели на них с откровенным интересом. Ну а самое основное — это Кремль. Все тут захватывало нас, начиная с того, что еду нам подавали на посуде, помеченной инициалами последнего царя «HP». Вензелями с этими буквами были украшены тяжелые, из чистого серебра, ложки, ножи и вилки. И на белоснежных салфетках стояла эта же мета «HP».
А в обеденный перерыв, когда мы вышли из дворца посмотреть легендарный двор Кремля, на субботнике по благоустройству которого когда-то работал Владимир Ильич, Вася Архипов, один из осведомленных работников Цекамола, выдвиженец из Сибири, подойдя к нам и понизив голос, сказал:
— А сейчас, земляки, покажу вам, где живет товарищ Сталин. Только так: не задерживаться напротив окон, и тихо, без болтовни идти, будто по другому делу…
И мы пошли за ним, стараясь всем видом изобразить, что мы направились в другое место.
— Вот видите эти окна с белыми занавесками? Его квартира! Видели?! А теперь — забудьте!
Только отойдя на почтительное расстояние от малоэтажного дома, притиснутого к более крупному зданию, мы многозначительно переглянулись, и кто-то один выразил общее впечатление:
— Скромно! Могли бы и получше дать квартиру вождю! — и как нам было сказано, все постарались забыть увиденное.
Второй день совещания был более коротким — нам предстояло посетить Большой театр. Слушали оперу «Кармен». Все считали, что нам подвалила удача — попасть в Большой театр, да еще на такой спектакль, и тогда было непросто.
Часов в пять мы быстро оделись и вышли во двор. Пропускали нас в Кремль через Ильинские ворота, те самые, которые обращены к зданию Исторического музея.
Чтобы выйти из двора Кремля, мы шли мимо Царь-пушки, пересекали Ивановскую площадь и вдоль продолговатого корпуса Кремлевского арсенала, где размещалась со времен революции школа краскомов, выходили на Красную площадь.
Очень хорошо помню этот февральский ранний вечер. Предзакатное солнце искрилось и горело на золоченых маковках соборов и башен. Тянуло откуда-то из Москворечья резким, еще по-зимнему, ветерком, приносившим сюда, на вышку великого города, запахи фабричных дымов.
Мы шли быстро, весело, разговаривали, смеялись. И вдруг говор смолк, смех, как ветром снесло, и от первых рядов нашей цепочки послышались приглушенные голоса, полные изумленья:
— Сталин! Смотрите, Сталин!
И тут все увидели живого, неподдельного Сталина. На Ивановской площади в Кремле в то время существовал островок. На нем росли несколько елей и между ними, вероятно, можно было бы при необходимости размяться, походить туда-сюда, колеся вокруг деревьев.
Именно здесь и прогуливался Сталин в обществе с каким-то крайне рослым краскомом, то и дело сгибавшимся к Сталину, который был ему только до плеча.
Сталин был в черной меховой шапке, с опущенными наушниками, в черном пальто, длинном, чуть не до пят, руки его были спрятаны в карманах, в зубах он держал трубку, слегка дымившуюся.
Он не спеша передвигал ногами в сапогах, изредка кивал военному головой, казавшейся очень большой, явно не пропорциональной его узким плечам и маленькому росту. Было во всем его облике что-то уж очень обыкновенное, даже простоватое, и это всех нас тронуло, вызвало чувство умиления.
Но вместе с тем подумалось и о чем-то возвышенном и сложном: вот он ходит так просто, обыкновенно, как все мы, смертные, а думает, наверное, о всей стране, о жизни миллионов, о всех нас. И может быть, ему сейчас тоскливо гулять с этим чужим, военным человеком, а не с любимой женой, которую он проводил недавно в скорби и страданиях в другой мир, перед которым и он не властен.
Мы стали сбавлять шаги, стараясь лучше рассмотреть Сталина, запомнить его облик навсегда. Это казалось редким счастьем тогда, неслыханной удачей, увидеть самого Сталина вот в такой необычной, почти интимной обстановке.
— Не останавливаться! Не сбавлять шагов! — услышали мы резкие голоса военных, возникших перед нами будто из-под земли.
Втайне проклиная этих военных, мы все-таки не ускорили шагов и, оглядываясь, стараясь не упустить ни одной подробности, втянулись в проемы Ильинских ворот. В эти минуты мы не знали, что не только увидим еще раз Сталина, но даже услышим его.
А произошло это так: когда на третий день совещания мы пришли на вечернее заседание, которое предполагалось стать заключительным, мы сразу заметили, что зал по своему составу стал иным. То там, то здесь сидели военные. Появились в зале известные в то время деятели партии и государства: Бубнов, Стецкий, Яковлев…
Заседание началось с продолжения прений. Выступали товарищи с Северного Кавказа, из Центрально-Черноземной области, с Урала. Но потому, с каким напряжением в Президиуме переговаривались, всем становилось ясно — предстоит что-то более значительное.
И вдруг одна из зеркальных дверей раскрылась, и в Президиум вошли Сталин и Молотов. Они шли друг за другом с промежутком в два-три шага, шли не спеша, подчеркнуто не спеша.
Сталин был в сером костюме: двубортный пиджак со стоячим, но отложным воротником, застегнут наглухо, ровные брюки (не галифе!) вправлены в мягкие сапоги на низком каблуке. Волосы у Сталина посеребрены сединой, глаза чуть прищурены. В одной руке трубка, другая рука большим пальцем заткнута за бортовину пиджака на уровне средней пуговицы.
Молотов в синем обычном костюме, в штиблетах, в галстуке в белый горошек. Широкое лицо бледное-бледное, бескровное, круглые, настороженные глаза под пенсне в золоченом ободке.
Все — в Президиуме и в зале — вскочили, захлопали дружно, с молодым азартом.
Сталин и Молотов заняли места слева от Косарева. В ответ на овации Молотов слегка потряс крупной лысеющей головой, Сталин, наоборот, замер в неподвижности и поспешно опустился в кресло.
Хлопали долго и упоенно. Молотов привстал, снова потряс головой. Сталин сидел неподвижно. Потом он резко повернул голову и что-то сказал рядом сидящему с ним Косареву. Что сказал — никто не расслышал. Но по движению его губ, прикрытых толстой складкой прокуренных усов, все угадали, что сказано:
— Продолжайте!
Косарев прервал звонком аплодисменты, все сели, и, поскольку трибуна пустовала, он объявил:
— Слово предоставляется секретарю Западно-Сибирского крайкома комсомола товарищу Шунько.
Я сидел с Володей рядом в четвертом ряду, как раз напротив трибуны. Вот это выпала Володе судьба: выступать в присутствии самого товарища Сталина! Когда Володя встал, чтобы выйти к трибуне, я успел пожать ему руку — держись, старина, не робей, не урони чести нашей организации.
Володя был человек стойкий, мужественный, но волнение одолевало его. Голос его дрожал, две-три паузы оказались затянутыми, но логика выступления от этого не пострадала, и он вскоре сумел овладеть собой в полной мере.
Сталин взял со стола лист бумаги, карандаш и что-то записал. Возможно, он записал что-то, совершенно не имеющее отношения к выступлению Шунько, но всем нам, сидящим в зале, показалось, что именно наш оратор высказал мысль достойную внимания вождя. Краем глаза и сам Шунько заметил движение руки Сталина, и, вероятно, это ободрило его.
К удовлетворению Президиума Шунько закончил свое выступление здравицей во славу Сталина. Все опять захлопали и дружно встали. Встал и Сталин, но вся фигура его оставалась неподвижной, и было такое впечатление, что все происходящее его абсолютно не трогает.
Шунько вернулся на свое прежнее место рядом со мной. Выступление далось ему тяжело, он был в поту, лицо пылало, руки были мокрыми и дрожали.
После Шунько выступили еще три товарища. Их выступления и по форме, и по мысли уступали речи нашего делегата, и мы отметили это про себя с чувством удовлетворения: «Наш-то выступил куда лучше!»
Сталин во время этих выступлений несколько раз склонял голову то в сторону Молотова, то в сторону Косарева и что-то говорил им, по-видимому, очень краткое, мимолетное.
И вдруг, когда один из выступавших закончил речь так же здравицей в честь Сталина, из зала послышался звонкий голос:
— Просим товарища Сталина выступить!
Этот возглас потонул в аплодисментах, но когда они чуть притихли, послышался новый возглас: «Даешь товарища Сталина!»
Сталин слегка приподнял голову, насторожился, и когда снова послышались из разных мест зала голоса: «Даешь товарища Сталина!», стремительно направился к трибуне. Теперь он был совсем рядом со мной, и я хорошо видел его, так как он стоял вначале не за трибуной, а около нее.
Он был сильно рассержен. Густые усы его в нервном тике подергивались, и лицо его, минуту тому назад невозмутимое, спокойное, исказилось. Отчетливо обозначились на коже следы от перенесенной когда-то в детстве оспы. Крупный, выразительный нос заострился. Сталин долго стоял молча, а зал внимал этому молчанию, затаив дыхание. Напряженное ожидание показалось таящим в себе что-то грозовое, необычайное.
Наконец Сталин сделал шаг назад и теперь оказался за трибуной.
— Насильно старика заставляете говорить! Вы думаете, мне легко? Вышел, чего попало наболтал, ушел. — Сталин каждое слово отделял большой паузой, дышал с натугой. — Слушал я ваши выступления и не понимал: о чем вы говорите? Зачем вы подводите итоги пятилетки? Я уже подвел их в докладе на Объединенном Пленуме ЦК и ЦКК. Почему толчетесь на одном месте? Не смотрите назад, глядите вперед… Что мы ждем от комсомола на селе? — задал вопрос Сталин и в своей обычной манере начал перечислять наши задачи: во-первых, во-вторых, в-третьих… — Машин на селе становится все больше и больше и часто они в плохой сохранности. Надо научиться беречь технику, чтобы каждая машина в любой час могла исполнять свою работу… Часто машин достаточно, а работать на них некому. Кому, как не комсомолу, сесть за штурвалы машин. Лучших ребят и девчат надо бросить на это… Мало культуры у нас на селе. Клубы, библиотеки, избы-читальни в плохом состоянии. Привести их в должный порядок… Пусть ключом бьет на селе новая жизнь!
Сталин говорил не больше пятнадцати минут. Тон его голоса не менялся: он звучал, как упрек, как выговор.
— Поменьше болтайте об итогах пятилетки, побольше практических дел — ежечасно, ежедневно… Желаю успехов нашей комсомолии! — Сталин впервые оторвал руку от борта своего пиджака, поднял ее слегка выше головы, потом так же резко вернул ее на прежнее место и столь же стремительно, как шел сюда, неслышными шагами покинул трибуну.
Мы все вскочили и громко рукоплескали. По залу разносились голоса: «Да здравствует великий вождь советского народа товарищ Сталин!», «Спасибо товарищу Сталину за мудрые указания!», «Ура товарищу Сталину!».
Когда овация затихла, Александр Косарев сказал краткое, но прочувствованное слово благодарности Сталину за его советы, которые, как и всегда, важны для комсомола, поскольку каждое указание вождя — это руководство к действию. Комсомол, без сомнения, ответит на речь товарища Сталина горячей, увлеченной работой во имя торжества коммунизма.
Снова овация загремела в золоченом зале. Но Сталин не стал ждать ее окончания. Он что-то сказал Молотову, поднялся из кресла, и они пошли к двери, через которую входили сюда.
Едва они скрылись за дверью, Косарев объявил перерыв.
Теперь, спустя многие годы, не просто со всей точностью передать то ошеломляющее впечатление, которое произвела пятнадцатиминутная речь Сталина, почему-то не попавшая в печать даже в пересказе.
— Кратко! Ясно! Без лишних слов! Все наши задачи как на ладони. И главное, доступны даже малограмотному, — со всех сторон слышались восторженные возгласы.
Прошли пятнадцать минут объявленного перерыва, но звонка, призывающего в зал, не слышалось. Вот минуло и еще пятнадцать минут. Всех это очень озадачило. Нас созвали только через час.
— Просим извинить, товарищи, за затянувшийся перерыв, — сказал Косарев. — Заседало бюро ЦК. Мы обсудили ход нашего совещания в свете указаний товарища Сталина. Мы пришли к выводу, что оно проходило неудовлетворительно, прения страдали односторонностью. Заканчивать на этом совещание нельзя. Необходимо преодолеть его дефекты. С этой целью бюро ЦК решило продолжить совещание завтра, а может быть, и послезавтра, и высказаться по проблемам, поставленным в речи товарища Сталина. Мы уверены, что вы все поддержите это предложение как вполне разумное.
Никто, естественно, не возражал, и предложение бюро ЦК о продолжении совещания было единодушно принято.
Стоял уже поздний вечер, и все кинулись во Владимирский зал, в столовую.
После ужина совещание как бы разбилось на маленькие группы по принципу землячества и товарищеским пристрастиям.
Шли в гостиницу пешком, не спеша, по улицам Москвы, скудно освещенным старомодными фонарями, с сугробами снега по бокам тротуаров, тщательно уложенного старательными дворниками в белых фартуках. Тогда еще не отжил вкоренившийся в царское время порядок, когда дворники с наступлением темноты выходили на усадьбы и маячили возле ворот до полуночи с метлами или лопатами в руках.
Разговаривали мы между собой тихо, интимно и все, конечно, о нашем совещании, о приходе на него Сталина и Молотова, о речи вождя, которая и воодушевляла, и звала вперед, но чем-то задевала, оставив в душе каждого горький осадок, который нет-нет да и прорывался наружу.
— Как он вскочил! Прямо, как лев разъяренный! Недаром враги боятся его!
— А говорит по-русски плохо, многие слова не разберешь… А все, наверное, потому, что любит свой народ, свой язык… хотя с русскими всю жизнь.
— Да, сильный у него характер. Истинно — сталь. А вот Ильич мягче, видать, был. Вспомни-ка его речь на Третьем съезде комсомола. Ни гнева, ни упрека. Сплошная душевность…
— Мысль, как стрела, бьет в цель. И никаких других мнений. Целеустремленность!
За восторгом, который был всеобщим, за пылкой эклектикой суждений угадывалось затаенное желание видеть вождя более душевным, менее категоричным, более внимательным.
Последний день совещания, естественно, прошел под знаком восхваления Сталина, его указаний, которые так многогранно, так конкретно осветили наш дальнейший путь. Отдельные товарищи, выступавшие вторично, осуждали свои первые речи, считая их дефектными, мало аргументированными, в чем-то не совпадавшими с указаниями вождя.
Когда в этом смысле самокритики не хватало, из Президиума прерывали ораторов, напоминали, что собрались мы в момент по-своему исторический, — товарищ Сталин уделил комсомолу такое повышенное внимание, и наш долг ответить на его отеческую заботу достойным образом.
Итоги совещания подвел А. Косарев. Он призвал весь актив приступить к практической работе без раскачки и промедления. И делегаты совещания разъехались из Москвы немедленно, с первыми поездами, преисполненные решимостью работать не покладая рук.
Едва в Новосибирске мы вылезли из поезда, нас окружила толпа комсомольских работников, собранных со всего края. Все поехали в крайком, и там все мы, делегаты совещания, до полночи рассказывали о Москве, о речи Сталина, о задачах, которые предстоит решать комсомолу Западной Сибири. (Упомяну попутно, что тогда в состав нашего края входили нынешние Омская, Новосибирская, Томская, Кемеровская области, Хакасская Автономная область, Алтайский край, Горно-Алтайская автономная область и западная часть Красноярского края.)
Через неделю-другую «машина» закрутилась на полную мощь. В совхозы и колхозы двинулись из города комсомольские агитколонны, сотни докладчиков-агитаторов; двинулись кто на поездах, кто пешком, кто на попутных подводах и машинах.
Из редакции «Большевистской смены» выехали на места лучшие корреспонденты. Выпускать газету остался минимум работников, без которых дело просто затормозилось бы. Тема сельской жизни превратилась на полосах газеты в основную, занявшую три четверти газетной площади.
Выехал в районы и я. Мой путь лежал в Ачинск, Назарово, Минусинск, Курагино. Тогда впервые мне удалось побывать в Шушенском.
Дом, в котором жили Ленин и Крупская, все подворье, улица села — все, все сохраняли в неприкосновенности. Может быть, потому что подлинность всего этого не пережила еще неизбежности реставрации — обиталище нашего гениального учителя производило сильное впечатление. С моим другом Николаем Драчевым, работавшим очеркистом в «Большевистской смене» и неоднократно ездившим вместе со мной по Западной Сибири, мы не только осмотрели дом Ленина, но и обошли окрестности Шушенского, любимые Лениным места прогулок и охоты.
Выйдя за село, где-нибудь на взлобке, мы останавливались и, осматривая поля, лес, небо, проселочные дороги и тропы, рассуждали вслух с искренним волнением:
— Умопомрачительно! Здесь ходил Ленин, здесь он думал о России, прозревал ее новый облик.
И все, что лежало в сумраке весеннего тумана, клубившегося от не сошедшего еще снега, казалось каким-то обворожительно-загадочным, способным вот-вот поведать волшебным человеческим голосом какую-то неизведанную никем тайну, идущую через пространство и годы от самого Ленина.
Что ж, можно было обвинить нас в мистике, но точнее сказать, мы были романтики, мечтатели, и Ленин для нас был наивысшим воплощением наших помыслов и надежд.
В Минусинске мы попали на съезд партизан. Минуса, как в просторечии называют этот край Сибиряки, — южный угол Западной Сибири, — известна многими немеркнущими событиями своей истории. Тут в свое время процветало передовое земледелие. Минусинское зерно славилось на всю Сибирь. Здесь успешно осваивали крестьяне культурное садоводство. Яблоки, арбузы, самые диковинные ягоды заполняли Минусинский рынок.
Славились минусинские пределы и золотым промыслом. Первой столицей сибирских золотопромышленников был избран Минусинск.
Через минусинскую ссылку прошли многие благороднейшие сыны и дочери российского революционного движения, включая и Ленина. И, несмотря на все строжайшие запреты и ограничения в общениях с местным населением, они оставили по себе неизгладимую и добрую память как страстные поборники просвещения народа.
Несомненно, что не без влияния их идей и их примера среди местных жителей появились люди, которые затрачивали свои усилия и средства на создание частных школ, библиотек, агрокурсов, покупку заграничных сельскохозяйственных машин, внедрение научных агроприемов в земледелие.
В Минусинске еще в далекие годы царизма был создан и успешно существовал музей Николая Михайловича Мартьянова, одного из исследователей Сибири. И теперь этот музей является замечательным очагом культуры, к которому тянутся не только научные работники, но и все интересующиеся историей края.
Вернусь, однако, к съезду, или, точнее, к сходу партизан.
Это было собрание товарищей по оружию, соратников по переустройству общественного уклада жизни. Вначале заслушали доклад секретаря райкома партии о текущем моменте, а потом выступали бывшие командиры и рядовые, вспоминали свое боевое прошлое, рассказывали об участии в коллективизации и колхозном строительстве.
Оказалось, что многие партизаны занимали теперь должности председателей колхозов, секретарей партийных ячеек, бригадиров, звеневодов и т. д.
Собрание это было очень веселым, потому что чуть ли не каждый выступающий рассказывал что-нибудь потешное: то о том, как ночью разведчики приняли пеньки на полях за развернутую цепь наступающего противника и обратились в бегство, то как, не разобравшись в карте, в собственной, давно отвоеванной зоне, устроили перестрелку со своими, и так далее в таком же роде.
На сходе присутствовал один очень почетный гость. Это был сибирский писатель Петр Поликарпович Петров, бывший партизан этого края, редактор партизанской газеты «Серп и молот». Это имя в то время широко было известно в Сибири, да и за ее пределами. Петров был автором книг, о которых хорошо отзывался Максим Горький. Его поэма «Партизаны», насколько мне помнится, напечатанная вначале в журнале «Сибирские огни», была уже одобрена на подобном съезде партизан и вышла отдельной книжкой по его специальному решению.
Петров был крепок телом, ясен лицом, скуп на слово. Помню, что он сам, своей подтянутой фигурой, произвел на меня большее впечатление, чем его речь.
После выступления писателя районные власти решили поднести партизанам подарки. Эта часть заседания незабываема. Подарки были копеечные, но большой смысл самой акции оттого не потускнел. Бородатые и безбородые мужики, задубевшие на тяжелой работе, еще белозубые по молодости лет, вдруг теряли свой мужественный вид, выходя на сцену, смущались, не зная, куда девать свои могучие руки, кланялись в зал земным поклоном.
Зачитывал список председатель райисполкома, он же подавал и праздничные узелки:
— Хлыстов Иван, — сатину на рубаху.
— Копылев Парфен, — брезентовые ботинки.
— Скоробогатов Илья, — заготовки на бродки.
— Ситников Семен, — «чертовой кожи» на шаровары.
— Комаров Варсонофий, — пара белья из бумазеи.
Подарки получили поголовно все — человек сорок.
Самый дорогой подарок был поднесен почетному гостю Петру Поликарповичу Петрову, — охотничий кинжал с костяной рукояткой. По стародавнему обычаю тут же председатель потребовал от Петрова уплатить за кинжал символический гривенник, поскольку дарить ножи на Руси считалось предосудительно.
Сходка окончилась, и мужики поспешили на базарную площадь, где у прясел их ждали кони под седлами.
И никто из нас — ни партизаны славного командарма Щетинкина, отстоявшие здесь советскую власть от белогвардейцев и интервентов, ни мы, комсомольские журналисты, всегда спешившие туда, где затевалось какое-нибудь общественное дело, не знали, что эта сходка партизан была в их жизни последней встречей. Через два-три года все они под различными предлогами были арестованы и уничтожены как «враги народа», одни стремительно, без следствия и суда, другие в долголетних мытарствах по тюрьмам и лагерям.
Не одну неделю провели мы с Николаем Драчевым в южных районах края. Знакомились с людьми, исписывали блокноты всюду, где были: на полях, в кузницах, в которых полным ходом шел ремонт сельхозинвентаря, на вечеринках молодежи в убогих клубах и избах-читальнях, на сходках жителей сел и деревень, в которых в нелегкой, а временами даже в смутной обстановке административного нажима завершалась коллективизация, шло очищение колхозов от кулацко-белогвардейских элементов, перешедших по характеристике печати того времени к тактике «тихой сапы» (вредительству под покровом доброжелательности к колхозному строю).
И еще что мы делали — мы выступали, выступали, где только это было возможно.
Но хочу сразу опровергнуть предположение, что мы уподоблялись чеховскому оратору, готовому произнести любую речь по первому же заказу.
Нет, публичное выступление в ту пору носило свойство общественного долга. Не надо забывать, что в стране развертывалась культурная революция, и ее пафос захватывал широкие массы людей — и тех, кто учил, и тех, кто учился.
Моралью каждого интеллигента было: если ты больше знаешь, чем другие, то поделись своими знаниями, знания не твой личный капитал — он принадлежит всем.
И действительно, с беседами, докладами, лекциями выступали тысячи учителей, агрономов, врачей, партийных, советских и комсомольских работников.
Просто вызвало бы недоумение, если б ты, приехав из краевого центра, не соизволил выступить в школе, клубе, избе-читальне, наконец, на улице, на тему, которая занимала тебя самого. Мы с Николаем Драчевым выступали чаще всего вдвоем: я по текущим событиям внутренней и международной жизни, он о лучших книгах советских писателей, вышедших на гребень читательских интересов.
Как это обогащало нашу общую жизнь, какая это была замечательная традиция!
К сожалению, традиция эта не удержалась, померкла.
Бывая в последние годы в городах и селах, я часто с огорчением встречал такую картину: двадцать-тридцать специалистов живут на отшибе от всех, замкнулись в своем интеллигентском кружке, им на ум не приходит, что люди ждут их. Приезжие же из областных центров, знающие специалисты различных профилей, считают так же ниже своего достоинства прийти в школу или в клуб и рассказать со всей своей душевной щедростью о том, что составляет предмет их деятельности.
Говорю все это не в упрек обществу «Знания», которое делает доброе дело, но которому не хватает истинного размаха в пропаганде знаний — ибо часто лекторы его слишком официальны, слишком привыкли к фешенебельным аудиториям и залам, слишком избалованы массовыми сборами слушателей, а знания должны быть похожими на самою атмосферу, где человек, там и они. И надо чтобы они искали человека, а не он их. Вот в чем состоит подлинное просвещение народа…
За время моей поездки по районам края в редакции произошли сдвиги, которые я уловил с первой встречи с моим заместителем.
— Георгий, тебе уже три раза звонили из краевой комиссии по чистке партии.
— А что такое произошло?
— Ну, мне всего не сказали, но из намеков я понял, что в наш редакционный аппарат пролезли чуждые элементы.
При первой же возможности я направился в комиссию по чистке партии, которая еще не началась, но подготовка к ней охватила уже весь край.
Комиссия размещалась в помещении партколлегии крайкома партии и уполномоченного комиссии советского контроля по Западно-Сибирскому краю.
Ответственный работник комиссии был из числа приезжих из Москвы. Он долго расспрашивал о работе редакции, о состоянии газеты, а затем попросил меня охарактеризовать сотрудников редакции поименно.
Я удивился, сказав, что это займет немало времени, так как в редакции несут службу несколько десятков человек.
— А ничего, нам торопиться некуда, — утешил он меня.
— Коли вас это не смущает, пожалуйста, я готов рассказать о каждом, — согласился я.
— Кстати, посмотрим, насколько серьезно знает редактор свои кадры, — не без тайного намека, тоном, далеким от доверительности, заметил приезжий работник.
Я хорошо знал людей, с которыми работал, но поручиться за то, что знаю каждого из них по всем статьям их биографий, что называется «до десятого колена», едва ли я мог.
В конкретных условиях редакционной работы меня каждый из сотрудников интересовал, прежде всего, тем, какова его деловая подготовка, способен ли он выполнять круг своих обязанностей и достаточно ли он инициативен в этом.
Характеристику сотрудников я и начал именно с этих позиций. Вероятно, не менее часа, переходя от одной фамилии к другой, говорил я. Приезжий слушал, не перебивая меня. Изредка он отгибал край согнутого вдвое листка и наскоро что-то отмечал прикосновением остро заточенного карандаша.
— Что же, вот, пожалуй, и все работники нашей редакции, — сказал я, окончив свою беглую характеристику своих товарищей по работе. Последним у меня шел наш фотокорреспондент, человек уже далеко не комсомольского возраста, но владевший своим делом исключительно хорошо.
— Ну, знаешь, по твоей характеристике у тебя не редакция, а такое убежище ангелов! — мрачно усмехнулся приезжий.
Я промолчал. Услышанное замечание никак не совпадало с моей характеристикой. При всем благорасположении к своим сотрудникам я говорил, и довольно резко, и о многих недостатках: один с ленцой и не любит выезжать в районы, второй не всегда тщателен в работе и не раз поставлял нам на полосы перевранные фамилии, за что имеет от редактора взыскание, третий любит волочиться за хорошенькими девчатами, клянется каждой быть верным до гроба, затем рассылает им письма, путая Дусю с Дашей, а Таню с Маней. Но при всем этом всех стараемся воспитывать, прививать лучшие качества работников большевистской печати.
— Боевитости тебе не хватает! Вот ты до небес возносил фотокорреспондента, а тебе известно, что он бывший белый офицер, колчаковец? Да его к комсомольской газете на три версты нельзя подпускать!
— О том, что он бывший белый, мне известно…
— Тогда, что же ты тянешь? Почему не выгонишь этого белогвардейского недобитка из редакции?! Или ждешь, когда он подложит газете какую-нибудь антисоветскую свинью?! Дождешься! — голос приезжего товарища наливался силой. И фотокорреспондент не был последней претензией ко мне. На согнутом листке бумаги просвечивались еще несколько фамилий.
— Сложное дело это с фотокорреспондентом… — попытался я начать свои объяснения.
— Чем же оно сложное? Сознайся, что трусишь ударить по классовому врагу! — приезжий перешел откровенно на крик. Еще миг и он ударит по столу кулаком.
— Калинин ему дал путевку, — сказал я.
— Какой Калинин? Что ты городишь чепуху?
— Михаил Иванович Калинин — наш всесоюзный староста. Дело в том, что в его первый приезд в Новониколаевск наш фотокорреспондент сделал любительские фотографии в момент митинга на открытии электростанции. Снимки очень понравились Калинину, и он сказал: «Передайте спасибо фотографу, он мастер своего дела и привлеките его к газете». С тех пор он печатается во всех газетах и журналах Сибири.
— Калинин же не знал, что он белый офицер…
— Ему сказали…
— И он?..
— И он сказал: «Но ведь теперь белых нету. А кроме того, он перешел к красным добровольно».
Фамилия Калинина явно выбила приезжего товарища из колеи. Он стал красным, как кирпич, промычал нечто невнятное, но отступать не собирался.
— А вот еще номер! Ты держишь корреспонденткой некую Черную. Она исключена из Ленинградского университета как дочь пепеляевского офицера. И еще вот тут на тебя заявление есть, будто разводишь с ней шуры-муры. Что, это достойно коммуниста?
— Рекомендована писателями… Приходили Глеб Пушкарев, Вивиан Итин, известные в литературе люди. Ей только двадцать лет, а она уже автор книжки рассказов…
— Эка невидаль, автор книжки! Подумаешь, великое чудо! Да посади нас с тобой на хорошее питание, освободи от ответственной работы, и мы намараем что-нибудь похожее на книжку. Ты линию проводи и поглядывай вокруг позорче! У тебя кто отец-то? Где он? Слушки тоже разные ходят…
— Отец там же, где и был: в деревне, в колхозе с двадцать восьмого года. А в двадцать первом году сам был председателем сельскохозяйственной и промысловой артели «Дружба» на Васюгане.
— Ну-ну, не похваляйся, он у тебя старший унтер-офицер… Знаешь об этом?
— Экий чин! Унтер-офицер. Он стрелок отменный, грамотный… Вот и навесили ему лычки. Как-никак шесть лет отстукал Отечеству на Дальнем Востоке.
— Отечеству?! Царю, а не Отечеству! Не забывай об этом. И на чистке не вздумай скрывать, что отец царю служил. Настоящие люди на каторге гнили, а не лычки выслуживали… Еще раз говорю — не вздумай скрывать.
— Ради чего?
— Молодой ты, а уже при такой должности. Поглядывай, не попадись на удочку чуждых антисоветских элементов. Всерьез тебе говорю. Иди!
Я попробовал попрощаться с приезжим товарищем, но он даже не взглянул на меня.
Шел я в редакцию поникший. Горькие раздумья разрывали душу, чувствовал, что в нашу жизнь врывается что-то совсем непохожее на то высокое доверие товарищей по партии, за которое люди шли в огонь и в воду. Вспоминались слова другого старого большевика: «Молодость не порок. Годы и знания — дело наживное. Не робей! Поможем!»
Все это было так непохоже на то, что услышал сейчас.
Не желая выдавать своего подавленного состояния товарищам по работе, я сразу не пошел в редакцию и долго бродил по безлюдным переулкам деревянного в ту пору Новосибирска. Мало-помалу самочувствие мое уравновесилось, да и тянуть дальше не было возможности — на столе ждали редакторского глаза полосы завтрашнего номера.
Недели через две вызвали в Москву. В телеграмме кратко было сказано: «Прибыть редактору с полными материалами о состоянии газеты. Предстоит важное мероприятие в Цекамоле и в Цекапарте».
В проходящем из Владивостока поезде, на который я сел, меня ждала удача. Из Хабаровска ехал в Москву по такому же вызову редактор дальневосточной комсомольской газеты. Встретились с объятиями. Четверо суток в пути позволили о многом переговорить, скрасили нудное дорожное время.
Информация о предстоящем в Москве у моего коллеги была несколько полнее: вначале разговор с нами, — а вызывались все редактора газет восточного направления страны, — будет проведен в Цекамоле, а потом нас примут в Центральном Комитет партии. Все это, конечно, озадачивало и волновало.
В ЦК комсомола наша небольшая группа редакторов (Уралобком, Запсибкрайком, Востоксибкрайком, Далькрайком) встречалась с работниками сектора печати и отделов ЦК. Потом с нами беседовали несколько секретарей ЦК (Косарев, Салтанов).
С первых же минут этих бесед вызывал недоумение их тон. На всех уровнях он был одинаковым — нервным, сверх меры требовательным, безапелляционным.
Меньше всего слушали нас и больше всего говорили нам, а точнее «снимали стружку»: упрекали, подозревали, откровенно грозили выговорами, снятием и т. д. В этом смысле не составил исключения и сам Косарев, который менялся в худшую сторону. Раньше я знал его как человека острого, азартного к работе, неутомимого, изобретательного и вместе с тем внимательного к другим, предельно товарищеского, всегда веселого, даже как-то по-мальчишески озорного. Теперь преобладали — резкость, грубоватость, нетерпимость. Мы понимали, что этот стиль отражает перемены, происходящие в «Большом доме», прежде всего у самого хозяина, но говорить об этом было не принято.
А сказывалось это буквально во всем. Вот позвали меня в сектор печати, и работники его с пристрастием принялись пенять, что я как редактор совершенно не занимаюсь вопросами жизни рабочей молодежи. Причем, усваивая новые веяния, каждый из них старался избирать слова как можно язвительнее. Один из работников, зная, что я происхожу из охотничьей семьи, публично острил: «Ты, может быть, скоро все четыре полосы будешь отдавать охотникам и рыбакам. Говорят, они великие мастера на всякие побасенки».
Наш опыт выездной редакции на строительстве Кузнецкого металлургического комбината ни у кого интереса не вызывал. Это безразличие к местному опыту порождало недоверие к установкам, которые высказывались в тоне административных распоряжений.
После всего происходившего в ЦК комсомола, в довольно мрачном состоянии шли мы на собеседование в отдел печати ЦК партии. Уж если в своем ЦК нам целых два дня давали «прикурить», то тут скорее всего будет разговор еще более крутым.
Мы вошли в продолговатую, сравнительно просторную комнату, и глазам своим не поверили. Перед нами, мирно беседуя между собой, сидело целое созвездие старых большевиков, имена которых воспринимались нами как легендарные. Мы сейчас же узнали по портретам в книгах Е. Стасову, Е. Ярославского, П. Лепешинского, А. Сольца. Тут же сидели еще несколько пожилых людей, которые нам были неизвестны, но сам вид их, и строгий и приветливый, рождал безотчетное расположение.
Что побудило этих людей прийти сюда — не знаю. Не думаю, что привлекло их только желание побеседовать с нами. Вероятно, это было какое-то совещание в коллегии по печати, которая существовала тогда в ЦК партии. А собеседование с комсомольскими редакторами являлось одним из пунктов совещания. Однако само пребывание возле старейших деятелей большевистской партии нам безумно польстило.
— Поговорим сегодня о делах комсомольской печати. Молодежные газеты на местах делают огромное полезное дело в интересах партии, но работают они в трудных условиях. Им необходимо помочь, — спокойно, без всякого нажима на те или иные слова, сказал человек, сидевший во главе стола. Потом все разъяснилось: это был заведующий отделом печати ЦК партии, старый большевик Хавинсон, многие годы руководивший текущей работой партийной печати.
Нам, редакторам, дали для своих сообщений по пять минут, но зато расспрашивали долго, обстоятельно, интересуясь всеми подробностями работы газет.
Часа через полтора этого разговора, носившего характер не заседания, а товарищеской беседы, Хавинсон подвел краткие итоги встречи:
— Хорошее впечатление произвели на меня редакторы наших молодежных газет, — сказал он, — товарищи, знающие свои задачи, толковые, озабоченные улучшением дела.
(Тут старые большевики закивали головами, поддержали мнение Хавинсона общим гулом.)
— Давайте поможем им, — продолжал Хавинсон, — и бумагой, и деньгами на гонорар для привлечения опытных литераторов и специалистов, и полиграфическим оборудованием.
Так закончилось это собеседование в ЦК партии.
Мы вышли из здания ЦК, не чуя под собой ног. Тут тон разговора с нами был совсем иной, не похожий на тот, который мы встретили в Цекамоле. Тогда нам было еще невдомек: люди, с которыми нас столкнула жизнь, были сами воспитаны в ленинском духе, и новый сталинский стиль туго прививался в их среде.
Возвращался я в Сибирь не с пустыми руками. «Большевистская смена» получила ощутимую прибавку: пять тысяч экземпляров дополнительного тиража, сто двадцать рублей гонорара на номер (дополнительно!), комплект наборных касс и плоскопечатный станок для выездной газеты в сельскую местность.
Чистка в нашей редакционной партячейке заняла целых три вечера. Парторганизация у нас насчитывала свыше двадцати членов и кандидатов в члены партии. Комиссию по чистке возглавлял доцент сельскохозяйственного института Лысенко, человек, хорошо понимавший существо наших забот, своеобразие нашей работы, и, конечно, учитывающий особенность состава нашей парторганизации. Это были молодые коммунисты, и самый старший из нас состоял в партии пять лет — не более.
Членами комиссии по чистке были двое рабочих новосибирских заводов. Наша работа, специфика нашего труда была для них делом далеким, и потому они по преимуществу молчали, всецело полагаясь на опытного председателя.
К полночи третьего заседания комиссия по чистке объявила результаты своей работы. Оценивая положительным образом состояние партийной организации и всю работу газеты, комиссия высказала ряд пожеланий отдельным коммунистам, относящимся к их поведению и практической работе. Ответственный редактор в этом перечне не был обойден, но так называемые сигналы о засорении редакции классово-чуждыми элементами были отвергнуты как несостоятельные. То, что комиссия, проводившая свою работу в подчеркнуто требовательной обстановке, сочла возможным оставить всех членов партии в ее рядах, являлось важным показателем морально-политической зрелости нашего коллектива.
Тысячи коммунистов в крае были тогда исключены из партии, и прежде всего под предлогом связей с классово-чуждыми элементами. Это был самый расхожий криминал, который применялся чуть ли не походя. У кого-то отец оказывался служившим в царской армии в самом безобидном звании фельдфебеля или унтер-офицера, у кого-то мать оказывалась выходцем из семьи разорившегося дворянина, мелкого чиновника — этого было достаточно для исключения из партии.
Был случай прямо-таки анекдотический. Одного моего товарища исключили за связь с собственным отцом, который перед Первой мировой войной служил контролером акцизного управления в городе Иркутске.
Как известно, на акцизных чиновников возлагался контроль за неукоснительным исполнением правил торговли товарами, имевшими государственную монополию (водка, табак) и товарами, отмеченными особыми наклейками.
Комиссии по чистке сама должность — контролер акцизного управления — показалась подозрительной. Она отнесла это ведомство к жандармерии, и разговор оказался ясным с первых минут — исключить как сына чиновника жандармской императорской службы.
Конечно, подобные случаи впоследствии исправлялись, но можно представить себе, сколько же приходилось пережить встрясок и отцу, и сыну, и многим, многим другим.
А у нас в редакции произошло после чистки странное явление — чистка вроде бы нас не задела, но нас начали донимать различного рода проверками, «сигналы» о засорении редакции чуждыми элементами сыпались один за другим. Я едва успевал писать объяснения то в комиссию по чистке, то в крайком партии, то в советский контроль. Все «сигналы» были беспочвенными, их сдавали в архив, но коллективу от этого было не легче. Сажа, которой нас старались испачкать, отмывалась не сразу.
Наконец, однако, все объяснилось. «Сигналы» строчил наш же сотрудник. Претендовавший на более крупную должность и на более заметное место на полосах газеты. Ему немало способствовала одна особа, у которой были претензии к двум нашим товарищам по линии неразделенной любви.
Массовые чистки порождали бесславное сучье племя клеветников, которое с особенной яростью проявило себя в разгар массовых репрессий в 1935–1939 годах.
Ответственности за свои поступки клеветник не опасался, ее просто не существовало, напротив, такие люди нередко числились в активе, прикрываясь то участием в рейдах РКИС (рабоче-крестьянской инспекции), то в группах комсомольской «легкой кавалерии».
Коммунисты старшего поколения помнят те позорные явления, которые происходили тогда на партсобраниях. Клеветники открыто похвалялись числом посланных в органы НКВД якобы разоблачительных заявлений, обличали в политическом нейтрализме тех, кто не писал еще никаких своих доносов, требовали принятия оргмер по партийной линии к таким коммунистам.
Боже мой, сколько же клеветников я повидал на своем веку, сколько же бесценных часов вырвали они у меня из жизни! Они были разные, не похожие один на другого, но одинаковые по своему моральному беспутству, по своему фанатичному презрению к окружающим их людям, по своему злобному эгоизму, по своему безмерному стремлению к торжеству зла и сладострастному наслаждению ввергать других в беду. Они подобны ржавчине на металле, разъедающие его упорно и неостановимо. Они достойны лишь одного — бесконечного презрения.
Вполне допускаю, что кто-то из читателей уже подумал: «Ну а где же твоя личная жизнь? Была ли она у тебя, или ты начисто был лишен ее прелестей и жил, как сухарь, довольствуясь повторением партийных истин?»
Была такая жизнь! Ведь мне в годы, о которых я пишу, было всего-то двадцать с небольшим лет, и хотя временами я сгибался под бременем требований долга, само развитие и становление человеческой субстанции подталкивало откликаться на зов природы.
Долго мои отношения с девушками складывались неопределенно, то есть, сказать точнее, никак не складывались, потому что я относился к ним ко всем одинаково приветливо.
А настоящая любовь невозможна на этом принципе, она связана с выбором, с предпочтением одной перед всеми.
Когда я работал в крайкоме комсомола, вместе со мной были на разных должностях тринадцать девушек. Кроме одной, все они были незамужние, но уже, как говорится, на возрасте, когда вопрос о замужестве становится решающим в судьбе.
Все они, конечно, понимали, что жених из меня ненадежный, что я еще ни морально, ни житейски не готов быть супругом, главой семьи. При моем увлечении общественной работой, чтением литературы, писанием доморощенных философских трактатов — супружество просто не совмещалось с моим образом жизни. Они и относились ко мне исходя из этих обстоятельств: приятельски, заботливо, заинтересованно и весело; то есть так же, как и я к ним.
Скажу, однако, не кривя душой, что одна из них мне очень нравилась, я чувствовал необъяснимое волнение и радость, когда мы оказывались с ней вместе. Понимал я, что и она выделяла меня из всех парней, которых достаточно было в крайкоме комсомола. Но она-то и была замужней, да еще не просто замужней, а женой знакомого мне парня, призванного на военную службу на Тихий океан.
Стрелка наших сложных отношений между тем не стояла на месте, то и дело дрожала и колебалась то в мою сторону, то в ее. Пока дело ограничивалось тонкой игрой слов. Но что-то подспудно надвигалось на нас и мог настать момент, когда запретный предел был бы опрокинут.
И тут вдруг выявилась сила ее характера, безумная цельность ее натуры. Подкараулив меня в кабинете одного, она подошла ко мне, взяла меня за руки и, глядя мне в глаза, глубоко-глубоко, сказала:
— Может быть, Георгий, мы и созданы друг для друга, но пришло это прозрение поздно. Понимаешь, необратимо поздно. Поезд ушел и его не вернешь. И говорю тебе правду моей души: если я изменю Васе, я завтра же повешусь. Ты понял? Повешусь. Меня хватит на это…
И вскоре она уехала, став секретарем райкома в самом дальнем северном районе нашего края, напросившись сюда — в тьму-таракань, по велению собственной совести.
А я на ее примере, вероятно, впервые всерьез понял, какое это ответственное дело — любовь, что играть в нее не только не позволительно, но недопустимо, так как это может обернуться тяжелыми последствиями на всю жизнь.
Именно после этого случая я стал строже взвешивать свои поступки, перестал, как мы выражались в юности, «заливать арапа» девчонкам, то есть изображать всякую всячину, как сущую правду, да еще идущую от самого сердца.
Но все-таки скажу несколько слов в назидание молодому поколению — увлечение, которое нередко принимается как истинная любовь, обманчиво и нужно сто раз подумать и проверить себя, чтобы не произошло подмены понятий, чтобы не испортить своей жизни и не исковеркать жизни чужой.
Годы, прикрытые фальшью, — годы чаще всего потерянные, их не повернешь вспять к великому сожалению. Конечно, понять все это отнюдь еще не значит, что ты получил страховое свидетельство, гарантирующее от заблуждений. Пробиться к пониманию истинного чувства не так просто. Порой достается это ценой серьезных ошибок. Правда, часто союзником истинности чувства является сама жизнь. Так случилось и со мной.
Когда та уехала в далекий северный район, дав понять мне, что между нами осталось только тысячеверстное пространство и воспоминание о наших мимолетных встречах, чаще всего происходивших в коллективе, я вдруг ощутил через некоторое время какую-то странную потерянность, или, точнее, пустоту. Это, видимо, вспорхнула надежда, которая, может быть, неосознанно жила все-таки в каком-то уголочке моей души. Но ведь недаром сказано: время врачует от всех бед и потрясений.
И вот сурово и грубо жизнь выстроила свой неотразимый вариант, который даже нарочно не придумаешь.
Моя новая героиня была, с одной стороны, ближе ко мне, а с другой — гораздо дальше, чем все девушки из круга моих знакомых. Она была и по склонностям, и по стремлениям литератором, причем уже профессионально пишущим. Ее образованность поразила меня. Десятки поэтов — русских и поэтов других народов, она читала наизусть, без малейшего насилия памяти. Она хорошо знала историю России, хорошо разбиралась в исторической литературе, знала книги ее корифеев, о которых я только слышал. Да что там русская история! Она свободно рассуждала об исторических событиях Древней Греции, Древнего Рима, Византии. Даже такая область, как история религий, в особенности христианства, составляла предмет ее давних интересов.
Чем больше мы разговаривали на общечеловеческие темы, тем больше моя сверстница открывала передо мной огромный и увлекательный мир.
Когда же она успела все это узнать? Мне, например, самому каждая капелька знаний доставалась с большим трудом. В чем же дело? В одаренности? В особой системе работы над собой, как мы говорили тогда? Конечно же так. Но еще у нее было одно, чего не было у меня. Она воспитывалась в семье педагогов, ее окружали люди с солидным образованием, способные мастера педагогического искусства.
«Э, мне бы такое, я бы тоже кое-чего достиг», — проносилось у меня в уме. Я откровенно завидовал моей новой подружке, — иным словом, я пока не мог назвать ее.
Но не во всем она одерживала верх. Я больше ее читал Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, мне были лучше знакомы труды наших русских и зарубежных естествоиспытателей. А уж что касается современной общественной жизни, знаний ее проблем, то в этом я до очевидности превосходил ее.
— А почему ты не в комсомоле и не в партии? — спросил я ее однажды.
— И скорее всего никогда не буду, — ответила она с предельной откровенностью. И не потому, что не разделяю современных социальных идей, они мне близки и я за них. Я буду жить и работать, чтоб они были воплощены в жизнь. Но я не общественница, я теряюсь перед людьми, когда их много, они угнетают мою психику. Может быть, я индивидуалистка. Я еще не знаю про себя всего, чтобы говорить об этом со всей определенностью.
Ничего подобного не смогла бы сказать ни одна из девушек, с которыми я был знаком. Все они были комсомолки-активистки, общественное призвание было в их крови, и их биографии складывались в духе самых передовых представлений о молодом человеке тех лет.
Естественно, что это как-то тревожило меня, но в то же время я верил, что общественная активность к ней придет, все еще впереди.
Между тем наши встречи, беседы порой затягивались до полуночи. Несмотря на зимнюю стужу и снегопады, мы исколесили Новосибирск из конца в конец.
И однажды я вдруг обратил внимание на ее внешность, на ее скромную манеру говорить и смеяться, на жесты ее, сдержанные и плавные, на ее лицо по-крестьянски розовощекое, но нежное и утонченное, под строгим взглядом карих внимательных глаз. «Господи, да какое же передо мной чудное создание! Как же я раньше-то не замечал этого!» — взволнованный своим открытием думал я.
Я ушел от нее в этот раз, унося в душе зеркальное отображение каждой черточки ее образа.
Претендентки на меня, как на свободного жениха, ревниво наблюдавшие за мной, прокомментировали все происходящее кратко и определенно:
— Влип ты, Георгий! И где ты выискал ее такую! Красивая, зараза!
И вот на этом самом пике моих счетов и расчетов с девушками, когда время подошло сделать окончательный выбор, меня постигла тяжелая беда. В бесконечных поездках по районам края я где-то заразился сыпным тифом. Температура за сорок опрокинула меня, и я потерял память.
Я очнулся в больнице профессора Бейгеля, которая находилась, как это ни странно, в самом центре города, в двухэтажном деревянном доме, вероятно, лишь по необходимости ужасной эпидемии, превращенным в больницу.
И первое, что я увидел, обретя, наконец, сознание, ее настороженные глаза. Мне подумалось, что у меня снова начинается бред.
— Как ты сюда попала? — спросил я, пораженный до крайней степени.
— Ну и напугал ты нас. Семь суток без сознания, — сказала она, устало улыбаясь и скрывая ладонями сине-красные пятна на лице от бессонницы и перенапряжения.
Когда я мало-мало пришел в себя, профессор Бейгель, при очередном обходе больных, рассказал:
— Благодари, дружок, за то, что жив, свою сестренку. Семь суток она сидела возле тебя, караулила кризис, беспрестанно поила тебя с ложечки водой. И еще поблагодари своих родителей — хорошо они тебя задумали. Твое сердце перенесло предельную нагрузку и не сдало. А сестренка твоя — бой-девчонка. Подняла на ноги весь крайздрав, дошла до самого заведующего — профессора Тракмана. Я же не мог пропустить ее в тифозный корпус. Есть правила, не мной писанные. А уж тут наконец, пропустил, правда, подписку, что предупреждена об опасности, — взял…
«Сестренка». Я сразу понял, что она это придумала, чтоб не оказаться отринутой от больницы. А что еще можно было придумать? Жена? Она не была женой, более того, у нас об этом и разговора-то никакого не возникало. Любящая? А могла ли она так называть себя перед посторонними. Да и кого бы это убедило? Между нами все еще было не ясно, смутно и жизнь могла повернуть самым неожиданным образом. Она была предельно осторожной, и это делало ей честь.
Ее поступок, а в моем понимании — это был подвиг, — еще больше сблизил нас. Мои комсомольские подружки прокомментировали ситуацию однозначно:
— Пойти в палату умирающих и вырвать человека из объятий смерти… это да! Сильный характер! Тебе повезет, Георгий, с женой. Хоть и беспартийная, а отважная! Смотри, не упусти девку. Круглым идиотом назовем тебя.
И по прошествии какого-то времени мы объединили с ней свои судьбы, и кажется ни разу, никогда, несмотря на все испытания и беды, довольно часто настигавшие нас, не пожалели об этом.
Едва я поправился после тяжелой болезни, как навалились неотложные дела. Приближалось пятнадцатилетие сибирского комсомола. Бюро крайкома утвердило обширный план подготовки и проведения юбилея.
Коллективно, всем составом бюро крайкома, нас принял Роберт Индрикович Эйхе. Беседа носила, как это случалось и прежде, задушевный характер.
— Учтите, ребята, что события складываются тревожно. Едва ли нам удастся избежать столкновения с капитализмом. Мы пока одни в мире, и нам будет нелегко. Воспитание героизма, коммунистической убежденности, стойкости в борьбе за наши идеалы — вот что самое главное сейчас. Используйте пятнадцатую годовщину сибирского комсомола в этих целях. У комсомола Сибири богатая история, шире расскажите о ней молодежи, покажите народу своих героев, которые были и которые есть у вас сегодня. Еще раз говорю: империализм попытается сбросить нас с палубы истории. Мы должны не только устоять, но и вырыть яму ему самому. Товарищ Сталин уже предупреждает: сроки у нас ограниченные, мы не имеем ни одного лишнего дня.
Эйхе говорил озабоченно, и мы понимали, что излагает он не только свой взгляд, а общую линию партии, направление ее будущей деятельности.
По решению бюро крайкома мы с Володей Шунько сели за разработку тезисов для докладчиков и лекторов о 15-й годовщине Сибирского комсомола. Частично, в переработанном виде мы напечатали в «Большевистской смене» цикл статей по истории нашей родной организации. Тезисы целиком были напечатаны отдельной брошюрой. Всю эту работу выполнили комсомольцы типографии в порядке подготовки к празднику.
Хорошо помогли нам в проведении юбилейной даты художники и писатели Западной Сибири, с которыми в целом у нас были добрые отношения. Поэты и прозаики опубликовали новые стихи и очерки о подвигах комсомольцев, были открыты в ряде городов края выставки художников и фотовыставки. Вполне допускаю, что не обошлось здесь без кустарщины и упрощенчества, но зато делалось все это инициативно, горячо, без всякого нажима.
Составной частью нашего юбилейного года (может быть, по чьим-то умозрениям и не вполне юбилейного) было проведение очередного призыва в ряды Красной Армии.
В те годы призыв проводился как общественно-политическая кампания общенародного значения. Молодежь шла служить в армию с охотой. Проводы призывников и в селах, и в городах превращались в праздники, в которых участвовали и взрослые, и молодежь, и дети. На всех призывных пунктах тема комсомола, его разнообразной работы звучала в полную силу.
Нельзя не воздать похвалы командирам и политработникам тех дней. Они были кровно заинтересованы в прочных и постоянных связях с «гражданкой» и не ждали, когда их кто-то и куда-то позовет. Шли на предприятия, в колхозы и совхозы, в учебные заведения, особенно в школы, — сами предлагали гражданским организациям и учреждениям свою помощь.
Когда, например, приближался день Красной Армии — 23 Февраля, из военных частей в аудитории трудящихся приходили десятки первоклассных докладчиков, отобранных из числа самых лучших командиров и политработников.
Вечера смычки с Красной Армией были одной из популярных форм связи военных с трудящимися. Программы этих вечеров часто являли собой дружеское соревнование в показе художественной самодеятельности и способствовали пропаганде искусства, как современного, так и классического.
Многообразно и деятельно комсомол Западной Сибири осуществлял свои обязательства по шефству над военно-морским флотом на Тихом океане. Был введен твердый порядок в чередовании делегациями, которые систематически прибывали к нам и столь же систематически отправлялись от нас на флот.
Сказать короче — человек в шинели и бушлате был близок нам, мы ни на минуту не забывали о ребятах, ушедших на службу, любили их, часто посылали им коллективные письма с изложением наших забот, а, получив ответ от них, прочитывали эти бесхитростные послания на открытых комсомольских собраниях…
…В тот день я встал на рассвете. Мешок с бельем и легкой провизией был приготовлен еще накануне. Я был острижен наголо, побрит, на мне был добротный шевиотовый костюм, ботинки с круглым гамбургским носком, суконная тужурка, кепка с длинным козырьком, как у жокея.
В самом-то деле, не мог же я, член бюро краевого комитета комсомола, явиться в Красную Армию, в которой мои трое старших братьев отслужили в целом более десяти лет, этаким растрепаем.
Я знал, конечно, что, как только окажусь в своей части, меня оденут в государственную форменную одежду, а мою одежду каптенармусы сберегут на складе до окончания моей службы или выдадут для отправки домой. Но такова уж была традиция — идти на призыв, как на праздник, и потому одеться во все лучшее, что есть у тебя.
Моя милая, юная жена понимала, что мы расстаемся надолго. Служба на тихоокеанском флоте продолжалась четыре года с одной побывкой домой, где-то в середине срока.
После испытания тифозной больницей, ей предстояло пережить испытание разлукой. И мне тоже.
По книгам, посвященным декабристам, мы оба понимали, какое это жестокое испытание, сколько воли и мужества требует оно от каждого, кто вступает на этот путь. Но иного варианта у нас не складывалось, а выбор стойко и верно пережить эти годы был нами избран сознательно.
Мы договорились, что она проводит меня только до ворот призывного пункта, во двор не пойдет, чтобы не надрывать своего сердца, видя слезы матерей, жен, невест, которые старались быть здесь до последней минуты формирования команд.
Вскоре я оказался в помещении, в котором работала призывная комиссия, составленная из сотрудников военкомата, представителей общественных организаций и воинских частей, ждущих очередного пополнения, вместо бойцов, ушедших в запас. Тут же работала и медицинская комиссия, производившая последний контрольный медосмотр призывников.
Обе эти комиссии сидели за длинными столами, одна против другой, чтобы можно было, при необходимости, вести деловые переговоры.
С призывной повесткой в руках я подошел к регистрационному столу, оставил на попечении двух дежурных красноармейцев мешок с бельем и провизией, тужурку и кепку и прошел в раздевалку.
Из нее полагалось выходить, как говорится, в чем мама родила. Вначале я подошел к призывной комиссии (она считалась основной), назвал свою фамилию и тотчас увидел, как моя анкета потекла по рукам членов комиссии.
— Где вы хотели бы служить? — спросил меня военком, сидевший в середине стола, на председательском месте.
— Я и прежде заявлял и теперь настаиваю на том же — отправьте меня на Тихоокеанский флот.
— Ну что ж, характеристика у него хорошая, подходит на флот; посмотрим, что скажут медики. Для флотских у нас требования повышенные, — сказал военком и кивнул кому-то из медиков головой, что, по-видимому, означало — «Приступайте к осмотру».
В то же мгновение ко мне подскочили сразу три врача и начали усиленно стучать пальцами в грудь и спину, а потом слушать в тестоскопы.
— Да у него шумы в легких, — вдруг сказал врач с длинными усами Тараса Бульбы. — Послушайте-ка его вы, Иван Кондратьевич.
Врач, обмерявший мою грудь, посмотрел на ниточку-измеритель человеческого тела, ухмыльнулся:
— У него и грудь тощая. Таких мы избегаем брать не только на корабли, но и на берег.
И тут я понял, что Иван Кондратьевич флотский врач, и уж если кто меня провалит, то именно он.
— Ну я хоть и не богатырь, а на свою грудь не жалуюсь, — попробовал я уменьшить впечатление от слов флотского врача. Но рассчитал я свой ход неверно.
— В этом деле, дорогой друг, мы в ваших советах не нуждаемся, — резко сказал врач и принялся старательно выслушивать меня: — Так! Дышите глубже! Так! Задержите дыхание. Еще раз! Еще! Глубже, наконец! — он отошел от меня на два шага и произнес безапелляционным тоном свой приговор: — На флот решительно не подходит. Он, видимо, недавно перенес какую-то инфекцию с высокой температурой, и сердце сохраняет еще аритмию.
— Он перенес сыпной тиф, — уточнил Тарас Бульба, заглядывая в мою медицинскую карту.
Воцарилось молчание. Члены и призывной комиссии, и медицинской поглядывали друг на друга:
— Ну что ж, прошу извинить, что не могу поддержать вашу просьбу о Морфлоте, — сказал военком, который довольно часто бывал на наших комсомольских встречах. Помолчав, он добавил: — Пойдешь в инженерные войска. Будешь сапером. Тоже нужное дело.
— Сапером, так сапером, что ж делать, — мрачно согласился я.
— Команда 11/13. Построение в 12.00, на плацу, — сказал один из членов призывной комиссии со шпалой на петлицах.
Я повторил приказание слово в слово и ушел одеваться, а комиссия приступила обсуждать судьбу следующего призывника.
Через час-другой обширный двор призывного пункта начал пустеть. Команда за командой выстраивались в одну линию и после переклички уходили на поезда, чтобы следовать в свои гарнизоны.
Ровно в 12 собралась и наша команда будущих саперов, но вот что странно — в ней было всего семь парней. Ну семь, так семь, подумали мы. Возможно, на такое число и дано предписание. Ведь у военных все четко до последней капельки. Однако подошедший к нам лейтенант с черными петлицами и значком инженерных войск на них сказал:
— Команде 11/13 разойтись по домам и ждать дополнительных извещений.
— А в чем дело? Почему такое происходит? — посыпались вопросы будущих саперов.
— Вероятно, произошел недокомплект команды по разверстке, спущенной вышестоящим штабом, а может быть, часть, в которую вам надлежит прибыть, находится в состоянии передислокации. А вообще-то, товарищи бойцы, в армии приказов не обсуждают, их выполняют. Делать, что сказано. Рра-ззой-тись! — протяжно скомандовал лейтенант.
На такой поворот дела я не рассчитывал. Я шел домой, в общежитие крайкома партии, где мне после женитьбы предоставили десятиметровую комнату, размышляя, к лучшему или к худшему повертывает жизнь.
Осторожно подойдя к окну, я встал на выступ облупившегося кирпичного фундамента и увидел свою боевую подругу. Она лежала на кровати, на животе, обхватив голову руками. Возможно, она плакала тихо и безутешно по поводу нашей разлуки, а может быть, была просто в дреме после бессонной ночи.
Я неторопливо постучал в окно, она вскинула голову, не улавливая еще, где стучат. Лицо ее было зареванным, и я понял, что она омыла уже первые часы нашей разлуки горькими слезами.
Увы, тогда еще она не знала, что впереди и ее ожидают разлуки, куда более драматические, чем эта, пока не состоявшаяся разлука наша…
А сапером я стал почти через год, и, можно сказать, что этот рубеж был началом той самой части моего бытия, которую я обозначаю как самую трудную и тревожную в первой половине моей жизни.
От должности ответственного редактора «Большевистской смены» меня еще не освободили, и я вышел на работу, как будто перед этим никаких событий не происходило.
И закрутилась редакционная колесница дальше…
1 декабря произошло событие, которое потрясло всю страну. Выстрелом в Смольном был убит Сергей Миронович Киров.
Я хорошо, во всех подробностях помню эти дни. Мне не хотелось бы сегодня ни прибавлять к тому, что было пережито, ни убавлять из этого ни одной капельки.
Мы все в редакции восприняли это событие как трагедию масштаба громадного, неслыханного после смерти Ленина.
Что-то особенно зловещее, неотвратимо трагическое, угадывалось в этом выстреле в Ленинграде.
Все были убеждены, что на этом трагедия не остановится, что последуют какие-то новые события — значительные, затрагивающие всех нас, не только сотрудников редакции, весь народ.
Я не принадлежу к числу верующих в Бога, но в предчувствия человеческие верю, верю в народную интуицию, предугадывающую грозовые потрясения — войны, засухи, разгул стихийных сил природы, эпидемии и т. д. Остается великой тайной, как происходят эти проникновения в зародыши предстоящих событий, но факт остается неопровержимым — народная мысль идет впереди конкретного опыта.
Выстрел в Кирова оценивался вселюдно, как преддверие новых бед, хотя еще летом 1934 года прокатилась волна арестов, которая тоже предчувствовалась по каким-то порой совершенно неуловимым признакам.
Были собраны в ряде мест прощенные вначале советской властью генералы и офицеры и многие активные участники партийных оппозиций. Обострялась подозрительность к спецам разного ранга и профиля.
У нас в Сибири это коснулось, прежде всего, Западно-Сибирской Плановой комиссии и ее подразделений в Кузбассе, в которых было много специалистов с подмоченной репутацией в прошлом.
Еще больше настораживало решение о проведении поголовной проверки партдокументов. Ведь только что по основным регионам страны прошла чистка партии. Значит, она не достигла цели. Почему? И главное — по каким линиям? Мало вычистили? Или не тех изгнали, кого следовало бы изгнать? Или, наоборот, изгнали больше, чем следовало бы? Но за этими вопросами просматривался основной, самый существенный вопрос: что будет дальше? Куда пойдет страна?
Ответ на эти вопросы дали похороны С.М. Кирова и передовые статьи «Правды», которые мы публиковали у себя в газете немедленно. ТАСС передавал их по телеграфу (других средств срочной связи тогда еще не было), с категорической припиской: «Под ответственность редакторов — публиковать в очередном номере, на видном месте, без сокращений».
Прежде чем отправить ту или иную статью в набор, мы прочитывали ее в своих редакционных комнатах. Имя Сталина упоминалось на каждой странице по пять и десять раз, впервые Сталина называли «родным и любимым», «гениальным стратегом социалистической революции», «великим вождем партии и народа». Сплочение вокруг Сталина выдвигалось как единственное условие торжества идей Октября, полного и победоносного разгрома классового врага, объединившего все свои усилия для борьбы против партии пролетариата. Бдительность, наступательное разоблачение врагов всех мастей и оттенков, безжалостное уничтожение их — вот что требовали газеты от всех коммунистов, комсомольцев, всех трудящихся.
Как ни категоричны были статьи, как ни блистали сталью отточенных формулировок, они не снимали вопросов, которые возникали у многих: почему с каждым днем имя Ленина, признанного всем человечеством вождем и стратегом социалистической революции, единственно бесспорным организатором партии и советского государства, отодвигается куда-то в тень? Почему Сталин, малоизвестный в годы, непосредственно примыкающие к Октябрю, вдруг оказывается самым верным и самым последовательным соратником Ленина? Почему дальнейшая судьба партии и страны связывается только с именем Сталина, только с ним одним? Разве ленинские принципы коллективного руководства устарели? Не выдержали проверки временем? Ленинизм живет, развивается, или ленинизм уступает место какому-то иному учению на исторической арене?
По этим вопросам говорили открыто, спорили страстно, а порой даже ожесточенно.
Я убежден, что об этих обсуждениях знало и политическое руководство в Москве, и сам Сталин знал. И, скорее всего, учитывая именно эти обстоятельства, имя Сталина все сильнее и сильнее вздымалось над гребнями народной жизни. Доводы, которые выдвигали с именем Сталина, все больше и больше приобретали напор, мощь урагана, и слова, прославляющие его, завораживали, подобно шуму водопада.
Заговорщическая деятельность так называемых врагов народа, изображалась в масштабах колоссальных, втолковывалось всем и каждому, что наша Родина под угрозой гибели, и только со Сталиным во главе мы можем вызволить ее из беды, спасти революцию от разгрома.
Все происходящие после убийства Кирова события, разоблачения и судебные процессы утверждали это раз за разом — бесповоротно, и только так, и никак иначе.
Перемены происходили стремительно, и были они различного свойства. Раньше в крайком партии мы ходили по партбилетам, теперь было создано бюро пропусков — общее: и для партийных, и для беспартийных.
Раньше Роберт Индрикович Эйхе ходил в одиночку, его можно было встретить и на улице, и на стадионе, теперь же его всюду сопровождали два охранника в штатском. Многие замечали, как это тяготило Эйхе, и он заставлял, по-видимому, охранников ходить от него на почтительном расстоянии. В его приемной наряду с секретарем был посажен дежурный офицер НКВД. Представляю, какое огорчение вызвало это нововведение у Яна Яновича Озолина, который в свое время справлялся с этой работой один, да еще будучи управделами крайкома.
А вскоре начались фундаментальные кадровые перестановки повсюду. Газеты пестрели сообщениями о переезде того или иного руководителя из одной республики в другую, из края в край, из области в область. Кое-кто из руководителей центрального ранга были посланы в области. Так было, например, с П.П. Постышевым, посланным в Куйбышев первым секретарем обкома партии.
Чем все это вызвано — никто не объяснял, но каждый думающий человек видел: происходит перетряска руководящих кадров, у нее, конечно, существуют свои причины, а вот какие — гадай как хочешь.
Не уцелело в прежних рамках и административно-территориальное деление страны. Сибирь оказалась в числе тех регионов, которые подверглись решительной перестройке, хотя лишь в конце 1929 года край был разделен на Западную Сибирь с центром в Новосибирске и Восточную Сибирь с центром в Иркутске.
В конце 1934 года нашего первого секретаря крайкома комсомола вызвали в Москву. Вызов совпал с выездом в столицу главных руководителей — первого секретаря крайкома партии и председателя крайисполкома.
Насколько помнится, все они вернулись небывало быстро, с ошеломившей нас новостью: Западно-Сибирский край и Восточно-Сибирский край перестают существовать в своих прежних границах. Между ними возникает Красноярский край с центром в Красноярске. Обь-Иртышская область с центром в Тюмени, просуществовавшая всего лишь несколько лет, ликвидируется. Часть ее районов с восточной стороны и часть западных районов Западно-Сибирского края войдут в новую область — Омскую, с центром в Омске. Тюмень — центр бывшей Обь-Иртышской области и несколько районов вокруг нее вернуться в Уральскую область (центр г. Свердловск).
Но были новости и персональные, касающиеся судьбы многих из нас, работников Западно-Сибирского края. Коснусь только тех перемен, которые касались комсомольских кадров.
ЦК ВЛКСМ, в связи с созданием новых административно-территориальных единиц, учреждал свои оргбюро в Омске и Красноярске. Первым секретарем оргбюро ЦК ВЛКСМ по Омской области был назначен В.Н. Шунько, вторым секретарем Л. Аксенов (работавший в Запсибкрайкоме комсомола заввоенным отделом), членами оргбюро утверждались: Л. Кузик (в «Большевистской смене» он был завотделом комсомольской и партийной жизни газеты). В Омске ему поручалось возглавить областное бюро юных пионеров. Я был также назначен членом оргбюро и утвержден ответственным редактором газеты «Молодой большевик», которую предстояло нам создавать, что называется, с «колышка».
Были откомандированы в новую область и некоторые другие товарищи. Отдельные работники Обь-Иртышского обкома комсомола были направлены к нам, в Омск, где и продолжали трудиться на различных должностях в последующие годы.
В Красноярск из Западной Сибири также уехала группа товарищей, но числом гораздо меньшим, чем в Омск.
Все эти передвижки произошли стремительно, так как была получена директива ЦК партии: все организационные меры осуществить быстро, без раскачки, и как можно скорее приступить к нормальной работе.
Создание новых территориально-административных единиц объяснялось важными целями: необходимо усилить руководство развивающимся народным хозяйством и политическое воздействие на весь процесс социалистического строительства.
Едва ли следует подвергать какому-то сомнению эти обоснования. Но были, конечно, и другие соображения, о которых не говорилось или говорилось между прочим.
В стране уже отчетливо наметилась линия на расширение партийного и государственного аппарата как рычага командно-административных методов, переросших затем в основные формы руководства и принесшие стране много тяжких бед.
…31 декабря 1934 года, глубокой ночью, мы небольшой группой, возглавленной В. Шунько, прибыли в Омск. В эту ночь только что наступившего Нового года в Омске разыгралась вьюга, загнавшая людей в дома.
Поезда сразу же вышли из расписания, и омский вокзал превратился в скопище ожидающих пассажиров. Мы решили перекоротать часа два-три на вокзале и затем уже перебираться в город, как обычно, пешком. Но вот войти в вокзал было просто немыслимо, так он был забит людьми.
В. Шунько направился к дежурному по станции. Вернулся нескоро, мы уже изрядно продрогли на морозе, прячась в будке с перекосившейся вывеской «кипяток».
— Дозвонился до дежурного Оргбюро ЦК партии. Пообещал выручить нас. Пришлет, невзирая на буран, крытый грузовик. Отвезет нас шофер в общежитие, которое отведено для прибывающих работников областных организаций, — сказал Шунько.
Грузовик прибыл раньше, чем мы ожидали. Через полчаса мы занимали уже свободные койки в общежитии, где стояло, по меньшей мере, пятьдесят кроватей красноармейского образца. Все они находились в одном зале, представлявшем запущенную казарму, наскоро побеленную и приспособленную для временного проживания работников новой области.
Чуть отдохнув, мы утром отправились в оргбюро ЦК партии. Первый секретарь оргбюро Д. Булатов был уже на месте и немедленно принял В. Шунько. Через час, примерно, Шунько сообщил нам о результатах своей беседы.
— Оргбюро ЦК ВЖСМ будет размещаться в этом же доме. Отводится для этой цели пока семь комнат. Этажом выше. Для редакции газеты «Молодой большевик» намечен дом на улице МОПРа. Дом деревянный, одноэтажный, далеко не новый, но еще крепкий. Его необходимо осмотреть и слегка отремонтировать. Газета должна выйти максимально через два месяца. Никакие объяснения об отсрочке выпуска газеты в расчет приниматься не будут.
Осмотрев комнаты оргбюро комсомола, вполне пригодные для их использования (здесь размещались какие-то городские учреждения), мы пошли на улицу МОПРа.
Дом, отведенный под редакцию, произвел на нас удручающее впечатление. Это был изрядно прогнивший и слегка уже накренившийся на один угол дом, в котором размещалось общежитие какого-то техникума. Он был настолько запущен, что мы только руками развели: да как же тут могли жить люди! Однако выхода у нас другого не было — на капитальный ремонт средств нам не отпустили, а самое главное — это потребовало бы большого времени.
После советов с инженерами из Горжилотдела мы решили избрать минимальный вариант: снести внутренние стены по всему этажу и установить новые, с тем чтобы из пяти больших комнат получить хотя бы десять маленьких «клетушек». Иначе невозможно рассадить более или менее удобно редакционный аппарат, учитывая бухгалтерию и хозсектор.
Пока разворачивался ремонт дома, я занимался составом редакционных сотрудников. Ответсекретарь редакции, выпускающий, замредактора по хозяйственным вопросам приехали из Новосибирска, первый замредактора прибыл из Тюмени. Ряд сотрудников пришлось сманить из «Омской правды», под предлогом более интересных должностей и более высоких окладов.
Были угрясены и все взаимоотношения с типографией, которая, как оказалось, находилась в хорошем состоянии.
Между тем ремонт дома шел с осложнениями. То не хватало рабочих, то недоставлены вовремя необходимые материалы. Ощутимую помощь оказывали сотрудники пока еще не выходившей газеты: грузили, красили, чистили, мыли.
В основном мы справились с установленными сроками, нервотрепки было предостаточно. Газета, наконец, вышла, «Молодой большевик» занял свое место в ряду комсомольских изданий страны.
…Но едва мы отметили выход газеты товарищеским ужином вскладчину, как повалились на нас беды, одна горше другой.
— Георгий, в наши ряды проник лазутчик. Крупный. Только что меня вызывали в управление НКВД и предупредили. Надо принимать меры. Сказали, что если будем хлопать ушами — потянут к ответу нас самих.
Наш разговор с Володей Шунько происходил не в его кабинете, а на улице, чтобы никто не услышал раньше времени ни одного слова.
— Что за лазутчик? Кто такой? — спросил я растерянно, никого, естественно, ни в чем не подозревая.
— Толька Марев! — сказал Шунько.
— Марев?! Да не может быть! Он же работал по ремонту дома, как зверь. Успевал и то и это. Он же, знаешь, такой преданный!
— И я не поверил ушам своим. Но им-то лучше знать. Оказывается, из Харбина он приехал не по согласию Исполкома КИМа, а по распоряжению разведки Семеновского белогвардейского центра. И в подпольную организацию Харбина он был внедрен как агент, с провокационным заданием. Все документы у него липовые. Нам приказано убрать его с должности твоего заместителя по оргхозчасти, но так, чтобы он не понял, что мы знаем его подлинное лицо, чтобы не спугнуть его раньше времени. У них, видимо, свои большие замыслы… Говорю тебе единственному, как другу. Они там, в управлении, и этого не рекомендовали, сказали: «Справляйся сам», а без тебя я, что могу сделать?
Шунько искренне не знал, как поступить в подобной ситуации, искал содействия у меня. А я долго моргал глазами, совершенно сраженный этой новостью.
— Вот это праздничек у Тольки! Да, ведь ты еще ничего не знаешь, у него же сегодня жена родила дочь… нет, кажется, сына. Мы еще по-настоящему не разузнали. Он, как полоумный, от радости помчался в роддом, — сообщил я.
— Ну если он враг, то я не собираюсь радоваться по этому поводу, — совсем помрачнел Шунько.
— А вдруг какая-нибудь у них ошибка?! А? Бывает же?! Что они, святые, что ли?! Ты сам посуди, Володя: неужели мы ничего бы не заметили, не почувствовали бы его вражье нутро! Столько вместе работаем! Ведь почти круглые сутки друг с другом… Сомнение что-то берет…
— Ты что, не доверяешь им? У них ошибок не бывает… Это мы можем принять коршуна за воробья, а у них глаз наметан, у них традиции Дзержинского: лучше не осудить двух врагов, чем осудить одного друга. Понял?
— Знаю.
— Вот то-то и оно, что знаешь.
Мы долго бродили по улицам Омска, но, как ни старались, придумать что-то толковое не смогли.
— В случае, если будут нажимать, скажу обыкновенное: дело не простое, надо же и должность Мареву подыскать, и повод для перемещения придумать. А тут к тому же жена родила… Тоже не пустяк. Потянем!
Он утешил и себя, и меня. Втайне мы рассчитывали на лучший исход. А вдруг призабудут? Или в самом деле ошиблись, поспешили? Что Толька враг, засланный к нам из-за границы, ей-ей, мы не верили.
Но там, откуда шли эти тревожные, прямо сказать, неправдоподобные вести, готовились нанести нам новый удар.
В Омск приехал поэт. Он был еще молод годами, но имя его уже широко знали в Сибири. Звали его Леонид Мартынов.
— Очень одаренный человек. У него большое будущее, — сказал мне Петр Людвигович Драверт, профессор минералогии, старейший поэт; когда-то, в царское время, отбывавший ссылку в Якутии. Его сборник «Под небом Якутского края» был издан в Томске в 1911 году. И теперь я считаю этот сборник редкостной книгой по своему поэтическому своеобразию. С Дравертом я познакомился в первые же дни по приезде в Омск, и по его приглашению выезжал на археологические раскопки, которые вел ученый, под Омском, на берегу Иртыша.
Рекомендация Петра Людвиговича Драверта для меня много значила, и я немедленно разыскал Леонида Мартынова, пригласил его прийти в редакцию «Молодого большевика».
Мартынов пришел без промедлений. Впечатление он производил на редкость благоприятное. Высокий, стройный, с прекрасным серьезным лицом, ясноглазый, коротко остриженный «под ежика», скупой и на слова, и на жесты. «Спортсмен и путешественник», — подумал я о нем и не ошибся. Он годков на пять был старше меня, но при знакомстве эта разница сгладилась, и у нас с ним возникли отношения сверстников.
Мартынов рассказал мне многое об Омске, о своей родословной. Город он очень любил, знал о нем уйму всяческих былей и небылиц. Был, разумеется, помянут Федор Михайлович Достоевский, биография которого так трагически и неотторжимо входила в летопись Омска. А затем Мартынов посвятил меня в свои поэтические замыслы и прочитал глуховатым голосом несколько стихотворений.
«Как это замечательно, что появился в Омске Леонид Мартынов, он поможет нам сделать газету более интересной для молодежи», — подумал я.
Не откладывая в долгий ящик, мы совместно с поэтом отобрали ряд стихотворений, и я без промедления отправил их в набор.
— Вы и гонорар платите? — спросил поэт с откровенной заинтересованностью.
— Конечно! И таким авторам, как вы, вполне приличный, — прихвастнул я.
— Как это хорошо! У меня полный крах, полное безденежье, — сказал он и, изображая степень своей нуждаемости, чиркнул себя ребром ладони по горлу.
— Я вам сейчас же выпишу аванс. Стихи приняты, они будут напечатаны обязательно. — Я взял клочок бумаги и написал распоряжение бухгалтерии о выплате аванса. Не помню, какая это была сумма, но только хорошо помню, как был доволен поэт.
Дня через два-три стихи были напечатаны в газете. Позже я неоднократно встречал стихи в сборниках Мартынова, это значило, что он ценил их, и опубликовал отнюдь не ради куска хлеба, в котором нуждался в ту пору.
Наши читатели заметили появление стихов Мартынова, писали и звонили в редакцию, просили продолжить знакомство с творчеством Мартынова и других поэтов Омска.
Но совсем иное отношение встретило наше сотрудничество с поэтом в отделе пропаганды и агитации Оргбюро обкома партии.
— Ты о чем-нибудь думаешь, или совсем классовое чутье утратил? Бросился на приезжего поэта, как муха на мед! А тебе известно, что он вернулся из административной высылки? Ты знаешь, что у него самая худшая репутация нейтрального поэта к нашей революционной нови. Товарищи из управления НКВД сигнализируют… — так коллективно выговаривали мне работники сектора печати Оргбюро. Вопрос о публикации стихов выносился на секретариат Оргбюро и меня стращали по меньшей мере выговором.
— Да вы посмотрите, товарищи, какая в стихах образность, какая мысль! Все они пронизаны нашим мироощущением, — пытался я защитить и поэта, и себя.
Однако на секретариат Оргбюро меня все-таки вызвали и поставили на вид, а отделу пропаганды и агитации поручили усилить контроль за газетой.
Я сделал тогда все, чтобы Леонид Мартынов не узнал об этом происшествии. Лишь спустя после этого лет двадцать, уже в Москве, мы вспоминали с Леонидом Николаевичем Омск, наших общих знакомых и земляков. И тут я рассказал поэту, как в свое время «пострадал» за его стихи.
Мы уже многое пережили, повидали, задубели от невзгод и потому тихо и равнодушно посмеялись над гримасами нашего тогдашнего бытия.
«Нет, положительно, мне не везет в Омске. Зачем только послали меня сюда?» — с отчаянием думал я, натыкаясь на какие-то странные превратности судьбы.
Едва я пережил историю с публикацией стихов Мартынова, как возникла новая беда. Меня вызвали в НКВД и потребовали снять с работы сотрудника, который вел у нас в газете историческую и краеведческую хронику.
— Ты знаешь, что его отец был городским головой в одном из среднерусских городов? — спросили меня чрезвычайным тоном, пытаясь подчеркнуть значение всплывшего факта.
— Ох, эти отцы, они обязательно кем-нибудь были, черт бы их побрал! — попробовал я пошутить, не зная еще, что эта моя фраза будет впоследствии расценена как политическое легкомыслие и мне придется за нее отвечать по строгому спросу.
Все, что происходило со мной и с другими товарищами, не талью настораживало, но и приводило к убеждению — впереди более грозные события, клубок будет разматываться дальше.
— Георгий, мы с тобой встречаемся в двенадцать тридцать у драмтеатра. Есть необходимость поговорить. — Это звонил Шунько. По голосу и месту встречи не в обкоме, а опять же на улице, я понял, что произошло что-то нешуточное и связанное непосредственно со мной.
В редакции я сослался на вызов в Обком и, поручив ведение всех дел по номеру заместителю, поспешил к театру.
Шунько был уже здесь, нервно прохаживался, нетерпеливо посматривал на прохожих.
— Час тому назад я вернулся от Булатова, — начал он тихо. — Как ни тяжело мне, не буду хитрить перед тобой. Разговор шел о тебе. В течение двух дней в Омске находился Розит. Ну, ты знаешь, что он не только уполномоченный комиссии советского контроля по Западной Сибири, но и член краевой комиссии по чистке партии. Хотя чистка в прошлом, а комиссия вроде еще не распущена, он привез какие-то заявления, которые доказывают, что ты скрыл социальное положение — твой отец не бедняк, а зажиточный, никому не сообщил ты, что твой брат исключен из партии как троцкист, а племянник исключен из комсомола как правый уклонист. Все это Розит расценивает как идейную неустойчивость и требует немедленно освободить тебя с должности редактора газеты. Ну и, конечно, учтены эти факты с засорением редакции чуждыми элементами. Булатов согласен с Розитом. Сказал мне, что в такое время мы не можем на таких идеологически острых постах держать людей, стоящих у партии на подозрении. Приказано — через три дня доложить о принятых мерах.
Никогда я не видел Володю Шунько таким растерянным и многословным. Уж кто-кто, а он-то знал не только меня, но и всех моих родственников. Еще в двадцать шестом году, когда мое родное село Ново-Кусково, было районным центром, он приводил у нас, по поручению Окружкома комсомола, районную конференцию. Тогда впервые я, пятнадцатилетний комсомолец, был избран членом райкома и председателем районного бюро юных пионеров. Знал В. Шунько и моих братьев — все они намного были старше меня, участвовали в Гражданской войне как красноармейцы-добровольцы, а затем были первыми в нашем таежном далеке шоферами, киномеханиками, сельскими кооператорами. Знал В. Шунько и моих сестер — сельских учительниц.
Но теперь, по-видимому, это фактическое знание не стоило ни копейки, так как по чьей-то злой воле появились бумаги, пытающиеся утверждать совершенно противоположное.
И еще был один член оргбюро, хорошо знавший мою родословную, — Л. Кузик, с которым я работал в комсомоле Томского округа с 1927 года.
Казалось бы, я мог рассчитывать на поддержку товарищей, но в наше чистое, прекрасное время молодости революции и молодости личной, человеческой, ворвались и с нарастающей силой начали действовать — иные общественно-психологические потенции — лицемерие, чинопочитание, карьеризм…
Как это ни странно, но товарищи мои принялись убеждать меня, что не они мне должны оказать поддержку, а, наоборот, я им.
— Ты пойми, доказать ты ничего не сможешь, люди выступают против тебя заметные. За ними авторитет. Мы же в случае защиты тебя попадаем в число примиренцев. С нами тоже разговор будет короткий.
— Неужели истина зависит от должности? Вы убеждены в этом?
— Ты рассуждаешь легкомысленно, без учета обстановки. Посмотри, что делается вокруг. Партийная пресса только и твердит: примиренец — хуже врага, он рядится в тогу поборника генеральной линии. Ударим с большевистской непримиримостью по примиренчеству!
Но это был предварительный разговор, а заседание официальное состоялось через день.
Это заседание было настолько тяжелым, что и теперь я помню его во всех деталях. Входили в кабинет первого секретаря молча, насупленные, друг на друга не смотрели. Я сидел в углу, а не за столом, где у меня, как у члена бюро, было постоянное место.
В. Шунько в нескольких фразах изложил суть дела и предложил членам бюро высказать свои мнения. Все молчали. Минуты текли, а слово никто не просил. Шунько напомнил, что заседание собралось не для того, чтобы играть в молчанку.
— А какое мнение по этому вопросу у тебя самого, Володя? Ведь ты у нас все-таки первый секретарь и не без твоего участия Георгий стал у нас редактором газеты и членом Оргбюро. И знать ты его знаешь чуть ли не с младенчества, — сказал второй секретарь Оргбюро Аксенов.
— Знаю его с самой лучшей стороны. Уверен, что все, в чем он обвиняется, разъяснится и отпадет. Но поймите, в данный момент не идет речь о том, быть ли ему в комсомоле и партии. Мы обсуждаем указание партийного органа о снятии нашего товарища с поста редактора. Если мы против этого указания, мы должны это глубоко замотивировать. Есть у нас такие основания? С той стороны выставлены основательные материалы, они представлены товарищем Розитом лично. А у нас что?
— Там выставлены бумаги, а я у вас живой, можно располосовать на части, — пробовал вставить я свое мнение.
Но мои слова как бы пропустили мимо ушей, никто на них не отозвался.
— Я так думаю: чтобы не оказаться нам примиренцами, Георгия надо снять с работы. Но в решении следует отметить, что делаем мы это с сожалением, выхода иного у нас нет. — Это была точка зрения члена Оргбюро, моего давнего товарища, Л. Кузика.
— А вдруг что-то из материалов подтвердиться? Даже самое-самое незначительное. В этом случае мы твердо попадаем в число примиренцев, не учитывающих сигналов, глухих к голосу критики. — Это было мнение второго секретаря Л. Аксенова.
Долго и мрачно спорили, как снимать — просто или с сожалением. Даже обратились ко мне, как, мол, ты сам-то считаешь: подходит ли такая формулировка. На мой вопрос ко всем сразу — есть ли ко мне претензии по содержанию газеты, по ее линии в практической работе, все единодушно загудели, что если поступать по справедливости, то нужно отметить, что газета справлялась со своими задачами. И вроде все с этим согласились, но вдруг послышался протестующий голос второго секретаря.
— Нет, нет, это совсем не подходит. Такое решение, не что иное, как завуалированная попытка по существу отвергнуть указание, которое мы получили. Нет, товарищи, не стоит миндальничать и Георгия надо снять с работы без всяких оговорок. Придет время — разберутся.
И меня сняли, сняли с хмурым единогласием, потому что уже было очевидно, что время наступило не шуточное, и если сегодня сняли меня, то нет никакой гарантии, что завтра не снимут любого из сидящих здесь за столом. Наступило такое время, колесница грохочет все ближе и ближе. О, какое это было проницательное предчувствие!
На другой день снеслись с ЦК ВЛКСМ, и оттуда незамедлительно ответили: «По принятому вами решению относительно ответредактора газеты возражать не имеем оснований».
Не закончив еще сдачи дел заместителю, который был утвержден исполняющим обязанности ответредактора, я получил одно за другим два известия, менявшие все мои обстоятельства коренным образом.
Опираясь на поступившие материалы из Новосибирска и решение Оргбюро комсомольской организации о снятии меня с работы, партколлегия решила привлечь меня к партийной ответственности и для ведения дела назначила следователя. Сообщалась фамилия — Малышева. К ней мне надлежало явиться через пять дней, в понедельник, к 10 утра, в комнату 32.
А второе сообщение предписывало: в течение 48 часов получить по месту работы расчет и с суточным запасом продовольствия и парой запасного белья явиться на сборный пункт для прохождения службы в части, к которой я был приписан во время призыва в Красную Армию.
И пошел я служить в армию, унося в сердце щемящую боль, — рука следователя Малышевой могла достать меня всюду…
В первую же ночь нас стремительно погрузили в теплушки и помчали на восток. На нарах во всю ширину вагона мне выпало место в самом уголке. Я лежал, сжавшись в клубок, уткнувшись лицом в подушку, набитую соломой.
То, что мы едем на дальневосточную границу, у меня не было никаких сомнений. Отношения с Японией, отхватившей у Китая огромную территорию с населением большой европейской страны, ухудшались у нас с каждым месяцем. Вслед за Китаем японская военщина все чаще поглядывала на советские границы.
В документах Коминтерна и в документах ЦК партии и правительства японский империализм характеризовался как самый агрессивный на востоке, поставивший цель перекроить карту дальневосточного региона в своих завоевательных интересах. Японские правители усиливали свои связи с немецким и итальянским фашизмом, и это еще больше подстегивало японский милитаризм, создавало обстановку, чреватую опасными неожиданностями.
Советская страна срочно укрепляла свою обороноспособность на границах, повышала активность своих дипломатических акций.
К восточным границам — в Приморье, Приамурье, в Забайкалье — непрерывно шли эшелоны с людьми, стройматериалами, военной техникой.
…За те сорок восемь часов, которые оказались в моем распоряжении, мы с женой успели не только собрать меня, но подготовить ее к отъезду в другой город.
Я посадил ее на скорый поезд Москва — Хабаровск, проходивший через Омск глубокой ночью. Она уезжала в Иркутск с намерением обосноваться там и ждать меня, если судьбе будет угодно отпустить нам радость новой встречи. Иркутск был городом ее юности, она там училась, там жили ее родители, друзья, и мы рассчитывали на их помощь в устройстве с жильем и работой.
В тряской теплушке, под сопение и храп моих сослуживцев, я снова и снова мысленно перебирал события последних дней. И чем больше я раздумывал над всем, что происходило в моей жизни, тем очевиднее становилась вопиющая несправедливость в отношении ко мне. «И Толька Марев не враг, и стихи Мартынова не чуждые нам, и отличный работник газеты, родившийся в семье городского головы, ни в чем не виновен… Какое-то странное, а скорее предвзятое наслоение нелепостей… Кому же это надо превращать очевидное, элементарно-житейское в трагедию, ломать людям судьбы? Нет, нет, это не может не прекратиться», — думал я.
Через трое суток нашего пути эшелон был остановлен на станции Юрга, и мы услышали команду: «Приступить к разгрузке».
Стало ясно, что на Дальний Восток нас пока не повезут и мы останемся на какое-то время здесь.
В семи километрах от станции, на берегу реки Томи, находился военный лагерь Сибирского военного округа. Ежегодно в летнюю пору сюда собирались для прохождения учебы в лагерных условиях воинские части, расположенные на зимних квартирах по многим городам Западной Сибири.
Мы представляли собой отдельную саперную роту 73-й стрелковой дивизии, и нам надлежало войти в состав спецлагеря инженерных войск округа для освоения соответствующей программы боевой подготовки.
Лагерь рота оборудовала быстро, как в сказке. Утром начали, а к вечеру по всему косогору, полого спадавшему к реке, белели палатки. Выделялась, конечно, штабная палатка, — кубообразная, с радиоантенной и красным флажком, и продолговатая палатка, в которой разместился красноармейский клуб.
Вскоре и слева, и справа от нашей роты разместились другие подразделения, прибывшие в окружной лагерь инженерных войск. Лагерь оказался шумным и редко затихал даже в ночную пору. Роты учились — осваивали оружие, возводили на реке плоты, подрывали только что возведенные пролеты мостов, а ночью по сигналу «Тревога!» подымались и уходили с боевой выкладкой в многокилометровые марши.
Тот учебный год в армии, о котором я пишу, был в боевой учебе особенным. Нарком Ворошилов приказал решительно поднять качество учебы войск, приблизить ее к условиям боевой обстановки, памятуя старинное изречение: «Тяжело в учении — легко в бою!»
Было установлено также: все приказания начальников выполнять бегом. На завтрак, на обед, на ужин мы бежали в строю, бежали и на занятия, и с занятий, бежали даже на концерты в импровизированный зал под открытым небом.
Поначалу непрерывный бег давался с трудом, но постепенно мы втянулись, манера бежать всюду вошла в привычку и ни у кого не вызывала нареканий.
Первый взвод, в котором я оказался, сразу же выделился как лучший. Ребята там подобрались симпатичные, расположенные друг к другу, грамотные, хорошо физически подготовленные. Возводили ли мы переправу через Томь, сооружали ли траншеи и долговременные огневые точки, преодолевали ли проволочные заграждения — все у нас спорилось, и мы перекрывали нормативы, установленные в наставлениях.
Однажды за нашим учением наблюдал сам дивизионный инженер — начальник лагеря. Перед строем он высказал несколько замечаний, но в целом остался доволен занятием и объявил всему подразделению благодарность.
Успешно выдержали мы и другой экзамен — индивидуальную стрельбу по устойчивым мишеням. Мы не были пехотинцами, занятий по изучению личного боевого оружия у нас проводилось мало, и потому наши командиры испытывали беспокойство за исход стрельб.
Но и в этом наше подразделение не подкачало, по-видимому, выручила всех допризывная подготовка. Почти все у нас в роте имели значки «ГТО» («Готов к труду и обороне») и «Ворошиловский стрелок».
Прошло, примерно, с месяц нашей лагерной жизни. Появилось у меня несколько товарищей, с которыми стали складываться дружеские отношения. В свободные от занятий часы мы собирались в клубной палатке и либо читали стихи (и наизусть, и по книгам), либо рассуждали на темы текущих международных событий. И стихов было предостаточно, и событий хватало тоже!
Мир жил напряженной и тревожной жизнью. Человечество вползало в непосредственное преддверие новой мировой войны. Некоторые наиболее знающие и смелые прогнозисты, и у нас, и за рубежом, предрекали, что до нее остается год-два максимум. Все это заботило, настраивало на ожидание новых событий. Угнетало меня и другое — ожидание вестей из Омска, из партколлегии. Ведь дело осталось незавершенным — узлы не развязаны, нити не распутаны.
Сама армейская служба меня не тяготила. В детстве и юности я прошел изрядную физическую закалку, и меня не страшили ни марш-броски без привалов и питья, ни ночевки вокруг костра, когда наша рота в порядке гарнизонной службы заступала на суточное дежурство по охране лагеря. Меня грызла неопределенность, состояние, о котором говорят: «Подвешен без веревки».
На второй месяц службы командир части вызвал меня в свою палатку на беседу.
— Среди средних и младших командиров у нас маловато коммунистов и комсомольцев, — сказал он. — Сейчас происходит набор на краткосрочные курсы. Посыпаем людей на полгода в Ленинград, после чего они вернутся нести службу в свои же части. Мы посоветовались с комиссаром и решили в числе пяти товарищей направить и вас на эти курсы. Как вы смотрите на это? Нам хотелось бы учитывать и личное желание.
Сам для себя я еще раньше решил, что хочется мне или не хочется быть военным, время, в которое включена моя молодость, все равно заставит меня стать военным. А поскольку это неизбежно, то пусть будет, что будет.
— Я согласен, товарищ командир части, но есть одно серьезное препятствие, о котором я обязан доложить вам. Я на подозрении.
Не успел я произнести и пяти фраз, как, откинув у палатки входной проем, вошел комиссар.
— Кстати, Андрей Михайлович! У нас как раз началась душеспасительная часть беседы, — невесело усмехнулся командир.
Я рассказал вкратце все как было, все как есть.
— Да разберутся с этим! Все это пустяки, коли за вами такие доказательства, — с убежденным оптимизмом воскликнул комиссар.
— Нет, Андрей Михайлович, рисковать не будем. Ведь в случае малейшей неустойки с нас с тобой шкуру снимут. Я верю нашему бойцу, а все ж… Время, братец мой, круто поворачивает… Спросишь: куда? Не знаю… — резко сказал командир части. И комиссар ни единым словом не возразил, лишь опустил голову, пуще прежнего задымил папиросой.
Я покинул командирскую палатку с ощущением, что меня обложили плотным слоем ваты и мне нечем дышать.
Однако комиссар не позабыл обо мне. Через несколько дней он позвал меня к себе, в свою палатку, и поручил вести политические занятия в другом взводе.
Обычно такие занятия проводили сами командиры взводов, но тут какой-то был особый случай, когда потребовалось временно заменить групповода (так называли руководителей политзанятий).
На моих первых занятиях комиссар просидел, что называется, от звонка до звонка. Занятия велись с помощью географической карты, прикрепленной к березе простым шнурком.
Программа политзанятий была крайне элементарной, рассчитанной на самых мало подготовленных. Тут карта была незаменимым пособием. Политический строй нашей страны, ее государственное устройство, принципы Союза республик — становились особенно доступными, когда границы, города, моря и реки показывались на карте. С картой проще было рассказывать и о текущих событиях внутренней и международной жизни. Комиссар похвалил наши занятия и больше уже у нас не появлялся. Не приходили и другие командиры.
Но однажды я заметил, как, маскируясь в березняке, к моему «классу» осторожно подошел человек и, затаясь, долго слушал мою беседу с бойцами. Повторилось это и раз, и два, и три. «Не доверяют», — ударила меня в сердце догадка.
С комиссаром части у меня установились добрые отношения. Его подкупила моя готовность писать о нашей части в окружную газету «Красноармейская звезда». Мой газетный опыт не мог не помочь мне в этом. На страницах газеты то и дело стали появляться заметки, начинавшиеся словами: «В части, где командиром Лосев», — происходит то и то. В конце стояла подпись — «красноармеец Марков».
Мысль о том, что мне не доверяют, преследовала меня. И вот вдруг случилось так, что мы оказались с комиссаром наедине, и я рассказал ему о слушателе, который прячется в березняке.
Я не ожидал, что мой рассказ, с известной долей горького юмора, вызовет такую резкую реакцию у комиссара. Он не просто покраснел, а стал густо-бордовым, ладони его сжались в кулаки, глаза засверкали яростью. Он заговорил хриплым голосом, не сдерживая своего гнева:
— Вот сволочь, вот кляузник! Это особист из дивизии, ходит-бродит, вынюхивает! Он уже капал и на тебя, и на меня. Никому не доверяет! Даже вон ту березу подозревает в антисоветизме. С такими надо быть на стреме, иначе они доведут нас, коммунистов, до большой беды. Кляузник! Поганая душонка!
И комиссар, стукнув себя по колену кулаком, запустил такой витиеватый матерок, что я опешил. Мне и в голову не могло прийти, что кто-то ходит возле меня, когда я веду политзанятия с бойцами, чтобы воспользоваться какой-то моей неточностью или оплошностью, или придумать что-нибудь подобное, и все затем, чтобы донести кому-то об этом по команде выше. И некто случайный, а не специально поставленный для такого паскудства, человек с командирскими знаками различия, да еще, наверное, с партийным билетом в кармане.
— Ты, когда еще раз увидишь этого негодяя в березняке, вежливо, конечно, разоблачи поганца. Такие не любят света. А ты скажи, как можно громче: проходите, товарищ командир, присаживайтесь у нас, под небесной крышей недостатка мест не бывает, — успокоившись, посоветовал мне комиссар.
Этот откровенный разговор с комиссаром произвел на меня тяжелое впечатление, которое долго держало меня в своих тисках. Я был уже, конечно, кое в чем сведущим человеком, испившим в последнее время из чаши невзгод первые глотки горечи, но некоторые детали разговора с комиссаром содержали для меня обескураживающую новизну. Комиссар называл особиста «кляузником», «поганой душонкой». Не перебрал ли он в горячке? Может ли это быть на самом деле? Я был убежден, что особисты — это исключительные люди, люди, как говорят, высокой пробы. Они могут выдержать самые строгие требования к себе: честность, правдивость, идейность, неподкупность… Однако не верить комиссару я тоже не мог. Он пришел в Красную Армию еще в Гражданскую войну, шахтер из Анжерки, член партии с двадцатого года… Своей простотой, доверчивостью к людям, умением разговаривать с каждым бойцом — кто бы он ни был: рабочий, крестьянин, интеллигент, — комиссар рисовался мне человеком безукоризненным, настоящим большевиком.
Но вот что любопытно: после разговора с комиссаром я больше ни разу не видел человека в березках. Возможно, я перестал почему-то интересовать его, а может быть, он так изловчался умело, что заметить его, увы, не удавалось. А скорее всего, комиссар вышел с ним на прямой разговор, осадил его прыть, и он затих до поры до времени…
В конце лета состоялись крупные войсковые учения. Наша рота одновременно с другими подразделениями инженерного лагеря покинула палаточный городок и вышла на отведенные ей позиции. Вначале мы наводили через реку понтонные мосты, потом строили дорогу, засыпая трясину щебнем и древесиной, а когда вошли в гористую местность, приступили в зоне каменистой долины к взрывным работам. Срочность всего дела была чрезвычайной, за нами надвигались войска, и потому работа велась и днем и ночью. Рождались тут и азарт, и удаль, и многое из того, что не удавалось сразу, не страшило. Веселье било ключом, так как все понимали — это не война, а лишь репетиция, а война авось проскочит мимо: гляди, людишки еще остановятся в своей ненависти, одумаются. Веселье поддерживали две гармошки, две гитары, мандолина и скрипка, а скрипачом был сам командир части. И еще поддерживал веселье… пищеблок. Кормили нас хорошо, очень хорошо, не то что в лагере, и не было ни одного случая, чтобы походная кухня нас подвела.
Но дня за два до конца учений, в которых, конечно, не обошлось без суеты и неразберихи, начались дожди. Люди, кони, повозки, автомобили приобрели иной вид, как будто вышли не из учебного боя, а из настоящего, подлинного сражения с врагом. Колонны войск растянулись на многие километры, замаячили в боевых порядках санитарные повозки с флажками, пересеченными красным крестом, и с больными под брезентовыми навесами.
Когда мы вернулись в наш палаточный городок, он показался нам чудом уюта и приветливости. Да только не надолго. На другой день, после дождей, подул холодный ветер, и по ночам, чтобы согреться, мы набрасывали сверх одеяла все, что можно было собрать: шинель, гимнастерку, брюки, поясной ремень. Да, да и ремень! И все признавали: ремень и легкий, и узкий, но тепло он тоже дает, и без него совсем хана, хоть плачь.
Всех нас, конечно, занимал вопрос — куда и когда отведут роты на зимние квартиры. «Торговать дрожжами» — по ночам становилось невмоготу. Холод начал прибирать кое-кого в госпиталь с воспалением легких.
Наконец, в одну из ночей, нас подняли по тревоге, и, выйдя за лагерь, мы поняли, что идем к железнодорожной станции.
А на станции стоят теплушки, и мы приступили к погрузке немедленно.
…Омск. Нас привезли в Омск. Я снова оказался в городе, где принял первые удары судьбы. Что же еще готовила она мне? Сия тайна сосала сердце, кружила голову, отравляла настроение.
В Омском воинском лагере, на берегу Иртыша, мы жили в каких-то фанерных домиках, в которых было так же холодно, как в палатках в Юрге. Нас пока никуда не переселяли, и складывалось такое впечатление, что кто-то вышестоящий не знает, что с нами делать.
Но вот, наконец, как-то утром нас построили и сообщили — весь приписной состав роты распускается до очередных сборов.
Такой поворот для меня был неожиданным, но зато вплотную приближал к развязке в партколлегии.
Я сдал обмундирование, оружие, переоделся во все свое, сохраненное в полном порядке на вещевом складе, и отправился к товарищам.
В первой же квартире меня ждала не просто неудача, а бедствие. Жена моего товарища, увидев меня у двери, замахала руками, давая понять мне, что проходить дальше не следует, и, всхлипывая, сказала:
— Уходи, Георгий, уходи, пожалуйста. Борис исключен из комсомола за связь с тобой и три дня тому назад арестован. Арестованы Толя Марев и Нежецкий… Уходи… уходи…
Я не помню сейчас, нашлись ли у меня в ответ ей какие-то слова. Я быстро повернул от захлопнувшейся передо мной двери, сбежал по лестнице вниз и остановился на пустыре в чудовищном смятении.
В Омске у меня было много товарищей, но идти к кому-нибудь из них, после происшедшего, я не рискнул, в ушах все еще звучало: «Уходи, пожалуйста, ухода!»
Ночь я перекоротал на пристани, на каком-то дебаркадере, среди редких пассажиров, ожидавших последний пароход до Тобольска, который задерживался где-то в плесах из-за мелей и туманов.
Утром я встретил там же, на пристани, работника спортивной лодочной станции, с которым был знаком по совместной поездке на археологические раскопки профессора Драверта. Этот паренек был осведомлен о многих событиях в городе. Целый список должностных лиц привел он. Подтвердив то, что я узнал вчера об арестах в комсомоле, и с наивной простотой он добавил: и тебя, мол, тоже считают посаженным.
— За что? — только и спросил я.
— У всех одна наклейка: враг народа. А что по правде, то одному Господу Богу известно.
В тяжких раздумьях провел я целый день на берегу Иртыша. Уклониться от посещения партколлегии я не мог. Там меня ждали: сроки шли, бумаги, не сданные в архив, напоминали о себе, да и я устал ходить «подотчетным», быть месяцами «на подозрении».
К тому же существовал устав партии, который я обязался выполнять добровольно и неукоснительно.
Я решил идти к Малышевой, идти, не откладывая. Всякое лезло мне в голову и уж, конечно, самое худшее. Но вместе с тем трезвые размышления, спокойный разговор с самим собой, настраивал на оптимизм, на веру в справедливость. «Да в самом-то деле, за что же меня будут изгонять? Вины у меня нет никакой, а уж если усмотрят какие-то ошибки, то кто не ошибается в работе? В конце концов, и в НКВД сидят партийцы, большевики, лучшие из лучших, как пишут в газетах. Зачем же им товарищей по партии превращать во врагов?»
И вот я сижу перед партследователем Малышевой. Она принесла папку с бумагами обо мне, и я увидел, что папка изрядно пополнела. «Кляуз, видать, прибавилось», — отметил я про себя. Малышева долго листала бумаги, восстанавливая в памяти суть вопроса, потом раздумчиво, как-то больше для себя сказала:
— Одна только бумага стоющая — от Розита. А остальные: не разбери-поймешь. Вот от сельсовета с твоей родины. Какой-то чудак пишет, будто дед твой был батраком на купеческой пасеке и тут же вроде имел до 1900 года при себе работника. А вот заявление каких-то членов партии, подписи неразборчивы. Будучи в Томске, от кого-то слышали, что твой отец кулак. Но в справке сельсовета сказано: права голоса не лишался, индивидуальным налогом не облагался, имущественное положение до колхоза — бедняцкое… А еще вот какая-то девица сообщает, что жена твоя — дочь офицера… Небось обиделась, что ты ее плохо приласкал. Ох, знаю я этих идейных пострикуш. На уме-то совсем другое… — Малышева долго рассуждала, словно забыв, что я сижу напротив нее и все слышу.
— Пиши объяснение, признавай ошибки. А я сделаю заключение для партколлегии — поставить тебе на вид.
— А какие ошибки?
— Ну, подумай. Вот, мол, заставил ответственных людей терять драгоценное время.
— Не убедительно, Мария Тимофеевна.
— Ну, тогда заверь, что впредь будешь еще бдительнее, классово закаленнее. И учти: от нас без взыскания никто не уходит. На то мы тут и сидим.
Я взял лист бумаги и что-то написал в духе того, как говорила Малышева. Она забрала со стола пачку с бумагами и ушла к кому-то из более ответственных работников. Я сел в коридоре на пустую скамейку и стал терпеливо ждать ее.
— Приходи завтра к пяти вечера. Будет коллегия заседать. Да, смотри, не забудь партийный билет по рассеянности, — сказала Малышева, отметив росчерком на ладони мой пропуск.
Не прожил я, а промотался наступившие сутки. Прикидывал одно, прибрасывал другое: все текло в уме стремительным потоком: жизнь отца, братьев, сестер, племянников и племянниц, кое-кто из которых по возрасту были моими сверстниками, состояли в партии и комсомоле, учились, занимали солидные должности, радовались и печалились, то есть жили, как все люди.
Думал и о себе — вспоминалось, как я уходил из села, чтобы влиться в городскую жизнь. Мать проводила меня до поскотины. Прослезилась, и, держа за руку, наказала:
— Не искривись там. Перво дело — добро. Ты с ним к людям, и они к тебе с тем же.
Перебирая прожитые годы, думал: кажется, я был послушным сыном, берег наказ матери, не причинял людям огорчений, и уж тем более не навлекал на них несчастья…
Пришел в партколлегию задолго до пяти. Пропускали с проверкой через два поста: внизу, при входе в здание, и на этаже, при повороте в коридор. На этаже дежурили двое: один в энкаведовской форме, другой — в штатском, в косоворотке с заношенной вышивкой.
Тут, на этаже, партбилеты забирали, помечая в списке эту процедуру крестиком. Кто-то возразил относительно такого порядка:
— Почему отбираете партбилет? Я еще не исключен.
— Проходите, товарищ. Берем партбилеты для контрольной проверки. Надо будет — вернем.
«Надо будет — вернем», — прозвучало как-то устрожающее и загадочно.
Но вести спор об этом никто не рискнул. Чего тревожиться-то зря? Это же все-таки товарищи по партии, худо не сделают. К пяти часам в большой квадратной приемной, скорее представлявшей фойе, стало людно. Набралось человек тридцать-сорок. Люди были и старые, и молодые, но большинство относились к среднему поколению, — седоватые, моложавые, плечистые, — в самой рабочей поре. Женщин было совсем мало — пять-семь — не больше.
Скамеечек в фойе было мало, и большинству пришлось стоять. Кто-то открыто и резко посетовал на это.
— Ну, тут долго не задерживают. Не предусмотрели, — объяснил кто-то из работников партколлегии очередную оплошность.
Однако насчет «долго не задерживают» не оправдалось. Было уже около семи вечера, когда зачитали список тех, кому надлежало войти в ближайшую дверь, где и происходило заседание партколлегии.
Вошли около половины ожидавших. Держали их за дверью минут тридцать, а может быть, и того меньше.
— Ну, что там? Почему так быстро? — кинулись те, кому предстояло войти на заседание во вторую очередь.
— Порасспросили кое о чем и велели ждать. Дела уже рассмотрены, решение объявят, — сообщили вернувшиеся с заседания, и в их голосах послышалось недоумение и разочарование.
Тут позвали и нас, оставшихся от первого вызова. Я был в их числе. Мы вошли суетливо, тесня друг друга. Длинный стол был завален папками. Во главе стола сидел весьма крупный мужчина, с адвокатской бородкой клинушком, с утомленными глазами, с равнодушным выражением на полном лице. Мы поняли — это ответственный секретарь партколлегии.
— Давай, Иван Иваныч, зачти по порядку, кто, за что привлекается к партийной ответственности, — не отрываясь от бумаг, сказал он.
Иван Иванович, поглядывая через очки на вошедших, которые стояли, почти подпирая один другого, начал бойко читать:
— Куликов, — обман партии при вступлении, сокрытие службы в белой армии, участник расстрела красных бойцов.
— Адамов, — обман партии в экономической области, допустил порчу зерна на току в отделении совхоза, где состоял начальником. Активный пособник контрреволюционным элементам.
— Чернопятов, — обман партии в идеологической области, примиренчество к классовому врагу в школе. Допустил извращенное толкование в оценке роли товарища Сталина в Гражданской войне. Отъявленный троцкист…
Прозвучало не менее полутора десятка фамилий, в том числе и моя, и каждая начиналась стандартной фразой: «обман партии…»
Когда Иван Иванович закончил чтение списка, секретарь коллегии сказал:
— Так. Все ясно. Более чем ясно. Враги народа избрали нашу партию мишенью для своих злобных действий. Им это не пройдет даром. Есть ли вопросы к привлеченным гражданам? Я спрашиваю членов коллегии.
Вопросов не последовало, поскольку два-три голоса поспешили сказать: «Какие вопросы?! Из материалов вытекает полная ясность. Таким нет места в партии».
Кто-то из привлеченных сделал попытку протестовать:
— Почему дела рассматриваются чохом? Вопиющее нарушение устава!
— Никакого нарушения нет! Дела изучены членами партколлегии и следователями. И вы не думайте, что с каждым из вас мы будем цацкаться, как с младенцами. Этого не будет! Вы о чем-нибудь думали, когда совершали свои преступные шаги против партии? Прошу выйти в приемную и там дождаться решения. — Секретарь звонко хлопнул ладонью по столу, давая этим понять, что разговор не будет иметь продолжения.
Все вышли из комнаты предельно подавленные происходящим, сурово молчаливые, с повисшими руками.
Войдя в фойе снова, я не мог ни обратить внимание на пропускной пункт. Там теперь было не два человека, а по крайней мере, десять, и почти все в форме НКВД. Возможно, и другие это тоже заметили, но в суете, в смятении, в ожидании справедливого решения каждый был занят собой прежде всего. Светилась еще надежда: а вдруг решение будет справедливым, мало ли что можно наговорить, секретарь мог и попугать запросто.
Вот тяжелая дверь открылась, и послышался тонкий голосок Ивана Ивановича:
— Объявляется решение партколлегии: В итоге изучения материалов и очного разбора персональных дел партколлегия исключает из рядов ВКП(б) следующих лиц…
И началось новое перечисление тех же фамилий и тех же мотивировок, которые были уже выслушаны в кабинете заседания.
Едва чтение списка поголовно исключенных закончилось, раздались выкрики негодования: «Насилие!», «Антипартийное безобразие!», «Мы будем жаловаться товарищу Сталину!».
В этом шуме и гвалте я не сразу понял, что кто-то тянет меня за рукав.
— Уходи, скорее! Ты ни в чем не виноват! Уходи через запасной ход! — это шептала мне, толкая уже в бок кулаком, партследователь Малышева.
Теперь только я сообразил, о чем идет речь. Сейчас пикет сгруппировавшихся на проходном отсеке развернется, все исключенные будут задержаны и поедут в тюрьму.
Я кинулся по коридору и через тридцать шагов нырнул в проем, освещенный красной лампочкой с надписью «Запасной выход». Этот выход хорошо мне был известен. Иногда мы задерживались в Оргбюро ЦК ВЛКСМ до глубокой ночи, обычные выходы из здания замыкались до утра, и в этом случае мы выходили по запасному выходу, который примыкал не то к гаражу, не то к мастерской текущего авторемонта.
Мне повезло. Я вошел во двор, забитый машинами и опустевший до утра, пересек его и оказался на улице. Никто, ни один человек, меня тут не видел. Я уходил от тюрьмы, не зная еще, правильно ли поступаю, уходил, как зверек, которого охотники могли настигнуть каждую минуту.
«Надо немедленно покинуть Омск, немедленно. Тут так же далеко до справедливости, как до неба», — подстегивала меня тревога. Мой романтический иллюзорный замок, возведенный мной в раздумьях о верности товарищей партийному долгу, преданности духу товарищества, закончился в моем сознании, вызывая приступы острого головокружения.
Я выбежал на самую людную улицу города, смешался с потоком прохожих и, задыхаясь от волнения, заспешил к вокзалу.
Там в камере хранения лежал мой чемоданчик с вещами. Я положил его в камеру дня три тому назад просто потому, что хранить вещи в другом месте у меня не было возможности. Квартиры у меня не было, а навязываться к другим со своими докуками я опасался. Недаром же сказано в народе: нежеланный гость, как чума, радости не принесет, а затащить заразу может.
Всего лишь вчера один мой товарищ по совместной работе в редакции, увидев меня, поспешил перейти на другую сторону улицы. Да разве он был такой один? Многие поклонялись в те дни истине: «Береженого — бог бережет».
Выждав, когда камера хранения опустеет, я заскочил в нее, судорожно сунул кладовщику рублевку с квитанцией, схватил чемоданчик и поскорее смешался с толпой пассажиров.
Возможно, я бросил бы чемоданчик, пусть он остается на веки вечные на полке камеры хранения вокзала, но в нем лежали такие вещи, которые были мне бесконечно дороги. Нет, не оружие, не золотые изделия, не валюта, полученная от зарубежных резидентов, как потом навязывали каждому подозреваемому в измене. В нем лежали пять общих тетрадей в коричневом коленкоре: две из них были с первыми, еще совсем ученическими, наивными набросками задуманного романа, а три остальных тетради были заполнены моими рефератами к будущему экстернату.
Отсюда я поспешил в кассовый зал. К сожалению, поезда в восточном направлении прошли. Ближайший поезд ожидался в четыре утра. Это был курьерский поезд «Москва — Владивосток». Мало того, что билет на него стоил в два раза дороже обычного, пассажирского поезда, на него чаще всего вообще свободно билетов не продавали.
Все-таки, оглядываясь по сторонам, я занял у кассы очередь с намерением купить билет, сколько бы он ни стоил. Вдруг повезет: места в поезде окажутся, касса откроется и рано утром, никем не обнаруженный, я покину Омск, чтобы, может быть, никогда в него не возвращаться.
Часа в два ночи, устав от долгого стояния, я решил побродить по вокзалу, посмотреть, не происходит ли чего-нибудь тревожного. Возбуждение, вселившееся в мою душу после побега через запасной выход, не проходило окончательно, и каждый человек, внимательно смотрящий на меня, представлялся мне из той команды, от которой я ушел.
И вдруг в толпе мелькнула знакомая фигура: кожаное пальто пилота с голубыми петлицами, форменный шлем с окулярами, черные рукавицы, в которые вправлены рукава. Шунько. Откуда он здесь? Может быть, с аэродрома, с ночных занятий?
Он ходил между скамеек, забитых спящими и полуспящими пассажирами, присматривался к ним. Мне показалось, что он кого-то ищет. То, что он искал меня, об этом мне и в голову не пришло. Сегодня нас жизнь развела так далеко друг от друга, что предполагать иное было бы немыслимо. Искать у него сочувствия я не хотел, и был убежден, что и он не испытывал желания выражать такое сочувствие мне.
Я сделал попытку глубже забиться в угол и основательнее скрыться за высокой спинкой скамьи. Походит-походит и уйдет. Но именно в этот момент он увидел меня.
— Подвинься, Георгий, — сказал он, скрипя кожей своего пальто, втиснулся, прижимая меня к стене. Он был доволен, что мы оказались с ним в таком укромном местечке, отгороженном от людских глаз. — Я знал, где тебя искать. Ты поступил правильно. Происходит что-то невообразимое. Сегодня утром на Оргбюро исключены из партии и отданы под суд сразу десять директоров МТС и начальников политотделов. Не понимаю, обвинение одно: контрреволюционный саботаж и антипартийный заговор. Ты знаешь, у меня вдруг шевельнулась мысль — не измена ли где-нибудь вверху? Ведь так от наших кадров мокрого места не останется. Не решились ли тайные враги погубить нашу революцию? И ты не осуждай нас, друг. Может статься, что наша судьба будет еще горше. — Он попытался обнять меня, но я решительно отвел его руки. — Я понимаю тебя, — смиренно сказал он.
Ах, Володя, Володя, если б тогда я знал, какая горькая судьба выпадет на твою долю, я б ни за что не отвел твоих рук. Всего лишь после этого разговора год с небольшим член бюро ЦК ВЛКСМ, генеральный комиссар Центрального авиационного клуба В.Н. Шунько был арестован вместе с другими деятелями комсомола и отправлен на долгие годы в лагерь строго режима, в Иланский район Красноярского края.
Узнал я об этом в Иркутске уже в 1940 году: на газетном обрывке было написано: «Иркутские почтовики, умоляю, доставьте эти строки писательнице Агнии Кузнецовой», а далее шел краткий адрес и поставлены только его инициалы. И послание это дошло! Я сразу узнал Володину руку. У него был своеобразный почерк: кудрявый, с нажимом на окончании слов.
Первое, что мы сделали с женой, — купили на рынке три шматка соленого сала, пять пачек папирос «Казбек» с всадником на коробке, которые неизменно курил Володя, запечатали в ящичек и сдали на почту. Сообщения о получении не поступило. И все-таки мы еще отправили три посылки через небольшие промежутки времени. Обитатели лагеря не имели права переписки. Мы это знали, но верили в чудо.
И представьте себе, по какому-то действительно необъяснимому чуду одна из посылок дошла до Шунько. Об этом он рассказал мне сам, когда в 1956 году мы встретились с ним все на том же Омском вокзале.
Но я забежал вперед и вернусь на Омский вокзал не 1956 года, а тех, более далеких, лет…
— Достань мне билет на курьерский поезд, иначе настигнут они меня. — Я сунул ему деньги в карман форменного пальто.
— Жди меня здесь. Попробую сделать это через дежурного военного коменданта. — И он ушел, ухитряясь шагать между мешками и чемоданами, узлами и корзинами, телами пассажиров.
Шунько долго не возвращался. Я уже начал сомневаться, придет ли он, не раздумал ли пособить мне в моей беде. Наконец он пришел и показался мне еще более мрачным.
— Что, билета нет? — обеспокоенно спросил я.
— Есть билет! Возьми! — он подал мне билет, влажный от его руки. — Худые вести, Георгий. Застал самого коменданта. Рассказывает такое, что мурашки по спине бегут. В штабе СибВО арестованы заместитель командующего и два комдива…
За стеной загрохотал курьерский поезд. Я что-то сказал бессвязное и поднял свой чемоданчик. Все дремавшие пассажиры встрепенулись, дрожали и стены и пол от тяжести паровоза и вагонов.
— К поезду не выходи. Так будет лучше и тебе, и мне.
Он ничего мне не ответил и продолжал стоять в позе человека, пришибленного страшным известием. Я оглянулся, а он все стоял и стоял, как окаменевший, в сумраке ожившего, разворошенного вдруг пассажирского зала.
Через сутки с небольшим я приехал в Томск. Приютился у среднего брата, работавшего механиком на грузовом катере. У них на речном флоте пока было спокойно, но вот по Нарымскому краю, еще с месяц тому назад, произошли перемены.
Всех ссыльных, имевших сроки высылки по 58-й статье, переселили в самые дальние населенные пункты — фактически в остяцкие юрты. Прожить там более или менее нормально невозможно. Ханты, по-старому остяки, не живут в своих избах, так как в поисках зверя кочуют из урмана в урман, и только на период самых сильных морозов приходят в свои юрты, чтобы перекоротать стужу в тепле.
Стало также известно, что часть ссыльных вывезена в Новосибирск, Намень, Бийск, Барнаул, где тюрьмы забиты этим людом до отказа.
Катер брата, находившийся в устье Васюгана, был снят с перевозки леса и направлен в Каргасок, откуда приплавил в Томск баржу с арестантами, которых передвигали на Колыму.
Сотрясение почвы происходило и здесь, в Томске. Это и значило, что оно явление далеко не Омское, а общее, распространившись повсюду.
Нет, Томск не подходил для меня, слишком тут было все на виду.
Я ведь все еще был убежден, что происходящее не надолго, вот-вот все разъяснится, и люди, попавшие под несправедливый и скорый суд, обретут спокойствие.
Решение пришло само-собой: «Поеду к отцу». Попутчиков найти не удалось. Надвинулось самое напряженное время в деревне: мужики домолачивали в овинах хлеба, били масло из конопли и кедрового ореха, подвозили с лугов сено. Одним словом, не до поездок в город. И пошел я пешком. Сто двадцать километров, конечно, не пустяки-вареники, но и бездействие, сидение на месте, тоже не радость.
Пришел я в Ново-Кусково поздним вечером во второй день пути. Огни в избах уже погасли, село притихло, пригорюнилось в вязком сумраке. Если б не потоки искр, вылетавших густыми стаями из труб, вполне можно было вообразить, что село обезлюдило. Вечер стоял холодный, ветреный, на заборах дворов, на крышах, прорываясь сквозь темноту, поблескивали пятна плотного инея. Вот-вот и на просторы Причулымья примчится с севера зазимок — гонец самой матушки-зимы.
Мой родной дом стоял на самой кромке сельской улицы, на берегу речки Соколы, в окружении ветвистых берез. Отцовы охотничьи собаки вяло полаяли, я посвистел им, и они, признав меня, дружественно повизжали.
Чуть я постучал в дверь, отец тут же отозвался:
— Ты что ль, Федюшка? — отец назвал имя брата, жившего в Томске.
— Готястый, — ответил я. Так называл меня отец с раннего детства.
— О! Откуда ты? — удивился отец и торопливо загремел железным крючком.
Пока мы снова запирали дверь в сенях, мать вздула лампу, потом кинулась ко мне. В отпуск я всегда приезжал летом, а тут вдруг явился в канун зимы. Ясно, что произошло что-то недоброе. Родители смотрели на меня с тревогой, не чая скорее услышать, чем это вызвано.
— Сбежал от тюрьмы, — сказал я и кратко объяснил все происшедшее со мной.
— Ох, боюсь я за Ванюху нашего. В Новосибирский поехал. Все правду доказывает. А она, вишь, правда-то, как топор, все норовит на дно лечь. — Мать всхлипнула, взглянула на иконку, висевшую в уголке избы, мелко перекрестилась.
Ванюха был мой старший брат, участник Гражданской войны, член ВКП(б) с 1921 года, учитель географии, в последнее время работал штатным пропагандистом райкома партии. Несколько месяцев тому назад его исключили из партии якобы за троцкистские вывихи в работе.
— А у нас тоже затрясло! На прошлой неделе собрали всех административно-ссыльных, а в Ежах партизана убили, председателем тайного ревкома был при колчаковской власти… А тут еще в Пышкиной Троице утопшего попа выловили. Тоже, видать, кто-то снасильничал, — рассказывал отец.
Мы просидели за шумящим самоваром всю ночь. Разговор шел тревожный, будущее казалось каким-то неопределенным, смутным. Отец несколько раз повторял одно и то же:
— Нет, нет, Ленин такое не наказывал. Не затем народ на революцию подымал, чтобы жилось людям в страхе.
Дня три я не выходил на село, сидел в избе, решив пока ни с кем не встречаться.
Возможно, мои предосторожности были излишними, но один факт вызвал у меня беспокойство. В Ново-Кусково нагрянул сам районный уполномоченный НКВД. Он вызвал отца в сельсовет и, выдворив из комнаты председателя и секретаря, устроил ему допрос с пристрастием:
— Куда твой сын Иван уехал? В Новосибирск? В Москву? Где он хранит оружие и антисоветскую литературу? Где он проводил подпольные собрания?
Отец взъярился, резко сказал уполномоченному: «Ты что, провокатор или чекист? Вас этому учил Дзержинский?»
Уполномоченный еще больше остервенел, заявил отцу, что упечет его на Березовую гриву. «Ты меня Березовой гривой не стращай. Я там охотился, когда тебя еще на свете не было», — ответил отец.
И тут отец ничего не преувеличивал. На старой губернской карте неподалеку от Березовой гривы, на которой в тридцатые годы размещалась комендатура поселка выселенных кулаков, значилось урочище Марково. Это и был охотничий стан моего отца, на котором он обитался в молодости.
Дома мы подвергли разговор отца с уполномоченным РайНКВД тщательному анализу и пришли к выводу, что моя омская история пока до них не дошла.
— Завтра уйдем на Чулым, за Старо-Кусковскую курью. Недели три там поживем. Если они спохватятся, мать скажет, был да сплыл. В Томский уехал. — Так решил отец, и мне ничего больше не оставалось, как признать его решение правильным.
Мы ушли с отцом заполночь, никто нас не видел. На Чулыме у него было несколько избушек: на деревенской курье, на протоке Бахгол и на курье Лангуше. Так назывались эти местности в обиходе.
Охотники и рыбаки, конечно, знали его излюбленные плесы, и потому по исстари заведенному порядку не стремились вторгаться в угодья, занятые другим.
Избушки у отца на станах имели свою довольно замысловатую конструкцию. В ярах были вырыты вместительные убежища. В эти углубления вставлялся каркас из краснотала. Слегка обмазанный тиной он хорошо сдерживал осыпи.
Внешняя, лобовая, часть избушки делалась из бревен, поэтому и дверь, и окно, и выходное отверстие для трубы железной печки были по размеру почти нормальными, как в обыкновенной избе.
Тут даже в бураны и морозы было тепло и светло. Внутри избушки, кроме железной печки, был из плах сбит стол и во всю ширину избушки тянулись нары. Из сухостойной сосны были нарезаны чурбаки, которые заменяли стулья. Возле печки, по стене, тянулась полка для посуды и шест, на котором сушилась одежда, а при необходимости и сетевая ловушка.
Освещались жировиком: консервная банка наполнена рыбьим жиром, в банке плавает жестяная пластинка, сквозь которую продернут тряпочный фитилек. Света маловато, но ведь и помещение, которое освещается, — пять шагов вдоль и четыре шага поперек.
Мне и раньше, в детстве, приходилось жить в таких избушках. Отец умел всюду, где бы он ни появлялся, создавать удобства и даже уют. И в этот раз мы, прежде всего, накололи дров, обогрели избушку, привели в порядок нары, надергав из ближайшего стога на лугу две-три охапки сена для постелей.
— Ну а дальше будем промышлять еду, — сказал отец. Из дома мы захватили с собой только хлеб и соль. Остальное нам должна была дать мать-природа. У нас было ружье с припасами, блесна, проволочная сетка для черпака. А уж за остальным дело не стало. Отец хорошо знал, где и что можно добыть.
К ужину у нас было на выбор — свежие окуни и серые куропатки. А дня через два-три, когда мы уже имели прочный запас питания на целых две недели, мы начали кое-какие заготовки для семьи.
Недели через три в наше убежище нагрянул брат Иван. В крае решение райкома об исключении его из партии было отменено, обвинение его в антипартийных действиях признано ошибочным, а райкому указано на необходимость более тщательного подхода к персональным вопросам. Казалось бы, на этом можно было поставить точку.
Мне это решение тоже открывало путь к восстановлению. Единственное обвинение, которое оставалось в моем деле, — это исключение брата из партии за троцкистские вывихи. Теперь и оно опровергалось самым убедительным образом. Но не все так складывалось просто, как казалось.
— В Новосибирске прошли новые аресты, — с мрачным видом рассказывал брат. — Сажают и коммунистов и беспартийных — без разбору. Раньше членов партии предварительно хоть исключали из партии, отбирали партбилеты в райкомах, теперь же дано право НКВД забирать коммунистов, не обращая внимания ни на партийный стаж, ни на должность. Рассказывают, будто арестовано несколько ответработников в самом крайкоме партии…
— Обошлись с тобой милостиво, разобрали дело, вернули партбилет, — заметил я.
— Да вот надолго ли?! Такое кругом происходит, что в глазах темнеет.
Мы долго обсуждали, как жить дальше, что делать мне: продолжать ли быть на нелегалке или выходить на белый свет и начинать борьбу за восстановление, если из Омска не приведут в исполнение чье-то решение об аресте.
Было и еще одно обстоятельство во всей ситуации: мы были с братом зависимы друг от друга. Его мне уже «пришивали» как исключенного, теперь могли «пришить» ему меня по этому же мотиву.
Конечно, сидеть здесь в избушке можно и дальше, пока тут безопасность стережет наступившая зима, со своими буранами и морозами. Но весь вопрос в том, может ли сидение принести какой-нибудь реальный, удовлетворяющий меня, результат.
В конце концов решили: надо ехать в Томск и попробовать там устроиться на работу. Естественно, на работу в газете или в каком-то ином идеологическом учреждении я претендовать не мог. Знал, что меня туда не возьмут.
В Томске начал внимательно читать объявления в газете о наборе рабочей силы. Читал объявления, расклеенные на афишных досках и тумбах.
Томск в те годы развивался слабо, и объявления преимущественно зазывали на работу в города и поселки Кузбасса и на Дальний Восток.
И вдруг однажды узнаю, что директором спирто-водочного завода работает мой товарищ по комсомолу Пешнин. Направился к нему. Он уже, конечно, знал о моей беде, знал о многочисленных посадках в городе и районах. Помочь мне согласился охотно.
— Но учти, у меня по культурно-просветительной части никакой работы нет, а вот на склад могу направить. Будешь расставлять по ящикам бутылки с водкой, выписывать фактурные листы на райпотребсоюзы и краской на ящиках писать адреса получателей. Понимаю, что тебе по профилю твоей подготовки не очень это подходит, но ничего иного предложить не могу.
— Ну и на этом спасибо, — ответил я Пешнину.
Склад стоял в глубине заводского двора. Это был старый склад, еще времен купцов, сложенный добротно из красных, хорошо прокаленных кирпичей. Несколько мужиков в телогрейках копошились в нем при тусклом свете двух маленьких электрических лампочек.
— Значитца, новичок, одно тебе хочу сказать, — обратился ко мне кладовщик в черной мохнатой шапке из собачины. — Иногда у нас тут случай происходит несчастный — вдруг бутылка скок и об пол. Ну, мы, понятно, актируем, списываем. Директор хоть и поругивается, а куды ж денешься, — стекло — не железо. А то, вишь, тут какая прохлада. Без этого дела — околеешь! — он подмигнул мне глазом, дескать, понимай, о чем идет речь, щелкнул по горлу прокуренным пальцем.
Я, конечно, понял, о чем он беспокоится, сказал:
— Как заведено, так и делайте. Я пока этому делу не обучен. — Для наглядности я по его примеру щелкнул пальцем по горлу.
— Не из староверов?
— Из них, — ответил я, чтобы скорее закончить разговор.
— Сурьезные люди! Убей, а от своего устава не отступят, — пояснил с видом знатока кладовщик остальным мужикам, окружавшим меня.
— А мы, язьви ее, любим ее, холеру! — воскликнул второй кладовщик, и мужики дружно рассмеялись, хитровато переглядываясь.
Потом все молча разошлись, приступили к работе. Я тоже подошел к свободной стойке с ящиками, в ближнем углу, у двери. Тут уже заранее положили мне тетрадь с фактурными листами, банку гвоздей, мотки мелкой проволоки, чтобы обматывать готовые ящики с водкой, два молотка, плоскогубцы.
— Давай вкалывай, новичок! Чего не разберешь — спрашивай, — напутствовал кладовщик в черной шапке, и я понял, что он на складе за старшего.
А веку мне, на этом складе, было отпущено судьбой — три дня.
На четвертый день утром произошло вот что: только кладовщики разошлись по своим местам, в склад вошел наш директор, он подошел ко мне вплотную и торопливо сказал:
— Улепетывай, Георгий. Сейчас на завод прибудет комиссия горкома ВКП(б) и НКВД. Кто-то «настучал» на меня, будто я засорил коллектив бежавшими кулаками и исключенными из партии. Тебе там за три дня немного натекло, но лучше б не оставлять следов. Связчикам твоим скажу, что рассчитал тебя. В Кемерово мать умерла.
— Понял. Будь здоров, Алеша. Спасибо тебе. — Я выскочил из склада и поспешно свернул в первый же переулок.
Период, начавшийся этим безрадостным происшествием, был в моей жизни, пожалуй, самым изнурительным. Я ждал. Я бесконечно ждал. Мне думалось, что вот-вот должны произойти какие-то перемены во всей нашей жизни и, естественно, в моем положении, но время текло, а перемен не наступало.
Исключенных из партии становилось в городе все больше и больше. Уже десятка два моих товарищей, из числа бывших комсомольских работников, ходили без партийных билетов. Были и такие, у которых партбилеты изъяли, хотя в партии они числились. Поступить на работу исключенному стало решительно невозможно. Даже бежавшие из деревень недовыселенцы (это те крестьяне, которые уходили из родных мест, не дожидаясь, когда их официально выселят, бросая хозяйство на произвол судьбы) имели приоритет перед исключенными.
Кадровики объяснили это явление так: «От мужика, что можно ждать? Ничего! Он как был темным работником у себя, таким и остался в государстве. А вот исключенный из партии — опаснейший элемент. Он политик, он активный, он может и листовку подбросить, и антисоветскую речь сказать, а то и взрыв устроить».
Кадровики намертво оберегали любые подступы к работе, не допускали исключенных даже на самые безобидные должности. Они головой отвечали за малейшее нарушение этих установок. Конечно, среди кадровиков было немало честных коммунистов, и сотни, и тысячи из них пострадали по клеветническим доносам сверхбдительных карьеристов и проходимцев.
Собираться большими группами мы боялись, но все-таки временами под видом рыбалки где-нибудь на берегу реки, в незаметном, тихом местечке, можно было встретить человек пять-семь, погруженных в откровенную беседу.
Иной раз рассуждали так: а не пойти ли нам самим в НКВД? Пусть забирают! Ведь невинного не осудят. Зато будет внесена ясность, можно будет начать нормальную жизнь.
И некоторые шли, просили посадить их и, наконец, разобраться. Но эта наивная вера в то, что «невинного не осудят, разберутся» продолжалась недолго.
Как ни оберегали свои тайны НКВДешники, вскоре поползли слухи, что арестованных бьют, истязают ночными допросами, подвергают изощренным пыткам и заставляют подписывать такие показания на себя, что кровь стынет в жилах.
Мне верилось и не верилось в это. Верилось потому, что говорили об этом серьезные люди, а не верилось потому, что это разрушало до основания, до самого корня представление о чистоте наших карательных органов, о их человечности и благоразумии, в которое мы все верили убежденно и незыблемо.
И вдруг иду однажды по улице… Весенний день играет всеми красками цветущей земли. Ах, как бы радостно жилось, если б не случилось этой беды, не было этой проклятой затравленности, от которой голова кружится, сердце ноет и ноет тупой болью.
Иду… А навстречу шагает, тяжело постукивая палкой о деревянный тротуар, человек. И есть в его нескладной, перекошенной фигуре что-то знакомое, более того, очень знакомое, напоминающее кого-то из близких. Да нет, лицо человека, неизвестное мне, — рот перекошен, веки опустились, одна щека дергается. Инвалид… глубокий инвалид. Человек все ближе и ближе ко мне…
— Георгий! Ты не узнаешь меня?! — слышу возглас, и в ту же секунду бросаюсь к человеку, хватаю его за свободную руку.
— Семен Петрович! Кто тебя так?
Это был действительно близкий мне человек — Шпаков Семен Петрович, Семушка, Семяка. Почти мой земляк из-за Чулымья, секретарь Пышкино-Троицкого райкома комсомола, а затем секретарь райкома партии этого же района, сын командира партизанского отряда, сам юный партизан, парттысячник с химического факультета университета, мой преданный старший друг (на семь лет старше меня), мой добровольный учитель по химии и физике.
Он прижал меня к своей груди, всхлипнул, рыдания вырвались из его горла.
— Отойдем в сторону, на нас смотрят, — сказал он, так как несколько прохожих уже остановились и с любопытством смотрели на двух мужчин, тискавших друг друга в объятиях.
— Куда пойдем, Семяка? — спросил я, называя Шпакова самым дружеским именем, каким называл его когда-то в дни его молодости.
— Только на остров, Георгий! Здесь нас могут услышать, — он обеспокоенно посматривал на прохожих, говорил вполголоса.
Переулком мы спустились к Томи, по узкому тесовому настилу перешли на островок возле устья Ушайки и забились в самые густые заросли тальника.
— Все, что расскажу, Георгий, тайна. Я дал пять подписок. За разглашение все может быть, вплоть до расстрела… Там фашисты, там изменники. Они обманывают партию, обманывают Сталина. Не верь ни одному слову, будто кто-то там озабочен истиной. Меня терзали долго и изощренно. Я наговорил на себя горы лжи. Я шпион и немецкий, и французский. Я племянник японского микадо… В моей подпольной десятке склад оружия на целый взвод… Почему выпустили? Загадка! Какой-то новый зловещий расчет. А может быть, потому, что я уже не человек. Я весь кровоточу. У меня отбиты и почки, и селезенка, и печень. Жить мне несколько недель…
Семяка рыдал. Слезы текли по его вздрагивающим щекам, капали на рубаху. Вместе с ним плакал и я — не верить Семяке, сомневаться в том, что он говорит правду, я не имел никаких оснований. Это были часы горького и окончательного прозрения, крах последних остатков сомнений.
Мы просидели с ним на островке пять часов. А когда, наконец, решили разойтись — сделали это по одиночке, по разным тропам, как делали в годы царизма революционеры-подпольщики, создавшие целую школу методов и приемов подполья.
Первое, что мне сказал Семяка на следующей встрече, были слова, выстраданные им в подвале томской тюрьмы:
— Не медли ни дня, отправляйся в Москву. Чем скорее узнают там о наших доморощенных фашистах, чем скорее дойдет вся правда до Сталина, тем скорее будет положен конец безумию изменников революции.
«Отправляйся в Москву»! — легко сказать. А на какие шиши? До нее четверо суток пути, да и там где-то надо приютиться, иметь хоть самую скудную еду.
Но Семяка был прав. Любой ценой надо было выбираться в Москву. Время шло, текли месяц за месяцем. На мои заявления, которые я слал одно за другим то в ЦК, то в партколлегию, то прямо на имя Сталина, не было никакого ответа.
Возможно, сборы мои затянулись бы надолго, если б не разразилась новая беда. В одну из ночей был арестован мой старший брат Иван, недавно восстановленный в партии в краевой инстанции.
Во время обыска, наряду с его краеведческими записями, картами, зарисовками древних стоянок и месторождений ценных ископаемых, были забраны черновики моего незавершенного романа и рефераты по различным историческим и экономическим вопросам, составленные, естественно, по широко известным книгам.
Откладывать поездку в Москву дальше было уже нельзя. Я продал на «толкучке» свою кожаную тужурку, по пятерке-десятке выпросил в долг у некоторых родственников, и поехал полный уверенности, что я все-таки чего-то добьюсь. Единственное было у меня опасение — доеду ли, не схватят ли меня в Омске, не пошлют ли к брату на «свидание», по дорожке, проторенной многими, очень многими. Но все ж доехал.
Сурово и неприветливо встретил меня великий город. Хлестали обильные дожди ранней холодной осени. Хмуро ползли низкие тучи над Москвой, и люди показались мне какими-то насупленными, молчаливыми. У меня еще сохранились кое-какие адреса комсомольских работников Москвы. Попробовал позвонить кое-кому по телефону, ответы были в основном схожие: «Его нет и когда будет неизвестно», «он здесь больше не проживает», «просим больше не беспокоить».
Я понимал, что таится за этими ответами. Комсомол подвергался сосредоточенному разгрому.
Направился на Старую площадь. Прежде чем войти в подъезд, ведший в парткомиссию, — осмотрелся. Вдоль здания ходили взад-вперед молодые парни, — и я опознал в них наружную охрану, хотя и в штатском.
Вошел в здание. Тут охрану несли военные в форме.
— Вам что нужно? — спросил меня постовой.
Я объяснил суть дела, подчеркнул, что приехал издалека — из Сибири.
— Прием по вызову, у вас вызов есть? А, вызова нет, в таком случае помочь ничем не могу, — ответил четким голосом постовой.
Я начал говорить о своих письмах, на которые нет никакого ответа, но постовой нетерпеливо замотал головой, громко, с нотками раздражения, произнес:
— Я уже вам сказал: прием по вызову. — И кинув на меня резкий взгляд, добавил: — Вы что, не понимаете по-русски?
Я поспешил выйти. Отойдя от подъезда шагов десять-двадцать, остановился, раздумывая, что же делать?
И тут увидел немолодого человека, который, как бы проходя мимо меня, чуть придержал свои шаги.
— Вы в парткомиссию? — услышал я приглушенный голос.
— Именно так.
— Я пойду рядом с вами и все объясню.
— А вы кто?
— Сейчас узнаете.
— Слушаю вас.
— Я такой же, как вы. Нас таких собралось в Москве очень много. Образовалась очередь. Ваш номер 4748. Ваше место для переклички у дома Боярина. Перекличка бывает с 12 часов ночи. Остальное вам объяснят. До свидания.
Я не успел сказать этому загадочному человеку ни одного слова, так как он быстро повернулся и пошел назад. Мне захотелось догнать его, расспросить подробнее обо всем, что он сказал, но, словно почувствовав мое намерение, человек обернулся и сделал рукой останавливающий жест: не пытайтесь!
«Что бы это значило? Не провокация ли какая-то? Но ради чего?» — раздумывал я.
Не без опаски, около двенадцати часов, я приближался к указанному месту — музей-дом Боярина. Опять в Москве шел дождь, дул пронзительный ветер, тускло мерцали фонари над трамвайными путями.
Я остановился возле музея, осмотрелся. В темноте мельтешило несколько человеческих фигур.
— Из очереди? Какой номер? — услышал я голос из темноты.
— 4748.
— Следующая отметка вам в среду.
— Сколько же ждать придется?
— Как повезет! Может быть, месяц, а может быть, годы.
— Так долго?
— Уходите! Накапливаться здесь не рекомендовано.
Я собирался еще кое-что выяснить, но фигура, говорившая из темноты человеческим голосом, растворилась в сумерках бесследно. Я побрел, что называется, восвояси.
С ночной электричкой мне предстояло доехать до Подольска. Там в общежитии студентов машиностроительного техникума жил мой товарищ, бывший очеркист «Большевистской смены» Николай Драчев. До учебы в техникуме он работал в газете «Комсомолец Хакассии» и был исключен из комсомола за связь с врагами народа. Посадка ему была обеспечена, он знал это и покинул Хакассию, не дожидаясь, когда такое произойдет. Теперь Драчев обитался в Подольске, будучи пока студентом техникума.
Из милости, но все-таки за небольшую плату, он упросил вахтера приютить меня. Вахтер бодрствовал, а в вахтерке на жестком голом диване коротал ночи пришлый человек.
В среду в означенное время я снова был у дома Боярина. Ночь выдалась и потеплее, и посветлее. Еще издали я увидел кучку людей, которые стояли, тесно притиснувшись друг к другу. Я подошел поближе. На этот раз никто не спросил у меня моего номера. Все были увлечены чем-то другим и, по-видимому, очень важным.
— Еще раз повторяю, товарищи, распоряжение штаба очереди: поскольку вчера очередь была разогнана конной милицией и получила предупреждение о возможных административных акциях, рекомендовано немедленно разъехаться по своим местам. В Москве гуляет версия, что в столице собралось более пятидесяти тысяч исключенных и они намерены на днях поднять мятеж. Этот повод может послужить для серьезного кровопролития. Отдать свои жизни так глупо было бы большой бессмыслицей. Желаю вам веры в наше непобедимое ленинское учение, стойкости в бурях нашего времени! Наши страдания и подвиги не порастут быльем. Партия еще вспомнит о нас! До свидания!
По голосу, по манере произносить протяжный звук «о» я понял, что указание штаба очереди (оказывается, существовал и такой штаб!) передано тем самым человеком, который совершил со мной краткую прогулку и назвал номер очереди.
Выслушав краткое слово представителя штаба, собравшиеся заволновались, заговорили разными голосами, но все об одном: что же делать?
— Прошу не медлить, товарищи! Промедление — опасно! — возвысился тот же голос над говором обескураженных людей.
Кучка из живых человеческих фигур задвигалась, как-то странно кружась минуту-две на одном месте, потом стала распадаться на части и, наконец, исчезла совсем.
Побрел по пустынной улице и я. Что же делать? Как жить дальше? Как стать полезным и нужным обществу?
Вышел на Москворецкий мост; остановился, вглядываясь в притихшие воды Москва-реки, мелькнула предательская мысль: «Встань на парапет, прыгни вниз и все кончено!»
Обожгло меня от этой мысли не жаром, а холодом. И показалось мне, что рядом стоит отец — высокий, рукастый, сильный и кричит в самое ухо: «Да как же ты можешь думать о таком?! У нас с тобой — тайга, реки, озера… Есть ли на свете что-нибудь краше этого! Иди скорее ко мне… Иди!»
Очнувшись от какого-то тяжкого забытья, я заспешил с моста, разрывая в клочья остатки отчаяния, которое на мгновение взяло меня в плен. «Нет, нет, нельзя перед бедой опускать руки. Мы еще поживем, мы еще поработаем… Жизнь на этом этапе не остановится, у нее свой ход, своя поступь. Человек не всегда волен в своих поступках. Иногда его несут события, а порой ему приходится идти поперек событий. И все он должен вынести, все преодолеть — иначе он будет подобен коряге на таежной реке. Течение несет и несет ее, пока не сбросит в тихую, прогнившую заводь, и тогда у нее одна судьба — гнить, превращаться в тлен.
Человеку нужны цели и воля, воля и цели…»
Я торопливо шагал по ночным улицам Москвы к Ярославскому вокзалу, уговаривал себя никогда-никогда больше не поддаваться отчаянию, вспышка которого могла погубить меня.
Через день я сел в поезд «Москва — Иркутск», намереваясь вместе с женой уехать из города на Ангаре куда-нибудь на Крайний Север и там посвятить себя работе, любимой работе, до седьмого пота. Цели у нас есть, может быть, найдется и воля…
…
1988–1989
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






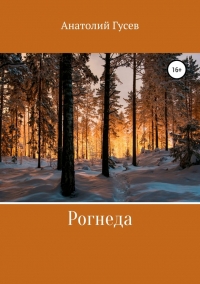


Комментарии к книге «Не поросло быльем», Георгий Мокеевич Марков
Всего 0 комментариев